Глава XV . ЛОГИКА XIX в.
Источник идей гуссерлианства и феноменологической науки в германской логике XIX в.
В истории логики XIX в. важную роль сыграл Герман Лотце (1817 — 1881), в настоящее время полузабытый мыслитель. Его учение представляет интерес в двояком отношении. Прежде всего — для нас, русских, изучающих историю развития логики в России. Когда в середине прошлого века начинающие русские ученые направлялись на Запад в заграничные командировки, то, готовясь стать преподавателями философии и логики, они слушали лекции Лотце: сюда относятся и М. И. Каринский, и М. М. Троицкий, и М. И. Владиславлев. «Логика» последнего написана под явным влиянием Лотце.
Каринский, вернувшись из заграничной командировки, во время которой он в 1871 г. слушал Лотце, засвидетельствовал: «Лотце всеми признается одним из самых замечательных (если не самым замечательным) мыслителей нашего времени в Германии; он и поныне состоит профессором Геттингенского университета и собирает в своей аудитории едва ли не столько же слушателей, сколько имеет в Иене Куно Фишер, хотя Лотце и не отличается теми особенностями таланта преподавания, которые производят такой сильный эффект при чтении Куно Фишера»1.
Интересен Лотце и в том отношении, что нм открывается новое идеалистическое направление в теории познания и логике, которое вылилось в начале XX в. в особую школу с Э. Гуссерлем во главе.
1 М. И. Каринский. Критический обзор последнего периода германской философии. Пб., 1873, стр. 194
226
В основе учения Гуссерля лежит идея об особой науке или особом способе умозрительного знания — феноменологического постижения сущностей. С феноменологической точки зрения сущности могут адекватно познаваться при помощи своеобразного интенционального акта интуиции. Интуиция противоположна чувственному восприятию. Так, например, различные цвета, краски познаются эмпирически, а понятие «цвета» постигается в результате особой феноменологической установки. Науки, занимающиеся такими сущностями, Гуссерль называет эйдетическими науками. Сюда относятся чистая логика и математика. Чтобы получить доступ к такому познанию, нужно редуцировать, т. е. изъять, устранить все эмпирические суждения и проанализировать «поле трансцендентального чистого сознания». Такое постижение будет обладать подлинной значимостью в отличие от субъективных, преходящих актов сознания.
Гносеологическими предпосылками своей логики Лотце подготовил почву для идеалистического учения Гуссерля и всех его последователей, ныне широко распространенного во многих странах, главным образом в Америке. В настоящее время в США выходит гуссерлиансиий философский журнал «Философия и феноменологические исследования», являющийся продолжением ежегодников под тем же заглавием: «Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Wissenschaft», выходивших в Галле и прекративших свое существование в связи с агрессией фашистов.
С материалистической точки зрения наиболее характерной стороной учения Лотце было то, что это учение решительно отмежевывает понятие «вещи в себе» от понятия предметов мысли и усматривает в различии этих двух понятий важное гносеологическое открытие. То, что окружает нас, — действительный мир, — не представляет материала для философа; эта эмпирическая наличность только пестрит перед умозрительным взором своей калейдоскопичностью. Дело же философа — это вечные предметы мысли. Мы должны как бы закрыть глаза на этот реальный мир и ввериться умозрительному созерцанию, подобно тому как математик не ищет опоры мысли в окружающем, а устремлен в своем умозрении на некоторые идеальные сущности. Эти предметы мысли якобы и составляют настоящий объект познания.
По мнению Лотце, мерой, при помощи которой мы учитываем непосредственно очевидную или нуждающуюся в разъяснении истинность других мыслей, является всегда одна из наших собственных мыслей, ибо не реальность предположенного внешнего мира выступает между нашими представлениями, как масштаб, которым бы измерялась истинность этих пред-
227
ставлений: таким масштабом для нас всегда является представление2. «Не вещи же это, которые бы вдруг стали тесниться между нашими мыслями и вскрыли их лживость. Если бы мир вещей сложился иначе, чем мы его привыкли понимать, то это противоречие стало бы для нас заметным только потому, что воздействие этих вещей на нас вызвало бы теперь представления, связь которых не следовала бы больше правилам, принятым для них ранее. Ошибка может стать заметной только благодаря внутреннему противоречию в нашем собственном мире представлений» (S. 495). Нам возразят, продолжает Лотце, значит мы остаемся запертыми в охватывающем заблуждении нашего в самом себе запутавшегося представления? Вполне вероятно, что все нам представятся иным, нежели теперь. Но это под одним условием. Если бы неожиданное прозрение соответствовало совсем новому миру, который бы сейчас возник перед нами, без связи с той вселенной, в которой мы раньше жили, то мы бы и не заметили, что все обстоит иначе, нежели мы думали. Совсем новая картина, которая бы не допускала никакого сравнения с предыдущей, не вызвала бы в нас ни радостного изумления, ни страха — ведь удивиться мы могли бы только через противоположное; т. е. через отношение к содержанию нашего прежнего заблуждения. И прозревши, мы должны были бы остаться по существу теми же, какими были в состоянии слепоты.
В чем же заключаются средства к истинному познанию? Его истинность измеряется тем, что отдельные части познания, обсуждаемые согласно с общими законами нашего мышления, находятся в соответствии с остальными частями того же познания. Мир нашего представления в отношении к его истинности мы не можем, обсуждая, сравнивать с реальностью, — ведь эта реальность, покуда она не познана, для нас не налицо; как только же эта реальность будет дана в представлении, она будет подлежать тому же сомнению, которое имеет отношение ко всем другим представлениям.
Ведь просто нелепость считать, что высшее прозрение дает самоё вещь, как она есть. Как бы ни усиливать проницательность, поскольку мы под этой проницательностью мыслим нечто понятное, она всегда будет подпадать под понятие знания, воззрения или понимания, т. е. она никогда не будет самой вещью, но всегда некоторой совокупностью представлений о вещи. Ведь совершенно ясно, что всякий познающий дух может увидеть все так, как оно выглядит для него, когда он созерцает, а не так, как оно выглядит, когда его никто не со-
2 Q. Lotze. Logik, 2-te Auflage. Leipzig, 1880, S. 494. Последующие ссылки на это произведение приводятся в тексте и содержат указание на страницу данного издания.
228
зерцает; кто требует познания, которое было бы больше, нежели полная, в себе связанная совокупность представлений, кто требует познания, которое скорее исчерпывало бы самое вещь, тот требует уже не познания, а чего-то совершенно непонятного. Нельзя было бы даже сказать, что он хочет не познать вещи, а стать самому ими — таким способом он не достиг бы своей цели; если бы даже он смог достигнуть того, чтобы стать металлом, он стал бы металлом, во не познал бы себя, как металл. Если бы его тут одухотворила еще более высокая сила, то все же он себя познал бы в качестве металла лишь постольку, поскольку это ему казалось по его представлениям, а не так, каким бы он был металлом без сознания своей металличности (S. 498).
Отсюда Лотце делает вывод, что всякое знание безусловно идеально, т. е. не выходит за пределы субъекта. С точки зрения самого знания не может быть различия между реальным и идеальным. Все, что мы знаем о внешней природе, покоится на представлениях о ней, которые находятся в нас. При этом совершенно безразлично, отрицаем ли мы с позиций идеализма наличность этого мира и рассматриваем, как истинное, только наши представления о мире, или, как реалисты, держимся за бытие вещей вне нас и предполагаем, что они действуют на нас; в любом случае вещи не переходят сами в сознание, а только возбуждают в нас представления, которые не являются вещами (S. 493).
В нашем восприятии чувственные вещи меняют свои свойства. Но когда черное становится белым и сладкое — кислым, то не чернота переходит в белизну и не сладость становится кислой, а каждое из этих свойств, оставаясь вечно тождественным себе, уступает свое место другому, в то время как понятия, посредством которых мы мыслим вещи, не принимают участия в изменчивости. Поэтому, заключает Лотце, может существовать познание, истинность которого стоит вне зависимости от скептического вопроса об его соответствии внешней ему сущности вещей (S. 508).
Здесь Лотце скатывается к идеализму. Предел, которым Лотце отграничивает познание от внешнего мира, является мнимым, фикцией, ибо, если бы человеческое познание действительно было ограничено известной сферой, то человек и не подозревал бы этой своей ограниченности. Чтобы осознать состав нашего мышления, как всецело ограниченный кругом идей, мы должны обладать возможностью занять место вне этого круга, стать над ним (это хорошо выявил английский логик Иствуд, специально занимавшийся Лотце)3. Граница
3 См. «Mind», 1892, № 3 — 4, стр. 477.
229
может отграничивать от чего-либо, но, если этого второго нет, то и самой границы быть не может. Если же это второе есть, то есть объективная реальность, постигаемая нашей мыслью. Сознание себя ограниченным указывает «а возможность преодоления этой границы путем выхода за ее пределы. Значит, если мы только заговорили о законах реального мира, то это уже доказывает, что мир доступен сфере нашей мысли, не отторгнут от нее.
Лотце рассуждает так: познание никогда не может быть самими вещами, а только представлением их. Конечно, это верно — познание не может быть вещами, так как вещи — это совокупность отдельных предметов; познание же предполагает общность, связь отдельных элементов, единство многообразия, которое не может быть простым многообразием. Но это же рассуждение ясно показывает, что познание не может быть и просто представлением вещей по себе. Единство многообразного есть нечто целое, единое и неделимое. Но целое, как целое, не может представлять только некоторые части, так же как не может быть ими.
Только рассматривая познание как отражение, можно решить, что такое представления, понятия, которыми мы оперируем. Самодовлеющего царства мыслей нет и не может быть: мысли вызываются чем-то извне, а не изнутри. Если бы Лотце держался этого единственно правильного понимания природы мысли, то он не пошел бы по пути, который неминуемо привел его к идеализму.
Таковы логические взгляды Лотце.
Хотя принятые Лотце гносеологические предпосылки оказываются несостоятельными, несомненный интерес вызывает его построение логики, представляющее собой определенную систему. В отличие от Гуссерля, давшего лишь развернутые предпосылки к систематическому переосмыслению всех разделов логики, но не оставившего развитого логического учения, Лотце, самостоятельно выявив предпосылки, дал вместе с тем свое решение логических вопросов по отдельным разделам логики.
Разработка Лотце вопросов логики продолжалась всю его жизнь. Одно из ранних произведений Лотце — его первая «Логика» (1843). Затем он работает над своей системой философии и в 1874 г. выпускает первую часть ее также под заглавием «Логика. Три книги о мышлении, исследовании и познании». Эта книга была переиздана в 1880 г. После смерти Лотце вышли, кроме того, его записи лекций «Основы логики и энциклопедии философии» (1883). При дальнейшем изложении будут использованы два последних труда Лотце (на русский язык они не были переведены).
230
Логическое учение Лотце. Фреге
Прежде всего следует обратить внимание на одну новую категорию мысли, которую ввел Лотце и которую на все лады стали использовать и представители феноменологии (Гуссерль, примыкающий к нему Мейнонг), и такие логики, как Бенно Эрдман, и, наконец, субъективные идеалисты, а равно представители трансцендентализма — Зигварт, с одной стороны, Коген и Наторп — с другой. Имеется в виду категория значимости, или общезначимости (Gültigkeit).
Еще Кант выдвигал различие между объективным значением, которым обладают опытные суждения, и субъективным значением, за пределы которого не выходят суждения восприятия (см. «Пролегомены», § 18). Разработка, широкое применение и использование этого термина содержатся уже в «Критике чистого разума».
Согласно рассуждению Лотце, в мыслях надо отличать две стороны — субъективную и объективную. Мышление, связь представлений протекает во времени, оно различно у разных людей. Содержание же представлений является сферой совсем иного порядка. Представление желтого, например, есть нечто изменчивое, хотя сама желтизна — нечто объективное, в том смысле, что содержание понятия желтизны всегда остается неизменным. Иначе мы не могли бы рассуждать о перемене цвета, о переходе желтого цвета в какой-нибудь другой и т. д. Желтая окраска может переходить в другие тона и цвета и смешиваться с ними, но желтизна всегда будет мыслиться с одним определенным содержанием.
Если смешивать субъективную сторону с объективной или смешивать ступени абстракции, выражаясь терминологией Рассела, то пришлось бы утверждать, что представление желтого — желто, представление треугольника — треугольно, а это — бессмыслица. Содержание представления не зависит от особенностей индивида. Оно одинаково необходимо навязывается всем индивидам.
Существенная черта содержания в том, что оно обладает значимостью, термин, впервые введенный в логику Лотце. Значимость есть нечто объективное. Значимость суждений и понятий и заключается в этом объективном характере их содержания. Эту линию Лотце проводит в своем учении о понятиях, суждениях, умозаключениях (SS. 553 — 554, ср. также S. 512 и всю вторую главу «Мир идей»).
Формулировка Лотце такова: «Действительность значимости, представляющей собой особый вид действительности, остается независимой от смены всего происходящего» (S. 514).
231
Этой основной мысли Лотце будет пятнадцать лет спустя вторить Гуссерль в своих «Логических исследованиях» (1900). В этой работе он писал, что, если истина была существенным образом связана с мыслящими умами, то она менялась бы, возникая и исчезая вместе с ними. «Это значило бы, что истина совсем не истина, ибо по своей природе истина находится вне сферы понятий возникновения и исчезновения, вне сферы времени; она значима (gilt), являя собою некоторое единство значимости в безвременном и абсолютном царстве идей»4.
В основе логических взглядов Лотце лежит одно различие, которое представляется по существу весьма важным, поскольку смешение этих двух категорий наблюдается в современной математической логике, в результате чего последняя часто скатывается к идеализму. Такова в сущности теория предметности, на которой базируются такие представители математической логики XIX в., как Фреге.
Для Лотце характерна следующая основная дистинкция, которую он уточняет в своих лекциях по логике. Он говорит, что каждое понятие, с одной стороны, может быть подведено под высшее родовое понятие. Он изображает это так:
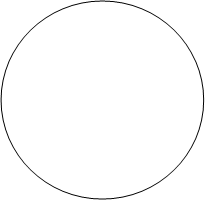
Металлы


Золото Медь

Свинец
Здесь мы имеем малые круги — в пределах одного большого круга.
Золото может быть подведено под понятие металла. Это отношение, когда вид входит в род, называется субординацией.
Другое дело, когда понятие золота подпадает под любой признак понятия металла. Например, золото может быть подведено под признак плавкости. Металл — это род, а плавкость — его признак.
4 Е. Husserl. Logische Urtersuchungen, 1900, Bd. I, S. 129
232
Схема здесь будет иная:
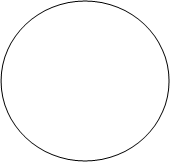

Плавкость Золото

Сахар

Смола
Это отношение он называет субсумпцией.
Золото входит в общее понятие М — металл. Это значит, что в золоте не оказывается никакого признака и никакой связи признаков, которые не определялись бы общим понятием М — металл. Так, например, желтый цвет есть желтизна, которая свойственна металлам, а не находится вне сферы металлов. В пределах М золото оказывается координированным со своими естественными соседями — медью, свинцом, серебром, которые находятся в совершенно аналогичном отношении к понятию М. Это есть подчинение по линии субординации.
Совсем другую форму подчинения мы находим, когда обращаемся к субсумпции. Здесь золото лишь частью своего содержания касается общего понятия плавкости, остальные его части находятся вне пределов плавкости и этим понятием не определяются. Сверх того, здесь золото в отношении к плавкости координируется не только с родственными ему элементами (медь, свинец, серебро), но и с чужеродными, которые тоже могут быть подчинены единому признаку плавкости. Сюда относятся такие вещества, как, например, сахар, смола, сера и т. п., которые нельзя рассматривать в качестве видов, входящих в родовое понятие — металл.
Это интересное наблюдение приближает нас к реальному познанию действительности, поскольку роды сущего включают свои виды в отличие от чисто умственной операции, при помощи которой мы можем образовать произвольное «множество» с помощью любого признака (плавкости и т. п.).
Сам Лотце не дал законченной системы логики содержания. Но он очень остро и метко переосмысливает некоторые пункты традиционного учения. Так, например, он убедительно опровергает учение старой формальной логики о взаимо-
233
отношении содержания и объема понятия при обобщениях. Без этой реформы невозможно дальнейшее движение диалектической мысли в вопросе об обобщении.
В вопросе об обобщении Лотце рассуждает следующим образом: понятие цвета считается по содержанию более скудным, чем понятие синего и красного, ибо только синее или красное имеет признак определенного цвета, который отпадает, когда при обобщении восходят к цвету вообще. Здесь обнаруживается негибкость мысли, которая не отличает конкретного признака, взятого в его однозначности, от признака, взятого дизъюнктивно: с одной стороны — цвет, например синий, с другой стороны — цвет во всем многообразии его возможных хроматических оттенков. Следовательно, признаки не отпадают в процессе обобщения, а преобразуются. Мы начинаем их мыслить не конкретно, а разделительно, фиксируя правило, которое объединяет все многообразия, все возможности.
Новаторство Лотце в области логики содержания сказалось не только в его учении о субсумпции и переосмыслении теории обратного отношения процессов ограничения и обобщения, но и в его отношении к силлогизму.
Лотце очень метко критикует формальный силлогизм, державшийся за всеобщность большой посылки, усматривая силу силлогизма с позиций логики содержания.
Лотце говорит, что, если взять, например, модус «все люди смертны, Кай — человек, Кай смертен», то к чему сведется истинность большей посылки «все люди смертны», если еще относительно Кая неизвестно, свойственно ли ему это качество? С другой стороны, как можно признать истинной меньшую посылку «Кай — человек», если еще сомнительно, обладает ли он важнейшим признаком человека — свойством смертности? Посылки в силлогизме сами опираются на истинность вывода.
Выдвинутая критика силлогизма с точки зрения Лотце верна, если под большей посылкой понимать аналитическое суждение. Иначе обстоит дело, если большая посылка МР будет истолкована как синтетическое суждение. При таком истолковании содержание понятия М могло бы быть целиком усвоено без того, чтобы наряду с этим мыслилось Р; в ином свете предстала бы большая посылка, если ее интерпретировать, подчеркивая ту мысль, что повсюду с М связывается Р. Согласно этому, меньшая посылка должна была бы только обнаружить у S признаки, посредством которых S является М. Тогда вывод присоединил бы еще не мыслившийся наряду с субъектом предикат, который свойствен S, благодаря тому что S подчинено М.
234
Так это постоянно и происходит. Говоря о смертности людей, мы исходим из того, что естественно-родовой характер человека целиком определяется прочими чертами его организации, а смертность есть лишь признак, неустранимое следствие этой организации, которая поэтому не выдвигается нами открыто при характеристике человека. Достаточно в меньшей посылке приписать Каю эту существенную организацию, чтобы в заключении присвоить ему ее неустранимое следствие. Большую посылку следует понимать гипотетически; в таком случае под Р мы будем разуметь не твердый, пребывающий, а подвижный признак М, Р будет следствием (Folge), которое определяется через М благодаря известному условию X ; это будет признак, который М принимает или теряет под этим условием, состояние, в которое М попадает, или действие, которое оно выявляет. В таком случае достаточно меньшей посылке подчинить S понятию М, чтобы вывести заключение, что и S, если будет действовать то же условие X , должно обнаружить признак Р. Почти все разновидности силлогизма служат раскрытию того, что S в качестве вида М, под условием X , обнаруживает то действие Р, которое мы засвидетельствовали у М.
Однако возникает вопрос: на каком основании мы называем посылку МР общезначимой? Если смертность должна присоединиться как новый необходимый признак к остальной организации человека, то эта общезначимость может быть налицо только при предположении истинности заключения, т. е. при предположении того, что не найдется ни одного упрямого Кая, который не был бы смертен.
Ответ ясен: всякая большая посылка ошибочна, если она не подтверждается хотя бы одним из подходящих сюда случаев, а это имеет место везде, где эта общая посылка сложилась через неправомерное обобщение многих наблюденных случаев. Если же необходимая связь МР сама по себе доказуема, то она является гарантией невозможности существования хотя бы одного упрямого случая, который бы противоречил ее общезначимости. Для физиолога смертность человека — явный и неизбежный признак человеческой организации (SS. 123 — 124).
Если вспомнить аргументацию Милля, то ясно, что Лотце как бы отвечает на все выдвинутые им сомнения. Истолкование признака Р, как неустранимого следствия М, в силу условия X , которое находится в М, является установкой логики содержания, подлинно реформирующей силлогизм. Тем не менее целостной новой системы Лотце не создал.
Выделим в заключение отдельные замечания Лотце, которые и сейчас сохраняют свою силу, несмотря на идеалистический характер учения.
235
Хорошо известно правило силлогистики, согласно которому из двух отрицательных посылок нельзя сделать вывода. Лотце это правило кажется предрассудком. В самом деле, если С не есть А и В не есть А, то во всяком случае С и В не суть понятия контрадикторные. В таком случае мы всегда из двух отрицательных посылок можем сделать вывод.
Лотце приводит пример: «Справедливого человека не ценят, справедливый человек не есть несчастный человек, следовательно тот, кого не ценят, в силу этого вовсе еще не может быть назван несчастным человеком». Довод Лотце вполне оправдывается с точки зрения логики содержания. В и С являются признаками, которые отталкиваются друг от друга, не следуют друг из друга. Отсутствие одного из них не значит присутствие другого; между ними нет внутренней связи, одно просто противостоит другому.
Возьмем более наглядный пример и покажем, что Лотце прав. Если у меня будут два отрицательных суждения — «мой знакомый Н не живет в Москве», «мой знакомый Н не живет и в пригороде Москвы», то из этого следует, что не жить в Москве — еще не значит жить в пригороде.
М не есть Р
_______М не есть S_________
не быть S не значит быть Р
S и Р — это разные признаки. Не жить в Москве — вовсе не значит жить в пригороде. Так как формальная логика оперировала с объемом, а не с признаками, то она не могла учесть их взаимоотношения, поскольку в количественную интерпретацию такие признаки не укладываются.
Между тем наблюдение Лотце имеет большой смысл. Мы получаем три мыслительные установки, три хода мысли:
1) где вы имеете S, рассчитывайте на то, чтобы найти Р;
2) где вы имеете S , не думайте найти Р;
3) где вы наблюдаете S , остерегайтесь заключать, что тем самым вы найдете здесь Р. Часто, когда из отсутствия наличности одного качества заключают о необходимости другого, приходится обращать внимание на те случаи, где нет ни первого, ни второго качества (S. 113).
Мы знаем, что современная математическая логика дает весьма четкие формулировки транзитивности, нетранзитивности и антитранзитивности, но все эти формулы не раскрывают гносеологической стороны дела. Только что выявленные три хода мысли у Лотце вскрывают познавательную значимость транзитивности (первый ход мысли), антитранзитивности (второй ход мысли) и нетранзитивности (третий ход мысли).
Математическая логика приносит нам сейчас очень много
236
пользы, но она дальше одних формул не идет, а мы с марксистской точки зрения должны овладеть логикой гносеологически, изучать познавательный ход мысли.
Однако мелкие наблюдения Лотце в духе новой теории еще не есть здание самой этой новой теории. Когда же Лотце начинает подводить старые схемы под новую интерпретацию, то нас ждет разочарование.
Часто становится непонятным, каким образом он, так хорошо показав односторонность объемной логики, вместе с тем постоянно скатывается обратно на ее позиции.
Согласно рассуждению Лотце, в суждении «некоторые люди — черные» под «некоторыми» мы разумеем не каких-нибудь, а определенных «черных людей». Следовательно, суждение собственно означает: «черные люди суть черные люди». Получается бесспорная тавтология. Здесь Лотце опять приходит к принципу тождества, скатывается в плоскость объемных категорий, да еще обуженных. Кроме тождества, или, иначе говоря, разнозначащих понятий, ничего не остается. Простора для нового построения системы выводов не оказывается. Лотце ограничивается лишь добавлением к обычной схеме математических умозаключений, обосновываемых теорией замещения и пропорциональности.
Лотце особенно нравится латинская формула суждения — «некоторые люди черные» — «nonnulli homines sunt nigri». По-латыни фраза построена так, что вы невольно прибавляете в предикате слово «homines», что по-русски является ненужным повторением слова: «некоторые люди суть черные люди». Эти рассуждения получают весьма странный оборот у Лотце. Одно дело сказать: «некоторые люди суть черные люди (негры и т. п.)», другое — «некоторым людям свойствен признак черноты».
Здесь Лотце упускает из виду свое же собственное отличие субординации от субсумпции. Всякое понятие можно либо подчинить более широкому понятию, либо наделить признаком, который связывает его с другим понятием, имеющим тот же признак. Это две разных операции. Теория объема, как роковая тень, преследует в общем интересный замысел логики Лотце.
Другим предшественником Гуссерля и вообще идей феноменологии наряду с Лотце был Готтлоб Фреге (1848 — 1925), видный представитель математической логики конца XIX в.
Предметная теория (Gegenstandstheorie) Гуссерля с основной тенденцией выделить в противоположность неокантианству объективный слой познания (истолковываемый в плане объективного идеализма) базируется на таких терминах, как «пред-
237
мет познания», «значение» или «смысл», «выражение» и «знак». Знак лишь указывает на предмет знания, выражение нечто разумеет и через это разумение, через это «мнение» относится к чему-то предметному. К природе выражения принадлежит то, что оно имеет значение. При этом каждое выражение не только обозначает нечто, но оно говорит о чем-то: оно имеет не только свое значение, но сверх того относится к некоторым предметам. Само собой разумеется, что теория предметности есть идеалистическая теория. Для нее предметный мир есть мир идеальных предметов, хотя в качестве примеров могут служить и явления материальной действительности.
Когда мы говорим «победитель при Иене» или «побежденный при Ватерлоо», то имеется в виду одно лицо — Наполеон. Этими двумя наименованиями называется нечто тождественное, но значение их при этом неодинаково, различается в отношении того же предмета.
Впервые установил для познания эти различные моменты (смысла, значения, предмета и т. п.) Фреге в статье «О смысле и значении» (1892). Он исходит из следующего примера. Если взять в треугольнике три стороны, разделить каждую пополам и соединить прямыми линиями с противолежащими углами, то мы получим три прямых: а, в, с; точки их пересечения совпадут. Значение выражений «точка пересечения а и в» и «точка пересечения в и с» будет одинаковое, но способ данности этого значения будет различным. В первом случае точка пересечения выявится в результате скрещения а и в, во втором случае — скрещением в и с. Фреге приводит другой пример: «вечерняя звезда» и «утренняя звезда» — значение тут одно, смысл различный. Итак, следует отличать значение и смысл.
У представителей феноменологической логики сохраняется то же принципиальное различие, выдвинутое впервые Фреге, но под другими терминами. То, что Фреге выделил как значение, Гуссерль называет предметом. Смысл, по Фреге, то же, что значение для Гуссерля. В этих вопросах родоначальник феноменологии сам признает свою зависимость от Фреге5.
Как правило, всякое высказывание, по Фреге, содержит значение и смысл. Например, высказывание о равностороннем треугольнике имеет значение (треугольник) и смысл (равносторонность его); высказывание о равноугольном треугольнике будет иметь то же значение (всякий равносторонний треугольник равноуголен, и обратно), но вместе с тем это высказывание будет иметь иной смысл — тот же самый треугольник бу-
5 См. Е. Нussеrl. Logische Untersuchungen, Bd. II, Н. 1, 1913, S. 53.
238
дет мыслиться уже не как равносторонний, а как равноугольный.
Смысл занимает, по истолкованию Фреге, среднее место — среднее между представлением и значением. Представление есть нечто субъективное, смысл есть нечто одинаковое, обязательное для всех; «о это еще не самый предмет, каковым является значение.
Что касается значения, то мы можем подставлять равнозначащие термины один вместо другого; высказывание сохранит свою истинность.
Иначе обстоит дело в косвенной речи. Фреге пишет: «Если употреблять слова, как ими обычно пользуются, в таком случае то, о чем хотят сказать, представляет собой значение. Но может случиться и так, что хотят высказаться о самих словах или их смысле. Это происходит, например, когда приводят слова другого человека, но в прямой речи. Собственные слова в таком случае обозначают прежде всего слова другого человека; и только эти последние имеют обычное значение. При таком обороте дела мы имеем знаки знаков. В таком случае в письменной речи словесные обозначения ставят в кавычки. Поэтому начертанное слово, стоящее в кавычках, нельзя брать в обычном значении»6. Таким образом, если взять косвенную речь, то в ней сохраняется только смысл, значение же подставить нельзя. Это связано с тем, что при обороте с косвенной речью на истинность претендует только исходное высказывание, а не содержание косвенной речи. В примере, который дает Фреге, «в связи с шарообразностью земли Колумб заключил, что, направившись на Запад, он достигнет Индии», придаточное предложение вовсе не содержит истины. Приемлемым здесь будет лишь смысл высказывания.
Таким образом, отличие значения от смысла дает возможность разбираться в логической стороне простой и косвенной речи. Различие этих оборотов показательно в целях отмежевания тех мыслей, когда мы только понимаем высказываемое, от тех, когда наряду с пониманием утверждаем также мысль, как истинное суждение.
Для Фреге не всякая мысль есть суждение. Суждение для него не простое схватывание мысли, но признание ее истинности. Мысль есть только смысл предложения, которое может ничего не утверждать. Мы понимаем такую мысль, но истины в ней может и не быть. Таковы мысли, приводимые в косвенной речи. Таковы же вопросительные и побудительные предложения, которые имеют смысл, но не имеют значения.
6 „Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik”, red. von R. Falkenberg, Bd. 100, H. 1, 1892, S. 28.
239
В результате анализа значения и смысла высказывания, опираясь на положение Лейбница: «То, что можно заменять одно другим, это одно я то же, не нарушая верности», Фреге приходит к следующему принципиальному выводу: «Если правильно наше предположение, что значение предложения есть его значимость в смысле верности, то эта верность остается неизменной, если одна часть предложения будет заменена выражением с тем же значением, но другим смыслом» 7.
Итак, с точки зрения Фреге выражения «победитель при Иене» и «побежденный при Ватерлоо» имеют разный смысл, но значение у них одно и то же: Наполеон. Поэтому в высказываниях о Наполеоне эти выражения можно всегда заменять одно другим без нарушения их истинности.
7 „Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik”, red. von R. Falkenberg, Bd. 100, H. 1, 1892, S. 35.








