«Не слово породило речь, речь породило слово…»
Первый опыт обзора творчества и судьбы Евгения Курдакова.
27 марта 2020 года исполнилось бы 80 лет Евгению Васильевичу Курдакову – поэту, эссеисту, переводчику, скульптору-флористу, лауреату Пушкинской (юбилейной) премии, премии «Капитанская дочка» (Оренбург), премий нескольких центральных литературных журналов, члену-корреспонденту Петровской академии наук и искусств, автору более десяти книг.
В одной из своих книг прозы он представился так: «Поэт, автономно работающий в стороне от галдящей рати резонёрствующих догматиков, в стороне от издательств, критики, в стороне от т. н. литературного процесса – фигура почти немыслимая в наше время… И всё же – представимся…»
Его родина – Оренбург. Восьми лет отроду родители извлекли его из-под обломков их ашхабадского дома: его спас текинский ковёр ручной работы. Кочевая судьба бросает семью военврачей то во Владимир, где в застенке пишет свою «Розу Мира» Даниил Андреев, то в послевоенную Германию, где Евгений учится в одной школе с В. Высоцким, то снова в Оренбуржье, в Бузулук, где заканчивается школа, где печатаются первые стихи.
Легенда Бузулука конца 50-х – БОМП, Бузулукское объединение молодых поэтов. Идеалы, фрондёрство (не диссиденство, а молодая жажда понимания и справедливости), конечно, самоутверждение. Рыцарство. Любовь. Провокаторская подлость властей, в первую очередь литературных, – и даже застенок, ибо Курдаков был организатором, душой и мотором БОМПа – «Боевого отряда…», как именовали его со страхом некоторые блюстители чистоты рядов… В конце жизни был у Курдакова замысел включить в свою последнюю книгу «Дождь золотой» эссе «Сука из Бузулука» (был такой неуловимый знаменитый стукач в воровском мире) – эссе об одной партийной сволочи женского рода, преследовавшей одарённую молодёжь. Замысел был оставлен.
Есть та правда, что тягостней лжи,
Та, что душу ввергает в смятенье, –
И безмолвно стоишь у межи
Чьей-то глупости и самомненья.
И молчишь, состраданьем томим,
Перед бездарью или пороком,
Чтобы словом нелёгким своим
Не умножить бы зло ненароком.
Чтоб в непрошенной правде скупой
И своё не узреть пораженье…
Сокол птицу не бьёт над водой,
Чтоб не видеть своё отраженье.
Правда уязвлённого самолюбия – действительно вещь обоюдоострая. Мы привыкли считать, что самолюбие – это добродетель, но, если разобраться «по гамбургскому счёту», всё зло мира проистекает из уязвлённого самолюбия. Курдаков очень тонким внутренним зрением смог оценить себя как возможного автора задуманного эссе – и отказался от него.
Всё в его жизни было серьёзно, поэтому до конца в нём не вызывали усмешки (той, что часто проскальзывает у «стариков») наивность и горячность тех самозабвенных лет. Он жил и этим, хотя и неохотно делился памятью с нами; он жил драмой своих расставшихся родителей, долгими мучениями парализованной матери и её смертью. Я был рядом с ним и его сестрой Людмилой у дома их матери в Бузулуке в 1999 году. Я видел, что всё то – живо было в них, было неизбывно близко – и тягостно по прошествии стольких лет. Но там жили чужие люди…
Его отец тяжело умирал, много позднее матери, в Катаве, в одиночестве душевном, понятый, но, видимо, до конца не прощённый…
Я отца помяну золотистым портвейном,
Ах, отец, мой отец, как ты в нас наследил –
Этой вечной тоской, наказаньем семейным,
Да стаканом хмельным, чтоб наотмашь пьянил…
Семейный разлад глубоко ранил душу, но и научил состраданию. В зрелые годы он горько заметил,
Что можно жизнь прожить без состраданья,
А умереть без этого нельзя…
Самые пронзительные строки у Курдакова как бы сотканы образом Метели, сопровождавшей всё его творчество и ставшей его последним пристанищем (он умер 28 декабря 2002 г.).
… И казалось, в круженье метели
То не снег трепетал без конца,
Это матери тень повителью
Завивалась на тени отца.
В этих зрелых стихах сбывалось детское чаяние:
… Это там, в запредельной судьбе
Наконец-то сошлись дорогие,
И чем дальше, тем ближе себе..,
и рождалась истинная мудрость:
… Мы живей и добрее, чем тени,
Если тени счастливее нас.
(Он признавался, что смысл последних строк пришёл к нему много позднее).
Страдание, конечно же, не может быть смыслом существования, тем более, что оно по-разному воздействует на души страждущих, возвышая одних и очерствляя других. Видимо, не в самом страдании суть, а в отношении к нему, в том, как преобразиться, оттолкнувшись от него. Недаром тема преображения, пересотворения себя так занимала Курдакова – и не только в творчестве. Он был всегда нов, он не был рабом привычек души, он всегда искал за человеком или явлением что-то иное сверх тех качеств, которыми они обладают. Горько сетуя по поводу «привычного русского ужаса», забвения уроков истории, он всё же и здесь находит зерно смысла:
Беспамятство – едва ли оправданье.
И только за одно ему воздашь,
Что в нём сокрыт опять, как назиданье,
Всё тот же богоносный жребий наш,
Чья суть – не возвращенье на дорогу,
Но – пересотворенье бытия.
А в стихотворении, которое так и называется «Преображенье», уже выходит на вершину понимания сути человеческой жизни (как понимал её, к примеру, Преподобный Серафим):
Что же не впрок ни вчера, ни сегодня
Правда Небес, что скупа, но проста:
Свято – лишь Преображенье Господне,
Преображенья людские – тщета.
… Преображение – это слиянье,
Перетеканье под Божий Покров…
Преподобный так и определял главную цель жизни – «стяжание Духа Святаго Божьего», что, по сути, то же самое. Здесь, может быть, Курдаков всё же не совсем точен. Преображение в Господе – свято и по отношению к человеку, это, наверное, и имелось в виду, а тщета – суть преображения мирские.
Как видим, Преображение – синоним Слияния. Слияние, растворение – ещё одна трепетная, любима тема и творчества, и жизни поэта. Он не был искателем Бога, он очень остро и просто любил жизнь как Божественное проявление, «по-язычески» стремясь в ней раствориться.
И опять я шепчу, как во сне:
Просто жить, разве этого мало,
Разве мало, пусть даже устало,
Всякий раз удивляться весне?
Или:
… Как мало надо, чтоб быть счастливым на белом свете…
Тут же вспоминается Арсений Тарковский с назойливым рефреном «только этого мало», совершенно неорганичным и невразумительным.
Растворением в сущем дышат все стихи Курдакова, и причина тому – их органичность. Он не мог расчленять словом, чем грешат, к примру, «авангардисты» и всякого рода «новаторы». Он увязывал.
Вот Осень в его стихах:
… С дымком, с паутиной, с пустым многогласьем
Сорок в облетающих кущах берёз…
Это «пустое многогласье» на самом деле так ёмко и так органично и точно среди облетания. Его «видишь», оно не может быть названо иначе.
Или:
… Где пыльно сплелись паутин арабески
Меж строгими фресками тёмных стволов…
Органичен не только смысл его стихов, органична почти всегда и форма их.
Есть состоянье полусна
Предзимних дней, когда
Сныть осыпает семена
И дремлет лебеда.
Павлиний глаз перепорхнёт
С кипрея на осот,
И день в мерцании тенёт
Течёт, течёт, течёт…
Монотонная рифма (осот – тенёт – течёт…), мужские окончания сами по себе создают скупой полусонный ритм последних ощущений уже не летнего тепла, полного прелести и обречённости…
Он очень любил поэзию Бунина, ценил её выше его прозы. Именно за простоту, органичность и точность, за умение передать состояние через прямой взгляд на всё, что его остановит. Считал, что Бунин «страшно недооценён как поэт». Вот как Курдаков размышлял о «безнравственности всякой претенциозности», относя её к «неприродности», т. е. неорганичности: «… отсутствие привычки ставить поэзию в подобные категории (природности или неприродности – Ю.С.) таково, что сейчас любая поза, неестественность, «вумничанье», старческое кверулянство, юношеская кверопупия – оцениваются, в худшем случае, как творческий поиск, но не как безнравственное убегание от необходимости сочетать правду жизни с правдой выражения…». Природность поэта «… означает и его нравственность в своём времени». И ещё: «Ненасильственная мысль, как бы сама собой вытекающая из состояний, – высший предел, к которому в лучшем случае можно только приблизиться.» Речь идёт, несомненно, о мышлении озарениями, не называя их.
А вот и прямое обозначение любимого состояния, которое, увы, большею частью оставалось для него лишь чаемым… Хотя..?
Камень ли, ветку ли тронешь рукой,
И, на мгновение сблизившись с малым,
Вдруг ощутишь подсознаньем усталым –
Если не смысл, то хотя бы покой.
Тайный покой узнаванья того,
В чём, растворённый, пребудешь безвечно,
Этой трепещущей веткою встречной
Камнем, живое таящим родство.
Это стихотворение – одно из его любимых, как он однажды признался. Оно обнажает тот проводник души, что протянут через всё его творчество. Вот ещё об этом:
Будь прозрачен, прозрачен, прозрачен,
Будь навеки для всех растворён,
Будь душою едва обозначен,
Весь, как лес, как ребёнок, как сон…
Его «растворение» созвучно и состоянию древних иконописцев, не оставивших своих имён, и растворённости Бога в сущем, так же явно не проявляющего Себя. Курдаков чувствовал это определённо, но без обращения к Богу невозможно реально и без страдания раствориться в бытии («Я есть Путь и Истина и Жизнь» – т. е. пример истинной жизни, в этом всё Евангелие). Отсюда проистекает вся его тоска, щемящая печаль по уходящему (вернее, по тому, от чего уходишь –
Ведь не весна навеки исчезает,
А сам навек уходишь от весны…),
стремление обозначить всё, к чему он прикасался «невозвышенной душой», бесконечное его прощание с миром. Однажды, в конце 80-х, он записал: «Иногда кажется, что собственно поэзия, её внутренняя суть – это прощание с жизнью, беспрерывное, нарастающее, и к концу всё более бессильно-лихорадочное…». Но «…дело в том, что мысль о ней (смерти – Ю.С.) …обессмысливает саму жизнь». Поэта «нельзя застать врасплох: в каждое данное мгновение его окончательное прощальное стихотворение уже написано. Даже если оно и не кажется «прощальным»». Почти все «осенне-зимние» его стихи полны горькими прощальными интонациями. Обращение к «дрожащему тополю», осине:
… И ветер горечи твоей моей не легче горечи…
… Горчи, скрывая эту дрожь…
Или:
Нечаянный цветок озоровато
Мелькнёт в траве… И вспыхнет лишь на миг
Уже неощутимою утратой
Всё, от чего в тоске своей отвык…
И ещё, ещё…
А душа томится тем, что жизни мало…
…
… Что вся эта жизнь – лишь пустырь одинокий
С тропой, уходящей в рождественский день…
…
Всё было бы так, как мечтала душа,
Когда бы над грешной, над ней не стояли
Скрижали отмеренной бытом морали,
Осеннюю душу душа и суша.
…
… И запоздало вдруг поймёшь с щемящею тоскою
Незамещаемость всего, что сделалось судьбой…
…
… Горечь вечного прощанья, тайна Пушкинских стихов…
…
… С вечной тоскою о том, что оставил,
И недоверьем к тому, что нашёл…
…
… Да, унынье – грех, но всё же не греховней этой тьмы…
…
… Где бесполётен, как перо с листом,
Стал этой жизни прозрачный фантом…
Прощай же, век, который знать пришлось, –
Перо и лист – прожитые насквозь..., –
чаячье перо, лежащее на кленовом листе на берегу Волхова, он воспринял как знак, ставший его экслибрисом.
Но Курдаков никогда не переступал грани, он, повторюсь, находил свет и в самой безнадёжности, обречённости, беспросветности. Недаром его последними словами жене и сестре было: «Чего вы испугались? Ничего не бойтесь.» Он ведь знал, что
… Жизнь … по сусекам метя и скребя,
Из этого праха слагает себя,
Как жадно по ягоде лепится гроздь,
По нити – рубаха, по щепоти – горсть,
По вздоху – молитва, по взгляду – любовь,
По таинству – вера, по возгласу – молвь,
По радости – свет, – от него, от тебя,
Где то торжествует, что множит себя.
Он смиренно принимал невозможность постичь тайну бытия, – этот крест русской поэзии, – силами самой лишь поэзии. Неожиданно наткнулся у Пришвина (Дневники, 1937 г.) – вообще, по мироощущению очень близкого к Курдакову, – на строки, во многом объясняющие присутствие в творчестве чутких поэтических натур темы прощания с миром: «Я хочу оставить след любви своей к прекрасному, заинтересованный в длительном его существовании, но не в личном своём писательстве. Конечно, всякий, оставивший след на земле человек непременно забывался, непременно выходил из себя (т. е. бывал во-вне – Ю.С.), но ведь это не легко, и никто из великих людей не оставил нам секрета к такому бескорыстному творчеству, и большинство из них сами об этом не знали. Но мне кажется, отчасти можно достигнуть этого сознательно, если только представить себе, что наступила своя последняя весна и надо со всем любимым проститься…»
И ещё: «Я буду рассказывать о великом богатстве жизни на каждом месте, о счастье непомерном, которое каждый может достичь себе и создать из ничего».
Как и Пришвин, к творчеству которого, насколько я знаю, он относился скептически (см. «Ангел, бабочка, цветок», 2 марта 1998), Курдаков всегда считал, что детство человека – самая главная пора его жизни и пространство его возвращенья, и тот естествен в творчестве, чьё детство не прервалось к зрелости; то детство,
Где, легко дыша во мраке, вечно молятся в тиши
Звёзды, птицы и собаки о продлении души.
Не мудрей, не спи, не старься, не устань хранить его, –
Это царство-благодарство возвращенья своего.
Различи в напоминаньях его оклик, его весть, –
Если есть тоска по тайне, значит, тайна тоже есть, –
Тайна дальнего порога, где томится золотой
Неопознанного Бога понимающий покой.
К сожалению, неопознанность Бога уже почти никого не беспокоит.
Захлебнулось Божье Слово
И не слышно никому…
Светом, счастьем для Курдакова, как и для Пришвина, всегда была сама жизнь. Зимой он иногда приносил с прогулки ветку тополя, ставил её в стакан и ждал весны, понимая, что распустившийся пахучий листок –
Обречённый порыв без надежды успеть…
Но, обращаясь к нему, видел в нём напоминание для себя:
Ты не сам для себя, твоя тайна в ином:
Стать живей хоть на миг тех снегов за окном,
Что свистят, обрекая порыв твой на смерть…
Курдаков сам порой не понимал, чего в нём больше – тоски или жизнелюбия. Вот голубь «алым глазом» заглядывает в его зимнее окно:
Что ты там увидел, голубь,
В вековом моём окне,
Золотого света прорубь
Или ту же мглу на дне?..
Да, порою ему казалось, «что ни мглы, ни света нет…». Почему он не обратился к Богу всем своим существом? Может, искаженно видел в самоспасении уход, отведение взгляда от судьбы народа, к которому был полон сострадания и эту судьбу его полностью разделял?
И уже не беда, что споткнёшься и сгинешь,
Ведь и сгинешь – в родном, и на вечный покой
Отпоёт не чужое, а то, что покинешь…
… И в живом этом чувстве и есть вся разгадка
Пресловутой загадки славянской души…
Потому никогда ни в обузу, ни в жалость
Мне не станет судьба и отчизна в судьбе, –
И какое бы зло в нашу жизнь не вмешалось,
Оно собственным злом захлебнется в себе.
Курдаков, конечно, понимал некоторую уязвимость позиции полного отождествления себя с народом, несущим в себе не только отзывчивость и самопожертвование, но и безбожную порочность.
В кругу хмельных друзей,
Похожих на врагов,
можно пропить и отчий кров, и любовь, и себя,
Чтоб на изводе сил
Шепнуть пропитым ртом:
Я тоже русским был,
Не плачьте о пустом.
Это другая сторона медали патриотизма.
А может, он понимал и то, что, пребывая в Боге, перестанет нуждаться в поэзии, приносящей неизъяснимое наслаждение, ибо в Небесах о воле не поют? Так или иначе, он не видел себя на пути, где, спасаясь сам, «спасал бы вокруг себя тысячи», по словам того же Серафима Саровского. Почему я затрагиваю эту тему? Да потому, что некоторые поэтические прозрения Курдакова указывают на то, что он имел откровения, но использовал их в «своём» русле, обходя или «материализуя» и поэтизируя Божественную суть мироздания вообще и человека в частности и в особенности. Интерес к теме бессмертия в нём был, – хотя, возможно, его влекла сама парадоксальность предоставляемых ему случаев. В период его литконсультантства в Алма-Ате Курдакова посетил один казах, милиционер в чине майора. Он принёс рукопись, где излагались его многолетние (!) философские рассуждения о физическом бессмертии. Естественно, специального образования майор не имел, о Фёдорове не слыхал и был очень удивлен и обрадован, что кто-то ещё этим вопросом занимался. Курдакова поразила не сама рукопись, достаточно наивная, поразил факт серьёзного обращения к такой теме человека совершенно неожиданного. Обращения мучительного, ибо тот скрывал это от начальства и порою от самого себя.
Возникновение подобных мыслей у, казалось бы, далёких к ним людей, конечно же, косвенно свидетельствует о Божественном нашем происхождении. Истинная поэзия же – это всегда воспоминание о том.
В русской поэтической традиции очевидная невозможность найти покой и реализовать волю (свободу) рождает напряжение щемящее и таинственное, предельное для человека восприимчивого. Тут дело не столько в эмоциональной или ментальной (рассудочной) составляющей, хотя и этим полна русская поэзия. Смерть – как непонятная, неестественная, «несправедливая» реальность – напрочь связана с Воскресением, а потому – необходима. Вот стержень воздействия поэзии на душу. Смерть – врата в бессмертие. Очевидно, что только в Боге возможно это, и никак сугубо в мирской жизни, а тем более – в суете механического существования. Поэт не может писать только для людей, он неизбежно становится популяризатором Слова, что в конце концов приводит к стяжанию популярности. Метание бисера небезопасно. Слово должно пройти через Бога, должно быть писано сердцем как бы для самого себя, опалиться отчаянием:
Стихи мои, зачем вы прозвучали?.., –
и только тогда оно может идти к людям, не искушая «малых сил», а доставая их до сердца же. Но поэзия никого не спасёт. Думаю, во все времена было и есть такое:
Захлебнулось Божье Слово –
И не слышно никому…
Это, понятно, метафора, но воистину Божье Слово сказано и действует избирательно: «Много званых, но мало избранных». Именно Оно, а не поэзия сама по себе, есть путь в Бессмертие, который требует внутреннего и поведенческого соответствия тому высокому накалу, какой даётся не столько поэтическим состоянием, сколько тем, что его рождает. Констатация Пушкиным несоответствия ему:
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,..
…Среди людей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он, –
не противоречит сказанному, ибо осознание своего ничтожества есть уже шаг к освобождению от него, подводя к истинному смирению («кроткие наследуют царство Божие»).
Помню, как именно эти пушкинские строки процитировал мне Курдаков в ответ на мою подковырку вроде: «А сам-то?!» Я, несмотря на молодость, прислушался, хотя авторитетам до сих пор не очень доверяю (это отнюдь не означает, что я хорош, это означает, что процесс освобождения для меня не просто слова).
А вот – судьба поэта, его суть и бремя – по Курдакову:
Вначале казалось – словечки, забава,
Где слава – направо, налево – успех,
А жизнь из-под слова сочится кроваво,
И надо б не так, да увиливать грех…
… Тогда вдруг поймёшь, что и это изгойство
С глухой отчуждённостью этих и тех, –
Всё той же толпы первородное свойство,
И время принять на себя её грех…
Принять как жизнь,
Чтоб в полусвободе её непродажной
Свободно принять эти муки и боль, –
И только порою, себя озадачив,
Спугнёшь вдруг… в дали
Тоску по успеху, печаль по удаче,
Что, словно затменье, пришли и ушли.
Да,
Судьба поэта – тоже назиданье
Умеющим читать её с конца.
Курдаков вызывал при жизни чувство душевной привязанности у близких ему учеников. Он умел понять сердцем, как и писал – сердцем. Остальное – задиристость его, насмешливость, уязвляющую правду, сердечные заблуждения – как-то само собой хотелось простить. Оно, всё это, не могло перевесить. Другое дело – люди посторонние, особенно при полномочиях. Такого автора на руках не носят, завидуя и боясь его, хотя, за рюмкой, так приятно с ним пооткровенничать… Вот что произошло с ним в Казахстане.
Было это году в 91-м. Евгений Васильевич жил тогда в Алма-Ате и плотно занимался переводами из Абая. Надо сказать, что именно его переводы наиболее близки к оригиналу – по духу. Они глубоки, пронзительны и проникнуты именно абаевским мироощущением.
… Я по холмам брожу, где веет ветер,
Где бегают некормленые псы,
Откуда виден весь наш быт убогий
В осенней мгле темнеющего дня,
Потёртый войлок юрт, тоска дороги,
И степи – без единого огня.
Курдаков, как и Абай, поздно пришёл к истинной поэзии. Он буквально через себя пропустил жизнь гения, создав «Поэму перевода»:
Переводить дыханье на дыханье,
Как жить, дыханья не переводя..,
ощутил и своё изгойство, как его, – ведь так мало понимающих эту тоску одиночества.
Я трогаю струну, но то не лира,
И снежный ветер глушит песнь мою.
В пустынном, азиатском центре мира
Воистину пустыне вопию.
И выкрикнуть бы этой вьюжной дали,
В глухой, всё принимающий провал:
Стихи мои, зачем вы прозвучали?
Стихи мои, зачем я вас создал?..
Это не совсем то, что у Блока:
Молчите, проклятые книги!
Я вас никогда не писал!
Хотя и у Блока это глубоко – так можно смотреть только сверху на своё творчество. У Абая тут больше безысходность.
Так вот. Алма-Ата. В Казахстане уже свой президент. Националистические «ветры враждебные» в самой силе. А Курдаков, что естественно для погружённого в переводы, параллельно пишет предельно правдивую – иначе он не умел – статью об Абае (Род тобыкты. Сын умирает от наркомании. Безвоздушное пространство…). Из-за невозможности опубликовать её в Казахстане в то время, он отсылает статью в Москву, в «Книжное обозрение», где она и выходит.
После этого Курдаков фактически лишается средств к существованию, ибо расторгнуты все договоры с местными издательствами. В прессе начинается травля с использованием писем «трудящихся чабанов» из аулов, которые возмущены осквернением памяти величайшего из казахов (надо сказать, в статье Курдакова использовались давно известные ещё от Ауэзова факты биографии Абая). Позже волна спала, будто и не начиналась, договоры тихо восстановили.
По словам самого Курдакова, наиболее вероятной причиной такой реакции на статью был почти решённый вопрос о его секретарстве в Союзе писателей Казахстана (по русской литературе) – многие его бы поддержали. Но истинная причина, конечно, похоронена в лабиринте специфических взаимоотношений околовластных «творческих» особ. История тёмная.
Ещё одна сторона творческой жизни Курдакова требует особого рассмотрения. Речь идёт о флористике, «скульптуре корней». Ещё в бытность свою фрезеровщиком на заводе, он ходил в подмастерьях у старого мастера Ядрышникова, который учился у самого Эрьзи. Ядрышников дал Курдакову цельность взгляда на мир, природу, научил искусству выбирать должное и достаточное, отбрасывая лишнее.
Всё излишнее стружкой слетит в подверстачье…
Став мастером, Курдаков сам обрёл способность учить и написал книгу «Лес и мастерская», переведённую даже на пару европейских языков. Его работы выставлялись в 70 – 80-е годы в Москве, в знаменитой церковке на Калининском (выставка «Природа и фантазия»). В те годы я бывал там и наверняка видел его работы (он делал в основном крупные вещи), и не знал, что через каких-то 7–10 лет в далёком Казахстане сам стану его учеником – только уже по словесной части (я до 30 лет и не помышлял о поэзии).
В 80-е годы Курдаков работал в Усть-Каменогорском краеведческом музее ст. научным сотрудником, создавал в д. Бутаково и других местах свои сады корней, полные сказки, с чертями и кикиморами – наподобие знаменитого парка под Ялтой, – только более органичные, внутренне увязанные. Это был период его поездок по всему предалтайскому краю, археологических находок, в результате чего явился подспудно замысел двинуться вглубь по языку.
… Ширь воды и берега вдали,
Где хранятся, как предначертанья,
Знаки неба в памяти земли.
Этими знаками он и занимался все последние годы. А в ту пору он характеризовал себя – «корней соглядатай». Он удалялся в раскорчёванную прииртышскую согру, «распаханную насмерть», становился участником «безмолвного вече исчервленных пней», с болью переживая гибель прибрежной защитной полосы. Не потому ли так трагичны его работы в своём большинстве, образы мученически-печальны?
Он часто озадачивался и другими корнями – истоками своей фамилии:
То леший мой дурной, куртак курбатый,
Всё, словно эхо, бродит за спиной..,
Пугая своим присутствием до того, что
Не чересчур ли, пращур?..
В другое время в стихах проскакивает слово «куырдак» – «винегрет» из потрохов.
В бескормное время начала 90-х резьба по дереву часто поддерживала семейный бюджет. А последние его работы украшают доныне интерьеры Новгородского государственного университета, где он преподавал в последние годы жизни, уже становясь незаметно легендой Новгорода.
А Сад?.. Сад, наверно, пропал, источенный временем и забвеньем. Страсть мастера, его детище. Его прошлое, невозвратное просто потому, что жить прошлым противоестественно. Остаётся нежность к прошлому своему состоянию, – даже не к делам своих рук.
Вот и Сад опустел, весь запет и обсказан…
Запетость и обсказанность – уже достаточное условие невозвратности прошлого, и только желна порой
Прокричит о глухом, погружённом в бесстрастье,
Странном Саде, чьё время уж мхом поросло,
Где его постаревший садовник и мастер
На пеньке позабыл золотое тесло.
Но вернёмся к сути поэзии. Курдаков так чувствовал её: «Когда у поэта возникает выбор – судьба или поэзия, можно сказать, что выбор сделан: не будет ни поэзии, ни судьбы. Потому что для поэта это едино».
И ещё: «Поэзия, как ничто более, ощущает обращённую внутрь… связь смыслового родства между некоторыми словами, связь, которая является осколками ныне забытого, потерянного понимания сущности явлений. Поиск единозвучий, в том числе и рифмовка, – это безотчётный способ такого «вспоминания» о родстве слов. Но время с помощью грамматики довольно давно разбросало единство первоначальной смыслозвукогармонии, и сейчас можно только сожалеть, что, например, слова единокровные – «смерть», «сумерки», «мера» (жизни) – не рифмуются, а слова «любовь» и «кровь»… (… хвала-желание и мясо) – рифмуются напропалую. Поэтому столь часто современная рифма не подкреплена необходимостью мысли.
Но нет худа без добра. Может быть, русская поэзия оттого и не впала в иссушающую заумь и назидательно-философское начётничество, что в русском языке почти невозможно отыскать точных рифм к словам «жизнь», «сердце», «солнце».» (Из книги «Золотое перо иволги»).
Да, Курдаков был всегда далёк от назидательности и иерархии чинопочитания. Он бежал от них из областного литобъединения в Восточном Казахстане:
… Усредненье, безликость, равненье…
… Пламенение без огня
С характерным для всякой рутины
Утвержденьем вчерашнего дня…
… Зарубаю себе на носу… –
и созывает в свою Студию людей свежих, незашоренных (да и немногих единомышленников из объединения), чтобы, открыв им глаза сердца на своё предназначение, дать бесплотную опору в творчестве и жизни.
У него есть одно из любимых им стихотворений – «Небесные лучи меж тёмных туч…», где даётся ощущение того, как зыбка основа мира, но мир без неё невозможен.
… Последний луч падёт, подрезан птицей…
Минутный храм…
Исчезнет, чтоб уже не возродиться…
Но чтоб потом, когда нахлынет стон,
Забрезжить вдруг в задёрнутом сознанье
Виденьем давним солнечных колонн, –
Опорою души и мирозданья.
Курдаков, напомню, начал поздно. Нет, стихи он слагал и раньше, но постижение сути поэзии как служения пришло гораздо позже. У него был даже свой наставник – Андриан Розанов, от которого Курдаков со временем отдалился. Приведу целиком одно стихотворение, в котором, на мой взгляд, ёмко отображён трудный путь становления истинного мастера.
«Топи котят, пока слепые ».
Народное.
Пока я по-щенячьи тычу нос
В любую подвернувшуюся руку,
Пока я не прошёл ещё науку
Кровавых драк, пока я не всерьёз, –
Топи, топи меня, наставник мой,
Ещё ты можешь голыми руками
Приткнуть меня к любой помойной яме
И покачать печально головой.
Спеши, пока клюю на простоту,
Кидаюсь на фальшивую монету,
Наивно внемлю каждому совету,
И ложь твою как откровенье чту.
Пока твой кабинет в моих глазах
Возвышенной поэзии обитель,
Пока твои стихи, о мой учитель,
Ещё стихи, а не словесный прах, –
Топи меня, пока я не постиг
Судьбу твою – засаду и облаву,
Локтями отвоёванную славу,
Трусливую безликость твоих книг.
Топи, пока не высмотрел в твоей
Судьбе всех жалких знаков крохоборства,
Тяжёлой злобы и противоборства
Всему, что было выше и светлей, –
Топи меня, топи, пока я слеп,
Пока наивен я, смешон и молод,
Пока меня обуревает голод
Тщеславия, пока я так нелеп…
Иначе, под тобою возмужав,
Тебя я утоплю. И буду прав.
Сам Курдаков не следовал этому правилу серьёзно в отношении нас, ему претило чувство мести, тем более перенесённой на следующих (вспомним: «Сокол птицу не бьёт над водой»), хотя поводов для этого мы давали предостаточно. Бывали моменты, когда он играл в это с нами, но скоро советовал не принимать игру серьёзно и помнить всегда, какого наставника может подбросить судьба.
Скажу вещь, которая, возможно, не всеми будет воспринята однозначно, но которая для меня ясна, как день. Когда-то Иисус открыл ученикам, что хочет видеть их не рабами, не учениками, но друзьями, братьями. «Вы друзья мне, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я же не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его» (Ин.).
И когда-то Курдаков сказал нам: «Вы навсегда останетесь моими учениками».
Да, параллель некорректна: где Иисус, и где – Курдаков, да и все мы; ему и нам до Иисуса, как от Земли до Солнца. Между нами и Христом, когда мы крепко повязаны обществом, миром, – пропасть. Но я взял её как демонстрацию общего принципа взаимоотношений в системе «учитель-ученик».
Слова Курдакова – как инициация от противного, это указание на некую ступень, через которую нам следовало переступить внутри себя. Перестать в самих себе страдать вечным ученичеством.
Как поздно: под сорок теперь уже скоро,
А всё ученичества тянется срок…
Тогда это было благом для меня, но должен настать момент, когда это благо становится камнем на шее, золотым ремешком на крыльях. Так же и Христовы ученики не предполагали, что пройдут Его Путём. Для меня совершенно понятно, что без Курдакова затруднительно было бы в дальнейшем устремиться в «ученики» ко Христу. А иной цели у христианина, кроме как «близкая дружба» с Ним через стяжание Духа, быть не может.
Кто-то избавляется от ученичества через отрицание, эгоистическое самоутверждение, хотя это достижение всегда несёт в себе собственную внутреннюю причину, не уничтожает её, – зависимость, заставляя вновь и вновь доказывать себе и другим свою освобождённость. Тогда творчество, да и жизнь неизбежно несут отпечаток этой родовой травмы – неорганичность, заданность, отвязанность во что бы то ни стало.
Кто-то внутренне так и остаётся учеником, делая из учителя кумира, непререкаемый и недосягаемый авторитет, - каковым сделали для себя Христа миллионы прихожан, рабов Божиих, став духовными иждивенцами Его Имени.
А кто-то просто и совершенно естественно вырастает из ученичества, вылупляется из этого яичка, не испытывая ненависти к скорлупе, - ведь она создана не учителем, а самим тобою. Так и припавший к Христу полон им, смиренно избавляясь от ревнивой самости и твёрдо, как сын, брат и друг, идя по наведённому Им мосту в ту Общность, где нет ни учителя, ни ученика…
Но вернёмся к учителю. Курдаков не столько учил нас, как писать, сколько заражал отношением к слову, к музыке стиха, прививал вкус к внутренней дисциплине слова. А размер, ритм, приёмы… – это, усвоенное, должно раствориться в сознании как само собой разумеющееся, чтоб уже не мешать собственно творчеству.
И всё же была у него одна привязанность – трёхсложники (дактиль, амфибрахий, анапест). Не то чтобы он старался ими писать (пожалуй, только в юности), но настолько проникся их музыкой и возможностями, что они порою сами, он признавался, возникали в сознании без предварительной заданности. Он настойчиво утверждал, что именно трёхсложники наиболее близки строю русской речи, да и большинство слов русских – трёхсложны. Писать этими размерами интереснее, они развивают широкое (длинное) дыхание, они распевны и ёмки. «А почему амфибрахичен (трёхсложен) сам русский язык? Почему трёхчастен орнамент, хоровод, деление мира?.. Всё трёхпоходно, трёхкратно, триедино…»
Вспоминается в связи с этим один безобидный спор, которому не я один свидетель, ведшийся между Т. Глушковой и Е. Курдаковым в Переделкино по поводу этих размеров. Глушкова твердила, что писать ими бессмысленно, все они ведут к невольному подражанию Пастернаку. Ей казалось, что Пастернак там везде наследил и отметился. Формально это, возможно, и так, ведь и Кюхельбеккер как-то заметил: «Люблю и уважаю талант Пушкина, но, признаться, мне бы не хотелось быть в числе его подражателей… Чуть ли не стихи четырёхстопные сбили меня: их столько на пушкинскую стать, что невольно заговоришь языком, который он и легион его последователей присвоили этому размеру». И что же, разве поэтому только «Пушкин – наше всё»? Думается всё же, что сама поэзия, строй сердечной мысли, мирочувствование, самоощущение в Боге – всё это, если оно есть в зрелом мастере, будет, конечно, индивидуальным. Так что размер тут – совершенно внешний организующий элемент, дело «лишь» в органичном его соответствии картине оригинального стиха:
Так обживай же подполье своё
В русской привычной своей бессловесности,
Пережидая, пока на поверхности
Не отжирует родное жульё…
… Дактилем, дактилем, дактилем, дактилем
Бьют пулемёты – и музы молчат.
(«Вечный октябрь над усталой страной…»)
Были споры и с Кожиновым, который как-то в разговоре заметил, что всякое творчество вытекает из игрового начала. Безусловно, игра – важный двигатель, и Сам Господь, возможно, играя, создаёт миры. И всё же…
Есть игры и жизни. Однажды в игре
Высокой, нездешней, поймёшь безотчётно,
Что играми правит стихия расчёта,
А жизнь простодушна, как дождь во дворе…
… Где школа живого твердит издавна
О вечно бесплодной тщете своеволья,
Где в поводыре не нуждается доля
И цель не бесцельна, хотя не видна…
Возможно, Кожинов и Курдаков не поняли тогда друг друга – ведь игра игре – рознь. Одно дело – играет циничный мастер, другое – дитя… Если б они виделись чаще, и не в «полусухой» обстановке – спорные углы, возможно, стали бы более обтекаемы… А возможно, что более близкому общению мешали, с одной стороны, несколько излишняя «интеллектуальность», «книжность» Кожинова и, с другой, неистощимое жизненное свободолюбие Курдакова. Он не был однозначен и прост, и свой творческий «покой» охранял ревниво. Он и сам готовил «интеллектуальный штурм» доисторических глубин, во многом разрушавший устоявшиеся представления – кожиновские в том числе. Но интеллект, в силу объективных причин, всегда фрагментарен и не позволяет во многих случаях видеть целое, для чего потребно иное зрение. И, потом, строгое следование фактуре явления не обязательно приводит к объективной оценке его, ибо случается так, что на одних и тех же фактах можно построить противоположные выводы. Другое дело, когда сама личность исследователя становится главным действующим лицом, одухотворяя «свою» модель явления. Это понимал Кожинов, когда, по нашей с Ф. Черепановым просьбе, составил в свое время записку о творчестве Курдакова для упрощения путей опубликования главного труда его жизни – открытия полноценного мифологического свода наших далёких предков и вообще – истоков мирового мифотворчества (см. газету «Российский писатель, № 1, январь 2003 г.). В этой записке Кожинов, в частности, отводил Курдакову место в десятке лучших русских поэтов «последнего десятилетия» (80 – 90-х).
В 1992 году Курдаков покидает Казахстан и возникает в Великом Новгороде.
На Мстинской улице моей метут метели…
Ах, эта метель!.. Вспоминается прежнее:
Приснилось мне, что смертною метелью
Я занесён в заснеженном краю…
Это всё сбылось в 2002 году. Но сейчас Курдаков полон сил. Он давно уже подкрадывался к теме, занимавшей всё его существо, готовил площадку, от которой мог бы оттолкнуться (фактический материал, свои наработки, увязки неувязываемого и распутывание закаменевших узлов), искал место для воплощения замысла. Догадки о происхождении речи проскальзывали в его книгах – и в стихах, и в эссе, и в дневниках. В стихах полно птиц – как звёзд у Бунина. Он хорошо знал их повадки, у него жили птицы.
… Тридцать три моих птицы
Встрепенутся в стихах…
Всё неспроста: человеческую вокальную речь, подобную птичьему пению, он выводил из необходимости обозначить узкую территорию вдоль Ледника, где распевы разных гласных обозначали степень комфортности проживания Тела вида Хомо Сапиенс. Божественность происхождения звуков он не рассматривает, а начинает с уже обожествленных звуковых модулей: а-а-а, о-о-о и т. д. (на это указывается в Ведах). Но понимание пришло позже, а пока – одни вопросы:
И всё не пойму, для чего, отчего там…
… Поёт и свистит по заученным нотам
Пернатое племя себе и весне?..
Движеньем и жаром какого горнила
Всё это должно было сбыться и стать?
Сорока, ворона ли кашу варила,
И всё это, кажется, не расхлебать.
Но расхлебать пришло время.
Может быть, на земле только два языка…
Их и оказалось два: один – ритуальный язык гипербореев, Ариев, бореальный, слоговое письмо – прямой предок русского, другой – подобный – в Южной Америке (существующий до сих пор язык аймара; см. АБЦ, 31 янв. 2000). Из их неизменённых частей ушлые американцы замахиваются вывести все языки мира, создав универсальные программы переводов…
Кто заповедал мне помнить душой
Это камланье, язычество это,
Солнцепряденье, кручение света,
Переполнение жизнью самой?
… Было ли, не было – знать не дано…
Тогда, в Казахстане, это ему ещё не открылось. Но были уже описаны им древнейшие «астрокомплексы» (оказалось, святилища и памятные знаки, призванные следить за началом движения земной оси и фиксиркующие путь предков) – и в районе Курчума (у оз. Зайсан), и в урочище Ак-Баур под Усть-Каменогорском (описан в очерке «Священная долина», журнал «Братина», № 1, 2002, а также в изданной силами дочери Евгения Васильевича – Маргариты Евгеньевны — книге «Ак-Баур»). По цельности, по охвату территории этот последний – уникальный памятник, модель мира, превосходящий по значению знаменитый Стоун-Хендж, от которого остались лишь камни и которому досталась вся мировая слава… Комплекс же Ак-Баур погибает в безвестности.
Открытия начались в Новгороде. Строки из писем ко мне:
«… Я всё пишу книгу свою многострадальную, ушёл в какие-то неведомые глубины, – но понимаю, что Бог мне послал Нечто, в чём я сам может быть, и не разберусь до конца. Сейчас, кстати, заканчиваю анализ «Влесовой книги» – страшно интересно и неожиданно». (1994 г.).
«… За верстаком делаю иконы сейчас, Николу, Спаса, Богоматерь, – а за письменным столом – внешне прямо противоположное: мифостадиальный субстрат памяти Хомо Сапиенс, породивший все эти христианские символы. Впрочем, сам я в этом не вижу никакой беды, – это уровень всего будущего мировоззрения нашего, – и по сути, он строже, трагичней, апокалипсичней даже любого религиозного духа, впрочем, и сам по-своему религиозен». (1995 г.).
«Тогда бо быша Чудове на земли,
рекши волотове…»
Хронограф, 1494 г.
… Прах неких волотов* и прах навек забытой чуди…
… Земля забыла, кем жила, о ком слагала сказ…
…
… И в прахе и тлене исчезла дорога,
Андроновской бронзы загадочный путь.
…
… Три великих пути различи:
Слева – хлад под звездою полярной,
Справа – жар под июньской звездой,
Прямо – путь твоих предков янтарный.
-----------------------
*волоты – великаны (прим. Ю.С.)
Понемногу нащупывался этот путь предков – «Троенья тропа» «Слова о полку». Только со временем он стал обратным, с востока на запад, когда открылось сокрытое. Параллельно создаются стихи.
«… Пять земель, две тьмы, море,
мудрый разумеет…»
Надпись на полях Апостола
1307 г., определяющая
Премудрость Божию.
Пять глав Пятиземелья – счёт познанья,
Древневшей сути пройденный урок.
Две тьмы по сторонам Тропы Трояньей,
Апсидами текущей на восток.., –
т. е. вспять. «Море» – это смерть от жара в южных широтах, одна из пяти «земель». Две тьмы – это два катастрофических периода «закрытого солнца».
Постепенно, привлекая в круг своего внимания всю «оприходованную» наукой и, особенно, «бесхозную» (коей тысячи «единиц») археографику, Курдаков приходит к тому, что Миф – это модель древнего Пространства – Времени.
В книге «Золотое перо иволги» Курдаков рассматривает модели, по сути, как представления ума о мире и себе самом: «Каждая модель, какой бы нелепой она ни казалась, строится ради духовного самоутверждения и самосохранения, и вмешиваться, особенно оценивать её, следует предельно осторожно. Модель жизни состоит, собственно, из макета мира, то есть некоего пространства и времени…жизни в нём… с человеком умирает его последняя модель мира, а остальные его модели последовательно погибли в нём самом допрежь…»
Надо ли говорить, что реальность (истина) очень отлична от представления о ней. Эта статья о нём – моё представление о Курдакове. В стихах – тоже, может быть, не сам Курдаков, а его представление о себе, его модель мира, и его исследование привело к открытию модели пространства, которую создали наши пращуры. Вся древняя топонимика и археографика – это модель того, что происходило с человечеством в течение времени последнего оледенения. И предпринятое Курдаковым исследование есть моделирование модели, что, казалось бы, ещё больше уводит от истины вещей (как оно было на самом деле). Даже в таком, развёрнутом и обобщающем виде исследование его остаётся интеллектуальным проникновением в Божественное устроение, и потому не может не быть фрагментарным, хотя подобного по цельности погружения в такую глубь никому не удавалось осуществить.
Было ли, не было – знать не дано…
Выведение им за скобки от участия в возникновении речи Божественной сущности, Духа Святого (в христианской терминологии), как бы отождествление доледникового Богочеловечества с Богом-Отцом, а «ледникового» – с Богом-Сыном, на мой взгляд, является слабым местом исследования. Речь – как отпечаток Путей Богочеловечества (не Самого Бога) – вот ракурс, который следовало бы применить при взгляде на предмет исследования (хотя, легко теперь судить!). Но истинно и то, что ничто не совершается на Земле, если пред этим не совершено на Небесах.
С тех пор, как Курдаков прикоснулся к приоткрытым им пластам субстрата культуры, с особой остротой предстала перед ним картина разделения этой самой культуры на «верхнюю» и «нижнюю». Особенно рельефно разделение оформилось на русской почве, где эти два слоя существуют параллельно, хотя верхний, оторвавшись от субстрата, взял на себя роль кормчего, стал доминантой. В поэзии это – Пушкин, хотя он ещё сохранял связь с Мифом, и вся элитарная мастерская, обретшая свой голос на индивидуальном чувстве и видящая жизнь общества, да и жизнь вообще, только через призму индивидуальности, то есть в разделённости, и пытающаяся найти путь единения через выработку интеллектуального соглашения, что для поэзии странно. Так интеллект прочно вошёл в обиход творчества, обрекая на прозябание, на вторые роли всё, что не могло быть рациональным, хотя «нижняя» культура, основанная на мифологии, была рациональна по высшему порядку.
«Нижняя» культура, с её прочной родовой связью с мифологическим сознанием, ещё существовала и даже развивалась (вплоть до череды переворотов в начале ХХ века) через своих глашатаев – Н. Клюева, С. Есенина и других «новокрестьянцев». Именно в крестьянской среде и сохранялась она, уйдя глубоко в подполье от влияния внешних веяний, и даже христианство не смогло её искоренить и вынуждено было с ней считаться. К этой культуре принадлежит «Слово о полку Игореве», которое стало музейным экспонатом для культуры «верхней», – она так и не поняла его смысла, но именно «Слово…» предстало перед Курдаковым тем живым мостом, который мог бы быть перекинут из «нижней» к «верхней» культуре, несказанно озолотив последнюю, если бы она пожелала этого. Ведь миф даёт искомое единство – не умозрительное, не суммарное, а естественное, живое, основательное.
Курдаков всегда чувствовал концы этой почти разорванной связи, находил символы её и в проявлениях «верхней» культуры, пытаясь их объединить, – ведь он был и её представителем. Но в пределах, в рамках этой элитарной культуры так трудно найти точки полного слияния, кроме самого языка и заимствований: миры неповторимы, автономны, как разлетающиеся галактики.
Два русских века выделены знаково
На тусклом фоне времени жестокого:
Один – дневною бабочкой Аксакова,
Другой – полночным бражником Набокова.
Две бабочки, два знака, два столетия,
Они б сочлись, как два полубезумия,
Когда б меж ними символом бессмертия
Не взмыл осенний шмель Ивана Бунина…
Работая над «Русским Пантеоном», Курдаков пишет потрясающее эссе – «Ключи заброшенного храма» («Московский вестник», №5-6, 1995), где раскрывает истоки гениальной есенинской поэзии через высказывания поэта в трактате «Ключи Марии», полные боли и любви к утрачиваемой и не нужной науке основе всей русской жизни, явленной через уклад и говорящий орнамент, глубоко укоренённые в доисторической древности как Память вида, человеческого рода.
«…Наука ничего Есенину дать не могла. Нужно было обращаться к «первоисточникам», к самой крестьянской культуре, к себе: «Единственным расточительным и неряшливым, но всё же хранителем этой тайны (то есть мифостадиала. – Е.К.) была полуразбитая отхожим промыслом и заводами деревня… Этот мир крестьянской жизни… наши глаза застали, увы, вместе с расцветом на одре смерти»»
«Каждый… локальный обряд (свадьба, похороны) сам в свою очередь в строгом порядке следует этой неписаной (и писаной – орнаментом) последовательности. А связано всё это – Словом, языком, что убедительно подтверждает единоисходность мифа, языка и обряда (вопреки выводам академиков).., восходящих в глубины едва ли не изначальные. Такова была великая крестьянская культура, и Есенин всё это прекрасно знал: «Вытирая лицо своё о холст с изображением древа (помните – «растекашется мысию по древу»? – то есть орнаментально зафиксированному древнему Пути предков. – Ю.С.), наш народ немо говорит о том, что он не забыл тайну древних отцов»».
А теперь я предоставляю слово самому Евгению Васильевичу. Привожу почти полностью его письмо от 1996 г. к В. В. Кожинову, которое он, может быть, и не отправил, но копия которого была прислана мне.
«… Хочу поделиться с Вами планами своей книги о русской мифологии, которая сыграла со мной какую-то шутку, добрую, недобрую ли, пока и не знаю.
Задумав когда-то отыскать неопознанную ещё мифосистему, я понял, что вначале нужно определить вообще признаки подобных систем, (как ни странно, они не определены, особенно границы между мифом и эпосом), и уже потом выйти к опознанию Русского Пантеона, скрытого, по моим предположениям, в том, что именуется «русским былинным эпосом». Мне пришлось проштудировать несколько мировых мифосистем: китайскую, др.-египетскую, ветхозаветную, ведическую, Греко-римскую и т. д., вплоть до удивительных «медвежьих песен» ханты-манси.
Всё шло своим чередом, выявились отдельные традиции (по 3-4 в каждой из мифосистем), определилась строгая последовательность мифологических событий (семичастная), названная мною Мифостадиалом, определились функции богов-царей. Выявленная формула (семь небес, четыре солнца, пять земель, три хтонических толчка земли, две тьмы) заставила предположить, что это связано с какими-то реальными земными событиями, происходившими на глазах поколений мифоносителей.
Я зарылся в книги по геологии и гляциологии антропогена, построил климатические таблицы, и когда сверил их с таблицами Мифостадиалов, то оказалось – это одно и то же. Т. е. мифы – это память Вида Хомо Сапиенс начиная с Рисс-Вюрмского потепления (45000 лет), глубже память ни одного мифа не простиралась. Видимо, это самое начало языка, т. е. сознательного обвременивания пространства. И лишь гораздо позже я обнаружил тексты, которые имеют несколько более глубокую память, вплоть до описания гибели мамонтовой фауны (сакрализированного, конечно).
Короче, всё это позволило уверенно приступить к анализу былин (точнее, старин), – и, конечно же, они оказались замечательной по своеобразной красоте и стройности мифологией с четырьмя традициями (древнейшая – цикл системы Дюка-Чурилы-Бермяты) – и т. д. И – в общем, исследование благополучно завершилось, оставалось всё это сбросить на машинку, пробелить, отрисовать бесконечные мифостадильные схемы и пр.
Конечно, я был страшно рад, и не оттого, что сделал открытие и доказал его, а оттого, что мы все получали «даром» собственный мифосубстрат, опорную базу этнической памяти, которая ещё поработает и на культуру, и на национальное самосознание.
А сам я поспешил обкатать всё это в стихах, посмотреть, как это начинает выглядеть на деле, уже в слове. И написал цикл стихов «Русские сны», (опубликованы где-то в «Лит. Учёбе»). Эти «Сны» никто не понял, естественно, они и впрямь кажутся ещё снами, которые простительны разве только поэту.
И вот это заставило меня задуматься. Не хотелось прослыть даже на время дилетантом, выскочкой. Читатель, конечно, всё проглотит, а наука? Она медлительна, недоверчива, – и правильно делает, а «прозренческого» жанра в её номинации нет. И я решил подстраховаться. То есть ещё раз перепроверить всё наработанное, применив какой-то иной метод, не мифостадиальный. Неужели у человечества нет иных текстов, не столь сакрализированных и заритуаленных?
И я стал искать тексты. («Слово о полку Игореве» и «Велесову книгу» несчастную я отложил на потом). В поисках текстов я зарылся в фонды богатейшей университетской библиотеки в Новгороде и стал просматривать завалы всяких исторических, археографических, археологических и прочих вестников, которые нетронуто пылятся здесь с 30-х годов целыми комплектами. И потихоньку стал выписывать, срисовывать, ксерокопировать малоизвестные и забытые археографические памятники. Это разнообразные граффити на стенах церквей (часть их издал когда-то В. Рыбаков), раннерусская археология, в т. ч. больше десятка не прочитанных берестяных грамот, надписи на пряслицах, дощечках, обломках горшков, на камнях, бронзовых подвесках-оберегах, записи на полях древних книг и рукописей, – и т. д. И всё это непонятными буквами, значками, порою похожими на орнаменты…
Собрав таким образом более 200 записей, я попытался прочитать их. Вначале мне помогла книга Гриневича «Праславянская письменность», где он предлагал способ дешифровки некоторых подобных текстов. Немного погодя я отказался от его метода, – главный принцип (слоговое письмо) Гриневич распознал, но ни одного текста перевести не смог. Долго рассказывать, как шла моя расшифровка. Выручило то, что в самом Новгороде издается хорошая археологическая литература (ещё бы, археологическая столица Евразии!) – и я отыскал билингвы – и прямые, и косвенные.
Короче, когда я прочитал всё это (а есть тексты до 300 слов), то понял, что предо мною не русские тексты, не праславянские, а совершенно неведомая Евразийская субстратная культура, которая обозначилась как Бореальная (бореал – время её становления по некоторым признакам), а знаковая система этой культуры оказалась «трёхвидовой»: собственно буквенная, затем – витое письмо и т. н. лигатурно-кинетический способ информации: предметы, орнаменты и пр. Но прочесть всё это я смог лишь через предварительное знание Мифостадиала, ибо эта культура вещала только об одном: о семичастной структуре прошлого и апокалипсисе в будущем, т. е. несла всё ту же память вида. (Забегая вперёд, скажу, что «Велесова книга» – не фальсификат, а плохо переведённые тексты всё той же БЗС (бор. знаковой системы), которые правильнее бы назвать «Патриарси» = Иеве росе йерати Сени = Явь росная Яревой Сени).
Чрезвычайно интересно т. н. витое письмо: выкладывание смысловых круглолигатурных модулей вервью в своеобразный орнаментальный узор, называемый яблоком. Иногда витые знаки прочёркивались на земле при помощи перуновой палицы, которых в Новгороде найдено уже более 180 (впрочем, никто ещё не знает, что это такое). А в прошлом году рядом с моим домом на Федоровском раскопе нашли и «готовое» яблоко, вырезанное из дерева. Кстати на фоне бореальных яблок писались и некоторые ранние церковные фрески (например, в нишах «Владычных палат» в Новгороде). Любопытный момент для нового восприятия пресловутого «двоеверия» средневековой Руси…
Кстати, сведения о витом письме есть и в неисчерпаемом «Слове о полку Игореве» в контексте «Ни хытру, ни горазду, ни птицугоразду суда Божиа не минути». Здесь птицугоразду = Веда жисе Ра-бога Вите йетени (это в системе БЗС расшифровка) несёт определение волхва-ведуна, ведающего про жизнь Бога Ра (раннего Солнца) и умеющего при этом «Вите йетени», т. е. повивать смертное. Ну, а «хытру» = ворите йене – обращающий пространство, воротей, ворожей, воротило… Вот откуда, наверное, фамилии Воротынских и Венивитиных…
Замечательные сведения о Бореальной знаковой культуре несёт и «Велесова книга» – «Патриарси», но там речь идёт о «скатях» – знаках на гончарных изделиях (или «скотях»; поэтому Велес – «Скотий Бог» – хранитель знаков, а не скота. – Ю.С.).
Язык БЗС – видимо, изначальный, «общечеловеческий», рано табуированный, затем табуированный ещё раз (есть отчётливые следы двойной табуировки) и ушедший в одинокое сакральное состояние в среде волхвов, жрецов, гаруспиков, шаманов и пр. Этот ностратический язык ничего общего не имеет с т. н. реконструкциями В. Иванова и Гамкрелидзе, которые совершенно искусственны. Наиболее близки к нему из современных живых языков – немецкий (сев. Диалекты), русский, латинский. Чрезвычайно легко читаются старотюркские слова, но лишь из сакрального фонда: Тенгри, Умай, и такие понятия, связанные с искривлением пространства, как хромой, слепой, левый и пр.
Русское слово «человек» в системе БЗС видится так: хоже во биле жите, т. е. «ходящий во битой жизни», – да, печальная память о пережитом. Старотюркское «хоже», персидское «ходжа» и русское «казак» ещё сохранили память о вечном «хождении», а литературные «Хожения» – суть обязательный ритуал подтверждения богопосещений…
У меня есть уже достаточно большой словарь сакральных понятий, где-то порядка 1500 слов, общих в системе БЗС для немецкого, тюркского и русского языков. Это чрезвычайно важный объединяющий момент реального овеществления прекрасной в принципе идеи Евразийства, лишающий её отвратительных черт национальной коньюнктуры и ложных приоритетов, которые мешают понять её до конца.
… Извините меня, дорогой Вадим Валерианович, за столь длинное письмо. Мне хотелось, кроме всего прочего, подтвердить чем-то вашу заочную щедрую оценку моего далеко несовершенного труда, подтвердить небольшим перечнем задач и идей книги, чем-то проиллюстрировать их. Ну, может быть тем ещё, что я свободно читаю т. н. этрусские, лигурийские, тартесские тексты, это тоже БЗС, потому так и бьются над ними, кстати, совершенно безуспешно. А сами эти народы (этруски тоже) говорили на цизальпийских диалектах венедского языка. Эти тексты (а их больше 14000) – уже сами по себе, просто одним своим массивом, могут подтвердить идеи Мифостадиала, когда будут переведены.
Эх, мне на денёк-другой во Флоренцию бы, там находится музей этрусской культуры с огромным собранием текстов. Я бы мог прочитать итальянцам то, что им завещали борейгоны-этруски. А они завещали знать, что мы живём на больной планете и давали рецепт выживания при очередной катастрофе. Впрочем, и «Велесова книга» рекомендует: «… чтобы выжить, надо быть на челе рати…», т. е. нужно находиться на терминаторе. Но об этом говорит и граффити на алтаре Софийского собора в Киеве, нанесённое в XI веке, ещё до росписи собора (!). Кстати надпись нанесена витым письмом: Пойеле зьно небесе бити: не жити. Что означает: поятыми зноем небеса будут: не жить…
К сожалению, новым «проверочным» исследованием я отодвинул «Русский Пантеон», так и не завершив его. Увиделось, что прежний путь можно преодолеть иным, гораздо более продуктивным методом. А, откровенно, просто нет и времени. Работаю в художественных мастерских университета, что-то там делаю «для поддержки штанов», м. б. даже что-то и интересное, но всё это пожирает время драгоценное, которого так мало для души. Господи, ну почему так трудно всё-таки в единственной и дорогой Родине человеческих рос...
Книгу свою я мог бы теперь назвать ТАИНА, – этим словом начинается один из самых больших этрусских текстов на знаменитом камне из Перуджии (Перыни тож). Обозначает это слово «сурейе сети», т. е. Сети Солнца, письмена. В русском языке сохранились ещё три «жанровых» обозначения «сетей сурьи»: старина, былина и ходына (година). Да, та самая из «Слова»: «рек Бояни ходына» т. е. Произнёс Бояни «суре давоне», давние сури, в которых речь шла и о таком: ОЛГОВАКОГАНЯХОТИ, что обозначает «Йети быне Суресе губя, госева Бога любя», вполне рифмованный стих, достойный Бояна: Брани были, Солнце погубив, - гостевого же Бога люби… Формула о гибели и явлении гостевого Бога-новосолнца, которого, хочешь-не-хочешь, а полюбишь. Это и смысл концовки Слова: князь, хоть и битый, но князь. Потому и слава ему, а дружине – Аминь, что на БЗС означает Райе щасе, – время рая…
Вот, весна, а на дворе снежок порхает, холодно, хотя чайки уже прилетели, кружат над церквями… Смотрю и думаю, а ведь я единственный пока (или уже) человек, знающий, что СНЕГ (правильнее СНЕГИ) – это на самом деле «Йего жерове», т. е. сжираемые огнём, а если прочитать СНЕГИ, миновав и первую табуировку, то возникнет самая ранняя агглютинативная формула снега: Живе боре йези бого жите, – живой убор (покров) – Язи-боговой жизни. (Первоязык был имясловным, без прилагательных и глаголов, он склеивал начальные понятия, этим создавая новые)…»
Мне не известно, повторюсь, отправлено ли это письмо, и, если было отправлено, получен ли ответ на него. Но не об этом речь, а о том, что и мы имеем «свою» мифосистему, которая не только адекватна общепризнанным, но и ближе всех стоит к исходной мифосистеме – просто потому, что носители её – племена, сложившие много позднее русский и некоторые другие народы – остались на месте разрушения Мать-горы (Ледника), тогда как отделившиеся от них, придя в движение и «отрываясь» от Прародины, вынуждены были «смешивать» общую когда-то речь с новыми реалиями открывающихся пространств, затопленных частично водой (это зафиксировано в мифе о Вавилонском столпотворении, смешении языков).
Не слово породило речь, Речь породила Слово.
В этой стихотворной формуле подчёркивается первичность речи, которая была не более, чем Ритуалом, хоть и наиважнейшим. То есть она не была опредмечена и обиходна, а служила способом фиксирования изменений пригляциальной обстановки и памяти вида. Ледниковое время характеризовалось обезвоживанием атмосферы от экватора до льдов («море» – смерть, радиация) – анаквозисом, плотнейшим облачным покровом приледниковых зон, где концентрировалась жизнь с образованием «культурного слоя», чернозёмов, «Грязей Чёрных» мифов (их было две, в северном и южном полушариях) и наличием собственно приполярных льдов. Вот суть пресловутого Пятиземелия. Древние наши предки прекрасно знали, что Земля – шар. Это подтверждает и знаменитая новгородская находка – шар, сжатый кистью руки («Держава»). Никто, кроме Курдакова, не смог понять, что это. Символ Пятиземелия. А что касается изменений пригляциальной обстановки, то они носили катастрофический характер (явление «новосолнца» в результате смещения земной оси – в мифах за это ответственны хтонические существа, «толкатели» земли, – с частичным таянием и разрушением Мать-горы), они вызывали инверсию Речи (ритуальное говорение с конца на начало, подобными «приёмами» полны кинетические ритуалы – движение вспять; отсюда палиндромичность нашего языка) и её герметизацию (в основном жертва, табуирование гласных в слогах с заменой последних соответствующими согласными или другими знаками: «ТЕ» заменялось «Т», «БО» – «О», «РА» превращалось в «N» и т. д.; табуировались и целые группы смыслослогов – так называемый «матерный язык», например). Реконструкция же древней обрядовой речи идёт путём реинверсий (от одной до трёх, последовательных, так как инверсий, читай катастроф, было 2–3), причём подвергаться этому могут только те слова, что остались мало затронутыми языковыми флуктуациями в течение уже исторического времени. Кропотливая работа по вычленению таких слов ждёт исследователей.
Нужно понимать, что Человек как Тело вида ощущал себя единым организмом (неперсонифицированным сознанием обладают и животные), и современные «личностные» представления совершенно не годятся для характеристики древнего человечества. Распадение Человека на личности происходило в результате кенозиса – рассыпания всего и вся, в том числе и смыслов. Слово явилось уже как продукт дробления, усложнения формы Речи и упрощения её смыслов, распадения её на понятия, что уже более привычно нам (в вышеприведённой поэтической формуле говорится именно об этом Слове, об «языке», наследнике Речи, а не о том Слове-Идее, которое «было у Бога»). Собственно, именно дробление Речи привело к персонификации сознания и переводу всех мифилогических модулей в сакральное состояние (возникновение религий), а затем – в «предметное». В сравнении с Речью это была, безусловно, деградация, и уже современная нам речь продолжает этот процесс по инерции и, как ни странно, с ускорением. Язык не поворачивается назвать это Эволюцией. Курдакову, например, было совершенно ясно, что речь в своей сути не эволюционна, а инверсионна.
Исследование Курдакова истинно научно, потому что религиозно (хотя и не в должной мере) и цельно. По цельности оно превосходит все без исключения реконструкции подобного рода, не способные выйти за рамки языка и исторических построений. Оно и беспредельно поэтично, что только прибавляет ему цельности. Но надо сказать, что оно только пунктиром наметило пути дальнейших многотрудных разработок, переводов всей известной археографии, составления словарей, и главной трудностью, на мой взгляд, будет сохранение духа тех открытий, который владел их автором.
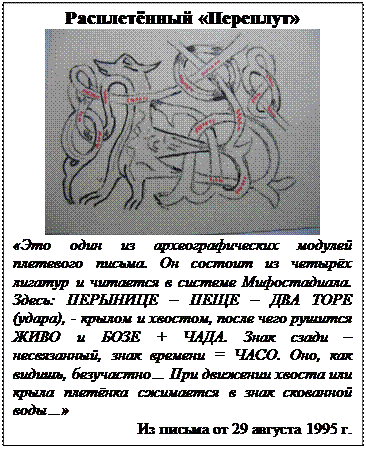 Изданию трудов Курдакова мешали порой необъяснимые препятствия. Наконец, уже был анонс в «Молодой Гвардии», но не поддающаяся уразумению смерть Александра Кротова перечеркнула и эти планы. В 2009 году, спустя почти семь лет после смерти самого Курдакова, наконец, издана часть трудов его – силами спутницы последних лет поэта Гинтер Н. М. и Новгородского университета. Издана как пособие для студентов, ибо иного статуса Университет, видимо, не мог им присвоить по своему – учебному – статусу. Крупные издательства подобные вещи не замечают, им нужен предварительный шум. Но изданное – уже потрясающий прорыв. Новгородская земля отблагодарила своего тайнознатца, своего «птицугоразда», человека, превратившего географию края в модель мироустройства с центром в Ключ-Городе. Там каждое имя (селения ли, реки ли, камня – таких, как «Щаглец» или «Медведица») – это знак былой Цельности, знак памяти и предупреждения живущим.
Изданию трудов Курдакова мешали порой необъяснимые препятствия. Наконец, уже был анонс в «Молодой Гвардии», но не поддающаяся уразумению смерть Александра Кротова перечеркнула и эти планы. В 2009 году, спустя почти семь лет после смерти самого Курдакова, наконец, издана часть трудов его – силами спутницы последних лет поэта Гинтер Н. М. и Новгородского университета. Издана как пособие для студентов, ибо иного статуса Университет, видимо, не мог им присвоить по своему – учебному – статусу. Крупные издательства подобные вещи не замечают, им нужен предварительный шум. Но изданное – уже потрясающий прорыв. Новгородская земля отблагодарила своего тайнознатца, своего «птицугоразда», человека, превратившего географию края в модель мироустройства с центром в Ключ-Городе. Там каждое имя (селения ли, реки ли, камня – таких, как «Щаглец» или «Медведица») – это знак былой Цельности, знак памяти и предупреждения живущим.
Когда-то, вспоминая свой любимый Зайсан, полное необыкновенного света озеро с почти совершенно безлюдным полупустынным северным берегом, где и я порою жил месяцами, Курдаков написал строки, которые, несмотря на сегодняшний прорыв, во многом ещё, увы, дышат правотою:
Спи, залив, спи, миф, высоко, в золотой дали,
Спи Плутоновым потоком на краю земли,
На границе тьмы и света, сна и бытия,
Где остались без ответа жизнь и смерть моя.
Он нашёл и разбудил Миф, но уснул сам, навеки став его душою.
ЮРИЙ САВЧЕНКО
(написано 13 декабря 2009 г. к 70-летию со дня рождения поэта; отредактировано 27.04.2020 )








