Уроки для изучения и практики международных отношений
Изучив следующие статьи, можно выделить несколько общих тем, которые возникают в результате нашего коллективного анализа катастрофических неудач. Мы наметим четыре центральных ниже. Принятие их во внимание поможет в реализации клятвы Гиппократа для IR, а также защитит от потенциального паралича политики (чему-то, чему в противном случае могло бы способствовать неправильное применение принципа «не навреди»).
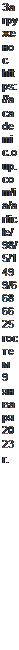 Во-первых, одно четкое понимание — это степень, в которой крупномасштабные неудачи возникают из очень краткосрочных успехов. Как подробно излагает Нарликар в своей статье, крах Дохинской повестки дня в области развития произошел в немалой степени потому, что глобальному Югу впервые в истории многосторонних торговых переговоров удалось выступить единым фронтом против США и ЕС. Хотя это единство могло бы помочь им заключить более выгодную сделку, оно привело к негибкости переговоров, что саботировало Дохинский раунд. Статья Игоря Истомина показывает, как вмешательство Советского Союза в гражданский конфликт в Китае способствовало захвату страны Коммунистической партией, но также посеяло семена возможного разрыва между СССР и Китаем Мао Цзэдуна, что значительно осложнило советскую ситуацию с безопасностью на десятилетия. Амитабх Матту указывает на подобное явление в истории переговоров Индии с Китаем. Лозунг Джавахарлала Неру «Хинди-чини бхаи бхай» («Индийцы и китайцы — братья») олицетворял эту модель высоких ожиданий и очевидного укрепления доверия, которая была разрушена с началом войны в 1962 году. Розу иллюстрирует в своей статье, что краткосрочная Посреднические решения, навязанные выжившим и семьям жертв в постконфликтных обществах, привели к углублению прежних разногласий и затягиванию конфликта.
Во-первых, одно четкое понимание — это степень, в которой крупномасштабные неудачи возникают из очень краткосрочных успехов. Как подробно излагает Нарликар в своей статье, крах Дохинской повестки дня в области развития произошел в немалой степени потому, что глобальному Югу впервые в истории многосторонних торговых переговоров удалось выступить единым фронтом против США и ЕС. Хотя это единство могло бы помочь им заключить более выгодную сделку, оно привело к негибкости переговоров, что саботировало Дохинский раунд. Статья Игоря Истомина показывает, как вмешательство Советского Союза в гражданский конфликт в Китае способствовало захвату страны Коммунистической партией, но также посеяло семена возможного разрыва между СССР и Китаем Мао Цзэдуна, что значительно осложнило советскую ситуацию с безопасностью на десятилетия. Амитабх Матту указывает на подобное явление в истории переговоров Индии с Китаем. Лозунг Джавахарлала Неру «Хинди-чини бхаи бхай» («Индийцы и китайцы — братья») олицетворял эту модель высоких ожиданий и очевидного укрепления доверия, которая была разрушена с началом войны в 1962 году. Розу иллюстрирует в своей статье, что краткосрочная Посреднические решения, навязанные выжившим и семьям жертв в постконфликтных обществах, привели к углублению прежних разногласий и затягиванию конфликта.
Во многом это перекликается с замечанием бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера в его мемуарах о том, что политические решения часто создают проблемы, которые необходимо решать в будущем.[37]Похоже, что это постоянная проблема, созданная несоответствием между большой дугой международных отношений и мощными краткосрочными стимулами, с которыми сталкиваются политические лидеры. Независимо от типа режима внешнеполитические лидеры часто вынуждены иметь узкое видение будущего.[38]То, что кажется успехом в этой узкой политической щели, тем не менее закладывает основу для того, что в ретроспективе выглядит как провал. Предоставление политикам стимулов думать о том, как их действия будут выглядеть в будущем, потенциально поможет им избежать действий, которые сопряжены с катастрофическими рисками. И независимо от того, видим мы изменения в стратегических расчетах политиков или нет, ученые должны очень внимательно относиться к потенциальному несоответствию между краткосрочными выгодами, которые могут принести их советы, и долгосрочной устойчивостью этих выгод. В соответствии с клятвой Гиппократа для IR, которую мы предлагаем, исследователи должны быть как можно более откровенными не только в разъяснении преимуществ, которые может принести их рекомендуемая политика, но также и в определении вероятных (и даже менее вероятных) издержек, которые может повлечь за собой действие в разные сроки и при других условиях. Это требует выхода из собственной зоны комфорта, а также иногда советов, которые практикующие не хотят слышать.
Второй всеобъемлющей темой является способность повествования формировать как краткосрочные политические действия, так и долгосрочную интерпретацию таких действий. Как показывает Нарликар в своей статье в этом выпуске, в этом столетии на глобальном Юге преобладало мнение, что предыдущие раунды многосторонних торговых переговоров ущемляли их интересы. Несмотря на характер экономического роста в двадцать первом веке,[39]это повествование было построено на жизненном опыте исключения из процессов торговых переговоров и маргинализации их интересов из системы правил.[40]Хотя в краткосрочной перспективе этот нарратив позволил развивающимся странам добиться нескольких важных успехов, его чрезмерное использование странами со средним уровнем дохода и неправомерное использование богатыми странами способствовало возникновению тупиковой ситуации в Дохе и параличу в других областях многосторонней торговой системы. Это привело к потерям со всех сторон, не только для глобального Юга, но и для глобального Севера. Дрезнер также утверждает, что во имя слабых был построен нарратив, в котором санкции против Ирака представлялись гораздо большей гуманитарной катастрофой, чем они были на самом деле.[41]В статье Сесилии Эммы Соттилотты обсуждается сила морального нарратива в усугублении кризиса еврозоны ошибочной политикой жесткой экономии.[42]Эта моральная история о затягивании поясов также появляется в статье Джеймса, объясняющей, как ответные меры политики усугубили Великую депрессию.
Помимо того, что они играют важную объяснительную роль в статьях, посвященных экономической сфере, нарративы также появляются в других статьях этого сборника, посвященных вопросам безопасности. Дженис Стайн отмечает в своей статье вездесущий нарратив о том, что Китай вытесняет Соединенные Штаты в качестве глобального гегемона, что, по ее мнению, произойдет гораздо реже, чем принято считать.[43]Матту предлагает контрапункт с точки зрения региона, подчеркивая, что противодействие нарративу о «китайской угрозе» в США и ЕС фактически оправдывает и поощряет китайский авантюризм в регионе.[44]
Статья Юэн Фунг Хонга об опасностях исторических аналогий иллюстрирует силу нарративов для информирования политиков.[45]Происходят ли они из исторических аналогий, более абстрактных метафор или даже выдуманных басен,[46]они действуют как простые эвристики для лиц, принимающих решения. Это важно по двум причинам. Во-первых, в последнее десятилетие или два в исследованиях международных отношений все больше внимания уделялось роли отдельных лидеров.[47]Мы также знаем из психологии, что эта зависимость от эвристики является кратчайшим когнитивным путем.[48]Примеры, обсуждаемые в этом специальном выпуске, раскрывают огромные ловушки такой эвристики при принятии важных политических решений. Понимание того, как отдельные лидеры полагаются на нарративы и какие нарративы они находят привлекательными, было бы полезной областью исследований, позволяющей избежать наихудших сценариев.
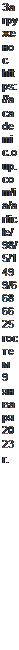 Роль лидеров и их эвристика принятия решений связана с третьей всеобъемлющей темой, которая вытекает из этих статей: мощную роль, которую высокомерие играет в провалах внешней политики. Эссе Тоя показывает, что и Невилл Чемберлен, и Тони Блэр считали себя незаменимыми людьми, ориентирующимися в сложной международной среде. Однако их дипломатический выбор способствовал дорогостоящим конфликтам. Точно так же статьи Карвина, Дрезнера и Розу, соответственно, демонстрируют неуместную веру ключевых игроков в предпочитаемые ими инструменты государственного управления. Военные стратеги были слишком самоуверенны в отношении влияния технологий на ведение войны. Экономические дипломаты преувеличили влияние экономических санкций на субъектов, против которых они направлены. И посредники не понимали, что то, что они считают успехом, вызовет горечь и недовольство бывших враждующих сторон. Барма и Гольдгейер предупреждают о различных случаях, когда внешние эксперты, желая преодолеть разрыв, не могут дать беспристрастный совет.
Роль лидеров и их эвристика принятия решений связана с третьей всеобъемлющей темой, которая вытекает из этих статей: мощную роль, которую высокомерие играет в провалах внешней политики. Эссе Тоя показывает, что и Невилл Чемберлен, и Тони Блэр считали себя незаменимыми людьми, ориентирующимися в сложной международной среде. Однако их дипломатический выбор способствовал дорогостоящим конфликтам. Точно так же статьи Карвина, Дрезнера и Розу, соответственно, демонстрируют неуместную веру ключевых игроков в предпочитаемые ими инструменты государственного управления. Военные стратеги были слишком самоуверенны в отношении влияния технологий на ведение войны. Экономические дипломаты преувеличили влияние экономических санкций на субъектов, против которых они направлены. И посредники не понимали, что то, что они считают успехом, вызовет горечь и недовольство бывших враждующих сторон. Барма и Гольдгейер предупреждают о различных случаях, когда внешние эксперты, желая преодолеть разрыв, не могут дать беспристрастный совет.
В-четвертых, в статьях фигурируют технократические пузыри как фактор, способствующий провалам внешней политики. На первый взгляд это может показаться несколько парадоксальным: в конце концов, главная цель опоры на технические знания — заменить поляризацию политики разумом и ноу-хау. Но иногда, как объясняют Барма и Голдгейер, ученые-эксперты слишком замкнуты, чтобы знать, где лучше всего направить свои советы в политический мир. Создание своего рода безопасных убежищ в Брюсселе и Женеве, о чем говорится в статьях Соттилотты и Нарликара соответственно, все больше способствовало формированию связи между академическими кругами и политикой, которая не соответствует потребностям людей на местах (или, как считается, как таковой, тем самым обеспечивая легкую пищу для популистских нарративов против «глобальных элит» как со стороны политических правых, так и левых). Наиболее ярко это явление подтверждается в статье Розу. Среди неумолимых патологий посреднических усилий, основанных на шаблонах примирения, выжившие и семьи жертв обнаруживают, что их горе и гнев заглушаются. Достигнутые таким образом «решения» могут привести к дальнейшему укоренению конфликтов.
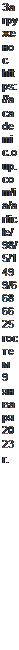 Как в результате эмпирического анализа, так и в рамках саморефлексии, проведенной участниками, появляются ценные сведения о том, что не сработало. В совокупности статьи показывают, что опыт, накопленный в башне из слоновой кости и взращенный в технократическом пузыре, обычно не приводит к успешному политическому вмешательству. Взаимодействие с теми, кого затрагивают внешнеполитические действия, имеет важное значение. Обновленные нарративы являются ключевым инструментом для этого. И исследователям, и практикам необходимо уделять пристальное внимание им, тому, как они развиваются, как они присваиваются и как их воспринимают затронутые группы. Контекст имеет значение. В статьях, посвященных вопросам внешней политики США, особенно ясно видно, что многие упущения произошли из-за незнания местных условий. Позиционирование имеет значение. Внешнеполитические интервенции, даже если они в совершенстве соответствуют всем нашим академическим теориям и отвечают политическим требованиям лидеров, реализующих их, они не будут устойчивыми, если они также не будут работать на людей, на которых они влияют. Практики должны быть осведомлены о различиях во взглядах внутри и между научными дисциплинами.[49]Чтобы препятствовать возможному искушению политиков выбирать конкретные академические рекомендации в соответствии с политическими удобствами, ученых следует поощрять к тому, чтобы они открыто рассматривали последствия своих выводов для реального мира. Междисциплинарные обзорные статьи, для которых академические игры, в которые мы все должны играть, мало стимулируют, могли бы стать важным инструментом для восстановления некоторого баланса между академическими взглядами и мнениями, на которые опираются практики.
Как в результате эмпирического анализа, так и в рамках саморефлексии, проведенной участниками, появляются ценные сведения о том, что не сработало. В совокупности статьи показывают, что опыт, накопленный в башне из слоновой кости и взращенный в технократическом пузыре, обычно не приводит к успешному политическому вмешательству. Взаимодействие с теми, кого затрагивают внешнеполитические действия, имеет важное значение. Обновленные нарративы являются ключевым инструментом для этого. И исследователям, и практикам необходимо уделять пристальное внимание им, тому, как они развиваются, как они присваиваются и как их воспринимают затронутые группы. Контекст имеет значение. В статьях, посвященных вопросам внешней политики США, особенно ясно видно, что многие упущения произошли из-за незнания местных условий. Позиционирование имеет значение. Внешнеполитические интервенции, даже если они в совершенстве соответствуют всем нашим академическим теориям и отвечают политическим требованиям лидеров, реализующих их, они не будут устойчивыми, если они также не будут работать на людей, на которых они влияют. Практики должны быть осведомлены о различиях во взглядах внутри и между научными дисциплинами.[49]Чтобы препятствовать возможному искушению политиков выбирать конкретные академические рекомендации в соответствии с политическими удобствами, ученых следует поощрять к тому, чтобы они открыто рассматривали последствия своих выводов для реального мира. Междисциплинарные обзорные статьи, для которых академические игры, в которые мы все должны играть, мало стимулируют, могли бы стать важным инструментом для восстановления некоторого баланса между академическими взглядами и мнениями, на которые опираются практики.
Ни один из этих уроков не предлагает быстрых решений для политического вмешательства в IR. Но, вооруженные этим репертуаром идей о том, «как не надо», как практикующие специалисты, так и их собеседники из научных кругов будут иметь больше шансов избежать некоторых из худших ловушек. И иногда, вместе, мы могли бы даже сделать некоторые вещи правильно.
[1]Роберт Виталис, «Изящный и щедрый либеральный жест: сделать расизм невидимым в американских международных отношениях», Millennium 29: 2, 2000, стр. 331–56; Идо Орен, Наши враги и мы (Итака, Нью-Йорк: издательство Корнельского университета, 2003); Эррол Хендерсон, «Скрытый у всех на виду: расизм в теории международных отношений», Cambridge Review of International Affairs 26: 1, 2013, стр. 71–92; Дэниел Малиниак, Райан Пауэрс и Барбара Уолтер, «Гендерный разрыв в цитировании в международных отношениях», Международная организация 67: 4, 2013 г., стр. 889–922; Люциан М. Эшворт, «Воины, пацифисты и империи: раса и расизм в международной мысли», International Affairs 98: 1, 2022, стр. 281–301; Томохито Баджи, «Исследования колониальной политики в Японии: расовые взгляды Наньо или раннее создание глобального Юга», International Affairs 98: 1, 2022, стр. 165–82;








