Дэниэль В. Дризнер и амрита нарликар*
Международные отношения: руководство «как не надо»
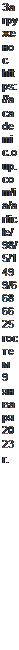 ДЭНИЭЛЬ В. ДРИЗНЕР И АМРИТА НАРЛИКАР*
ДЭНИЭЛЬ В. ДРИЗНЕР И АМРИТА НАРЛИКАР*
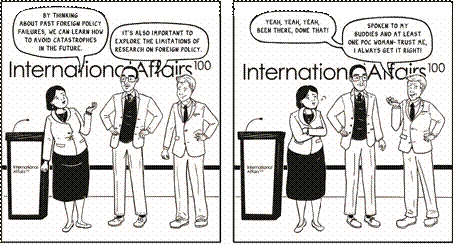
Научное исследование международных отношений находилось в зачаточном состоянии, когда были запущены «Международные отношения», и довольно долгое время оно оставалось в незрелом состоянии. Расизм и сексизм были повсеместными в обществе, и эти «измы» — наряду со многими другими — долгое время деформировали сферу международных отношений (МО).[1]Тем не менее столетие спустя можно утверждать, что эта дисциплина сделала
*Это введение в специальный выпуск журнала «Международные отношения» за сентябрь 2022 года: «Международные отношения: руководство «как не надо»», под редакцией Дэниела В. Дрезнера и Амриты Нарликар (используется алфавитный порядок; оба автора внесли равный вклад в этот предисловие и редакция спецвыпуска). Мы благодарны Эндрю Дорману за его поддержку нашего проекта и ценим конструктивные отзывы, полученные от двух анонимных рецензентов и Луизы Фосетт. Мы получили огромную пользу от оживленных дебатов и обмена мнениями между всеми участниками и участниками двух семинаров, которые мы организовали для этого проекта. Мультфильм от Sequential Potential Comics, www.sequential Potential.com.
значительные успехи. Научные исследования в различных областях, от ядерного сдерживания до экономического государственного управления, демократического мира и политики базирования, внесли свой вклад в наше знание мира. Это знание также повлияло на подход политиков к международным отношениям. Появляется все больше литературы, посвященной тому, как академические идеи проникают в политический дискурс и влияют на него2.
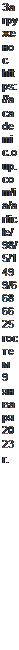 И тем не менее, несмотря на все самовосхваления, которые исследователи нагромождали на себя из-за важности политики, мы не можем игнорировать растущую гору упущенных возможностей и контрфактических историй. Перед нами стоит пандемия COVID-19, непрерывная смертность от которой (более шести миллионов зарегистрированных смертей на момент написания статьи) является, по крайней мере, частично результатом отсутствия доступа к вакцинам. Неравенство в отношении вакцин, в свою очередь, является результатом множества факторов, в том числе неудач международного сотрудничества.[2]Неспособность сдержать распространение пандемии в начале 2020 года и последующая эксплуатация зависимостей в производстве — даже жизненно важных медицинских препаратов и оборудования — вызвали серьезные вопросы не только у экспертов в области общественного здравоохранения, но и у ученых-международников узкого профиля. начиная от глобального управления, международных организаций и международной политической экономии и заканчивая международной этикой и теорией международных отношений.[3]
И тем не менее, несмотря на все самовосхваления, которые исследователи нагромождали на себя из-за важности политики, мы не можем игнорировать растущую гору упущенных возможностей и контрфактических историй. Перед нами стоит пандемия COVID-19, непрерывная смертность от которой (более шести миллионов зарегистрированных смертей на момент написания статьи) является, по крайней мере, частично результатом отсутствия доступа к вакцинам. Неравенство в отношении вакцин, в свою очередь, является результатом множества факторов, в том числе неудач международного сотрудничества.[2]Неспособность сдержать распространение пандемии в начале 2020 года и последующая эксплуатация зависимостей в производстве — даже жизненно важных медицинских препаратов и оборудования — вызвали серьезные вопросы не только у экспертов в области общественного здравоохранения, но и у ученых-международников узкого профиля. начиная от глобального управления, международных организаций и международной политической экономии и заканчивая международной этикой и теорией международных отношений.[3]
Человеческий и экономический ущерб, который пандемия нанесла миру, присутствует в наших умах из-за его непосредственности. Но мы знаем, что за последние 100 лет было много других важных моментов: Нью-Йорк в 1929 году, Мюнхен в 1938 году, Тонкинский залив в 1964 году, Афганистан в 1979 году (да и сегодня), Руанда в 1994 году, Ирак в 2003 году. , Lehman Brothers в 2008 году, Украина в 2022 году — когда другое политическое решение, подкрепленное альтернативной эпистемологической структурой, могло бы привести к более мирному и процветающему миру. Учитывая многочисленные неудачи внешней политики и управления, а также родственные теории, из которых они черпали
2Питер Хаас, «Введение: эпистемологические сообщества и координация международной политики», Международная организация 46: 1, 1992, стр. 1–35; Майа Кросс, «Переосмысление эпистемических сообществ двадцать лет спустя», Review of International Studies 39: 1, 2013, стр. 137–60; Стивен М. Уолт, «Взаимосвязь между теорией и политикой в международных отношениях», Ежегодный обзор политических наук, том. 8, 2005 г., стр. 23–45; Дэниел В. Дрезнер, Индустрия идей: как пессимисты, сторонники и плутократы меняют рынок идей (Нью-Йорк: издательство Оксфордского университета, 2017 г.); Пол С. Ави, Майкл С. Деш, Эрик Параджон, Сьюзан Петерсон, Райан Пауэрс и Майкл Дж. Тирни, «Информируют ли социальные науки внешнюю политику? Данные опроса должностных лиц США по национальной безопасности, торговле и развитию», International Studies Quarterly 66: 1, март 2022 г., https://doi.org/10.1093/isq/sqab057. (Если в месте цитирования не указано иное, все URL-адреса, указанные в этой статье, были доступны 28 июня 2022 г.)
помощи, возможно, не должно вызывать удивления тот факт, что сегодня либеральный международный порядок сталкивается с проблемами со стороны целого ряда акторов, расположенных на глобальном Юге и глобальном Севере.[4]
Мотивация этого спецвыпуска
Существует богатый репертуар теорий обучения и адаптации, объясняющих сложную ситуацию, в которой мы находимся сегодня.[5]В этом спецвыпуске мы подходим к проблеме с другой стороны. Вместо того, чтобы сосредоточиться на интерактивных процессах обучения, которые связывают настоящее с прошлым, мы рассматриваем благонамеренные усилия человечества в прошлом столетии, которые обернулись неудачей. Большая часть внешнеполитического анализа направлена на повторение успехов; мы смиренно спрашиваем, не имеет ли смысл изучить, как избежать катастрофического провала. Иными словами: ученые, занимающиеся международными отношениями, обычно повторяют акцент экономистов на оптимизации. Возможно, пора вместо этого позаимствовать такие принципы, как «минимакс» или «удовлетворение», с целью проведения «достаточно хорошей» внешней политики, сводящей к минимуму риск разорения.[6]
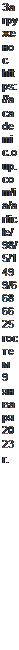 На сегодняшний день стипендия IR лишь время от времени фокусируется на неудачах. Справедливости ради следует отметить, что это основной элемент исследований в области безопасности. Самый большой вопрос в этой области — причины войн — коренится в том, как избежать наиболее разрушительного исхода в мировой политике. Однако большинство других подполей в IR, как правило, больше сосредоточены на устойчивых моделях успеха.[7]Международная политико-экономическая наука, в частности, подход к политике открытой экономики, пытались объяснить модели сотрудничества.[8]Наука о глобальном управлении занимается успешно созданными международными институтами, в меньшей степени теми структурами, которым не удалось начать работу. Исследования посредничества подчеркивают случаи, когда такие процессы работали. Научные исследования и информационно-просветительская работа, имеющие отношение к политике, особенно уязвимы, если они сосредоточены в первую очередь на успехах. Это одна из причин, по которой каждый предлагаемый пакет помощи продается как «план Маршалла для X», а каждая новая архитектура безопасности воспринимается как «новая НАТО для Y». Этот специальный выпуск предлагает противовес этой тенденции в дисциплине.
На сегодняшний день стипендия IR лишь время от времени фокусируется на неудачах. Справедливости ради следует отметить, что это основной элемент исследований в области безопасности. Самый большой вопрос в этой области — причины войн — коренится в том, как избежать наиболее разрушительного исхода в мировой политике. Однако большинство других подполей в IR, как правило, больше сосредоточены на устойчивых моделях успеха.[7]Международная политико-экономическая наука, в частности, подход к политике открытой экономики, пытались объяснить модели сотрудничества.[8]Наука о глобальном управлении занимается успешно созданными международными институтами, в меньшей степени теми структурами, которым не удалось начать работу. Исследования посредничества подчеркивают случаи, когда такие процессы работали. Научные исследования и информационно-просветительская работа, имеющие отношение к политике, особенно уязвимы, если они сосредоточены в первую очередь на успехах. Это одна из причин, по которой каждый предлагаемый пакет помощи продается как «план Маршалла для X», а каждая новая архитектура безопасности воспринимается как «новая НАТО для Y». Этот специальный выпуск предлагает противовес этой тенденции в дисциплине.
Несколько иронично, наш подход представляет собой вариант метода Шерлока Холмса: «Как только вы исключите невозможное, все, что останется, каким бы невероятным оно ни было, должно быть правдой». Возможно, когда мы устраним крайне неправильные способы ведения дел в международных делах, мы сможем прийти к правильному пути. Конечно, наши мотивы в реализации этого проекта не легкомысленны. Индуистская философия нети-нети (на + ити) использует отрицание, чтобы понять суть реальности.[9]И хотя мы не собираемся охватывать всю совокупность «как не надо» в международных отношениях, мы надеемся, что, опираясь на отрицательные выводы из широкого круга проблемных областей, мы сможем извлечь некоторые интересные обобщения из положительных моментов. . Поняв, чего следует избегать как на уровне теории, так и на практике, мы могли бы разработать лучшую политику и практику.
Мы понимаем, что сосредоточение внимания только на неудачах сопряжено с тем же риском предвзятости отбора, с которым столкнулись бы наблюдатели, сосредоточившись только на успехах политики. Мы вполне сознательно делаем выборку по зависимой переменной. Конечно, можно было бы наблюдать причинные механизмы, присутствующие в неудачах, которые также присутствовали бы и в успехах? Это было бы обоснованным беспокойством, если бы нашей целью было создание общих теорий санкций, войны, посредничества, переговоров или перехода великих держав. Наша цель, однако, несколько иная: избежать катастрофических потерь, таких катастрофических политических решений, которые остаются в позоре десятилетиями, даже столетиями после того, как их принимают.
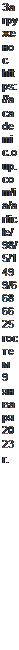 Для этой цели есть веские причины использовать метод сравнения Джона Стюарта Милля и сосредоточиться на «крупных делах» в пределах нашей компетенции.[10]Ничто в последующих статьях не должно толковаться как означающее, например, что все случаи военных действий, посредничества, переговоров, санкций или вмешательства во внутренние дела приведут к бедствию. Скорее, мы предполагаем, что, если крупные провалы — это результат, которого политики хотят избежать, извлечение предостерегающих уроков из этих случаев имеет смысл в качестве руководства к тому, чего не следует делать в международной политике.
Для этой цели есть веские причины использовать метод сравнения Джона Стюарта Милля и сосредоточиться на «крупных делах» в пределах нашей компетенции.[10]Ничто в последующих статьях не должно толковаться как означающее, например, что все случаи военных действий, посредничества, переговоров, санкций или вмешательства во внутренние дела приведут к бедствию. Скорее, мы предполагаем, что, если крупные провалы — это результат, которого политики хотят избежать, извлечение предостерегающих уроков из этих случаев имеет смысл в качестве руководства к тому, чего не следует делать в международной политике.
Определение отказа
Такие понятия, как «неудача» и «успех», активно оспариваются в исследованиях международных отношений. То, что кажется успехом в краткосрочной перспективе, может превратиться в провал, и наоборот. Как отмечает в своей статье Ричард Той, Мюнхенское соглашение 1938 года было расценено прессой в то время как успешное соглашение; только позже это было признано неудачным.[11]Напротив, Дэниел Дрезнер отмечает в своей статье, что санкции ООН против Ирака после войны в Персидском заливе 1991 года одновременно рассматривались как гуманитарная катастрофа и провал политики.[12]Только в ретроспективе обе оценки кажутся искаженными. Гарольд Джеймс отмечает, что благонамеренные политические решения во время финансовых кризисов могут иметь краткосрочные последствия, вызывающие катастрофические политические негативные последствия.[13]
Для целей этого специального выпуска «неудача» определяется как результаты, которые, как широко признано, расходятся с ожиданиями ex ante подстрекателя в беспроигрышной форме. Важны три измерения. Во-первых, мы признаем намерение актора ключевой частью определения. Известно, что «настоящие» намерения трудно оценить. Тем не менее, мы предполагаем, что если результат значительно и отрицательно отклоняется от заявленного намерения актора, то наблюдатели, вероятно, наблюдают неудачу.
Во-вторых, выбор времени является важной частью того, как мы концептуализируем неудачу. Политика, которая работала в течение длительного периода только для того, чтобы в конечном итоге закончиться неудачей, как, скажем, Бреттон-Вудс или Вашингтонский консенсус, не считается провалом. Политика или институты, функционирующие как минимум одно поколение, не могут считаться неудачными. Напротив, Мюнхен был признан неудачным менее чем через шесть месяцев после подписания сделки. Кроме того, провал признается достаточно значительным, чтобы нельзя было представить себе будущую траекторию, в которой это историческое суждение будет пересмотрено.[14]Действительно, во внешнеполитических кругах «Мюнхен» теперь является сокращением от неудавшегося умиротворения.
В-третьих, каковы распределительные последствия результата? Мы рассматриваем неудачи в международной политике как беспроигрышный результат, оставляющий длительное негативное наследие. Как показывает Стефани Карвин в своей главе, ошибочные стратегии ведения войны привели в конце концов к уходу США из Афганистана после 20-летнего конфликта.[15]Теоретически это можно назвать победой талибов. Однако отсутствие власти в течение целого поколения привело к тому, что эта группа также оказалась в худшем состоянии, о чем свидетельствуют внутренние протесты и международная борьба за признание.
Хотя мы предлагаем приведенное выше определение в качестве отправной точки, мы полностью осознаем, что неудача, как и красота, может лежать в глазах смотрящего. Позиционирование имеет значение, и у акторов может быть очень разное восприятие того, что представляет собой успех или неудача, в отличие от тех, на кого воздействуют. Наиболее наглядно это подтверждается в статьях Валери Розу и Амриты Нарликар. Розу показывает, как понимание посредниками успешного исхода может сильно отличаться от восприятия местных групп.[16]Нарликар также показывает, что очевидные успехи в многосторонних торговых переговорах, тем не менее, рассматривались развивающимися странами как неудачи либо потому, что они не привели к перераспределительной справедливости, на которую они надеялись, либо потому, что они поставили под сомнение легитимность процессов, которые привели к результату.[17]
Целевая аудитория
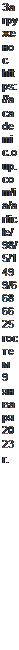 Между идеей и реальностью, между теорией и результатом наше вмешательство борется с двумя тенями.19 Первая тень падает на стык науки и практики и имеет дело с коммуникацией и недопониманием в научных кругах и политике. Исследователи, когда их спрашивают об ограничениях их влияния на политику, обычно жалуются, что практики либо не прислушиваются к их советам, либо используют корыстные/сверхупрощенные версии своего академического анализа20. этот спецвыпуск. Узнав о провалах политики, которые произошли из-за того, как исследователи передавали, а практики получали научные советы, мы ожидаем найти некоторые полезные идеи для более эффективного обмена знаниями. Дисциплинарная подготовка практиков может сделать их более (или менее) склонными к получению академических советов, а также потенциально может отдавать предпочтение одним академическим дисциплинам по сравнению с другими21. Но мы также убеждены, что нам, как исследователям, пора обратить внимание ко второй тени, которой до сих пор уделялось мало внимания: в первую очередь неадекватность, предвзятость и высокомерие академического анализа, которые способствовали бы принятию неверных политических решений независимо от процесса фильтрации между исследованиями и практикой. Признавая важность непредубежденного взаимодействия с научными советами практиков, мы заставляем себя и наших коллег-ученых задуматься о наших собственных ограничениях и неверных суждениях. Мы видим это искреннее участие в академическом процессе, признавая его многочисленные достоинства,
Между идеей и реальностью, между теорией и результатом наше вмешательство борется с двумя тенями.19 Первая тень падает на стык науки и практики и имеет дело с коммуникацией и недопониманием в научных кругах и политике. Исследователи, когда их спрашивают об ограничениях их влияния на политику, обычно жалуются, что практики либо не прислушиваются к их советам, либо используют корыстные/сверхупрощенные версии своего академического анализа20. этот спецвыпуск. Узнав о провалах политики, которые произошли из-за того, как исследователи передавали, а практики получали научные советы, мы ожидаем найти некоторые полезные идеи для более эффективного обмена знаниями. Дисциплинарная подготовка практиков может сделать их более (или менее) склонными к получению академических советов, а также потенциально может отдавать предпочтение одним академическим дисциплинам по сравнению с другими21. Но мы также убеждены, что нам, как исследователям, пора обратить внимание ко второй тени, которой до сих пор уделялось мало внимания: в первую очередь неадекватность, предвзятость и высокомерие академического анализа, которые способствовали бы принятию неверных политических решений независимо от процесса фильтрации между исследованиями и практикой. Признавая важность непредубежденного взаимодействия с научными советами практиков, мы заставляем себя и наших коллег-ученых задуматься о наших собственных ограничениях и неверных суждениях. Мы видим это искреннее участие в академическом процессе, признавая его многочисленные достоинства,
Учитывая наш интерес к ошибкам со стороны как политиков, так и исследователей, этот специальный выпуск адресован разным аудиториям. Нашими самыми непосредственными собеседниками, скорее всего, будут внешнеполитические «элиты», включая коллег-академиков, которые традиционно консультируют политиков по поводу вариантов их внешней политики. Статьи в этом выпуске раскрывают множество причин, по которым стандартные политики могут пойти не так. Этот урок поучителен для ученых и интеллектуалов, интересующихся актуальностью политики. Академический IR должен признать, что даже самые строгие эмпирические законы в нашей существующей литературе не настолько обобщаемы на политический мир, как можно было бы подумать.

вмешательства, результат снижения благосостояния людей будет индикатором «успеха». Кроме того, в зависимости от позиционного положения у акторов может быть очень разное понимание успеха и неудачи; Бентаминовские версии «наибольшего блага наибольшего числа» не всегда будут достаточными, если мы примем во внимание намерение и позиционность.
19 «Между идеей
И реальность
Между движением И акт
Падает тень»: Т. С. Элиот, «Полые люди».
20 Подробный анализ этого см. в Drezner, The Ideas Industry. О том, как нарративы присваиваются и неправильно используются различными субъектами, см. Амрита Нарликар, Нарративы о бедности и парадоксы власти в международных торговых переговорах и за их пределами (Нью-Йорк: издательство Кембриджского университета, 2020).
21 Марк Халлерберг и Иоахим Венер, «Когда экономисты становятся политиками?», Британский журнал политических наук 50: 3, 2017 г., стр. 1193–1205; Марк Халлерберг, Слава Янкин и Амрита Нарликар, Типы лидеров и (либеральные?) нарративы о пандемии COVID-19 (Берлин: Кластер передового опыта SCRIPTS, 2021–24), https://www. scripts-berlin.eu/research/research-projects/General-Research-Projects/Leader-Types-and-_Liberal__Narratives-of-the-COVID-19-Pandemic/index.html.
в аспирантуре. Некоторые из наиболее известных результатов исследований международных отношений, такие как демократический мир, нагружены вспомогательными предположениями, которые могут ограничить их применимость к ответственным политикам.[18]
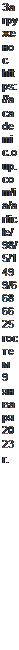 Связанная с этим проблема возникает, когда дисциплинарные дебаты замалчиваются в дискуссиях с политиками и общественностью. В любом эпистемологическом сообществе экспертов полноценные дебаты и дискуссии о различных возможностях политики являются нормой.[19]Многие ученые, однако, предостерегают, что то, что может показаться хорошей идеей в политическом вакууме, вполне может оказаться совершенно иным в реальной политической суматохе.[20]Вот почему экономисты ведут жаркие споры в рамках своей дисциплины о последствиях либерализации торговли для общего благосостояния и, тем не менее, последовательно поддерживают свободную торговлю, общаясь с внешним миром.[21]Эти выражения уверенности напрямую влияют не только на политиков, но и — что не менее важно — на сети активистов, журналистов, представителей аналитических центров и других представителей элиты, которые могут влиять на внешнеполитических лидеров. То, что может оставаться спорным в рамках дисциплины — скажем, что две демократии никогда не воюют друг с другом, — становится общепринятым «стилизованным фактом» в более широком мире.[22]Как предупреждают в своей статье Наазнин Барма и Джеймс Голдгейер, такие стилизованные факты, выплеснутые в политический мир, могут привести к катастрофе.[23]Этот специальный выпуск предназначен для того, чтобы напомнить советникам по вопросам политики о том, что готовые идеи могут оказаться совершенно ошибочными при определенных обстоятельствах (как показано в следующих статьях).
Связанная с этим проблема возникает, когда дисциплинарные дебаты замалчиваются в дискуссиях с политиками и общественностью. В любом эпистемологическом сообществе экспертов полноценные дебаты и дискуссии о различных возможностях политики являются нормой.[19]Многие ученые, однако, предостерегают, что то, что может показаться хорошей идеей в политическом вакууме, вполне может оказаться совершенно иным в реальной политической суматохе.[20]Вот почему экономисты ведут жаркие споры в рамках своей дисциплины о последствиях либерализации торговли для общего благосостояния и, тем не менее, последовательно поддерживают свободную торговлю, общаясь с внешним миром.[21]Эти выражения уверенности напрямую влияют не только на политиков, но и — что не менее важно — на сети активистов, журналистов, представителей аналитических центров и других представителей элиты, которые могут влиять на внешнеполитических лидеров. То, что может оставаться спорным в рамках дисциплины — скажем, что две демократии никогда не воюют друг с другом, — становится общепринятым «стилизованным фактом» в более широком мире.[22]Как предупреждают в своей статье Наазнин Барма и Джеймс Голдгейер, такие стилизованные факты, выплеснутые в политический мир, могут привести к катастрофе.[23]Этот специальный выпуск предназначен для того, чтобы напомнить советникам по вопросам политики о том, что готовые идеи могут оказаться совершенно ошибочными при определенных обстоятельствах (как показано в следующих статьях).
Распространение некачественных советов по вопросам политики — вторая тень — предлагает еще одну насущную мотивацию для этого особого вопроса. Как отмечают многие наблюдатели, глобальная волна популизма, достигшая апогея в последние годы, привела к всплеску недоверия к экспертам и экспертизе. Ключевой прием популизма — поощрять недоверие к экспертам, рассматривая технократов как политические препятствия.[24]Во время дебатов по Brexit британский консервативный политик Майкл Гоув заявил: «Я думаю, что люди в этой стране сыты по горло экспертами». Как недавно заметил Джон Певхауз, «антиэлитные взгляды (которые также порождают антиэкспертные взгляды) должны привести к полному популистскому игнорированию всей информации, поступающей от элитных институтов (внутренних и международных), независимо от воспринимаемой приверженности института популистским целям».[25]Некоторые популистские лидеры пошли еще дальше и посеяли недоверие к опыту, чтобы сохранить свое политическое положение.
Чтобы уменьшить влияние независимых экспертов, простой популистский прием состоит в том, чтобы поставить под сомнение их репутацию, подчеркнув прошлые неудачи. Дональд Трамп провел кампанию в 2016 году, осудив неудачи внешнеполитического истеблишмента в Ираке и Афганистане, раскритиковав «тех, у кого идеальное резюме, но мало чем можно похвастаться, кроме ответственности за долгую историю неудачной политики и продолжающихся потерь на войне».[26]Пытаясь выслужиться перед Трампом, не кто иной, как Генри Киссинджер, серый кардинал, заявил, что «феномен Трампа в значительной степени является реакцией Средней Америки на нападки на ее ценности со стороны интеллектуальных и академических сообществ». Экспертным сообществам, в том числе специалистам по международным отношениям, необходимо бережно относиться к своему авторитету перед лицом популистских нападок, если они хотят умерить невежественные импульсы политических лидеров.
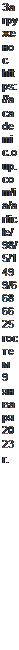 Ключом к сохранению доверия к совету является признание его ограничений и признание собственных ошибок. Оказывается, что эксперты не только часто плохо делают прогнозы (и, честно говоря, обычно не хотят этого делать), но и не очень хорошо оценивают тенденции после события. Например, когда экспертов и неспециалистов попросили задним числом оценить влияние пандемии COVID-19 на пять ключевых социальных областей, они не так уж сильно разошлись в своих ошибочных суждениях (и обе группы ошиблись в том, что произошло на самом деле).[27]И при всех презумпциях объективности исследований содержание научных рекомендаций может значительно различаться; в зависимости от содержания, которое они выбирают, ученые и практики могут совместно добиваться значительных успехов, но также могут быть причастны к разрушительным политическим провалам.
Ключом к сохранению доверия к совету является признание его ограничений и признание собственных ошибок. Оказывается, что эксперты не только часто плохо делают прогнозы (и, честно говоря, обычно не хотят этого делать), но и не очень хорошо оценивают тенденции после события. Например, когда экспертов и неспециалистов попросили задним числом оценить влияние пандемии COVID-19 на пять ключевых социальных областей, они не так уж сильно разошлись в своих ошибочных суждениях (и обе группы ошиблись в том, что произошло на самом деле).[27]И при всех презумпциях объективности исследований содержание научных рекомендаций может значительно различаться; в зависимости от содержания, которое они выбирают, ученые и практики могут совместно добиваться значительных успехов, но также могут быть причастны к разрушительным политическим провалам.
Рассмотрим, например, реакцию Швеции на новый коронавирус. По совету своего главного эпидемиолога Швеция проигнорировала другие голоса в своем научном и медицинском сообществе, которые выступали за большую осторожность и принятие ограничительных мер. Действия этой скандинавской страны в отношении пандемии в 2020 году разительно отличались от действий большинства других европейских государств. Блокировок не было, маски не поощрялись, был принят подход невмешательства. Но выбор в пользу минимального нарушения нормального социального функционирования стоил огромных человеческих жизней, особенно среди уязвимых групп (например, пожилых людей в домах престарелых).[28]Иногда политические катастрофы случаются не только из-за недопонимания между исследователями и политиками, но и из-за того, что сама наука (или, по крайней мере, та версия, которая приобретает голос и влияние на практиков в то время) неоднозначна, а научное сообщество разделено. Столкнувшись с такими ситуациями, заинтересованные исследователи, особенно те, кто работает в непосредственной близости от высших эшелонов власти, должны признать ограниченность своих собственных советов и подняться над тем, что Филип Тетлок так красноречиво назвал «нашим собственным самосознанием». рекламная пафосность».[29]
Потребность в экспертных знаниях в будущем будет только возрастать, потому что во всем мире становится все меньше шансов на ошибку в политике. В двадцать первом веке государства столкнутся с множеством макиавеллиевских и мальтузианских угроз: соперничество великих держав, политическая поляризация, пандемии, изменение климата и так далее. Ответ на многие из этих вызовов потребует значительных научных и социальных знаний. В то же время возрождение патримониальных режимов не внушает уверенности в способности некоторых правительств справиться с этими угрозами. Как недавно заключили Стивен Хэнсон и Джеффри Копштейн, «патримониальные режимы… просто ужасно справляются с любой сложной проблемой современного управления»34. Реакция на пандемию коронавируса 2020 года слишком хорошо это иллюстрирует.
Государствам в двадцать первом веке придется полагаться на экспертов в области международных отношений, чтобы избежать многочисленных катастроф. Но этим экспертам — и универсалам, использующим их знания, — также следует опасаться советов, которые усугубляют ситуацию, обесценивая силу опыта в целом. Как в общении, так и в содержании потребуется больше внимания. И столь же важными будут интеллектуальная честность и скромность, чтобы признать, что иногда не только реализация наших рекомендаций политиками идет наперекосяк, но и сами наши рекомендации могут быть преждевременными или просто ошибочными.








