К указанным внешним импульсам можно причислить: а) «случайное» действие одного или нескольких членов группы. Так как в данном случае окружающие люди наделены в созна -
нии индивида теми же целями и желаниями защиты от стрессора, что и он сам, то даже случайный поступок кого-либо из окружающих может быть расценен соседом как сигнал к началу активного избавления от стрессора. Такой сигнал может стать «центром кристаллизации», консолидирующей группу активной деятельностью ее членов, направленной на выход из давно нетерпимых стрессогенных условий (например, панические либо бунтарские действия); б) намеренный призыв лидирующего в данном акте индивида. Такой призыв должен не только совпадать с накалом и направленностью желаний членов группы, но и обладать достаточной эмоциогенностью и суггестивностью для трансформации потенциальной адаптационно-поведенческой энергии членов группы в поведенческую (кинетическую). Призыв оказавшегося лидирующим индивида, реализуется за счет подготовленного им (или подготовленного в нем, у него) внутреннего импульса к совершению указанного выше «первого шага», которым для лидера является осуществление демонстрационного или императивного призыва к окружающим.
Условия развития стрессогенной активизации общения, дезорганизующие группу на пути выхода из-под стрессогенного действия экстремальных факторов, отличаются от вышеперечисленных только по следующим пунктам:
по 2) — представлением у каждого члена группы о том, что избавление от стрессогенных факторов невозможно, т. к. а) лишь он единолично может противодействовать носителям этих факторов (притеснителям, угнетателям и пр.), б) как бы ни бороться со стрессорами (угнетателями и т. п.), но будет только хуже; по 3) — представлением о том, что окружающие люди: а) против твоего избавления от стресса, либо б) имеют возможности для собственного избавления от стресса, которых ты лишен. Условия, снижающие возможность защиты от стрессоров на путях консолидации группы. Это как бы «антипринципы» усиления активности при стрессе.
1) Формирование у членов группы концепта: а) оправданности дистрессогенных страданий индивида достижением некой конкретной или мистической цели; б) недостижимости освобождения от дистрессогенных факторов (обреченность); в) отсутствия сведений о путях выхода из сферы действия этих факторов (дезориентация).
2) Поддержание, сохранение «потенциала терпения» какими-либо послаблениями стрессогенного давления (реальными или мнимыми).
3) Создание у каждого индивида концепта уникальности его дистрессовых переживаний и его личной вины в их возникновении.
4) Формирование у индивидов концепта безвыходности экстремальных условий.
5) Предотвращение появления или изъятие потенциальных побудителей группы к «первому шагу» (лидеров, вождей, харизматических провокаторов, активных истериков, паникеров и т. п.) на пути ее консолидации к освобождению от стресс-факторов.
Мной исключен из данной монографии анализ синдромов «несвободы всего народа» в тоталитарных государствах, «несвободы» под давлением рекламы, агрессивной моды и идеологии и т. п. Им посвящена обширная научная, художественная и публицистическая литература.
5.4.4. О синдроме «счастья свободного общества» и «сила духовности»
Проблема свободы всегда актуальна. Надежный путь к ней в обретении духовности. Не имея возможности подробно анализировать синдромы «всеобщей свободы», «экстремального свободолюбия», все же привлеку внимание читателя к тому, что оптимальное переживание счастья бывает при массовом, вернее, при всеобщем переживании обретенной свободы. Такие случаи ликующего счастья бывают не часто в жизни людей, еще реже — в больших социальных сообществах; именно «случаи», т. к. они непродолжительны.
Достоверные источники свидетельствовали, что такое «счастье обретенной (вернее, предвосхищаемой) свободы» ощущали многие жители больших городов России с февраля по октябрь (ноябрь) 1917 г. После отречения царя в столице российской империи люди разных сословий радостно общались, и им казалось, что они понимают друг друга. Возбужденные толпы сбивались в многолюдные митинги [Суханов Н.Н., 1991]. Пламенным ораторам внимали жаждущие счастья свободы массы. И они уже были счастливы верой, что сбывается что-то долгожданное. Радость надежд на лицах окружающих людей дарила счастье каждому.
Такое «всеобщее счастье свободы» наблюдалось в августе 1991 г. около московского Белого дома. Лица нескольких тысяч людей, собравшихся там, излучали радость, глаза искрились ликованием. Результаты опросов и анкетирования, проведенных нами, свидетельствовали о разных степенях фелицитарности (счастливое™) собравшихся — от «радостной бодрости» до «несомненного счастья».
Другой недолгий период «счастья общей свободы от страха смерти» был с августа по сентябрь 1996 г. в Чечне, т. е. короткое время после окончания первой чеченской войны. Еще недавно жестоко сражавшиеся чеченские боевики с российскими военными создавали различные совместные комитеты и комиссии для организации мирной жизни и порядка в городах. Опросы (по определенной схеме), свободные (скрытые) интервью показали, что у значительной части чеченских боевиков и мирного населения г. Грозного и у дислоцированных там российских солдат и офицеров сразу после окончания боев возникло не просто радость от того, что жизнь стала безопасной. Более того — многие ощущали «никогда не бывавшее счастье», «совершенно неожиданную радость», «чувство прощения врагов», «ощущение всеобщего веселья». Было отмечено, что в тот краткий период времени отчетливо снижалась острота горя по погибшим родственникам, страх перед неопределенным будущим, негативные переживания из-за утраты жилья и имущества. В основе этих эмоциональных фелицитар-ных сдвигов прослеживались ощущения «общей безопасности», всеобщей радости.
Автор этих строк помнит как тогда в г. Грозном к нему подошел смеющийся французский корреспондент с радостным восклицанием: «Леонид! Я теперь никого не боюсь». Действительно, не было ни перестрелок, ни захвата заложников. Это всем казалось невозможным и радостным. Напомню, тогда, после первой «чеченской войны», у чеченцев не было такого ожесточения против российских войск, как после «второй чеченской войны».
Чувство раскрепощения, предвосхищение безмерной самореализации и, главное, радость за всех людей вокруг окрыляет человека правом быть самим собой, одухотворенным любовью к счастливым окружающим.
Феномены «всеобщего счастья свободы» воспроизводятся во время традиционных ритуальных карнавалов, святочных гуляний и др. [Бахтин М.М., 1965]. Без таких массовых регулярных, интенсивных, но кратковременных обретений счастья в социумах, в государствах начинает культивироваться порочный гедонизм: культ себялюбия, эгоизм массового одиночества, массовые юморины «несмотря ни на что», как пиры во время чумы, сексуальные извращения, страсть к обогащению, лишенная чувства ответственности перед обществом, перед историей и т. п.
Лакунарные проявления «всеобщей свободы», дарящие переживания счастья, могут быть, во-первых, в отдельных общинах, религиозных, отгороженных от мира своими убеждениями и в территориально изолированных (в последнем случае весьма вероятно и, напротив, несчастье бесчеловечности). Во-вторых, чувство, условно говоря, «нашей свободы», вернее, осознание коллективного права на власть одной группы над многими людьми возникает в сообществах заговорщиков-революционеров, в бандитских группировках, у членов государственных силовых структур (спецслужб). В-третьих, такое ощущение корпоративного счастья есть в группах людей рискованных профессий, как у военных (спецназ, ОМОН, разведка и контрразведка), так и гражданских людей (летчиков, монтажников-высотников, геологов в опасных экспедициях) и у спортсменов-экстремалов
(альпинистов, парашютистов и др.). Такие спортивные увлечения позволяют хотя бы на время уйти от монотонной стрессовой обыденности и жить с риском, но с уверенностью в себе и во всех членах своей группы.
Продолжительность «счастья общей свободы» в узких сообществах поддерживается, во-первых, селекцией членов группировки: отбором пассионарных и выбраковкой усталых, вялых, неуживчивых. Во-вторых, должны иметься реальные права и организационные, экономические, людские силы для активных действий «за» или «против» чего-то. «Счастье общей сплоченности» генерируется на путях достижения общей цели: в борьбе с врагом за идею, либо в молитвенных бдениях и аскезе и пр. Это создает основу для самореализации членов групп через самоотверженность. Вспомним призыв из песни: «Мы все на бой пойдем за власть Советов. И, как один, умрем в борьбе за это».
Счастливые люди красивы, особенно если воодушевлены всеобщей свободой, правом на победы грядущую или обретенную. Оказавшись среди счастливых и свободных, проникаешься их ликованием. Возможно, иллюстрация этого на страничке дневника европейского путешественника-этнографа N, жившего в 2002 г. в хасицкой общине г. Хеврона в Израиле. Община обосновалась в центральном квартале, окруженном сотнями домов, населенных палестинцами. В то время в Израиле уже два года было «чрезвычайное положение», из-за него в Хевроне введен «комендантский час», палестинские магазинчики и мелкие мастерские были закрыты, палестинцам запрещено появляться в еврейском квартале. Его окружали посты израильских «десантников» («красных беретов») и «пограничников» («зеленых беретов»). Это не мешало палестинским снайперам постреливать в окна домов хасидской общины. Одна еврейская девочка была убита. Но хасиды были воодушевлены тем, что спустя тысячи лет обрели право и свободу жить на земле своих праотцев. Вот страничка из путевого дневника, на которой описаны особенности хасидской общины в Хевроне: «— Все женщины безмятежно-сексуальны.
- Все мужчины спокойно-мужественны.
- Все дети счастливы любовью к ним.
- Все старухи игриво-восхитительны.
- Все старики отрешенно-мудры.
- Все девушки бурно-игривы и непорочно-женственны
- Все юноши-солдаты торжественно-воинственны
- Все офицеры уверенно-внимательны.
- Все еврейские дома красивы в новизне архаической изощренности.
- Все дома палестинские таинственно-опасны или глухо-мрачны.
- Все палестинцы с застойной печалью и обидой в глазах или торжественным негодованием на лицах.
- Все палестинские лавки и магазины Хеврона будто построены навсегда запертыми.
- Все улочки пугаюше-кривы».
Можно ли в эмоциональном иакале хасидов Хеврона видеть «счастье свободы» ? Ведь и свобода передвижения была ограничена переулками их квартала, и «свободно» выглядывать в окна было небезопасно. Но радость, воодушевленная «обретением своей тысячелетней истории» и своей отвагой, как первым шагом в «будущие тысячелетия свободной Родины» давали членам общины счастье стойкости и значимости своего высокого предназначения. Нельзя забывать еще два обстоятельства:
- значимость враждебных сил, в победе над которыми и обретаешь счастье свободы;
- отбор (селекцию) членов корпорации (общины), способных побеждать. Ведь тревожные, несмелые да и просто трепетные родственники и друзья общинников-хасидов боялись и страдали за них далеко от Хеврона.
«Корпоративная свобода» экстремальных сообществ наделяет своих адептов не только эустрессом (приятным стрессом) благодаря самореализации и «свободе властвования», но и морально-этическими переживаниями. Если корпорация, рискуя жизнью своих членов, служит нуждам окружающих людей, т. е. благим целям, добру, то это развивает у экстремальных профессионалов достойные психологические качества (духовность) [Зинченко В.П., Моргунов Е.Б., 1994; Шадриков В.Д., 1995, Дикая Л.Г., Крылова Г.Ю., 2007].
Стойкая совокупность наилучших моральных и этических качеств, которые дополняют понятие духовность, формируется у профессионалов высшего класса, например, действующих в системе «человек — летательный аппарат» (у летчиков, космонавтов). Их личностные достоинства проходят экстремальный отбор подчас с трагической «выбраковкой». Важнейшим фактором раскрытия их духовности становится реализация с ответственностью за жизнь: «Спастись самому, спасая летальный аппарат», «Спасти жизнь людей на земле ценой собственной жизни, отведя горящий самолет, чтобы он разбился вне населенной местности» (см. об этом [Пономаренко В.А., 1998]). Постоянная готовность к подвигу такими профессионалами не осознается (не рефлексируется), но они, несомненно, живут в атмосфере счастья своей духовности, не избегая житейских невзгод и горестей. Многие годы работая в Летно-исследовательском институте (г. Жуковский), автор этих строк, участвуя в обеспечении полетов летчиков-испытателей, был свидетелем проявлений их профессионального мастерства, неотделимого от духовности.
В преступных экстремальных корпорациях, противостоящих общественным интересам, весьма вероятны всеобщая подозрительность, озлобленность и утрата духовности. При изучении преступных сообществ мне приходилось видеть, что главенствующим чувством их участников становится тотальный страх, ощущаемый как постоянное беспокойство, настороженность, подозрительность ко всем: «Я боюсь тебя, ты боишься меня». Это становится ведущим фактором общения в криминальных группировках, как уголовных, так и тех, что «под крышей» государственных учреждений. Страх перед всем и всеми, страх из-за своей антиобщественной (античеловеческой) сущности деформирует личность, лишает духовности и ведет к «выгоранию личности», «выгоранию души» [Китаев-Смык Л.А., 1989]. Бесстрашие «выгоревшей личности» и навязчивое стремление рисковать своей жизнью и жизнями безвинных жертв обуславливается неосознаваемым стремлением прекратить для себя пытку страхом, чувством вины и обреченностью на наказание. Склонность к смертельному риску бездуховной личности и смелость одухотворенного человека — абсолютно разные человеческие сущности.
В мире «свободных людей», человек счастлив и их счастьем и сам по себе. Наверное, есть две обязательные (достаточные ли?) ипостаси этого состояния. В своей «Сутре о счастье» известный психотерапевт Николай Линде указал минимум два источника, два условия счастья человека: внутреннюю гармонию, согласие с самим собой и благорасположение к нему счастливого мира. «Счастье — это не когда человек удовлетворил все свои потребности, а когда он вошел в такое состояние, где его переполняют добрые чувства и энергия жизни, которые требуют самореализации. При этом он чувствует, что его возможности неограниченны, он свободен и автономен. Счастье — это открытые возможности, чем больше индивид ощущает внутреннюю гармонию, согласие с самим собой и благорасположение к нему внешнего мира, тем более он счастлив. Но благорасположение мира он ощущает потому, что он не защищается от мира, он отказался от брони своего характера, и его мышечный панцирь расслабился. В этом случае он непосредственным образом получает столько энергии, что «мало не покажется», он оказывается в раю, никуда не перемещаясь физически, не меняя обстоятельств своей жизни. Энергия просто переполняет его, избыток энергии и делает его счастливым. Кроме того, он не скован своим панцирем, а больше ничто и не может его сковать, а значит, все дается легко, все доставляет удовольствие» [Линде Н., 2008, с. 3].
В начале XXI века в российском научном мировоззрении сохраняется недоверие к понятию «духовность». Произнесенное или написанное, это слово у многих пробуждает смущение, как перед мистицизмом и клерикализмом. Однако, как пишет В.П. Зинченко: «Не попробовать ли вернуться к хорошо забытой духовной антропологии? Психологи (не только отечественные) довольно легкомысленно передали ее по ведомству теологии, религии и занялись, как им казалось, настоящим полезным делом. Здесь не место оценивать, как религия распорядилась или распоряжается духовностью. Замечу лишь, что ей никто и никогда не передавал исключительных прав распоряжаться ею. Духовность — более широкое понятие, чем религиозность. Она может быть вполне светской» [Зинченко В.П., 1994 а, с. 43; Зинченко В.П., Моргунов Е.Б., 1994, с. 305]. Уместно вспомнить выдающегося философа М.К. Мамардашвили. Он писал: «Вне духовного содержания — любое дело — это полдела. Не пред-ставлляю себе филисофии без рыцарской чести и человеческого достоинства. Все остальное — слова» [Мамардашвили М.К., 1990, с. 199]. Современная политическая антропология рассматривает «счастье свободного общества» неотделимым от отрицания расовой дискриминации [Савельев А.Н., 2007].
Как возникает, чем или кем формируется духовность? «Возникают резонные вопросы: как человек справляется со сложностью созданного им мира? Как этот мир становится (если становится) его достоянием, второй природой, которую не так легко отличить от первой?.. Поэтому не лишено основания замечание М.К. Мамардашвили, что природа не делает людей. Человек делает себя сам. И в этом смысле он сам — искусственное существо, артефакт или, точнее, артеакт. Идея о том, что не факт, а акт — принадлежит П.Ф. Флоренскому» [Зинченко В.П., 1997 а, с. 242].
Всякий ли способен созидать свою духовность, осмысливать свое достоинство? «К несчастью, не так уж мало людей, которые мыслят, точнее, принимают решения по механике условных рефлексов. Они, видимо, не подозревают о том, что И.П. Павлов предупреждал: мышление — это не рефлекс, это другой случай» [Зинченко В.П., 1997а,с.153].
Итак, по многим признакам было замечено, что более полное, более сильное ощущение счастья человек испытывает в кругу людей, как и он, переживающих радости обшей раскрепощенности, свободы. Это соответствует категорическому императиву И. Канта, который является одним из основных антропологических принципов: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице другого, так же как к цели, и никогда не относился к нему, как к средству» [Кант И., 1965, с. 270]. Антропологическая парадигма счастья, согласно Канту, в том, что его источник в человеколюбии, в положительной духовности, а его цель — идеальное счастье во всеобщем радостном благополучном человеколюбии. Это аристотелевское понимание счастья как высшей цели человека и человечества.
Однако, Кант выступает против эвденомии, т. е. безудержного гедонизма.
В русской художественной и философской литературе до начала XX в. утверждалось, что счастье — в творческой реализации личности («Персонализм»). Но это личное, персональное счастье часто лишает человека сопереживаний со счастьем и несчастьями окружающих людей. Хуже того, гедонизм может обеспечиваться бедами других людей.
Анализируя антропологию счастья, И.В. Сидоренко пишет: «Подвижническое служение высшим ценностям ведет к отказу от гедонистического и "персоналистического" счастья, к выходу за конвенциональную антропологическую границу... При этом совершается идентификация с высшими ценностями, что дает психологическую защиту и обретение сущности антропологической границы, связанной с понятием идеального счастья» [Сидоренко И.В., 2006, с. 80]. МаркТвен высказывал эту мысль кратко: «Горе нужно переживать в одиночестве, но радость, чтобы познать в полной мере, нужно разделить с другим человеком». Психологические исследования могут свидетельствовать о положительной корреляции между счастьем и экстраверсией [Аграйл М., 2003, с. 32]. Иными словами, можно ли сказать, что обращенность к миру людей чаще усиливает счастье, чем горе?
Можно сожалеть (?), но «счастье всеобщей свободы» недолговечно. Массовые иллюзии освобождения, надежды на лучшее, эмоции радости, овладевшие людскими массами, наделяют их огромной силой. Ею всегда успевают воспользоваться в своих интересах политические «гении» (лидеры, энергично устремленные к личным целям, не видящие, кроме них, ничего). Из-за этого энергия «счастливо-свободных» масс, увы, почти всегда разрушает существовавшие стабильность и порядок в обществе. Авторитарные диктаторы инвертируют (переворачивают) эту массовую энергию, превращая карнавальную свободу революции в «революционную» диктатуру. При этом используются террор и устрашение людей для их разобщения. Цикличность чередования массовой псевдосвободы и реального террора направлены на девальвацию духовности населения [Орлова Э.А., 1993].
И все же эволюция человечества свидетельствует о непреложности категорического императива, сформулированного И. Кантом, о приоритете духовности в культурном и социальном развитии людей.
Однако не только история, но и современность дают много поводов для сомнений в приоритете добра и духовности. XX в. двумя мировыми войнами и массовым изуверством тоталитарных империй дискредитировал достижения предыдущих столетий на путях гуманизации человечества. И даже предотвращение мировых войн во второй половине XX в. достигалась не миролюбием, а угрозой оружием массового уничтожения. Начавшееся столетие ознаменовалось тем, что из-под прессинга этой угрозы выскользнули демоны страсти к смертоубийству в виде массового терроризма: государственного (в локальных войнах) и религиозного (рядящегося под джихад, т. е. «священное усилие»).
Понимая, что военный стресс — это «стресс смерти» (он существенно отличается от уже хорошо изученного «стресса жизни») и требует изучения его актуальных и новых закономерностей, я, начиная с 1995 г., исследовал отдельные проявления стресса войны в ходе боевых действий на территории Чеченской Республики.
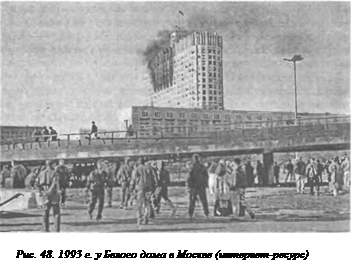
Еще до этого мной (с группой студентов-волонтеров) проведены психологические исследования мирного населения при угрозу начала гражданской войны в 1991 и 1993 гг. у Белого дома в Москве.
Чрезвычайно важно во время войны спасать мирное население, оказавшееся оставленным на территории, охваченной боевыми действиями. Эта задача не умаляется даже тем, что население помогает боевым отрядам, укомплектованным из жителей данного региона.
Некоторые результаты изучавшихся мной указанных феноменов представлены ниже.
5.5. МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ И СТРЕСС ВОЙНЫ
5.5.1. «Синдром мирного населения в начале гражданской войны» (Расстрел парламента России в 1993 г.)
Типичное начало гражданской войны: 3 и 4 октября 1993 г. сначала у телецентра Останкино, потом у Дома Советов (у московского Белого дома). Перевязывая раненых, автор этих строк видел множество людей, беспокойную толпу, из которой пули выхватывали свои жертвы [Китаев-Смык Л.А., 1997].
На месте событий, унесших жизни нескольких сотен человек, я провел конкретное психосоциологическое исследование с помощью добровольцев из числа студентов-психологов. Мы опрашивали и наблюдали (по определенной схеме) москвичей на разном расстоянии от мест, где гремели выстрелы автоматов, крупнокалиберных пулеметов, а 4 октября и танковых орудий. Наши пилотажные исследования обнаружили, что москвичи разделились на группы.
А. Подавляющее большинство продолжало жить обычной жизнью, не обратив особого внимания на происходящее. Назовем их «индифферентными».
Б. Многие испугались. Они страстно стремились уйти, убежать, уехать подальше от грохочущих выстрелов, спрятаться в своих квартирах.
1. Из них одни не желали говорить и даже думать о тех событиях. Забыть и не вспоминать о страшном! Это «амнезирующие трусы».
2. Другие обличали одну или обе стороны конфликта, гневались, сердились. Это «агрессирующие трусы». Особенно страстно осуждали они граждан, стремившихся к месту событий, называя их «преступно-любопытными», «толпой идиотов».
Искреннее самооправдание людей, не способных поклть не похожих на них людей. 3. Третьи в безопасном месте радостно обсуждали экстремальные события, приятно возбуждающие их. Они убеждали себя и других людей в том, что «все будет хорошо», «все кончится наилучшим образом». Это «оптимизирующие трусы». Здесь в слово «трусы» не вкладывается осуждения, а лишь констатируется, что в основе отношения этих людей к опасности лежит благоразумная боязнь. В. Были и те, кого «центростремительные» силы страстно тянули к грому стрельбы, туда, где была опасность. Кто они, кого притягивала реальная чрезвычайность жизни, а не на мертвом экране
телевизора хроника в «живом эфире»? Пользуясь терминологией историка Льва Гумилева, их можно назвать «латентно-пассионарными» личностями. В обыденной жизни беспечные и праздные, возможно, не без пороков, они устремлялись к необычным событиям, и... может быть, к удивительным свершениям. Туда, где, возможно, решались судьбы истории, которая, конечно, «не могла обойтись без них». Все это, как правило, не осознавалось «центростремительными» людьми. Казалось, ими движет любопытство. По расстоянию от центра опасных событий (по величине радиуса), дойдя до которого «центростремительные» прекращали свое проникновение в экстремальное пространство, их можно подразделить на четыре группы.
Первые удовлетворялись тем, что оказались там, где выстрелы хорошо слышны, где появляются люди, побывавшие вблизи боевых действий. Их можно было расспросить, как они домысливают ужасы, происходящие где-то неподалеку. Вошедшие в первую группу напоминали «страстных сплетников», нуждающихся в реальных событиях для своих фантазий, для реконструкции происходящих неподалеку «судьбоносных событий». Это «интеллектуалисты». Они воодушевлены как бы своей властью над неожиданно возникшей, необычной (нетривиальной) действительностью, возвысившей их над обыденностью.
Вторые приближались, чтобы видеть хотя бы часть места опасных событий с безопасного расстояния или из-за надежного укрытия. Мимо них выносили раненых, проезжала, гремя, бронетехника, здесь было много военных в форме, с оружием. Они напомнили мне «любителей уличных аварий», толпящихся вокруг только что погибших, вокруг исковерканных автомобилей. Это «визуалисты».
Третьих притягивает стремление пережить опасность, испытать судьбу, сыграть с нею в орлянку там, где пули летают:
«Убьет\— не убьет?!». Мой погибший друг, посмертно Герой Советского Союза, Петр Иванович Долгов, рассказывая об удивительных событиях времен Второй мировой войны, приговаривал: «Хорошее дело война! Когда идешь, а в тебя стреляют, стреляют и не попадают!» Такие «игроки собой» верят в свою удачную судьбу и не могут не испытывать ее постоянно.
Наконец, четвертых притягивает возможность участвовать в событиях. Отзвук опасности пробуждает в таких людях жажду действовать необычайно, решительно, пусть пока еще не ясно как, но действовать! К ним приходит опыт, и тогда они становятся активными участниками чрезвычайных событий, знающими, за что воюют, зачем убивают, за что готовы умереть. Они не задумываются над тем, что их действия подчас отважны и героичны. Эти «отважные герои», стоя в октябре 93-го в, казалось бы, просто любопытствующей толпе у Белого дома, вдруг бросались, чтобы вынести раненых (или убитых?) наро-фоминских десантников-солдатиков, упавших и кричащих от боли «Помочь! Спасти! Действовать!» — позыв пассионариев.
В ситуации, названной нами условно «началом гражданской войны», когда в грохоте выстрелов привиделась возможность перемен, люди срывают с себя путы размеренного существования, у них появляется ощущение силы.
«Центробежных» эти силы пугают. Они боятся не смерти от пуль: ведь они еще не нюхали пороха и смерть не заглядывала им в глаза безобразием трупов, боятся перемен в окружающем мире, неясных импульсов в своей душе. Опасность новизны мобилизует психический потенциал этих людей, ориентируя их на бегство от перемен... Поначалу отринуть их угрозу. Хотя бы в душе убежать от нее.
Все иначе у «центростремительных» людей. Опасность, даже слухи о ней, пробуждают их душевные силы, толкают прочь от обыденности. Они испытывают радостную активность; и в теле, и в сознании возникает радостное ожидание новизны, состояние, которое называют «стрессовым пробуждением». Оно готовит человека к более полной самореализации, и прежде всего к «поиску внутри себя» сил, способностей, талантов, проявлению которых мешала прежняя, скучная жизнь. В такое чрезвычайное время ведется и «поиск вокруг себя». Появляется жажда новых пространств: (а) территориальных («Идти, бежать на звук набата, стрельбы!»); (б) социальных («К новым людям, встречам, чтобы предстать перед ними самому — новым и сильным»).
Начало стрессового пробуждения для «центростремительных» — это стремление к влекущей их опасности, для «центробежных» — от нее.
Затем они начинают объединяться в группы, толпы. И вот становится заметной еще одна, для многих, может быты, главная, «жажда» — (в) смутная тяга к поиску новых пространств власти («властно проявиться, воодушевиться от того, что люди мне подчинились; или обрести чью-то власть, воодушевляющую меня, хоть и подчиненного, но обновленного новизной вождя!»).
Пробуждаемые чрезвычайными перспективами перемен, «центростремительные» люди, объединяясь с подобными себе и овладевая новыми «территориями», начинают остро нуждаться в новой социальной иерархии. Но у оказавшихся рядовыми, т. е. у большинства людей толпы (группы, жителей города, политической организации и т. п.), — (г) редуцируются, подавляются зачатки их собственной властности. Вместе с тем — (д) угасает чувство ответственности за происходящее.
В дальнейшем поток чрезвычайных событий, влияющих на ситуацию в обществе, может побуждать массы на (е) «великие дела» или же на (ж) прозябание.
Итак, в самом начале массовой стрессовой ситуации, например, в начале гражданского противостояния, у части населения пробуждается активность, желание проявить себя в действии и претензии на новое, более высокое положение в социальной структуре. При этом у каждого начинается «поиск вождя» — ив себе, и среди окружающих «пассионариев». Появление вождя освобождает подчинившихся ему и участвующих в массовых действиях от ответственности. Эта ответственность, особенно в случаях массовых бесчинств и преступлений, субъективно переложена на вождя-зачинщика и на других участников беспорядков. Толпа воодушевляется своим вождем, своей силой и безответственным правом на радость от необычайных дел; злых или добрых.
Человеку в состоянии стресса может стать остро необходимым окружение; в критических ситуациях многие нуждаются в сборищах, подчиняясь зоологическому зову: «Вместе мы — сила! Нас много — мы победим!» (при стрессе бывает и иначе: «Спасайся, кто может! Кому повезет — уцелеет!»).
Психологические исследования массовых явлений очень сложны из-за трудностей охвата бесконечного числа фактов, из-за того, что исследователь-психолог, растворяясь среди людей для наблюдения за ними, неминуемо теряет общий взгляд на психосоциальные процессы. Идя по иному пути, изучая массы отстраненно, ученый перестает адекватно понимать душевные процессы отдельных людей, их уникальность; искажается и общее представление исследователя о массовых психических процессах [Китаев-Смык Л.А., 1983].
Обычно история — это перечень периодов правления царей, вождей. Психолог практически полностью лишен возможности проникнуть на психологическую кухню государственных, исторических событий, изучая интеллектуальную и душевную жизнь, вождей. Властители очень боятся психологов и допускают к себе только подчиненных конформистов или заведомых глупцов. Вожди — могучие прагматики и знают, что нужно сообщать о себе народу через прессу и через науку. Государственные деятели уверены, что в своей психике они разбираются лучше всех. Очень часто лидеры, если они действительно высокого ранга, бывают правы в самооценке, которую они, конечно, не публикуют. Эти строки автор позволяет себе, писать, опираясь на двадцатипятилетний опыт пребывания экспертом-консультантом в высшем аппарате власти нашей страны. Сначала за Кремлевской стеной, а потом и в других обиталищах разделившихся ветвей государственной власти.
С психологией массовых процессов еще сложнее: ученые, попытавшиеся коснуться проблем, возникающих у населения в критические, т. е. попросту в страшные периоды жизни, сталкиваются, к примеру, со следующими явлениями.
Первое, что бросается в глаза, — асоциальность. Население, вовлеченное в стрессовую круговерть, отбрасывает свои социально-иерархические связи. Массы становятся деклассированными, асоциальными. Это понятно, стресс пробуждает в людях стремление выйти на новый, более высокий властный уровень, жертвуя старыми связями.
Второе, что приписывают ученые взбудораженным массам, толпам, — снижение интеллекта.
«Толпы безумны», — пишет Серж Московичи. И еще: «...уровень человеческой общности стремится к низшему уровню ее членов. Тем самым все могут принимать участие в совместных действиях и чувствовать себя на равной ноге. Таким образом, нет оснований говорить, что действия и мысли сводятся к «среднему», они, скорее, на нижней отметке. Закон множества мог бы именоваться законом посредственности: то, что является общим для всех, измеряется аршином тех, кто обладает меньшим». Эти суждения, высказанные в книге «Век толпы» выдающимся современным психологом и психоаналитиком С. Московичи, критически осмысливаются автором на последующих страницах его книги [Московичи С, 1996, с. 39.]. «Соединяются не какие-нибудь выдающиеся качества, а только заурядные, встречающиеся у всех. В толпе может происходить накопление глупости, а не ума» [Ле-Бон Г., 1995, с. 161].
Наверно, не все так однозначно. Люди толпы, массы, в критической ситуации очень нуждаются в предводителе. Разуверившись в себе, не видя пути к спасению, часто не отдавая себе в том отчета, они все сильнее жаждут мессию. Массы надеются на разум того, кто укажет им путь, научит побеждать. Угасает уверенность в себе, но пламя надежды разжигает потребность быть ведомыми, беззаветно подражать лидеру.
Если нет лидера, то подражать хоть соседу. А он подражает тебе. Охотнее всего подражают простым, первичным, стрессовым реакциям, примитивным суждениям и действиям. Без достойного лидера волны бессмысленного подражания захлестывают массу возбужденных людей. Они, как куча листьев, вздымаемых ветром. Сухие летят высоко, влажные — ниже, мокрые — прилипли к земле.
Когда появляется человек, заставляющий верить в него, масса идет за ним, подражает ему, преклоняется перед ним. Если лидер умен — толпа умнеет. У одних обостренные чувства пробуждают интеллект, другие обучаются у лидера, третьи опасаются делать глупости. Если же лидером оказался дурак, оглупление массы становится изощренным.
Третье — «толпы преступны... — пишет с возмущением С. Московичи. — Будучи сбродом и жульем, они состоят из людей разгневанных, которые нападают, оскорбляют и громят все подряд. Это воплощение беспричинной, разнузданной жестокостью, стихийного бушевания массы, несанкционированно собравшейся вместе... Она противодействует властям и абсолютно не признает законов» [Московичи С, 1996, с. 107.).
Здесь Московичи не отличает в толпе бомжей-психопатов от людей, еще вчера послушно служивших, но сегодня ощутивших противную их человеческой сущности угнетенность «властями и законами», попирающую человеческое естество. Социальные потрясения, ломая политические структуры, экономику, выплескивают на улицы неутоленную энергию обычной молодежи и разоренных властью отцов семейств. Они — основа возбужденной толпы, массы, всколыхнувшегося населения. Конечно, к ним присоединятся люди, давно уже психически сломленные и выброшенные из общества: алкоголики, бомжи, криминальные психопаты.
С. Московичи здесь берет на себя роль охранителя порядка, протестуя против «несанкционированных» сборищ. Но разве преступная или отжившая власть даст разрешение на действия массы против себя? Против права ее закона может действовать только право силы, в частности, силы, возмутившихся людей. Московичи не признает их порядочности. А его учитель Густав
Лебон писал: «Все зависит от того, какому внушению повинуется толпа. Именно это обстоятельство совершенно упускали из виду все писатели, изучавшие толпу лишь с точки зрения ее преступности. Толпа часто бывает преступна — это правда, но также она часто бывает героична. Толпа пойдет на смерть ради торжества какого-нибудь верования или идеи; в толпе можно пробудить энтузиазм и заставить ее ради чести и славы идти без хлеба и оружия...» [Ле-Бон Г., 1995., с. 165].
Почему же Серж Московичи не замечает этих строк в фундаментальной монографии своего учителя? Может быть, потому, что люди, возвысившиеся над массами, не разделившие их участь, отторгаются ими и перестают ими мерками оценивать жизненно значимые события. Если же благородное либо дикое буйство толпы (или войска) ученый наблюдал, находясь в другом лагере, индифферентном или враждебном толпе (или воинству), такой человек будет заряжен зоологическим рефлексом безоговорочного непризнания «чужой стаи», ее прав и ее доблестей. Чужие воодушевление и смелость будут вызывать лишь страх и возмущение.
Примерно так возникают психологические основы противостояния в начале гражданской войны.
«Центробежные» граждане ругают возмущенный народ, вероятно, потому, что «криминальность» толпы видится им из окон благоустроенных квартир и на экранах цветных телевизоров. Надо быть в толпе и видеть вспышки выстрелов в тебя или в массе людей, сидящих в подвалах обстреливаемого села, чтобы приобрести «синдром соучастника», чтобы, хочешь не хочешь, а мыслить, как эта масса.
Посмотрим на различие «центробежных» и «центростремительных» граждан еще с одной стороны. В момент стресса и у человека толпы, и у одинокого человека, когда актуальным становится просто «выжить!», возникает особое состояние. Сокращая его описание, можно сказать, что все силы, желания, помыслы, цели, вся жизнь человека сконцентрированы «здесь и сейчас!» Благодаря этому силы резко возрастают. Прошлого как бы нет. Все, что было, текущий момент вобрал в себя. Будущее сконцентрировалось в этом «сейчас!». Текущий момент— захлопывающаяся дверь в будущее. «Жить или не жить, вот весь вопрос!» Потребность в будущем мобилизована для победы и выживания. Свернутое время — «сейчас» умещается в концентрате пространства — «здесь». Уплотнение места и времени предельно обостряет чувства, усиливает интеллект. Человек в таком состоянии столь необычен, что наблюдателю из безопасного мира может казаться безумным. Тот, кто решился противостоять смертельной опасности, похож на клинического безумца.
Ошибаются политики, полагающие, что, введя танки на улицы города, испугом утихомирят народные массы. Обыватели пугаются, но у «пассионариев» возникает идентификация себя с мощью противостоящего железного монстра. Трупы и раненые, наоборот, отчуждаются «пассионарием», а обыватель идентифицирует погибших с собой. Танками, трупами, страхом нельзя подавить пассионарность начала гражданской войны. Возмущенные массы становятся управляемыми после переключения их внимания на мощь и «красоту» власти, т. е. на ее харизму.
Можно ли надеяться на то, что совершенствование так называемого демократизма (его принцип «государство для людей, а не люди для государства») сведет к минимуму вероятность гражданских войн, и они будут пылать лишь тогда, когда без них ну уж никак не обойтись.
Последнее, должен признать, ерническое, замечание, было написано мной в 1995 г. И я не мог тогда предполагать, что в конце того же года на территории России (в Чеченской Республике) вспыхнут (будут организованы ?!) реальные боевые действия, вскоре переросшие в локальную «гражданскую войну». Мной проводились там психологические исследования по обе стороны «линии фронта». Такой «линии» в действительности там не было, т. к. боевые действия имели характер партизанской войны, в которую вовлечены и боевые отряды, и сочувствовавшее им (нередко поддерживавшее) мирное население. Ниже приводятся результаты исследования психологических особенностей массового стресса у мирного населения Чеченской Республики во время первой чеченской войны.
5.5.2. Стресс мирного населения при введении на его территорию «ограниченного воинского контингента» (Чечня 1994-1996 гг.)
В этом повествовании [Китаев-Смык Л. А., 1997 б] нет описания сложных социокультурных, социально-политических взаимодействий внутри общества чеченцев, русских, людей других национальностей в той массе, которая описывается как «мирное население». В гражданской войне мирное и взявшееся за оружие население теснейше взаимосвязаны, взаимозависимы. Даже по внешнему виду их трудно, а нередко невозможно, различать. В психологических, социальных, политических процессах, происходящих в массах людей, которых можно называть «мирным населением», во время войны на ее территории важную роль начинают играть женщины.
А. Особенности чеченского этноса. Населением Чечни во время войны с 1994 по 1996 г. стали преимущественно чеченцы. В городах русских осталось мало. Была видна их напряженная обособленность. Если в каком-то селе и встречалось русское семейство, давно живущее и усвоившее местные обычаи, то его чеченские соседи добрым отношением к нему как бы подчеркивали негуманность отношения российских войск к чеченскому населению. За два с половиной года войны изменялись особенности чеченского населения: взаимоотношения женщин и мужчин, их представления о себе, их чувства, их думы и действия.
Сопоставим результаты наших пилотажных наблюдений с канвой психодинамики масс, предписанной такой наукой, как «психология масс», с ее основателями Ле-Боном, Тардом, Фрейдом и др. Эти авторы, анализируя динамику человеческой 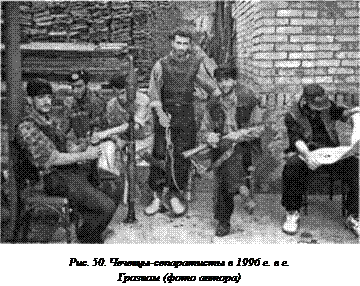
массы в критические моменты истории, почему-то пренебрегали традиционной организацией людей, существовавшей до кризисов. У чеченцев это: семья, род, тейп (жители одного ущелья). За последние 70 лет планомерно разрушалось значение тейпов, но оставалась семейная сплоченность чеченцев.
Их этнической особенностью был архаический индивидуализм не только мужчин, но и женщин. Он связан, в частности, с тем, что у чеченцев, в отличие от всех народов Кавказа, и не только Кавказа, не было дворянства, помещиков, князей. В современном выражении: «Каждый чеченец— сам себе Президент!» — есть историческая сущность чеченцев. При этом чеченская женщина — абсолютная хозяйка, властительница ряда социальных, хозяйственных и даже некоторых политических функций, вверенных ей традициями.
Война, предъявляя экстремальные требования каждому чеченцу и чеченке, усиливала их индивидуализм. Чеченцы не стали «толпой», «массой», которые описывали Ле-Бон, Фрейд и другие европейские основатели научной массовой психологии. Вместо этого жестокость войны очень быстро — за недели, за месяцы, за дни, а где-то за часы, — стала силой, сплачивающей чеченцев. Выдвигались пассионарные личности, среди них оказалось немало женщин. Лидеры, консолидируя массы, побуждали их к творче 
ству в войне, выковывая военный профессионализм бойцов и их «мирных» помощников — всего населения.
Рядом с историческими символами в виде Шейха Мансура, казненного в Шлиссельбурге русским царизмом, и Шамиля, 50 лет сражавшегося с русскими. Президент Чечни Джохар Дудаев символизировал путь к всеобщему счастью через обретение суверенитета. Но этого призрачного героя-генерала было мало для повседневного сплочения и воодушевления чеченских масс. Басаев стал конкретным символом бесстрашия и жестокости в борьбе, зажигающим чеченские души. Символом, сплачивающим их в боевые отряды особого типа, где дисциплину заменяли доверие командиру и общность рядовых—обреченных на смерть героев. Еще не павшие в бою, они становились знаменами, единящими боевиков с «мирным» населением Чечни. Этому способствовали радио, телевидение и России, и зарубежья. Их слушали и смотрели в Чечне. Антивоенная пресса неизбежно, вынужденно становилась прочеченской, освещая эту новую кавказскую войну.
Силы людей не беспредельны. На третьем году чеченской войны мирное население, уставшее от российских актов возмездия (обстрелов и «зачисток» сел, в которых появлялись боевики), уже неприязненно смотрело на всех, носивших оружие: и чеченцев, и русских. Но окончание войны вновь сплотило чеченцев, их души, освобожденные от ужаса смерти, ликовали. Ношу послевоенного мира чеченцы вручили Аслану Масхадову, символу смелости, мудрости и несгибаемого сурового чеченского индивидуализма. Хорошо ли это или плохо, рассудили реалии жизни.
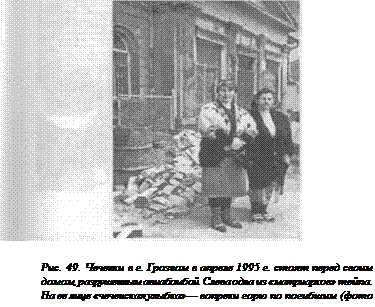 |
Б. Применимы ли канонические концепции психоанализа при изучении массового военного стресса. Наука «психология масс» и «психология толпы» разработала каноническое представление о предмете своего исследования. Вот как описывает его известный французский психолог Серж Московичи перед тем, как своей критикой низвергнуть многие основные положения «массовой психологии» В цитату введены цифровые обозначения цитируемых утверждений, чтобы потом было бы легче сопоставлять то, что было в Чечне, с утверждениями теории «психологии толпы».
Итак, цитата: «В недрах толпы (1) подавление бессознательных тенденций уменьшается. (2) Моральные запреты исчезают. (3) Господствуют инстинкт и эмоциональность. (4) Человек-масса действует как автомат, лишенный собственной воли. (5) Он опускается на несколько ступеней по лестнице цивилизации. Масса (6) импульсивна. (7) изменчива. (8) легко возбудима. (9) Будучи слишком доверчивой, она (10) отличается недостатком критического ума. (11) Ее поведение отличается почти бессознательным. Она (12) думает образами, порождаемыми один из другого, ассоциациями. Она (13) не знает ни сомнений, ни колебаний, (14) истинное и ложное не составляет для нее проблемы. Отсюда ее (15) нетерпимое поведение, а также ее (16) слепое доверие власти. (17) Консервативные, по существу, массы имеют глубокое отвращение к новому, к прогрессу, безграничное уважение к традиции» [Московичи С, 1996, с. 290-291].
Сопоставим приведенные утверждения с тем, что я видел, живя среди чеченских «масс», изучая их. 1. Не «бессознательное», а индивидуальное представление о
себе и других, о жизни и смерти усиливалось в экстремальных условиях военного времени. Возникали вполне конкретно осознаваемые чувства и мысли. «Бессознательным», некритичным было то, что каждый отдельный человек в толпе или в организованной массе чувствовал; он был уверен, что все вокруг него думают, чувствуют и будут поступать как он, испытывающий «чувство локтя», слитность с возбужденной массой.
В действительности желания и действия разных людей толпы могли отличаться. Поэтому массы осознанно бурлят, бессознательно дробятся. В них могут далеко не «вдруг» возникать жестокие противостояния.
2. «Моральные запреты» чеченского общества были всегда сильны. Война выгоняла склонных к индивидуализму чеченцев из их домов, родовых усадеб, ущелий, превращая их в толпы, в массы. Но в этих «толпах» моральные принципы горских обычаев, усиленные мусульманской моралью, сплачивающей людей на борьбу с врагом, стали главенствующей духовной силой чеченского общества. Традиционную важную роль в боевом сплочении многих горских народов играют женщины, несущие ответственность за постоянную, ежедневную, даже ежечасную целостность семьи, семейных ценностей и деловитости. Это — «женщины-матриархи», заметные в чеченских селах.
3. Да, в, казалось бы, неорганизованных толпах чеченцев, в организованных «массах» боевиков и снабжающего их всем, чем можно, мирного населения смертельный риск войны создавал «господство инстинкта и эмоциональности». «Здесь, сейчас!» — диктует инстинкт, мобилизуя волю к спасению себя и рода. Эмоциональность усиливает интеллектуальную изощренность поиска пути к победе.
4. Да, «человек-масса действует, как автомат», но «не лишенный своей воли», а осознавший ее, усиленную первобытным инстинктом и стрессовой эмоциональностью.
5. Только глядя из окон мирных парижских квартир на революционные толпы французов, только взирая из заоблачных кремлевских кабинетов на войну в Чечне, можно, ие поняв реальной военной трагедии, пытаться увидеть свои цивилиза-ционные нормы и принципы там, где их нет и быть не может. У революции и войны своя «цивилизованность». У нее сложнейшая организация. Люди становятся способными войти в нее, только мобилизуемые устремленностью к сохранению жизни, если не своей, то своих детей, семей, друзей. Это взлет на высоту цивилизованности, непонятной и не приятной тем, кто вне опасности смерти, и тем, у кого власть над чужой жизнью-смертью может разжигать паранойяльную жестокость.
6. Импульсивность людей на войне — кажущаяся. Они постоянно усилены волей к жизни и ужасом смерти. Обстоятельства вынуждают их то затаиться, то стремительно действовать. Тогда стороннему наблюдателю мерещится «импульсивность масс».
7. Только лавируя, «изменчиво» меняя направления и тактику действий, массы могут уходить от опасностей.
8. Только в состоянии постоянной готовности использовать или сдерживать свое военное возбуждение люди могут не опоздать с нужным «здесь и сейчас» действием.
9. «Доверчива» ли чеченская масса? Увы, да. У чеченцев страсть — доверять. Во время общей опасности можно доверять чеченцу; и они доверяют друг другу, выбранным имамам, полевым командирам. Это безоговорочное доверие чеченцы называют «дисциплиной». В это слово европейцы и горцы вкладывают разный смысл. На протяжении войны чеченцы несколько раз пыталисьдоверять российской власти. Обманы, подвохи (в европейском стиле) не лишили этот горный народ его «дикой доверчивости». Сохранилось абсолютное доверие к старейшинам тейпов — патриархам и мудрым женщинам, которым вменяется особая «матриархальная» власть.
10.Вот уж в чем нельзя упрекнуть чеченские толпы, так это в «недостатке критического ума». Чеченцы выносят на площади свои сомнения. Собравшись на сходах, митингах, в отрядах они оттачивают критичность ума в совместных интеллектуальных напряжениях (решениях, спорах, раздумьях), часто непонятных человеку с европейским складом ума.
11.Поэтому поведение чеченских толп, масс управляется критически выработанными, сознательными решениями. Замечено, что на чеченских «сходах» все прислушиваются, критически оценивая, к самым успешным, удачливым, а не к тем, у кого белее седина или борода длиннее.
12.Думается, красивая фантазия — утверждение, что масса «думает образами, порождаемыми один из другого, ассоциациями». Но такое нередко может преобладать в умах людей чеченской толпы.
13.Как для любого народа, для чеченских масс главная «головная боль» — отличить истину от лжи.
14.Но, решив, «что есть истина», всякая масса безоговорочно, беззаветно идет за вождем, носителем истины, «не зная ни сомнений, ни колебаний».
15.Если уж чеченцы, преодолев свою этническую индивидуальность, собрались в толпу, в отряд, то они собрали в критическую массу свое нетерпение и страсть к решительным, смелым действиям.
16.Собравшись, они концентрируют свое «доверие к власти», не то чтобы «слепо», но преданно.
17.Чеченцы приносят на сход, в массу, в толпу свои консервативные мысли, проистекающие из горских обычаев, но приносят с надеждой дополнить их новыми, прогрессивными мыслями сородичей. Как горячий уголь перебрасывают из правой руки в левую, так чеченцы на сходе обсуждают, сравнивая, то предложение, вытекающее из обычаев, то новое, небывалое решение. Так ведь не только у чеченцев.
Психоанализ утверждал, что «массы свидетельствуют об эмоциональном и интеллектуальном, иногда даже моральном падении людей. По ту сторону сознания, когда барьеры уничтожены, существует темный мир, который сформировался в давние времена. Он оставил следы на нашем теле и в нашей памяти. Ему достаточно небольшого сдвига, чтобы взять реванш. Он переворачивает вверх дном представление о психической и социальной норме» [Московичи С, 1996, с. 291]
Может быть, действительно таковы истоки психологических изменении людей, собранных в массы жестоки о ом Но надо продолжить эту гипотезу еще одним утверждением — пере вернувшись вверх дном», сознание людей при массовом стрессе непременно познает новые «психические и социальные нормы», единственно соответствующие новым требованиям ужесточившейся жизни. Эти неизбежные на войне «нормы» человеку из мирной жизни должны казаться дикими, а массы людей, соответствующие «военным нормам», — разнузданно жестокими или бесстыдно трусливыми. Не надо оголтело-онаученных суждений. Людей войны и людей мирного времени надо судить и понимать по нормам, утверждающим их жизнь против их смерти.
Вот как анализирует С. Московичи социальные взрывы: «В большинстве случаев это потрясение происходит на пике праздника, мятежа, религиозной процессии, войны, патриотических церемоний. Во всех случаях, по крайней мере теоретически, возникает впечатление, что улицы наводняет бессознательное. А массы служат ему телом. С ними оно кричит, гневно размахивает руками, отбрасывает запреты, оскорбляет вышестоящих, сеет повсюду беспорядок и недовольство. Оно предается всякого рода крайним действиям, невиданным жестокостям. Реальность уничтожается, массы живут в диком сне» [там же]. Согласимся со всем в этой яркой картинке, кроме одного. Действительно, не желая терпеть старый порядок, недовольные массы беспорядком пробивают путь новому, выходят за «край» того, что мешает им. Но этим они утверждают скорее новую, для кого-то «дикую» реальность, просыпаясь и принося ее из «дикого сна», который мучительно долго терпели.
Стараясь понять мирное население в гражданской войне, еще раз обратимся к психоанализу. Он успешно выправляет загибы «массовой психологии» Ле-Бона, Тарда. К сожалению, советская «социальная психология», оставаясь бесплодной на прокрустовом ложе марксизма-ленинизма, постоянно лишалась то ног, то головы. Согласно психоанализу, психический аппарат человека разделяется на собственно «индивидуальное Я» и «Я социальное» (его называют еще «сверх-Я», «идеальное Я»), которое доминирует над индивидуальным. «Каждый отдельный человек, — писал Фрейд, —является составной частью многих масс, он с разных сторон связан идентификацией и создал свой идеал "Я" по различнейшим образцам. Таким образом, отдельный человек-участник многих массовых душ — своей расы, сословия, церковной общины, государственности и т. д. и, сверх того, может подняться до частицы самостоятельности и оригинальности. Эти постоянные и прочные массовые формации со своим равномерно длящимся воздействием меньше бросаются в глаза, чем наскоро образовавшиеся текучие массы, на примере которых Ле-Бон начертал блестящую психологическую характеристику массовой души» [ФрейдЗ., 1998, с. 181]. В этой цитате видно, что еще Зигмунд Фрейд, дополняя (и исправляя?) Ле-Бона, указывает на то, что есть не только «наскоро образовывающиеся текучие массы», но их базисом являются «постоянные и прочные массовые формации». Эти «формации» не учитывал С. Московичи, как было видно в цитированном выше отрывке из его книги «Век толп». Именно эти «постоянные и прочные массовые формации», а не «наскоро образовавшиеся» становились главными и более заметными в Чечне во время первой чеченской войны
Составные части механизма социального «Я» — уподобление с окружающими в их достоинствах и подчинение власти законов (адатов) — были исконно сильны у чеченцев. У русских напротив, их социальное Я» оказалось тогда в Чечне резко ослабленным в ходе политического и морального развала советской страны. Это не могло не сказаться на исходе первой «чеченской войны» и на том, как она «выглядела» в глазах ее участников и тех, кто видел ее издали.
Психоанализ рассматривает «сексуальное подавление как один из главных механизмов политического господства» (Московичи С, 1996., с. 288]. Этот «механизм» использовался империями Сталина и Гитлера. Мао Цзэдун начал свою тоталитарную «культурную революцию» с уничтожения древнекитайских эротических традиций, чтобы сделать сексуальный потенциал молодежи, хунвейбинов, оружием партийных реформ. Горские народы веками нуждались в мощной подпитке своей борьбы с неисчислимыми опасностями гор. Строгая сексуальная дисциплина — один из факторов воинственности и стойкости горцев во всех горных регионах мира. Сексуальная мораль, диктуемая обычаями чеченцев, стала одним из факторов небыстрой мобилизации в начавшейся войне и моральной победы над российской армией. При этом немаловажную роль играла динамичная перестройка тендерных факторов.
Современный психоанализ показывает «... совокупность отношений между людьми, которые заключены в словах "любовь" и "идентификация". Они относятся к двум группам желаний. Нам известно, — пишет Серж Московичи, — к каким: желания влюбленности, которые стремятся отвлечь личность от самой себя, чтобы объединить ее с другими, и миметические желания, представляющие собой стремление к идентичности, исключительной привязанности к другому, к четкой модели. Первые подталкивают нас объединяться с людьми, которыми мы желали бы обладать, вторые — с людьми, воплощающими то, какими мы хотели бы быть. В принципе этих двух понятий достаточно, чтобы объяснить симптомы психологии толп» [там же, с. 326|. «... Всегда и повсюду, — пишет он дальше, — мы находимся перед лицом этих двух динамических факторов. Но с одной разницей: что касается индивидов, эротическая тенденция преобладает над миметической, в том, что касается массы — наоборот» [там же, с. 327].
Попытаемся оценить население мирное и воюющее с позиций двойственности психоаналитических понятий: либидо, т. е. любовь во всех ее разновидностях — к себе, к близким, к достойным людям, к идеям и пр., и мимесис — идентификация с окружающими людьми, с лидерами, стремление подражать им, слиться с ними, спрятаться за них.
Мощно выраженный у горских народов индивидуализм — это веками сложившееся оружие против опасностей, на каждом шагу подстерегающих человека в горах. Там, где никто не придет на помощь, где ты сам должен не оступиться, удержаться при падении, сообразить, где таится опасность лавины или камнепада там индивид надеется на себя, бережет и любит себя и продолжателей своей жизни, своего рода: жену, детей, семью, тейп. У горцев во всех регионах мира — сильное, многогранное либидо. Как правило, их объединения для набегов, войн, обороны — кратковременны, нестойки. В отличие от жителей равнин, их миметические тенденции даже в толпе не всегда преобладают над эротическими, либидозными.
Угроза военной смерти, резко усилив мимесис чеченцев, т. е. их стремление походить на лучших, усилила и их либидо: любовь к себе, к родным людям и еще, это важно, к тем, с кем мимесис подталкивал объединиться, слиться в бесстрашной борьбе.
Можно полагать, что оппозиция либидо и мимесиса присущая городским массам, размывается, перестает действовать у горцев в экстремальных ситуациях. Ошваясь, либидо и мимесис создают мощную смесь отваги, любви, гордости, находчивости и физической выносливости.
Возможность почти мгновенного возникновения такой человеческой массы запрограммирована историей горцев. С этой воодушевленной, сплоченной массой вооруженного и мирного населения столкнулась российская армия — неожиданно для своих военачальников и кремлевских экспертов по национальным делам. Не одолев противостояние горцев, российские федеральные войска были вынуждены уйти из Чечни после первой чеченской войны в 1996 г. А после второй чеченской войны, уже в начале XXI в. там были признаны целесообразными властные органы, созданные с учетом психологии горского этноса.
Однако тяжелейший массовый стресс, пережитый населением, создает немало трагических «последействий». Об одном из них, характерном для людей, психологически изнуренных войной, — в следующем разделе.
5.5.3. Конверсионные расстройства детей и женщин в Чечне (декабрь2005 г. —январь2006 г.). «Эпидемия» индуцированных болезней или массовая истерия?
В России, переживающей «переходный период» в конце XX и в начале XXI в., немало людей, не выдерживающих экономических и социальных «неудобств», страдает невротическими и психологическими «болезнями стресса». Им больше подвержены дети с еще не окрепшими организмами и не полностью сформировавшимися адаптационными структурами личности. Это может обуславливать у таких детей девиантное поведение, ведущее к правонарушениям [Иванов В.Д., 1996; Савельев А.И.. 2006 и др.). Однако это не носит массового, условно говоря, «эпидемического» характера [Долгова А.И., 1981 и др.]. Массовидный характер детская преступность может приобретать при изоляции подростков в закрытых учреждениях разного типа и в пенитенциарных заведениях [Плотникова А.Н., 2006].
Однако массовое, как бы «заразительное» девиантное поведении детей (преимущественно девочек) возникло из-за тяжелейшего «стресса жизни», поразившего большую часть населения в Чеченской Республике в 2005—2006 гг. после двух жестоких чеченских войн. Своевременные организационные и лечебно-профилактические мероприятия предотвратили перерастание девиантного поведения в преступное.
А- Хронология конверсионной болезни в Чечне. Мы
предлагаем хронологично рассмотреть и проанализировать происходившие в Чечне расстройства психики детей.
Эпидемически распространяющиеся психогении, когда все новые и новые психически здоровые люди «заражаются» от уже страдающих душевным расстройством, казалось, остались в далеком прошлом. Известны массовые истерии Средневековья, когда тысячи людей, преимущественно женщин, в разных странах Европы впадали в болезненные состояния с эмоциональным и двигательным возбуждением (с криками, воплями, неудержимыми «танцами» и др.), с вегетативными расстройствами (с икотой, рвотой, удушьем и др.). Эта массовость и однотипность пугающей симптоматики истолковывалась церковниками как проявление дьявольской власти над этими людьми. И вот в XXI в. мы стали свидетелями подобной массовой психической эпидемии (греч. — ері — над + demos — народ = нечто, распростершееся над народом, повальное заболевание) в декабре 2005 г. в Чеченской Республике.
То, что не сразу был поставлен диагноз множеству заболевших там детей, что не все врачи с ним согласились, и, главное, то, что после, казалось бы, полного излечения начались рецидивы заболевания, еще и в более тяжелой форме. Все это заставило провести анализ этого заболевания с подробным рассмотрением его распространения и течения.
Утром 16 декабря 2005 г. в Шелковском районе Чечни, в станице Староглазовской странная болезнь поразила четырех девочек-чеченок и двух молодых женщин. С утра в школе, а потом уже в больнице у них время от времени возникали краткие приступы удушья, судороги рук и ног. Они падали и в ужасе кричали.
Глава района оповестил всех, что это следствие нервно-паралитического или психотропного воздействия. К концу дня было уже двенадцать заболевших учениц той школы и две женщины, работавшие в ней. У всех одинаковые симптомы: онемение рук, ног, судорожные припадки, тошнота, озноб, слабость и пугающие приступы удушья. Они длились по несколько минут и повторялись 4-5 раз за день. По всей Чечне прокатился слух о «поражении детей в станице Староглазовская либо боевыми отравляющими веществами, либо радиацией» (РИА «Новый регион». 20.12.2005 г. 9:55). Местные врачи подтверждали этот диагноз.
Здесь следует напомнить, что с 1994 г. в Чечне началась кровопролитная война: российские войска сражались с чеченскими «незаконными бандформированиями», а говоря попросту, с хорошо организованными из местных жителей-чеченцев партизанскими отрядами. В 2002 г. активные бои сменились диверсионными действиями: подрывами мин на дорогах, снайперскими убийствами, захватом заложников, отравлением земли и источников воды. К 2006 г. было спровоцировано — самое страшное, что может быть у горцев, — множество случаев кровной мести. Стали частыми исчезновения людей, взрывы домов, расстрелы и неизвестно кем обезображенные трупы. Накануне странного заболевания чеченских девочек по Чечне промчалось очередное пугающее сообщение: «В столице, в Грозном обнаружен мощный источник радиоактивного излучения, превышающий допустимый уровень в 58 тысяч раз» (ИА REGNUM. 15.12.2005 г. 22:42). За истекшее десятилетие Чечня превратилась из процветающей курортной северокавказской республики в единый, сплоченный, больной социально-этнический организм, где все, про все, про любую угрозу мгновенно узнают, где все жители все время эмоционально перевозбуждены. Одни страхом, другие — злобой, где люди одержимы либо жаждой мести, либо мучительной обязанностью мстить. При этом они упорно трудились, поддерживая свою жизнь.
К.А. Идрисов обследовал 508 семей (1935 человек), проживающих в Чечне. 69,5 % из них были психотравмированы из-за боевых действий. В 31,2 % случаев психотравм развился посттравматический стресс. От него чаще и сильнее страдают женщины [Идрисов К.А., 2003. с. 445-449].
По мнению чеченских психиатров и психологов, в разные периоды «чеченской войны» до 90% жителей Чечни стали не-вротизированы и психопатизированы (надеемся — эта цифра преувеличена). Мной названо такое состояние «чеченским стрессом». Наши многолетние исследования показали, что его главные проявления — это (а) отчаяние из-за долгих безысходных всеобщих несчастий, (б) частое острое горе, переживаемое над убитыми близкими людьми, неизбывное горе памяти о них и (в) мучительная, иссушающая душу и тело тоска из-за попранной чести горцев, из-за поруганной и разрушенной родины.
Жуткий, до сих пор не изученный и не понятый феномен реализовался в Чечне — «дети чеченской войны». Они родились во время войны, росли, окруженные людьми с «чеченским стрессом». Они не знали спокойной, мирной, нормальной жизни. Невозможно было представить их душевного состояния, когда среди них вдруг возникла эпидемия «таинственной болезни» с удушьями, судорогами, ужасом и истерикой.
Может показаться странным, что высококвалифицированные чеченские психологи и психиатры, а таких немало, учитывая психо-социальное напряжение в Чечне, не обратили внимание на массово-истерические особенности болезни чеченских детей: на характерные для истерического невроза симптомы и на то, что почти все заболевшие были девочки и женщины, а ведь это характерно для «эпидемий истерии». Но есть объяснения такой «невнимательности» чеченских специалистов. Последнее десятилетие с ужасами и героизмом гражданской войны обострило этническую гордость чеченцев, обострило их чувствительность к престижности поступков, мнений, к достойному и недостойному поведению в беде и в горе. Представление о престижности распространялось на стойкость раненых и больных, и на интерпретацию болезней. Потому хотя уже 21 декабря врачи сообщили, что «отравленные дети бьются в истерике», но тут же слово «истерика» было, как непристойное, отброшено, его не использовали потом ни в каких сообщениях; акцент ставился на «отравлении» как причине болезни детей.
Действительно, разве могут гордые горянки биться в истерике, как какие-то худосочные барышни? А вот быть зверски отравленными злобными врагами — это достойно! Социальная, национальная гордость — мощный фактор, формирующий массовые процессы в обществе и индивидуальные поступки. Особенно ярко это проявляется в этносах, переживающих общий стресс с горем и героизмом. Эта защитная психологическая установка, видимо, стала основной причиной ошибочного диагностирования массовой болезни чеченских детей в декабре 2005 г
Но вернемся к ее эпидемическому распространению в Чечне. За двое суток после первых сообщений об «отравлении» детей заболевание распространилось на ближайшие селения. Школы, где были заболевшие, временно закрыты и взяты под охрану милицией. Местное телевидение показывало конвульсии и крики детей. На интернет-сайте «незаконных чеченских сепаратистов» появилось шокирующее сообщение, что якобы «причиной отравления детей в Шелковском районе является радиация, целенаправленно распространяемая российскими властями с целью ликвидации чеченского генофонда... и преднамеренные экологические загрязнения ... с помощью специальных приборов для массового поражения детей в местах их скопления, особенно в образовательных учреждениях» (РИА «Новый регион». 26.12.2005 г. 8:22).
Несмотря на то, что никаких следов отравляющих веществ и радиации не обнаружено ни в школах, ни в селах, ни вокруг них, все же 20 декабря заболевшие с симптомами все той же странной болезни были уже в разных отдаленных селах Чечни: болели 43 девочки, 6 женщин и только один мальчик.
Вот как описывает болезнь своих дочерей Айзан Асхабова: «Во время школьной линейки первой упала Динара. Ей стало плохо, она потеряла сознание. По словам Динары, она почувствовала запах, напоминающий "Белизну" (бытовой отбеливатель). Появилось удушье. Затем то же самое произошло с моей дочерью Заретой. После этого дочь стала реагировать буквально на все запахи. Обострение происходит от дезодорантов, духов, т. е. любых вещей, имеющих резкие запахи. Реагируют даже на цвет таблеток, как будто чувствуют состав этого лекарства. В короткие промежутки времени состояние все время меняется. Приступы начинаются неожиданно. Зарета начинает бредить, потом наступает удушье, боли в суставах, в животе, конвульсивное состояние, как у эпилептиков. Временами появляется отрыжка подобно выделению газов. С момента заболевания, пока ее в больницу не доставили, Зарета не могла ничего проглотить. Все застревало в горле, даже вода. Теперь уже есть изменения, дочь начала понемножку кушать» (ИА RAGNUM. 23.12.2005 г. 17:51).
О заболевании детей в Чечне регулярно сообщали все средства массовой информации России. Президент Российской Федерации заявил: «Если чеченское правительство считает, что республике нужна дополнительная помощь со стороны Москвы по поводу массового отравления и с невыясненными обстоятельствами болезни детей, мы сделаем все, что от нас зависит ... только нужно быстрее понять причину того, что там происходит» (РИА «Новый регион». 22.12.2005 г. 8:07).
21 декабря вечером, когда количество якобы отравившихся было 70 человек, Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что причины массового отравления чеченских детей пока не выявлены [Онищенко Г., 2005, с. 2].
Первые же сообщения о странной болезни чеченских девочек наталкивали на мысль о массовой истерии. Однако только 21 декабря мне удалось сообщить об этом корреспондентке всероссийской газеты «Труд» Светлане Сухой: «Если же говорить о психике, то можно утверждать одно: население Чечни уже давно — по меньшей мере десять лет — живет в состоянии особого массового посттравматического стресса. Он не похож, например, на стресс солдат, вернувшихся с войны. Это особое явление длительного психопатологического состояния, в котором живут тысячи людей. Я называю это "чеченским стрессом". Мне не раз приходилось работать в Чечне, знаю там многих медиков. Некоторые чеченские психиатры полагают, что более 90 процентов населения страдают от посттравматического стресса. На этом фоне очень легко могут возникать массовые истероидно-стрессовые состояния — некая форма массовой истерии, которая была хорошо известна во времена Средневековья и проявлялась то как охота на ведьм, то как кликушество. Судорожные состояния очень похожи на "пляску святого Витта", которая тоже случается во время истерических приступов. Важно и то, что большинство пострадавших —девочки и женщины. А ведь хорошо известно, что истерия — преимущественно женская болезнь. К сожалению, особых поводов для возникновения таких истерических состояний искать в Чечне не приходится — там то и дело происходят кражи людей, взрывы или убийства» [Китаев-Смык Л.А. (ред. СМ. Сухая), 2005]. В тот же день наше мнение было сообщено Светланой Сухой Главному санитарному врачу России Г. Онищенко, а 22 декабря доложено им Президенту России. И все же, будучи санитарным врачом, Г. Онищенко не точно сформулировал диагноз заболевания чеченских детей как «псевдоастматический синдром психогенной природы или массовая социогенная болезнь» (ИА REGNUM. 22.12.2005 г. 16:22). Ведь известно, что псевдоастматический синдром не бывает массовым. А вот истерический невроз может быть массовым у больших (и у малых) групп людей, изнуренных психотравмами.
Надо заметить, что в настоящее время в некоторых психиатрических направлениях пересматриваются представления о сущности неврозов, меняются толкования этого вида расстройств; в связи с этим нет определенности при наименовании неврозов, в частности их истерических форм. Некоторые психиатры, утверждающие, что неврозы могут быть только у сложившихся, взрослых личностей, что у детей (даже великовозрастных) не может быть истерии. Однако, в экстремальных достаточно длительных условиях существования происходит достаточно быстрое, раннее взросление и иногда с формированием травмированной личности. В связи с этим сейчас не преодолены затруднения в выборе наименований для тех или иных невротических расстройств. «Преходящие диссоциативные (конверсионные) расстройства, возникающие в детстве и в подростковом возрасте» описаны в МКБ-10, рубрика F 44.82, а такие расстройства у взрослых — в F 44.88. Мы и дальше будем использовать принятую в российской патопсихологии (и психиатрии) традиционную терминологию.
В те дни по Чечне разнесся «кошмарный слух, якобы создано какое-то специальное оружие, которое поражает только женский организм» (ВВС Russian.com. 22.12.2005 г. 14:37). И уже на следующие сутки «несмотря на прогнозы спада заболеваемости, количество больных стало расти быстрее, чем в предыдущие дни» (Газета.ru. 22.12.2005 г. 18:52). Главный нарколог Чеченской Республики Мусса Дальсаев, не отвергая отравление как первопричину детских заболеваний, отметил психогенный характер массового распространения болезни. Он потребовал: «Ситуация утрясется, когда перестанут нагнетать ситуацию средства массовой информации и демонстрировать состояние детей на телеэкранах» (НТВ. 22.12.2005 г. 14:12). В тот же день, 22 декабря, отвергая главенствующую до того версию об «отравлении» детей, главный врач детской клинической больницы Султан Алимхаджиев после консультаций с психиатрами заявил, что у детей «массовое психическое расстройство. У нас лежат 19 детей, и все вне приступа они совершенно здоровы, — заявил он корреспонденту газеты "Известия". — Приступы повторяются через 2-3 часа. Мы беседовали с многими психиатрами России, и все склоняются к тому, что это массовое явление, связанное с ожиданием каких-то страшных событий. У детей тяжелая психологическая травма от военных действий. Пока рядом с ними находятся родители и психологи, все в порядке. Но если у кого-то начинается приступ, его подхватывают и остальные» (РИА «Новый регион». 22.12.2005 г. 11.58). В сообщении детского врача названы причины эпидемии — «военные действия, невротизи-ровавшие детей», и описан процесс психологической индукции, конверсирующий истерические приступы.
Дальсаев поддержал его, сформулировав диагноз: «псевдоастматический синдром психогенной природы или массовая социогенная болезнь» (Время новостей. 23.12.2005 г. 11:33).
Возглавивший прибывшую в г. Грозный медицинскую комиссию психиатр Зураб Кекелидзе, конечно, видел неполноту вышеприведенного диагноза. Но как опытный врач и талантливый психолог, знающий особенности северокавказской ментальности, понимал, что не надо упоминать слова «массовая истерия» и «истерический невроз», т. к. это будет травмировать этническую гордость чеченцев, имеющих обыденное осуждающее мнение об «истерии», «истерике». Чтобы психиатрически точно сформулировать диагноз массового заболевания детей в Чечне, он заменил термин «истерический синдром», указанный нами, на выражение «конверсионный синдром», также используемый для обозначения истерической формы невроза.
Истерия относится к психическим конверсионным болезням (от лат. konversion — переворот, подмена), при которых происходит как бы замена одних симптомов, прямо вызванных заболеваний, другими, не связанными с болезнью, но наиболее адаптивно-защитными, т. е. «полезными» для человека в сложившейся экстремальной ситуации. Так, если у первых заболевших школьниц была, например, обида на несправедливость, но они знали, что протест бесполезен, то у предрасположенных к истерии девочек мог начаться протестный истерический припадок, с удушьем, судорогами, воплями и вегетативным кризом. Первые заболевшие «заражали» (индуцировали) и других детей, страдающих долгие годы (вернее, всю свою жизнь!) от психотравм чеченской войны.
Внешние манифестированные проявления (симптомы) истерии, как указывалось выше, чаще случаются у женщин, тем более у девочек. Е.Г. Дозорцева с соавторами обнаружила значительные тендерные различия посттравматического стресса у детей: «В отличие от мальчиков, последствия психологической травматизации у девочек охватывают не только соматическую сферу, но и более широкие эмоционально-личностные структуры» [Дозорцева Е.Г., Калачев М.А., Макушкин Е.В., Терехина С.А., 2005].
Мужчины страдают истерией «скрытно», у них симптомы не демонстративны и переживаются «внутри», конечно, травмируя психику.
Особенности психологического состояния больных девочек и их душевный настрой характеризует один случай. Известный по всей Чечне исполнитель патриотических песен Ваха Умархаджиев организовал свой концерт в детской больнице, чтобы подбодрить «отравленных». Их реакция при первых же песнях была неожиданной: девочки кричали, рыдали, возмущались певцом, у некоторых возобновились припадки удушья. Они, негодуя, прогнали Ваху: «Уходи! Нам не нужны твои песни». Концерт был сорван [Маринин М., 2005, с. 4]. Почему случилось такое? Потому что шлягеры Умархаджиева очень стеничны и агрессивны, их боевой ритм и страсть исполнения призывают к борьбе, возвращают слушателей в опасность. Такое пение восстанавливает у чеченских мужчин этническое представление о себе, как о победителях, поколебленное за 15 лет войны. Однако агрессивный, будоражащий душу настрой песен оказался неприемлем, нетерпим психикой девочек, изнуренной посттравматическим стрессом. Тем более что женская душа (психика) во многом антагонистична мужским идеалам ярости сражений и самоотверженности побед. Услышав песни Умархаджиева, дети, начинающие выздоравливать, вновь оказались среди психотравмируюших звуков войны и бурно отвергли бравурную агрессию.
Итак, окончательный диагноз массового заболевания чеченских детей: «конверсионный судорожный синдром» (ИА REGNUM. 23.12.2005 г. 19:51). Доктор З.И. Кекелидзе отметил массовый эпидемический характер болезни: «У пострадавших зафиксирован эффект психологического заражения. Это когда одному человеку плохо, то передается другим, сначала обморочные состояния, затем судороги». Кекелидзе особо подчеркнул, что «нужно разработать концепцию психологической и социальной реабилитации всего населения республики. Без этого ни о какой реабилитации, психологической интеграции речи быть не может» (там же).
Неизвестна причина, спровоцировавшая припадки у четырех девочек, заболевших первыми 16 декабря 2005 г. Вряд ли можно достоверно ее узнать. Возможно, был правСалтан Алимхаджанов, предполагая, что «психогенный фактор мог лишь спровоцировать рост заболеваемости, но не стать первопричиной. Заболевание детей явилось следствием воздействия неизвестных веществ, но ежечасный рост числа заболевших уже являлся психогенной реакцией, вызванной страхом заболеть. В мировой практике подобные случаи известны» (Газета.ru 22.12.2005 г. 18:52). Менее яркие и не столь многочисленные заболевания, как в Чечне, были в Армении во время землетрясения в г. Спитак в 1989 г., в Америке, во время природных и техногенных катастроф в 2001-2002 гг., в Швеции, где беженцы пережили стресс.
Возможна и другая причина психогенной эпидемии в Чечне. Любая, казалось бы, незначительная психотравма (обида, ссора, плохая отметка, порицание учительницы и др.), тем более очередная семейная трагедия из-за терроризма, — все они могли спровоцировать истерические припадки у чеченских детей, с их постоянно (всю их детскую жизнь!) травмируемой психикой. «Психогенные расстройства нередко развиваются под действием только повторных психотравмирующих событий, — писал признанный авторитет психиатрии В.Я. Гиндикин с соавторами, — этот феномен был обозначен А.Д. Сперанским как "второй удар" и в дальнейшем подчеркивался многими авторами (Гиляровский В.А. 1946 и др.) как очень важный фактор в развитии психогений. Повторная травма расценивалась как "капля, переполняющая чашу", даже если сама по себе она была и не значительной. При повторных психогенных травмах первая из них как бы подготавливала почву для возникновения реактивных состояний» [Гурьева В.А., Гиндикин В.Я., Макушкин Е.В., 2005, с. 48].
Б. Средневековые массовые конверсионные болезни.
В нашем сообщении корреспондентке газеты «Труд» Светлане Сухой (см. выше) мы сравнивали массовую истерию детей в Чечне с эпидемиями истерий в средневековой Европе. Насколько правомерно такое сравнение?
Описанию средневековых эпидемий демономании и истерических припадков у женщин, вовлеченных в эти эпидемии, посвяшены горы литературы [Ли Г.Ч., 1911-1912; Бич и молот: охота на ведьм в XVI-XVIII вв., 2005 и др.]. Чтобы хоть немного приблизить читателя к представлению о демономаниях Средневековья, приведу описание одного события в капитальном труде Чарльза Мак-Кая, изданном более 150 лет тому назад. «Редкостный случай повального страха перед ведовством произошел в 1639 году в Лилле. Набожная, но не совсем психически нормальная дама Антуанетт Буриньон открыла в этом городе школу для девочек. Однажды, войдя в классную комнату, она вообразила, что видит большое количество черных ангелочков, витающих над головами детей. Не на шутку встревоженная, она рассказала об этом ученицам и велела им остерегаться дьявола, чьи бесы парят над ними. Глупая женщина повторяла эту историю изо дня в день, и сатана с его слугами стали единственной темой для разговоров не только между девочками, но и между ними и учителями. Вскоре одна из учениц сбежала из школы. Когда ее вернули обратно и допросили, она сказала, что не убегала, а была унесена дьяволом и что она — ведьма с тех пор, как ей исполнилось семь лет. Услышав это заявление, некоторые другие школьницы стали корчиться в судорогах, а придя в себя, признались, что они тоже ведьмы. В конце концов все они, в количестве пятидесяти, запудрили друг дружке мозги до такой степени, что сделали коллективное признание в ведовстве и поведали, что посещают домданиели, или сборища демонов, летают по воздуху на помелах, лакомятся плотью младенцев и могут проползать через замочные скважины.
Жителей Лилля эти разоблачения поразили. Духовенство поспешило начать расследование; многие священники, надо отдать им должное, открыто заявили, что все это дело не стоит выеденного яйца, — многие, но не большинство, которое энергично настаивало на том, что признания детей имеют законную силу и что нужно сжечь их всех как ведьм в назидание другим. Несчастные родители со слезами на глазах умоляли следователей-капуцинов сохранить жизнь их юным чадам и настойчиво утверждали, что те — не ведьмы, а жертвы ведовства. Это мнение в конечном счете и одержало верх. Антуанетт Буриньон, вбившая детям в головы абсурдные и опасные мысли, была обвинена в ведовстве и допрошена следственной комиссией. Обстоятельства дела представлялись настолько неблагоприятными для нее, что она решила не дожидаться повторного допроса. Изменив, насколько это было в ее силах, внешность, она поспешно убралась из Лилля, избежав преследования. Останься она в городе еще на четыре часа, ее сожгли бы по приговору суда как ведьму и еретичку. Остается надеяться, что она, независимо от дальнейшего местопребывания, осознала всю опасность вторжения в неокрепшие детские души и что ей больше никогда не доверяли работу с детьми» [MckKay Charles, 1841; Маккей Ч., 2003, с. 651-652].
Известный исследователь женской истерии профессор A.M. Свядощ, опираясь на учение В.М. Бехтерева [Бехтерев В.М., 1921], высказывался против распространенной оценки средневековых демономанических эпидемий как массовой истерии: «При истерии больные скорее могли бы отправить на костер инквизиции ненавистных им лиц, обвинив их в колдовстве, чем попасть самим. Утверждение некоторых авторов, что среди примерно 9 миллионов сожженных на кострах инквизиции большинство составляли больные истерией, является, по нашему мнению, явно ошибочным» [Свядощ A.M., 1997, с. 167]. Конечно, Свядощправ, не все казненные были истериками и истеричками, возводившими на себя напраслину: будто они слуги дьявола. Многие были сожжены, повешены, колесованы, обвиненные мстительными врагами, завистливыми соседями и психопатами. Тогда массы легко поддавались повальному ужасу перед кознями дьявола, ведьм и колдунов, насылающих чуму и неурожаи, и требовали наказания всех, подозреваемых в колдовстве; и их поддерживала в этом церковь. В те времена была известна поговорка: «Свирепость какого льва, какого тигра сравнится с неправедной яростью набожных?» [MckKay Charles., 1841; Маккей Ч., 2003, с. 650].
В. Женская предрасположенность к истерии. Но почему огромное большинство казненных по приговорам инквизиторов были женщины? Почему многие женщины сами оговаривали себя? Зачем извивались в судорогах, рычали как звери, якобы околдованы?
Чтобы ответить, надо напомнить, что из-за частых войн, эпидемий, голода и большой смертности детей, дорогих сердцу матери, из-за осо бенностей культурного, политического, демографического развития общества во времена Средневековья во многих странах Европы жизнь женщины была трудной, и становилась причиной массовых женских неврозов. Естественно, форма истерических припадков соответствовала «моде» того времени, и прежде всего «моде» на пристрастие к «борьбе с дьяволом». Одни истерички и психопаты истово искали и убивали колдунов и ведьм. Другие представляли перед всеми свою одержимость дьяволом, какпричинутрудной жизни. Итут уж женская художественная, творческая натура, не сдерживаемая ни сознанием, ни волей, превращала, конверсировала сексуальную угнетенность в псевдовоспоминания (конфабуляции) своих дьявольских сексуальных оргий.
Таким странным был «феминизм» Средневековья с имитацией особого, исключительно женского права на сношения с дьяволом, на волшебно-ведьминскую сущность женщины. Борясь с «мистическим феминизмом», их живьем сжигали на кострах. Так были ли они истеричками? Разве могла быть «полезной и желательной» смерть в мучениях? Могла, и не мало для кого. Истерическая жажда признания людьми себя как значимой личности, делало костер «полезной» для этого сценой. Потребность в драматичной нетривиальности жизни превращала казнь в событие, кажущееся истерику «желательным». Да и чужая боль, мучения других казнимых не будили сопереживание у истерических натур. А своя собственная боль, пока ее нет, отторгалась как то, что не может случиться. И только попав в пыточные камеры, несчастные «ведьмы» понимали весьужас случившегося, но было поздно: их отказ от прежних признаний в соитиях с дьяволом истолковывался судьями как его же козни.
Итак, во-первых, в демономанических эпидемиях женская истерия, конечно, занимала значимую часть. И второе, индуцирование, «заражение» демономанией легче происходит среди невротиков. Яркая, влекущая эмоциональность ведьм индуцировала еще и многих здоровых женщин. Таким образом, массовые измененные психические состояния можно расценивать (диагностировать) как эпидемии истерии, в распространении которых психическое индуцирование, прежде всего невротиков имеет решающую, главенствующую роль.
Г. Трудности дифференциальной диагностики конверсионных заболеваний. Но вернемся к приступам «странной болезни» чеченских детей и спросим, зачем возникают удушье, судороги, отрыжка, обморок, страх и др. Обломки, фрагменты каких защитных действий в них проявляются? Какой смысл в этих, казалось бы, бессмысленных действиях? Обморок — это пассивная оборонительная реакция, «тотальный уход» от неизвестной или неодолимой опасности (см. 2.1.5). Страх — эмоциональное сопровождение обороны и бегства от угрозы. Отрыжка может быть фрагментом рвоты — защитного выбрасывания съеденных ядовитых продуктов или токсических метаболитов (см. 3.1.4.Г). Но есть ли оборонительное предназначение в судорогах и удушье? Судорожное движение ног и рук (в Средневековье их называли «пляской святого Витта») — это элемент несложившихся (рассыпавшихся) оборонительных движений руками и «бега от врага». Краткие приступы удушья могут быть судорожно задержанными рыданиями, т. е. тоже реакцией, зовущей на помощь, при стрессе отчаяния. Итак, во всех проявлениях истерических припадков у чеченских детей видны фрагменты защитно-оборонительных действий.
Конечно, психогенная эпидемия, в Чечне в декабре 2005 г. лишь отчасти сопоставима с массовыми психозами Средневековья. В Чечне она стала возможной и даже неизбежной из-за общей психотравматизации населения чеченской войной и ее последствиями.
Надо учитывать еще один фактор, способствующий превращению одиночных истерических приступов в массовые «заражения» этим заболеванием. За годы войны у чеченцев возник тендерный кризис, из-за которого патриархальная роль мужчин была поколеблена. Мной неоднократно публиковались результаты исследований этого феномена в Чечне как социальной болезни [Китаев-Смык Л.А., 2001; 2004]. Тендерный кризис нарушал роль мужчин, как победителей любого врага, любого несчастья. Из-за этого женщины-чеченки как бы «всплывали» на роли защитниц, «отбивающих» у солдат своих мужчин во время «зачисток», а женщины, оставшиеся без мужчин, матриархально управляли хозяйством, становились неформальными лидерами в местных органах власти. И вот чеченские врачи и психологи не смогли противостоять такому «матриархату» — печальному следствию войны, не смели отбросить яростно отстаиваемую женщинами-матерями не подтверждаемую, но «почетную» версию «отравления» детей как причину таинственной болезни с судорогами и удушьем.
Врачи, лечившие «истерию» в Чечне, оказались перед дилеммой. С одной стороны, надо было избавить заболевших людей от частых психотравм, «обыденных» в этом регионе, т. е. вывести их для лечения в нормально-спокойной местности. Однако, с другой стороны, лечение в благополучных условиях и особенно повышенное внимание там журналистов удовлетворяло так называемые рентные потребности, свойственные больным истерией. Хорошо известно, что это не вполне осознаваемые ими обусловленные болезнью претензии на льготы, субсидии, пособия, пенсии и т. д., т. е. на «ренту»,. Если идти «на поводу» у рентных тенденций, это ведет к рецидиву истерии и к формированию невротической личности. Действительно, у детей, возвратившихся домой, в Чечню, после санаторного излечения, возникали рецидивы болезни. Не желая этого, их провоцировали матери. Объединившись в «комиссии» и «комитеты», некоторые из них настаивали на том, что их дети «отравлены» и требовали дальнейших расследований и финансовой помощи Чеченской Республике.
В соответствии с важнейшей закономерностью рентных конверсионных (истерических) болезней, их рецидивы были тяжелее, мучительнее, чем первичные невротические расстройства: «Некоторые дети, проходившие реабилитацию в санаториях в
Ставропольском районе, чувствуют себя гораздо хуже. Теперь, как рассказывали родители пострадавших, во время приступов у детей из носа течет кровь, чего не было раньше. У тех, кто не проходил лечения в Ставрополе, подобные явления не наблюдаются» (РИА Новости. 21.02.2006 г. 11:22). Врачебные наблюдения подтверждали, что рецидивы протекают тяжелее. При этом основную причину возобновления болезни врачи и психологи видели в нагнетании панических страхов средствами массовой информации (там же).
Здесь еще раз напомню, что конверсионный синдром с его рентными тенденциями формируется, в основном, подсознательно. Страдающие люди, тем более, дети, не понимают, полностью не осознают того, как их подспудные желания формируют симптомы болезни.
Д. Этапность конверсионных, индуцированных расстройств. При массовых рецидивах конверсионного синдрома проявляется еще одна его закономерность. Будто для поддержки первых заболевших «выступает», начинает болеть с той же симптоматикой «второй эшелон». В Чечне уже в начале 2006 г. «второй волной» заболевших стали в большинстве взрослые женщины: 23 февраля с симптомами «отравления неизвестным веществом» в больницу доставлены 6 учительниц, уборщица и 4 ученицы школы станицы Старо-Щедринская (ИД Коммерсант. 23.02.2006 г. 22:29). Заметим упорство, с которым причиной таинственной болезни СМИ продолжали называть «отравление», и то, что оно случилось в ритуальный День борьбы за независимость Чечни (а этот же день был праздничным Днем Российской армии, воевавшей с чеченскими повстанцами).
Однако конверсионное (истерическое) заболевание, формируемое глубинами сознания, у женщин, болевших «второй волной», побуждается стремлением поддержать несчастных, раньше заболевших детей. И термин «рентная болезнь» — условное выражение, не усматривающее стремления к материальной выгоде заболевших. «Пусть на нас обратят внимание, чтобы хоть чуть-чуть улучшить нашу трагическую жизнь», — вот что лежит в подсознании страдающих массовым конверсионным синдромом в Чечне.
Таким образом, распространяющаяся истерия стала лишь очевидной вершиной айсберга массовой невротизации населения после трагических 12 лет войны, террора, разрухи и безнадежности.
Обратим внимание на то, что эпидемиям предшествуют краткие, локальные «вспышки» этого невротического заболевания. Оно бывает слабо, не ярко выражено и охватывает не многих людей. Если не обращать должного внимания на такие «предтечи» эпидемий истерии, то ее вспышки с каждым разом будут вовлекать все большие массы людей, все ярче страдающих. Такими предтечами в Чечне в сентябре 2005 г. были заболевания школьниц в станице Старо-Щедринской. Но там не обратили особого внимания на судорожные приступы с затрудненным дыханием, расценив их как некие банальные отравления неизвестно чем. Массовый истерический феномен «затаился» и более массово и ярче проявился в декабре того же года в нескольких станицах. Надо сказать, что декабрьский рецидив, подробно описанный выше, следует оценивать как очередную предтечу большой эпидемии конверсионных (истерических) заболеваний. Если бы он не был диагностирован и не приняли бы должных мер для его купирования, то эпидемия истерии захватила бы весь регион, перебрасываясь в соседние.
В заключение этого раздела рассмотрим этапность динамики эпидемически распространяющихся индуцированных расстройств. Конечно, это один из вариантов такой динамики.
1. Главным условием их распространения оказывается то, что в регионе, где они, возможно возникла и долго длится (месяцы, годы) эмоционально напряженная обстановка, невротизи-рующая население. Ее причиной может быть социально-политическая либо военная, экономическая или религиозная ситуация.
2. На ее фоне происходит локальное нагнетание эмоционального, морального и когнитивного напряжения (жуткие слухи, «поиски врагов», возмущенные толки и т. п.).
3. Это приводит к разделению властных и силовых групп общества, имеющих разные цели и методы удержания власти. Они оказываются в противостоящих лагерях, что еще более усиливает накал эмоционального напряжения в регионе.
4. Из невротизированного населения выдвигаются активные истерики и психопаты (мужчины и женщины), стимулирующие (индуцирующие) массы на «решительные» действия. Их лозунги: «Мы все на бой пойдем... и, как один, умрем в борьбе за это!». Одновременно немало пассивно фрустрирующих невротиков «затаиваются», «уходят» от участия в социальных инициативах под лозунгом: «Моя хата с краю». Это не спасает их от невротического развития личности.
5. Наиболее слабые и ущемленные стрессом люди оказываются в состоянии запредельного, но поначалу скрытого эмоционального перенапряжения. Казалось бы, терпеливо-спокойные, они еще не подозревают, на какие бурные протесты способны.
6. И вот тут любой эмоциональный стимул, малозначимый в спокойной жизни (ссора, обида, грубое слово или необычное происшествие) может стать толчком, запускающим общественный взрыв, охватывающий массы.
7. В таких ситуациях женщинам свойственны истерические (конверсионные) припадки, мужчины склонны к «бунтам бессмысленным и беспощадным».
8. В них, в первую очередь, индуктивно вовлекаются истерики, затем авантюрные личности, потом прагматики в надежде получить свой «навар» от общественного кипения.
9 Еще до локальных взрывов (и тем более, когда они начнутся) ими, их людской мощью пытаются воспользоваться в своих целях политики, «общественники» всех мастей и силовые структуры.
10. Если не купировать локальные вспышки истерии интенсивными медицинскими и административными мероприятиями, то возможна обширная эпидемия конверсионных заболеваний.
Е. Кратко о купировании конверсионных расстройств.
Что можно рекомендовать при массовых проявлениях (приступах) конверсионного (истерического) синдрома? Во-первых, лечебные процедуры.
- Медикам хорошо известно, что истерические приступы часто успешно прекращаются (купируются) несколькими шлепками по щекам. Не сильными, но обидными. Возможно такой медицинский способ был невозможен по законам адатов (по обычайным законам) горцев Чечни. Такое тактильно-шоковое воздействие не всегда бывает успешным.
- Но возможен и другой способ быстрого купирования истерии. При первых приступах удушья, судорог и др. надо сидящего человека наклонить вперед (чтобы произошел полный выдох) и мягко прикрыть ему рот и нос (пока он активно не воспротивится этому). Гиперкапния, т. е. накопление углекислоты в организме больного, купирует приступ.
~ У горцев издавна практиковался еще один способ прекращения истерии. Уважаемый немолодой чеченец должен войти в больничную палату и решительно пристыдить больных истерией: «Расходитесь по домам, больше не ведите себя так недостойно».
Во-вторых, медико-административные мероприятия.
- Не следует акцентировать внимание истероидных больных на «исключительности», «опасности» и «престижности» их заболевания.
- Надо оградить их от представителей СМИ, ссылаясь на врачебную тайну их болезни.
—Нужна психотерапия и разъяснительная, просветительная работа с родными и близкими заболевших.
—Такие эмоциогенные медицинские мероприятия, как капельницы для вливания лекарств, часто нежелательны, чтобы не провоцировать у заболевших ощущения своей исключительности.
- Поездки в престижные санатории могут усилить рентные тенденции больных.
В-третьих, без общего психологического, культурологического, социально-политического и экономического оздоровления всего населения региона невозможно предотвратить новые рецидивы массовых конверсионных заболеваний. Только своевременное диагностирование и массовое лечение купируют эпидемически индуцируемое конверсионное заболевание (истерию).Для предотвращения таких эпидемий необходимо психологическое, экономическое, политическое оздоровление региона.
Приведенные выше рекомендации и их обоснования были оперативно опубликованы в Интернете (www , intelligent.ru). чтобы помочь врачам и администрации Чеченской Республики, «погасить» там в зачатке эпидемию конверсионных (истерических) болезней.
Однако с апреля 2007 г. приступы конверсионных заболеваний начали возникать у девушек школьного возраста в соседней с Чечней Ингушетии. Главной причиной, как и в Чечне, было нарастание политической напряженности и террористические акты. «Мы выяснили, что приступы начались после того, как ребята узнали об убийстве русской учительницы, — рассказала корреспондентке "Новых Известий" лечащий врач девочек, отказавшаяся представиться. — Их организм давал сигналы о нервной истерии, а в основном они были здоровы» [Наздраче-ва Л., 2007, с. 6].
Пресса не смогла удержаться от нагнетания эмоциональной напряженности у читателей. Сообщение о врачебно-установленной истерии газета публикует под названием: «На нас ставили опыты», набранном очень большими буквами над фотографией трех печальных ингушских девушек. И в тексте того сообщения педалировались выражения «загадочная болезнь», «непонятные приступы», тогда как симптоматика, описанная в этой же статье, указывала на определенный диагноз — посттравматический истерический невроз: «Вчера в Ингушетии пошли учиться девушки, которые полгода провели на больничной койке с загадочным синдромом, выявленном первоначально у детей в
Шелковском районе Чечни. Сестры Заира и Малина Гайдаровы, а также еще их десять одногруппников в апреле этого года попали в реанимацию с непонятными приступами. Все поочередно теряли сознание, закатывали глаза, а некоторые бились в конвульсиях. Врачи долго не могли поставить диагноз — одни были уверены, что подростков отравили газом, другие утверждали, что это проявление коллективного истерического невроза. Припадки у ребят продолжаются до сих пор... Они уже научились предугадывать наступление коллективного приступа: "Сначала темнеет в глазах, потом судорогами сводит ноги, а дальше я проваливаюсь и ничего не помню, — рассказывает "Новым Известиям" Ма-дина. — Если же рядом со мной находится моя сестра, то и она теряет сознание. Такое случается, когда я переутомляюсь или нервничаю». И там же: «Глядя на нее, трудно подумать, что она периодически страдает странными припадками. Жизнерадостная девушка, улыбаясь, секретничает о мальчиках со своими подругами по несчастью Анжелой и Асей Гореевыми, которых тоже привезли на лечение» [там же].
Цитируемая газета не может уклониться от признанного врачами-психиатрами диагноза, хотя статья наполнена сомнениями в нем, все же цитирует врачебно-обоснованное суждение.
«Я тоже осматривал ингушских детей, у них психическое расстройство, случающееся у субъектов с особой психикой, — заявил «Новым Известиям» заместитель директора Института судебной психиатрии им. Сербского Зураб Кикелидзе. — Стресс является катализатором к развитию болезни. В коллективах, когда возникают расстройства, существует эффект психологического заражения, что и произошло в Ингушетии, а в свое время и в Чечне. При таких заболеваниях очень важно не уйти в болезнь, и в этом должны помочь родственники. Этим подросткам нужен психологический фон и полноценная жизнь» там же].
Добавим, что для этого необходима спокойная, мирная жизнь без экстремизма и терроризма, без нагнетания средствами массовой информации ажиотажа вокруг любого чрезвычайного происшествия.
Массовый тяжкий стресс (дистресс) затрагивает не только ослабленные, беззащитные натуры, как описано выше. У всего населения на территории, охваченной гражданской войной, изменяется психика, и не сразу это заметно. Ниже описаны лишь некоторые психосоциальные проявления стресса, как бы «выпирающие» из «общественного подсознания» этноса, травмированного войной.
5.5.4. Ментальные трансформации при долгом массовом стрессе
В этом подразделе — фрагменты нашей психотерапевтической книги «Стресс войны. Фронтовые наблюдения врача-психолога» [Китаев-Смык Л.А.. 2001]. В ней в беллетристической форме изложены результаты психологических исследований, проведенных мной на второй чеченской войне в 1998-2001 гг. Книга не только «про», но и «для» тех, кто воевал на Северном Кавказе или просто жил там как «мирное население». Ее «психотерапевтические» тексты предназначены для их психологической реабилитации, для профилактики и облегчения посттравматических стрессовых расстройств. Я предлагаю читателю самому «извлечь» психологическую сущность проявления военного стресса, проделав анализ описанных ниже феноменов.
А. Ментальные преобразования у чеченских минеров-подрывников в динамике «минной войны».Факторы, побуждавшие чеченцев к минному террору. Что вовлекало жителей Чечни в «минную войну»?
Чеченцы — мирные и боевики — говорили мне примерно так.
— Во-первых, во время «зачисток» сел и спецопераций нас убивают российские солдаты. Нам надо защищаться. Но не у всех есть оружие. Вот мы и делаем мины-фугасы — оружие простое и надежное.
Вторая причина — нет работы. Соответственно, нет денег, чтобы кормить семью. А за подрывы танков, машин, БТРов тайные «заказчики» платят хоть какую-то «зарплату». Хорошие деньги регулярно получают только в исламских ваххабитских отрядах (джамаятах). Автор этих строк не спрашивал: «Кто платит?» Вопрос глупый и опасный. Опрашивая, наблюдая, используя методы глубинной психологии, можно выявить сверх этих двух и другие психологические обстоятельства, ведущие чеченцев по дороге «минной войны».
Третье, пожалуй, то, что они очень любят мастерить, возиться с механизмами. Сделать что-то новое, — хотя бы фугас — своими руками им приятно. Подручных материалов (снарядов, бомб) для изготовления взрывных устройств российская армия оставляла в Чечне не мало. На много лет хватит.
Четвертое — то. что чеченцы всегда заряжены мужеством воинов и азартом охотников. Быть воином — почетнее. Если бы боевики просто взрывали российские мотоколонны, то психологически уподоблялись бы охотникам, ловящим добычу в капканы. Но «заказчики» оплачивают минный террор лишь при документальном подтверждении: когда, где и кто был подорван фугасом. Для этого отряды чеченцев «вооружены» портативными телевизионными камерами. Оплата — после предъявления кассеты, отснятой во время подрыва российских военных. TV-камера будто стреляет в жертву.
Но быть «будто» воином — не приемлет душа чеченца. Потому боевики стреляют еще и из всех видов стрелкового оружия в российских военных после подрыва.
Убийство врагов возвышает воинов. Чеченцам нравится запе-чатлять TV-камерой свои воинские подвиги. Хочется чувствовать себя в бою не затерянным в кустах у дороги бойцом, а телевизионным героем, которым через несколько дней будут восторгаться тысячи телезрителей.
Перед взрывом на дороге, перед расстрелом оставшихся в живых боевики планируют не только успешность боя. Они «организуют» съемочное пространство. Для них сражение становится художественным процессом с режиссурой съемок смерти «вживую». Подрывник «цивилизуется». Он уже не простой террорист, а «стрингер» (наемный теле- или кинооператор). Он и режиссер, у которого не все «актеры» знают, что их роли — это их судьба, судьба смертников.
Любительские документальные фильмы чеченских боевиков пользуются спросом у многих арабских, да и у западных СМИ. При просмотре этих фильмов гнетущий осадок обыденной жизни городского обывателя, как наждаком, счищает с души.
За время первой и второй чеченских войн горцы познали сладость мировой известности. Кто раньше знал о Чечне? Теперь все знают! Это ли не повод для национальной гордости.
Грохот торжества. Пятым психологическим обстоятельством, влекущим к участию в «минной войне», может быть то, что звук громкого взрыва особым образом влияет на людей. Звуковой «удар» — это одно из немногих физических воздействий, пробуждающих ужас перед обвалом, лавиной, ревущим потоком. Возникает желание бежать, спасаться, обессилев замереть, пережидая гремящую опасность.
Но если грохот тебе подчинен и ты сам «громовержец» и уверен в том, что гром для тебя не опасен, то врожденный страх превращается в экстаз ликования.
Объяснить психологический механизм этого превращения эмоций, позволяет взгляд в прошлое. Почему музыка «Битлз» так быстро была воспринята молодежью почти всех народов мира? Потому, что помимо музыкальных и смысловых достоинств она имела еще две особенности:
—очень громкое звучание;
—ритмичные звуковые «удары».
Теперь это массово использует шоу-бизнес. И в современных кино-залах применяют очень мощный стереозвук, чтобы пробудить у зрителей испуг, сразу же сменяемый радостью. Нередко на таком сеансе текут слезы по смеющимся лицам.
Откуда эта радость? Если опасность миновала — всегда радостно. Если гром предвещает опасность не для тебя, а для кинофантома на киноэкране, если в бою на киноэкране взрывается враг, а не ты, то твой страх, едва начавшись или даже не успев начаться, как бы отменяется твоим подсознанием, т. к. нет реальной опасности, хотя грохот предупреждает о ней. Сигнал о страшном становится вестником победы, дарящим радость избавления от опасности.
Такое переживание приятно и может вызвать пристрастие. Потому что ритмичные удары рок-музыки — это череда отмененных испугов, замещенных «кайфом». Его хочется повторять. Что-то подобное ощущают и террористы-подрывники, повторяя свои громкие акции.
Однажды спросил меня боевик-чеченец:
—Ты, психолог, скажи, почему, когда слышу взрыв фугаса, который я заложил, и вижу, как огнем корежит БТР, почему у меня тогда слезы текут, почему трясут меня рыдания?
—Может быть, ты жалеешь убитых?
—Нет! Я радуюсь и плачу. — Ответил он мне.
После таких «крокодиловых слез» (продуктов переворота-инверсии эмоций) может возникнуть жажда снова и снова слышать взрывы в кинозале или в реальной «минной войне».
Радости подрывника. Итак, у опытного, ловкого террориста-минера, возникает психологический феномен «упятеренной радости»:
—радость мщения;
—радость — удовольствие от мастерски выполненной и хорошо оплаченной работы;
—радость-гордость «киногероя»;
—радостное ощущение себя «человеком мира»;
—радость отмененного страха перед громом, превратившимся в грохот праздничного салюта.
Благодаря такой «комплексной радости» у минных террористов преобладает накал энергичной агрессивности. Этот психологический феномен присущ не только минерам Чечни. Он в ряду психологических причин минного террора, распространяющегося по разным странам. Жаль, что эта грань психологии подрывников не учитывается и не используется в контртеррористических мероприятиях.
Б. Эустрессовые и дистрессовые адаптационно-оргастические ментальные реакции при боевом преодолении ужаса коллективной смерти. Наши исследования показали, что при поездках по Чечне у российских военных формируется своеобразный «минный синдром», состоящий из нескольких психологических комплексов. Их удается обнаружить лишь методами глубинной психологии. Об этих комплексах люди, проносящиеся на броне БТРов, конечно, не думают, как бы не знают. Но психологические комплексы действуют: создают настроение, влияют на поведение, формируют поступки, участвуют в организации боеспособности экипажей бронемашин.
Конечно, психологические комплексы — это условное, научное разделение сложнейшего массива человеческой психики. Ее сложность не постижима, но глубинная психология помогает понимать людей и облегчать им трудные ситуации.
Скорость — оргазм души. Первый психологический комплекс «минного синдрома» — радостное переживание скорости в пути. Наверно, каждый ощущал это в детстве. Наслаждение — быстро мчаться, проглатывая взглядом все новое и новое, несущееся навстречу и быстро уходящее мимо — в прошлое. Скорость рождает радость, экстаз.
Но есть боязнь взрыва мины в пути. Этот страх инвертируется (переворачивается), превращаясь в приятное ощущение; оно поглощается экстазом скорости. Более того, чувства людей на ревущей броне БТРов, танков становятся чем-то похожим на сексуальный оргазм.
Быстро мчаться, плавно качаясь, с каждым метром продляя свою жизнь. С каждой новой минутой она будто зачата заново. Кто зачат? Ты сам, проезжая на броне метры, километры дорогой смерти, даришь жизнь самому себе. Но уже себе другому, пронесенному сквозь смерть. Зачатие себя на каждом метре (с дрожью оргазма рокочущей брони).
Чем война не мужское занятие? Если бы не смерть бойцов-мальчишек, не оставивших потомства, если бы не гибель офицеров, оставляющих сиротствовать детей.
Наверно, то же ощущали древние наездники орды, мчащейся по землям сломленных врагов.
Конь — животное, часть всадника. Конь на скаку стремительно горяч, как и его хозяин-наездник. Кони стремительным галопом рвут пространство. Грохот копыт, как грохот гусениц и танковых моторов, разрывает, ломает надежды врагов на победу, на пощаду.
Проносящиеся на танке, на БТРе солдаты ощущают себя мчащимися на горячем живом существе, чувствуют себя частью живого, броневого динозавра. Рокот мотора заполняет ощущением мощи солдатские существа.
У некоторых опасность минирования дороги привносит привкус сладостной обреченности. Будто будущего нет, а танк несет в небытие. Тут и прошлое становится ненужным и ничтожным.
Психологический комплекс с экстазом от скорости, конечно, возникает не только у военных. Автор ехал в Чечне с двумя журналистами. Чтобы лишний раз не стоять в очереди у российского блокпоста, они хотели проехать, минуя его, окольной дорогой. У чеченок журналисты спросили:
- Не заминирована ли она? Те говорят:
- Может быть, заминирована.
Журналисты, возбужденные скоростью и опасностью поездки, стали кричать:
—Может быть, и не заминирована!
—Раз так— поехали! Если наедем на мину, то при нашей скорости она взорвется под задним сиденьем, под Леонидом Александровичем! Все, что случится, — опишем. Будет журналистская удача!
Возбужденные и радостные, мы трое помчались в объезд блокпоста Ни малейших неприятных ощущении у нас не было. Мы пели и веселились. А автор-пассажир чувствовал себя молодым.
Даешь пространство! Второй психологический комплекс «минного синдрома» — чувство «овладения пространством», остающимся позади. Чувство победы над ним, над Чечней.
Лавина всадников в прошедшие века присваивала, конечно, не только пространство земли. Не убитые враги становились подданными пришельцев или рабами. Дома со всем уютом, еще не разграбленным ордой, уже ее собственность. То же ощущение присвоения пространства у солдат на броне, колесящих Чечню. Это архаическое чувство возникает независимо от того, жаждет ли человек такого «присвоения» или нет.
В этом виде психологический комплекс «овладения пространством» полезен солдату: бодрит, взрослит его, освобождает от страха (это активные, стенические проявления боевого стресса). Но бывает неблагоприятное проявление этого комплекса.
Вознесение. Третий комплекс — ощущение вознесенности над землей Сидя высоко на бронетехнике, солдаты чувствуют себя летящими над дорогой, надломами и жителями Чечни.
Надо отдать должное конструкторам: благодаря оченьхорошей «ходовой части» российских танков, БТРов, они проносятся по камням, пням, через воронки от взрывов плавно и мягко. Солдат на броне не трясет, их не подбрасывает, не клонит в стороны. Плавно несутся они и кажутся себе вознесенными не только над Чечней, но и над «минной смертью».
Что-то похожее испытывают пассажиры огромных туристических автобусов на автострадах. Но туристы в них «вознесены» лишь над дорогой с многочисленными автомобилями, над проплывающими мимо пейзажами, а солдаты на БТРе «вознесены» еще и над смертью.
Пыль дорог. В сухую погоду, в жару пыль брызгами летит из-под гусениц танков, из-под больших колес БТРов. Земля в Чечне из мельчайших частиц. Горячий воздух поднимает их вверх на десятки метров, стеной, облаками пыли. В этих черных облаках призраками чудовищ, отрыгивая солярную гарь, катит бронетехника. У броневых чудищ живые головы, они замерли, нахохлившись. Это головы солдат, сидящих на броне.
И бэтээры, и солдатики на них покрыты слоем пыли. Пятен камуфляжа не видно, их покрыла чеченская земля.
Головы солдат, едущих на броне, до бровей повязаны косынками. Лица до глаз замотаны тряпками или в масках. Все земляного цвета: танки и БТРы, одежда и лица. Автоматы и гранатометы тщательно обмотаны излохматившимися тряпицами, надо уберечь оружие от пыли.
Чеченцы, глядя на российских солдат, проносящихся на броне, ворчали:
- Боятся нас — лица скрывают.
Нет. Солдаты не боятся. Страх вытеснен скоростью и... пылью.
Прапорщик говорил мне:
— Пыль на марше — не хуже дымовой завесы, чеченам БТР почти не виден, из гранатомета или автомата им не попасть в нас.
У солдат и офицеров после многочасовых, многодневных маршей по равнине сквозь пыль она пропитывает всю одежду. Черные тела под черным нательным бельем я видел в солдатской бане. В 15-м полку Таманской дивизии баню «развернули» из специального фургона в лесу, менее чем в километре от чеченских укрепленных позиций в окруженном тогда Грозном. Нет слов, чтобы описать радостных солдат с вениками, выходивших из парилки окунуться в холодном январском ручье.
Рассказывали, что солдатский бушлат б/у (куртка «бывшая в употреблении») так пропитан пылью, что тяжелее нового на 800 граммов. Это значит — солдат носит на себе почти килограмм чеченской земли. У солдат после марша одежда и лица земляного цвета. Волосы на головах торчат земляными клочьями.
Пыль обезличивает. В сумерках бойцы, как движущиеся глыбы земли! Одинаково печальными кажутся их глаза, слезящиеся из-за пылевого конъюнктивита.
Наши психологические исследования показали, что эта обез-личенность — кажущаяся. Когда солдаты стали вроде бы не отличимыми друг от друга, тогда для каждого из них оказались очень значимыми их глубинные психологические особенности: различия мышления и эмоций, манеры поведения, способность подчиняться и подчинять. Став как бы одинаковыми внешне, солдаты начали лучше понимать и ценить друг друга. Быстрее возникала боевая привязанность, тяжелее была потеря погибших.
Под слоем одинаковой пыли психологические и моральные различия стали заметнее. Бойцы стали душевно ближе и дороже друг другу.
Конечно, были и «проблемные личности». Военный психолог, майор МВД Г-ов рассказал нам о контрактнике. Пыль, покрывавшая его в рейсах на бронетехнике, представлялась ему могильной землей, под которой его начали хоронить.
Мнимая гибель. Надо сказать, что «минный синдром» может у некоторых, у немногих людей проявляться в виде неблагоприятной пассивной формы военного стресса: нарастают замедленность и неуклюжесть (неточность) движений; разлаживаются боевые навыки, которые раньше, в неопасной обстановке тренировками были доведены до совершенства; возникает психическая депрессия; частым становится плохое настроение. Таких людей всегда очень быстро укачивает при езде на броне. Их тошнит и рвет (активизируется вегетативная, физиологическая «защита», довольно неуместная в подобной ситуации). Это «помогает» им оправдывать свой отказ от поездок с бронеколонной (и, может быть, спасает от гибели на мине)
Стараясь узнать, изучить переживания таких людей, автор их опрашивал. Один контрактник рассказал:
— Внутри БТРа ехать нельзя: при подрыве — стопроцентная гибель. Сверху на броне тоже ездить не люблю: чувствую себя голым, как ощипанная курица на кухонном столе, когда ее разделать хотят. Потому что в любую секунду чечен пулю в тебя всадит. И при подрыве фугасом — мало не покажется.
Не один он во время езды на бронетехнике чувствовал себя голым у всех на виду, ежесекундной мишенью для пули из автомата любого чеченского мальчишки. Это — неблагоприятная форма психологического комплекса «овладения пространством».
Вместо победного «овладения» пространством — «беззащитность» перед ним. Она заставляет человека съеживаться, бледнеть, вызывает общую слабость, тошноту. Будто бы к этим людям, еще не убитым, подступала смерть, умирание. Но таких людей с пассивной формой военного стресса меньшинство среди едущих на броне. У большинства — радостное воодушевление от скорости и опасности.
«Мнимое умирание» может стать более трагичным, когда человек, спасаясь от гнета страха смерти, вдруг начинает представлять себя умершим, уже прошедшим через ужас смерти. При этом ему может представляться, что другие люди, сослуживцы, товарищи тоже мертвые уже: «Они до меня умерли».
Вот пример. В Чечне, в армейском батальоне заметили, что один недавно бравый офицер после гибели его друзей на мине психологически «сломался»: стал вялым, нелюдимым.
В его еще не отправленном домой письме заметили коллективную фотографию, где над головами офицеров были пририсованы кружочки, как нимбы на иконах. И надписи над ними: «Убит, убит, убит...». Но они ведь были живы!
Офицера подлечили и отправили домой.
Что же с ним произошло? У него была неблагоприятная форма «минного стресса» с опасно-сильным психологическим комплексом «мнимого умирания». Им овладел ужас смерти, чувство тягостное, да еще и постыдное. Такой человек ищет облегчения в общении с друзьями. Но вскоре не только себя, но и их начинает зачислять в обреченные на гибель. Друзья и соратники видятся ему мертвыми; невольно думается: «Пусть я погибну после них!» Возникает психологическая раздвоенность: облегчает, что не первым убит я, но гнетет постыдность этой надежды.
Консультируя этот случай, мы попытались дознаться, почему тот офицер над головами своих мнимо убитых сослуживцев нарисовал нимбы, как над святыми. После ненавязчивых психотерапевтических бесед с офицером выяснилось, что в мыслях у него было, вроде бы в шутку, примерно вот что: «Моих друзей и меня ждет святая смерть, мученическая, за веру в Россию, геройская. Они и сейчас живут святыми, обреченными на гибель. Моя смерть будет запечатана в почтовом конверте вместе с фотографией. Мне осталось жить до того момента, когда письмо вскроют дома. Я запечатаю на время свою смерть». Воттакая самобытная «магия». Это не болезнь, но «болезненное состояние».
Письмо того офицера не было отправлено, а он живым и здоровым уехал домой.
Такое не часто, но случается. А рисование нимбов над головами на фотографиях одно время стало модным в одной воинской части, воевавшей в Чечне. Эта мода быстро прошла.
Недавно в переходе московского метро я слышал, как пел, собирая подаяние, ветеран чеченской войны:
Я убит под Бамутом; а ты — в Ведено. Как Иисусу воскреснуть нам, увы, не дано. Ты прости меня мама; что себя не сберег. Пулю ту, что убила; я увидеть не смог.
Эти слова говорят о смерти автора. Но она не случилась. Ведь он живой поет о себе умершем. Так пел и Александр Галич о Великой Отечественной войне.
Мы похоронены где-то под Нарвой;
Под Нарвой, под Нарвой.
Мы были и нет.
Так и лежим, как шагали — попарно; Попарно, попарно. И общий привет.
Такие песни — психотерапия. Они лишь образно приобщают живых героев к мертвым. И освобождают выживших от чувства вины перед павшими.
* * *
В двух фрагментах из «психотерапевтической» книги, представленных здесь, можно увидеть старания использовать психотерапевтические (и психоаналитические) способы для: (а) уменьшения боевой конфронтации воюющих сторон, (б) облегчения посттравматических расстройств у боевых и мирных участников войны.
Я стремился (во фрагменте А) с позиции позитивной психотерапии:
—показать мирным людям, вовлеченным в войну, наличие у них удивительных этнических ресурсов выживания;
—способствовать повышению самооценки, гордой самореализации для вытеснения страха в, казалось бы, невыносимо опасных условиях жизни.
Во фрагментах Б. и В., наряду с указанными выше приемами, ведущими стали отрицание (denial) и сублимация.
Отрицание — защитный механизм отвергания болезненных переживаний как внутренних импульсов и как части самого себя, своих душевных, психотравмирующих самореализаций. По Зигмунду Фрейду, «отрицание» — реализация «принципа удовольствия» с частичным эмоциональным исполнением желаний.
Отрицание некоторых сторон себя в действительности более сложный процесс» [Райкрафт Ч., 1998, с. 117-118].
Хочу пробудить и усилить у читателей сублимацию защитно-агрессивных, конфронтационных устремлений в творчество самопознания и самолюбования.
Одним из ведущих способов психотерапии, «заложенных» в тексты книги, из которой извлечены приведенные выше фрагменты, должно было быть уменьшение чувства вины, возникшего у военных из-за жестокостей их «боевого героизма», неизбежных во фронтовой обстановке. Жестокости в боях после войны виделись как «военные преступления» многими страдавшими от посттравматических стрессовых заболеваний (см. об этом подробнее в 4.5). Такое инвертированное представление «боевого героизма» провоцировалось «миротворческой общественностью» и средствами массовой информации после многих войн в разных регионах мира.
Важным «примиряющим» фактором стало размещение на страницах моей книги анализа психологических мотивов обеих воюющих сторон, т. е. как бы «разъяснение-оправдание» мотивов их действий [Китаев-Смык Л.А., 1983]. И хотя это вызвало протест и раздражение у некоторых читавших нашу книгу участников войны в Чечне, все же благодаря выплескиванию протестных эмоций снижалась агрессивность конфронтации воевавших. Они проникались пониманием противостоящей стороны.
5.5.5. Роль средств массовой информации в возникновении «посттеррористического синдрома»
«Электронные СМИ каждой страны, предоставляя информацию о теракте населению, конечно же, должны учитывать его особенности. Позвольте обратить ваше внимание на то, что социально-психологические и медико-социальные последствия такой информации, во-первых, развиваются этапно, по фазам своего действия, во-вторых, психологически различные группы населения реагируют не одинаково.
Первой фазой реагирования на информацию о теракте (особенно на яркий, эмоциональный показ и рассказ) у всех всегда была и будет острая заинтересованность в подробностях. У подавляющего большинства — интерес явный, и лишь у некоторых — скрываемый даже от самих себя. Это происходит потому, что опасность смерти всегда мобилизует любого человека, а такая мобилизация не подвержена адаптации.
А вот дальше, на втором этапе, люди делятся на группы (мы даем им условные названия).
Статистических данных о численности этих групп в России пока нет.
—Первая группа — "мужественные" — чувствуют себя хорошо в состоянии посттеррористического стресса и еще более активно выполняют свои профессиональные и житейские обязанности. Таких людей немало.
—Вторая группа — "ушедшие в себя" — стараются игнорировать всю последующую информацию о теракте. Их большинство.
—Третья группа — "тревожные" — напротив, остаются очень заинтересованными этой информацией.
—Четвертые — "психозависимые". Это в основном дети и молодежь. У них возникает интерес к терроризму и подчас неадекватное стремление копировать его, иногда небезопасное. На третьем этапе социально-психологических последствий
теракта (через несколько недель или месяцев) у части населения, в основном у тех, кто старался игнорировать информацию о нем (у "ушедших в себя"), развиваются следующие нарушения здоровья как реакция на опасность:
—психические заболевания: неврозы, реактивные психозы и т. п.;
—соматические болезни: сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные и, что особенно неприятно, имунные;
—усугубляются все уже имеющиеся заболевания.
Таких несчастных десятки и сотни тысяч. Я призвал бы работников массмедиа, информирующих население о терактах, иногда, а лучше — всегда думать об этих тысячах людей.
В свете сказанного позвольте кратко прокомментировать показанные нам клипы израильского телевидения, снятые на местах терактов вскоре после взрывов. Констатация трагических событий показана, я полагаю, очень профессионально, и главное — адекватно современному израильскому обществу. Мы видели изображения крупным планом жертв терактов со следами крови. Эти эпизоды были предельно краткими, но доминировал показ слаженной и результативной работы медиков, спасателей и полиции. Побывав в Израиле по приглашению Кнессета, я ознакомился с исключительно качественной контртеррористической деятельностью этих специалистов. Но замечу, что, по мнению израильских психологов, остроэкстремальные сцены терактов целесообразны для корректного показа в Израиле, т. к. сравнительно небольшое население этой страны состоит в основном из людей с психологической устойчивостью к посттеррористическому стрессу. Люди же, подверженные реактивным болезням из-за терактов, живут вне Израиля и не видят остроэмоциональных клипов, но все же после каждого теракта своей взволнованностью часто блокируют телефонные мобильные системы связи. В России все категории населения одновременно оказываются потребителями репортажей о терактах. Потому "откровенно-эмоциональный" показ жертв терактов (и террористов) в нынешнее время не целесообразен, т. к. для ряда людей он клинически опасен. Это требует от российских электронных СМИ продуманности и координированное™ подачи информации при освещении терактов» [Китаев-Смык Л.А., 2005].
Влиянию сцен насилия и жестокости, отображаемых средствами массовой информации, посвящены несколько тысяч научных исследований. Рассмотрим некоторые довольно убедительные. Обнаружено, что в США сразу после показа по телевидению, «в прямом эфире» чемпионских боев боксеров-тяжеловесов, количество убийств увеличивалось на 12,46 % [Филипс Д.П., 2003]. Анализ этого трагического влияния показал, что демонстрация жестокости провоцирует убийственную агрессивность не из-за «простого повышения азартности, которая вызывает злобу, приводит к дракам и убийству» [там же, с. 228]. Делается вывод: «наиболее приемлемым объяснением является то, что профессиональные бои вызывают некоторое подражательное, агрессивное поведение, которое ведет к росту числа убийств» [там же, с. 229]. При этом замечено, что образ мучительно проигравшей жертвы, показанный по телевидению, порождает агрессию, страсть к убийству похожих на нее людей. Была отвергнута гипотеза, будто бы демонстрация насилия «просто ускоряет свершение убийств, которые все равно должны произойти» [там же, с. 227].
Эти факты, казалось бы, отвергают мнение о том, что «телевидение превратило всех нас в общество пассивных наблюдателей происходящего, создало из нас культуру людей, предпочитающих наблюдать, а не действовать, которым больше нравится следить за игрой актеров на телеэкране, чем самим пытаться что-либо изменить в реальном мире. В отношении же преступности и уголовного судопроизводства телевидение оказывается самым эффективным транквилизатором» [Хани К.. Манциолэти Д., 2003].
Оценивая влияние сцен насилия на TV, надо иметь в виду по меньшей мере два обстоятельства. Во-первых, то, что есть люди генетически, воспитанием и жизненным опытом предуготовленные к активным поступкам. И надо только подтолкнуть их к силовым действиям. Этим толчком может стать сцена агрессии на экране, активизируюшая возмущение, накопленное в душе человека. Конечно же, у ряда людей есть генетическая предрасположенность к пассивности при стрессе. Экстремальные сцены насилия на телевизионных экранах, в прессе и в реальных жизненных обстоятельствах будут лишь погружать таких людей в состояние пассивных наблюдателей. Их страсти, протесты и сочувствие перегорят в них, может быть, в огне заинтересованности чужими злобой и страданием (см. также 5.5.1 и [Китаев-Смык Л.А., 1997, с. 5-12]).
Во-вторых, степень стрессовой подавленности (политической, экономической, моральной) влияет на способность человека активно, действенно не отвечать на призыв к агрессии. При чрезмерной стрессовой угнетенности, даже люди, генетически расположенные к активным действиям, остаются пассивными. Подавленная активность перевоплощается в телесные болезни стресса, соматизиру-ется как сердечно-сосудистые, онкологические и другие недуги. У таких, сломленных жизнью людей, сцены насилия, тем более неотомщенного, увеличивают риск болезней стресса.
Есть еще один аспект «криминологии на телевидении». «Оно вво дат нас в заблуждение относительно причин, толкающих людей на совершение преступлений, и, таким образом, заставляет делать "выводы", которые основаны на неверных предпосылках. Телевидение снабжает нас неверной информацией о наших правах в отношении с полицией и, таким образом, дает ей возможность нарушать и закон, и Конституцию. Телевизионные криминальные фильмы вселяют необоснованную уверенность в справедливости и беспристрастности системы уголовного судопроизводства, делая нас менее способными к объективной оценке, как достоинств, так и недостатков этой системы» [Хани К., Манциолэти Д., 2003, с. 210].
Процитированные выше порочные тенденции в американских СМИ как две капли воды похожи на то, что творится сейчас в российских СМИ. Общность пороков возникла из-за глобального внедрения системы монетаризма, т. е. провозглашение главной ценностью денег — всего лишь символов, а не реальных человеческих богатств: продуктов труда и умений, а также чести и достоинства, которые ценны тем, что создают радость общения и счастья жизни.
Современные СМИ в западных странах и в России из-за негативных сторон европейской цивилизации включены в гротескное «выколачивание денег» из населения с использованием рекламы, которая давит на педаль главного интереса людей — на страх смерти и потребность продлить свою жизнь. Реклама постоянно и безошибочно использует сцены опасности жизни и секса, возбуждая этим внимание и таким образом «принуждая» покупать часто ненужное и не практичное. Но этим пробуждаются еще и низменные рефлексы, обесценивается человечность. Часто современные СМИ идут даже на то, чтобы, казалось бы, развлекательными рекламными программами дебилизировать население [Петровская И., 2005, с. 7].
Терроризм (лат. — terror — ужас) — запугивание людей же-стокостями, испокон веков использовался как один из способов управления массовым сознанием Не брезговали им диктаторы-тираны в своих и завоеванных странах. Террор был и есть оружие революционных и религиозных групп, рвущихся к власти. Создание современных мощных СМИ сделало возможным для террористов быстро воздействовать на население стран и континентов, информируя о своих требованиях- Более того, создавать общественное мнение, влияющее на государственные решения. Некоторые административные, партийные, экономические структуры, провоцируя террористические акты или тайно управляя ими, используют их вопиющую жестокость для мобилизации общественного мнения и давления на своих противников.
Надо сказать, что СМИ как «орудие» террора оказываются намного более «эффективными» в демократических обществах, чем в тоталитарных, благодаря реализации принципов «свободы общественного мнения», «политкорректности», «свободы прав человека», «свободы выражения мнений» и т. п. В связи с этим возникает неразрешимая дилемма, что лучше: жесткий контроль за СМИ с резким ограничением или даже устранением информации о террористах, либо «свобода информирования общественности» (о терроре, его ужасах и требованиях). Полный запрет информации о терроризме лишил бы его смысла и финансовой поддержки. Но в условиях современного глобализма невозможен полный контроль за потоками и ручейками информации, распространяющимися по миру (Интернет, спутниковая связь и т. п.).
И еще, ясен ответ на вопрос, что хуже: терроризм, использующий СМИ и «свободу информирования людей», или запрет такой свободы в тоталитарных государствах. Ведь в них главным орудием управления народом, людьми сразу становился узаконенный государственный террор. Он был страшнее, губительнее, чем противозаконный террор тайных боевых группировок.
И все же неразрешимость указанной дилеммы видна и в Декларации Комитета министров Совета Европы свободе выражения мнений и информации в СМИ в контексте борьбы с терроризмом» принятой 02 03 2005 г на 917-м заседании В ней, с одной стороны, журналистам предложено «отдавать себе отчет в той опасности, какую СМИ и журналисты могут неумышленно создать, выступая в качестве инструмента для выражения расистских и ксенофобических чувств либо ненависти» [Панфилов О., Мельников М., Григорян М. (ред.), 2006]. С другой стороны, в ней же призыв: «воздерживаться от любой самоцензуры, результатом которой было бы лишение общественности информации, необходимой для формирования своего мнения» [там же].
Пытаясь решить, какая же информация «необходима», многие журналисты говорят: «Каждый знает, что ему смотреть на экране телевизора, читать в прессе». Но это либо наивный самообман журналиста, либо ложь. Ведь даже весьма образованные люди (инженеры, педагоги, врачи и др.) хорошо знают добро и зло в рамках своих профессий. Но они далеко не всегда могут понять, добром или злом станет для них информированность о жутком теракте. Да и поможет ли она их жизни, работе?
Картина смерти другого, ужас своей гибели ни за что не становятся привычными. Вид теракта будет всегда привлекать внимание телезрителя. И этим пользуются коммерческие СМИ для возбуждения внимания к терроризму, попутно «скармливая» населению экономически выгодную рекламную продукцию. И государственные СМИ привлекают к себе внимание электората во время предвыборных кампаний, «раздувая» антитеррористическую истерию.
Выше представлен ряд феноменов, характеризующих массовый стресс в «очаге горения», там, где на население воздействуют опасные и даже смертельные стрессоры. Но в наше, как принято говорить, сложное, трудное время экстремальным влияниям подвержено, так или иначе, все население страны. И можно заметить симптомы «заболевания», поражающего общество. Как любые симптомы болезни, они еще и сигналы-свидетельства борьбы (или только протеста) против социальных болезней и экстремальной действительности.
Рассмотрим один из таких симптомов-свидетельств массовой психолого-социальной «болезни» населения с поражением, прежде всего, его социокультурных основ. Речь пойдет об охватывающей отдельные слои российского общества склонности (потребности ?) использовать сексуальную лексику (экспериментальные медико-психологические исследования феномена «матерной речи» описаны выше — в 3.2.4 Г и 3.2.5).
5.6. ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ВЛИЯНИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ
5.6.1. Побуждения и пути к матерной лексике
«Матерную атмосферу» в экспериментах и в повседневности можно классифицировать по типам ее происхождения [Китаев-Смык Л.А., 2005].
— скабрезная окраска речи может быть обыденной у тех, кто пользовался ею раньше и всегда;
- матерная речь может неожиданно стать доминирующей в изолированных мужских контингентах во время опасных ситуаций, при боевой обстановке, на охоте и еще — в больничных палатах;
- матерные речь и инвективы (ругательства) — нередко продукт сексуальной озабоченности. Она бывает, в частности, при незавершенности детского «пенис-вагинального» периода [Фрейд 3., 1990];
- акцентуация мышления и речи на вторичных половых признаках обоих полов может быть при психосексуальной недоразвитости личности, претенциозно-агрессивно, истероидно защищающейся от собственного опасения перед сексуальными неудачами;
- реминисцентная матерная речь в критических ситуациях и у больных после травмы как бы всплывает из глубин памяти, когда-либо слышанная;
- конформистски-подстраивающийся мат возникает у личностей, опущенных на нижнюю ступень социальной иерархии;
- демонстративная матерная речь у, так сказать, культурных мужчин — признак снижения у них сексуальной потенции. Они, не осознавая того, во-первых, пытаются восстановить потенцию, стимулируя себя сексуальными парадигмами, во-вторых, инфантилизируются (одитячиваются), делая якобы оправданной игру в запретные слова;
- командный мат — это архаическое, зооантропологическое проявление латентной гомосексуальности как символизации доминирования в стаде среди других особей мужского пола. В стае животных самцы утверждают свое господство иногда не в битве, а гомосексуальным актом;
- убогая нецензурщина восполняет скудность языка при дебиль-ности, как словесными протезами.
5.6.2. Эмоциональная активизация матерщиной
Матерная речь различалась в наших экспериментах и в больничных палатах по эмоциональности:
- наиболее часты два вида ее звучания — радостно-смешливый и боевито-задорный. Их провоцировало естественное снисхождение окружающих здоровых людей к больным-травматикам. При этом право на бодрящие скабрезности «выскальзывало» из-под этических запретов и условностей. Говоря языком психоанализа, оздоравливающая мужская лихость как принадлежность «Я» освобождалась от давления «сверх-Я»;
- агрессивно-защитная матерная речь больных была на пути к такому освобождению «Я» от запретов «сверх-Я». Она прикрывала личностную слабость и неуверенность в себе;
- междометийный мат был у людей с неразвитой речью и заполнял интервалы подыскивания нужных слов и выражений;
- наконец, были замечены случаи эхолалийного мата как спонтанные повторы дебилами вслед за чьим-либо произнесением скабрезности. Ее эмоциональность возбуждала дебила к речевой активности, к участию в беседе. Но т. к. ему нечего было добавить, то он спонтанно повторял слово-возбудитель.
5.6.3. Скабрезная брань как этнический феномен общения
У многих народов (алтайских, индейских, у древних англичан и др.) были мужские и женские разговорные языки. Мужчины, чтобы сохранить достоинство, могли говорить на своем, а женщины использовали женские выражения. Русский мат — это сугубо мужская речь. Важнейшая его особенность — парадоксы суждений, парадоксальные сочетания сексуальности с адресацией ее к обыденной жизни и с характеристиками конкретных людей. Матерная речь — не просто скабрезные ругательства. Это еще и эмоциональная беседа мужчин в критических ситуациях. Исконной матерной речью пользовались в мужских компаниях, и не для того, чтобы обругать друг друга, а чтобы весело, быстро, понятно и эмоционально объясниться друг с другом в экстремальных условиях, в опасных ситуациях. Такая речь обладает мощным не только психологическим, но, как показано выше (см. 3.2.5), и физиологическим действием. Заметим, что у некоторых народов сексуальные инвективы (ругательства) обращены не к матери, а к отцу (у казахов) либо к виновникам родственного кровосмешения — инцеста (у вайнахов).
Объект, доминирующий в структуре ругани у конкретного этноса, весьма значим для него: у вайнахов, живших небольшими семейными общинами в горных ущельях, был важен запрет кровосмешения; у обитателей степей особенно значимым, сплачивающим был образ отца — прародителя; у восточных славян доминантой сексуальных инвектив стал образ оскверняемой матери. По мнению выдающегося мыслителя второй половины XX столетия В. И. Володковича, «это было последствием крушения "родового феминизма" амазонок, некогда существовавшего у народов, населявших Юго-Восточную Европу. С одной стороны.
победы матриархального феминизма, с другой стороны, протест против засилья амазонок могли породить лексическую значимость "матери" в сексуальных инвективах» [Володкович В.И., 2007].
«Матерщинные диспуты-соревнования», практиковавшиеся в минуты отдыха в русских артелях, сходны своими парадок-сальностями с дзен-буддистскими диалогами, в которых натренированный интеллект использует множественные озарения (микроинсайты) для постижения окрыляющей искомой истины. Но в дзенских парадоксах нет сексуальности, активизирующей выброс в кровь андрогенов, устраняющих утомление и уныние, нейтрализуя кортикостероиды («гормоны стресса»).
5.6.4. Антистрессовое действие сексуальных инвектив
Не следует идентифицировать с эротическими инвективами народные свадебные песни-инструкции для врачующихся, обучающие молодых сексуальной жизни, освобождающие от юной стеснительности и стыда перед сексуальным актом.
Упомянем такой эротико-лексический феномен, как «постельный мат».К нему может побуждать не только сниженная сексуальная потенция. «Нецензурная» сексуальная лексика брачующихся обостряет эротические ощущения приглашением в потаенный, запретный мир сексуальных образов (Кундера М.. 2005, с. 167-168]. Постельный мат — это еще и шаги к сближению, единению сексуальности «его» и «ее», и обмен сексуальным опытом.
Профессор В.И. Желвис отмечает адаптивное (антистрессовое) действие сексуально-вербальных инвектив («матерной ругани») благодаря их:
—табуированию. Нарушение запрета их гласного употребления создает у говорящего и у слышащих экстаз прорыва в недозволенное;
—эмоциональной разрядке. Будоражащие сознание сексуальные образы оживляют настроение и самочувствие;
—агрессивности. Словесная агрессия подменяет реальную. Это освобождает субъекта от угнетенности невозможностью оскорбить противника действием;
—театрализации сексуально-эмоциональных действий. Благодаря им субъект включен в «театр жизни»;
—претензии на захват субъектом статуса в социальной иерархии путем использования скабрезных ругательств;
—ритуальной сущности этих ругательств, потребной, в частности, во многих экстремальных ситуациях;
- возможности эмоционально демонстрировать ксенофобию, используя интернациональные сексуальные образы [Жел-висВ.И.,2001].
Христиано-интеллектуалы XVIII—XIX вв., сделав матерную речь сначала наказуемой, а потом и непечатной, почти убили ее. Выжила только матерная ругань.
5.6.5. Тендерные различия сексуальных инвектив
В русской народной лексике и сейчас различается использование словесной эротики женщинами и мужчинами, т. е. тендерные различия сексуальной лексики. СБ. Адоньева, работавшая в фольклорной экспедиции Санкт-Петербургского государственного университета, отметила различия эротических песенных частушек и бранной лексики в севернорусских деревнях [Адоньева СБ., 2005]. Первые определяются там как «смешные». Их могут исполнять женщины, т. к. эпатируют публику описанием сексуальных сцен, избегая предосудительных и бранных слов. Но даже это позволительно лишь пожилым женщинам, но не девушкам, хотя слушают «смешные» эротические частушки все. А вот сексуальная бранная лексика (матерная с названиями физиологического низа тела) позволительна только мужчинам. И «смешные», и бранные выражения знают все, но допустимость их определена статусом говорящего и составом слышащих.
В русских народных говорах с их моральным цензом эротические «смешнушки» и матерная брань — это один из способов утверждения социального доминирования. «В культуре, где главным инструментом управления является стыд, страх перед стыдом становится мощным регулятором власти» [Адоньева СБ., 2005, с. 170]. Но у женщин и мужчин остаются разными сексуально-словесные способы-манеры доминирования. Замечено, что этим способам с их регламентацией допустимости — недопустимости в деревнях обучаются с детства.
Обыденное использование матерной лексики свойственно некоторым прослойкам общества в рабочей среде и в сельской местности. Чаще мат используется как междометия, но все же наделенные бодрячеством эротики. Реже — как побуждение к действию, к работе либо как порицание.
Для налаживания рабочих контактов с группами-артелями, для эффективного управления ими бывает нужен командный мат (для признания начальника за «своего человека», для напоминании о своем лидировании, для угроз). Надо признать, что командный мат действует за счет зоологического механизма с использованием латентной гомосексуальности для подавления сексуального конкурента. В женской среде мат — это проявление неосознаваемых претензий на мужские роли.
Интересны случаи, когда в рабочей среде начальником (хозяином, лидером) оказывается женщина. Нередко только после ее командного («трехэтажного») мата артельщики признают в ней «хозяйку» и потом работают беспрекословно; повторные матерные тирады бывают не нужны (разве что в крайних случаях — при неповиновении артельщиков).
5.6.6. Матерщина как средство активизации
общения
Затронем еще один аспект, связанный с проблемами, создаваемыми и решаемыми матерной речью. Матерная речь, как и иные эмоциональные изъяснения, часто вспыхивает у говорящего, чтобы возбудить других людей, чувственно накалить их до своей возбужденности. Чтобы душевно приблизить их к себе, увлечь за собой в свое видение текущих событий.
В 70-х гг. прошлого века мы изучали особенности восприятия после информационных микрострессов; якобы досадная ошибка диктора («накладка»), нарочито-случайная скабрезность, эмоцио-генные слова («убийства», «кровавый», «изнасилование» и т. д.) [Китаев-Смык Л.А., Хромов Л.Н., 1981] (см. подробнее 4.4.4). Было обнаружено, что в первые секунды после микрострессора информация усваивается почти бесконтрольно. Это может использоваться для формирования «собственного мнения» людей помимо их воли. Независимо от того, что испытывают люди, услышав скабрезность (резкое неприятие, смущение, бурное одобрение, эротическое возбуждение), информация, предъявленная им после скабрезности, будет воспринята и может вспоминаться как то, что «я сам так думаю» или «я это и раньше знал». Таким образом, матерная речь, скабрезности могут использоваться для не вполне осознаваемого людьми влияния на их умонастроение, на формирование мнения о чем-либо.
Похожие психологические процессы возникают и при эпатировании людей «агрессией» авангардистских произведений искусства [Тыртышкина Е.В., 2005].
5.6.7. Эпохально-цивилизационные «пробуждения»
матерной лексики
В исторические, «переходные» периоды у части общества возникает массовая дебилизация. При этом наименее защищенные социальные слои (молодежь и люди с недостаточным образованиєм) вынуждены использовать эротизацию своей вербальной активности, как культурную (антикультурную!) защиту. Их речь изобилует словесными протезами — сексуально-скабрезными выражениями как неосознаваемый протест против социального давления. И, наверное, неслучайно сексуальные образы, посылы, считавшиеся еще недавно непристойными («нецензурными») сейчас проникают на экраны телевизоров, на сцены театров, на страницы книг и газет одновременно с возрастающей модой на авангардистское искусство. Возрастает потребность и в том, и в другом у небольшой, но активной «европейски цивилизованной» части общества. Заметим, что представители «исламской цивилизации» все более активно и агрессивно отстаивают традиционную пристойность в быту и ограничения в освещении средствами массовой информации сексуально-интимных проблем.
В современной российской действительности распространению мата в разговорной речи предшествует увлечение словечками тюремного жаргона («кинули», «стрелка», «замочили», «малява» и т. п.). Конечно, причина не только в том, что через тюрьмы проходит много людей. Криминальное арго и матерная речь сейчас превращаются из тайного языка замкнутых групп в протестный язык населения, демонстрирующего аморальностью мата (сексуальными непристойностями) и тюремной лексикой свою несгибаемость перед усиливающимся давлением чиновничьей и олигархической власти. Заметим, что стресс тюремной изоляции вынуждает к строжайшей регламентации материной лексики. Сексуально-словесное унижение личности в тюрьмах неписаными законами запрещено и наказуемо. Однако оно используется для отторжения из «достойного» тюремного сообщества индивидов, изменивших ему и чрезмерно слабых личностей [Ефимова Е.С., 2003]. Вероятно, в основе этого способа социальной селекции лежит необходимость изгнания перед сражением слабаков и потенциальных предателей. Ведь тюремная жизнь — это постоянное состояние перед битвой.
На особом месте в подверженности матерной речи и матерным ругательствам стоят милиция, судейский корпус и органы охраны мест заключения, контактирующие по долгу службы с криминальным миром, социальными низами и с деклассированными элементами. Однако, у правоохранительных органов, как правило, есть профессиональный «иммунитет» против мата. Массированное использование матерщинной лексики художественной элитой и журналистами, как частью общества, наиболее чувствительной к любой беде, также несет протест против череды несчастий. Итальянский культуролог М. Маурицио, анализируя российскую действительность, пишет: «Любой автор, любое течение, ставящее себя как альтернативные доминирующему руслу, играли либо на противопоставлении себя общепринятым в культурной и эстетической доминанте тенденции, либо на утрировании и ироническом преувеличении характерных для доминанты же черт» [Маурицио М., 2005]. Какова же эта доминанта? Можно сказать, что матерная речь теперь «направлена не столько против свыше установленных иерархий, как бывало раньше, сколько против ожиданий читателя (зрителя, слушателя), теми же иерархиями порожденного» [там же, с. 207]. Одна из доминант, вызывающих общественный протест, — трудности российской жизни, неуклонно ведущие к депопуляции (вымиранию) российского этноса. Эротизация речи (матерщинность) — это не контролируемый индивидуумами процесс в общественном сознании, направленный, возможно, и на сексуальное воспроизводство населения.
Странная потребность в речевой недозволенности способствует распространению мата и тюремного арго. Они вышли на улицы не площадной бранью и не тайной речью, а в виде эвфемизмов-междометий, т. е. как бессодержательные слова-подмены. Пожалуй, наиболее распространенным стало слово «блин», и многие, произнося его, не вдумываются в то, что оно порождено бранным «б..дь». Матерщина молодежи и инфантилизированной интеллектуально-художественной элиты — это игра, направленная не только на быструю передачу главного смысла (исконное предназначение мата), сколько на отсев всего формального, обыденного; это издевательство над навязыванием населению социальных штампов-оков и политического давления. Нынешняя матерная лексика — это создание своего рода культурного («некультурного») ареала, зоны недопустимости, укрывающей интеллектуалов от давления трудностей российской жизни.
Можно сожалеть, что современная российская психология и культурология мало уделяет внимания негативным и позитивным — антистрессовым функциям матерщины. «Возможно, дело в том, что современная психология слишком увлеклась так называемыми "глубинными проблемами личности", забыв на некоторый промежуток времени о целостности личности, о сложнейшем взаимодействии между внешним и внутренним, наконец, о том, что сущностные свойства личности находят в самых разных способах бытия человека, в том числе через его экспрессивный репертуар» [Лабунская В.А., 1999]. А ведь еще Сергей Волконский в начале XX в. обращал внимание на увеличение экспрессивности внешних проявлений личности, возможно, в связи с начавшимся (как и сейчас) «переходным периодом» в истории России [Волконский С, 1913].
Однако можно согласиться с теми, кто полагает, что мат, как социокультурная «норма» (аномалия) в художественной литературе, в СМИ ведет к деградации русского языка, к разрушению традиций, быта, на фоне депопуляции этноса, что матерщина — маркер культурной деградации.
Вспомним, как негативно высказывался сорок лет назад (не так уж давно?) выдающийся философ, историк, искусствовед М.М. Бахтин о скабрезных выражениях: «Все эти алогические формы непубликуемой речи в новое время проявляются лишь там, где отпадают все сколько-нибудь серьезные цели речи, где люди в сугубо фамильярных условиях предаются бесцельной и необузданной словесной игре или отпускают на вольную волю свое словесное воображение вне серьезной колеи мысли и образного творчества» [Бахтин М.М., 1965, с. 466].
Однако, на той же странице Бахтин возвращается к скабрезностям средневековья: «Но во времена Рабле роль этих непубли-куемых сфер была совсем иная. Они вовсе не были "непубликуе-мыми". Напротив, они были существенно связаны с площадной публичностью. Их удельный вес в народном языке, который впервые тогда становился языком литературы и идеологии, был значительным. И значение их в процессе ломки средневекового мировоззрения и построение новой реалистической картины мира было глубоко продуктивным» [там же].
Может ли нынешнее публичное и печатное использование скабрезностей и матерщины стать аналогом того, что, по мнению М.М. Бахтина, происходило в Средневековье для «построения новой картины мира»? Будущее покажет. Но теперь нецензурщина, если использовать его же выражение, — это занятие тех, кто «предается бесцельной и необузданной словесной игре».
5.6.8. Сакральность матерщины
Сакраментальную сущность сексуальных инвектив раскрывает концепция Владимира Ивановича Володковича: «Важнейшими факторами биосферы на нашей планере являются всевозможные ограничения жизни и попытки экспансии живых организмов, существ и личностей для прорыва этих ограничений. Мы ограничены физическими факторами (атмосферой, гравитацией и пр.), биологическими (наследием биологической эволюции, особенностями наших организмов, питательными веществами и др.), историческими (традициями, верованиями и т. п.) и, наконец, социальными и психологическими ограничениями (от архаических запретов в виде табу до морали и этикета). Для продолжения жизни нужны и табу, и прорывы табуирования.
Матерная речь, сексуальные инвективы всегда были нарушением табуирования, институциировавшего сексуальную активность и половую жизнь Без такого табуирования этносы вырождались. Но прорывы сексуальных запретов нужны для рекреации, как психологическая, эмоциональная, гормональная разрядка при стрессе. И здесь важна роль сексуального тотема. Вспомним, что символом победного апофеоза были и есть обелиски — изображения аписа. Архаически не менее важен тотем матери, таинственно воспроизводящий жизнь. Мат не только протест против "узурпации" женщиной права на сексуальное удовлетворение мужчины и на создание его потомства; матерщина в древности — это и обличение порочащей наследственности, и восхищение сексуальной привлекательностью женщин-матриархов, и еще многое, ныне утраченное» [Володкович В.И., 2007).
Допустимо ли массовое увлечение матерщиной? Вопрос, по мнению Володковича, некорректен: непременный фактор природы — колеблемость в ее динамике. «Это не только смены зимы на лето и лета на зиму. Зерно, брошенное в землю (как бы похороненное, умершее), возрождаясь, прорастает, даря людям хлеб и жизнь. Старение и возрождение претерпевают народы и государственные устои, вспомним: "Король умер, да здравствует король!" Так и бесконечная нравственность блекнет, с нею костенеет жизнь. Тогда массовые нарушения нравственности оживляют не только плебс, но и элиты. И лишь за тем возвращается запрещение бесчинств. Табуирование должно быть во всем, но не исчезнут прорывы запретов. И все же особенно плодотворна жизнь в зыбком диапазоне между запретами и уходом от них Нынешние бесчинства матерщины — плод социальных государственных амо-ральностей. Упавшие на нашу землю, они сменятся достоинством и честью моральных устоев. Нравственность вернется, и наши усилия — гарантия ее возврата» [там же].
Обобщим, отчасти повторяясь, причины использования матерной речи в разных социальных слоях современного российского общества, в его мирах (общинах).
1) Адаптивное действие мата проявляется при стрессе, особенно, в закрытых мужских сообществах: в тюрьмах, в казармах.
2) В рабочей среде мат бытует: а) как средство эмоционально-эротического усиления значимости речи, б) для опознания «своего» человека, в) для утверждения командной роли, г) чтобы снять усталость и стресс, д) как фольклорное, творческое развлечение.
3) В подростковом возрасте и у инфантилизированнои молодежи мат может сопровождать, маркировать пробуждающуюся, неудовлетворенную сексуальность.
4) В интеллигентной среде массовое увлечение матерной речью — признак стресса из-за политического и экономического давления. Мат интеллектуалов — это еще и проявление деградации словесности и культурных традиций.
5) Во властных элитах командный мат — это отголоски зоологических способов гомосексуального подавления соперников.
6) Матерщина может быть маркером надвигающейся импотенции мужчин, а у женщин — их болезненно неудовлетворенных сексуальных ожиданий.
7) Надо ли бороться с агрессивным засорением матерщиной (сексуализированными инвективами) русского языка? Да! Со всей решительностью, используя учебно-воспитательный процесс и средства массовых коммуникаций. Сексуализация речи целесообразна только при стрессе в сугубо мужских сообществах, но вредна во всем многообразии нормальной обыденной жизни.
5.7. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРЕССА
Первые фундаментальные социологические исследования западных авторов были вызваны такими чрезвычайными явлениями, как рост числа самоубийств, алкоголизма, преступности. Названные в последующем проявлениями эмоционального стресса, эти атрибуты развития общества потребовали тщательного анализа. Дюркгейм в своей книге «Самоубийство» показал, что процент самоубийств детерминируется степенью интеграции социальных структур — будь то церковь, семья, политическая партия, государство и т. п. [Durkheim Е., 1951; Дюркгейм Э., 1998]. Вместе с тем, определяя причины учащения самоубийств, он делает акцент на «психологической конституции» человека, которая, по его словам, «требует цели, стоящей выше его». В слабо интегрированном обществе такая цель отсутствует и, как полагает Дюркгейм, «индивид, обладающий слишком острым восприятием самого себя и своей ценности... стремится быть своей собственной единственной целью, а поскольку такая цель не может его удовлетворить, он влачит апатичное и безучастное существование, которое впредь кажется ему лишенным смысла» [Durkheim Е., 1951, с 38]. На такую смену акцентов указывает А. Инкельс [Инкельс А., 1972].
В другом исследовании той же проблемы А. Ф. Хенри и Д. С. Шорт [Henry A.F., Short J.F., 1954] рассматривают самоубийство и убийство как акты агрессии, различающиеся по направленности выражения агрессии: при суициде она обращена на себя, при убийстве — вовне. Авторы, затушевывая сущность самоубийства, как акта отчаяния, направленного на прерывание жизненной активности, усматривают в качестве ведущего звена суицида активность и даже якобы агрессивность, необходимую, чтобы его совершить. Ряд авторов утверждают, что социальная структура общества и личность должны рассматриваться как независимые, хотя и взаимодействующие переменные, оказывающие каждая свое влияние на ход социального процесса [ Kardiner А., 1978 а, б].
Основную причину возникновения «стресса жизни» они видят в том, что, стремясь к удовлетворению своих биологических и социальных потребностей, индивид сталкивается с тем, что социокультурные изменения, слишком быстрые для абсорбирования, становятся основанием для «болезней стресса». Так, Доротея Лайгтон справедливо указывает, что важнейшей причиной социального стресса становится «внешнее блокирование цели». Вместе с тем она редуцирует комплекс основных причин социального стресса до якобы фатального несоответствия возможностей человека адаптироваться к чрезмерно быстрым темпам социокультурных изменений. Реакция индивида на лишение его возможностей самопроявления — «это еще больше стараться достигнуть цели, замещать другим предметом недостижимый, сдаться (прекратить борьбу) и продолжать стремиться к цели, но с развитием вызывающих стресс ментальных и физических симптомов» [Leighton D.C., 1978, с.33]. Предотвращение стресса жизни лежит, как считает Д. Лайгтон, на путях улучшения службы здравоохранения и гуманизации общества. В этом, казалось бы, справедливом суждении скрыт оппортунистический смысл, который понимают многие на Западе. Приравнивание политических методов коррекции социальных условий, порождающих стресс, к психолого-психиатрическим методам их предотвращения и лечения, как указывает X. Феер, притупляет остроту проблемы. Психолого-психиатрическое снижение проявлений социального дистресса не уничтожает, а затушевывает его социально-политические причины. В связи с этим X. Феер поднимает вопрос о моральности психиатрических методов борьбы со стрессом.
Было показано, что социально-психологический стрессор характеризуется, в частности, изменением субъективной значимости общественного мнения для субъекта. Для одних его значимость при «социальном давлении» возрастает, для других может снижаться. Направленность этих изменений зависит, в частности, от оценки субъектом взаимоотношений в группе, т. е. психологического «климата» [Pichevin М.Е., Rossignol С, 1975/1976].
Изменение субъективной значимости окружения при стрессе находится в зависимости от уровня выраженности и динамики изменений таких показателей личности, как «место опоры» при оценке ситуации, степень невротизма и интро-, экстраверсии, тревожности, циклоидных колебаний настроения и т. п. Субъективная значимость ситуации находится в сложной, нелинейной зависимости от интенсивности и продолжительности стресса. Важным фактором в определении направления изменений отношения к мнению окружающих при кратковременном стрессогенном воздействии того или иного рода является исходная, возникшая до стресса оценка субъектом отношения к нему. Социальная «поле-зависимость» при неподтверждении при стрессе имевшихся до него «полесигналов» свертывается (уменьшается), снижается поведенческая aKTHBH0CTb[EysenckH.J., 1975]. При доминировании социально-психологических проявлений стресса обращение субъекта к общественному мнению увеличивается. У экстерналов это может проявляться в виде усиления опоры на окружающих, у интерналов — в попытке увеличения психологического давления на них. При доминировании в экстремальных условиях интеллектуальной активности (как проявления стресса) экстравертивная ее форма увеличивает субъективную значимость общественного мнения, интравертивная форма — снижает [Eysenck H.J., 1975 а, б, и др.]. Широко обсуждаются изменчивость и управляемость состояния тревожности. Райтменом в эксперименте было показано, что у ряда субъектов тревожность снижается в присутствии других людей. Однако П. Спектор и Ф. Зайсфрунк[5ресіог Р.Е., Sistrunk F., 1978] не подтвердили «всеобщности» его выводов. В их экспериментах снижение в присутствии других людей тревожности в ожидании шокового воздействия (ситуационной тревожности) возникало только как результат отвлечения внимания обследуемых. Видимо, влияние окружающих лиц на тревожность характера является значительно более сложно дифференцированным явлением.
Были высказаны по меньшей мере две альтернативные гипотезы относительно влияния поддержки со стороны лидера рабочей группы и товарищей по группе на проявление «производственного» стресса. Согласно первой гипотезе, стрессогенные факторы и поддержка не зависят друг от друга, т. е. каждый из этих факторов оказывает прямое влияние при стрессе на такие психологические феномены, как удовлетворение деятельностью, самооценка и т. п. Вторая гипотеза предполагает, что поддержка препятствует возникновению стресса. Исследования, проведенные на группах моряков военно-морского флота США с регистрацией таких эффектов социально-психологического синдрома стресса, как «ролевая неопределенность (двусмысленность)», «ролевой конфликт» и т. п., показали большую правомерность первой гипотезы [La-Rocco I.M., Jones А.Р., 1978]. Если расценивать эти данные как заслуживающие доверия, то следует считать, что социальная «поддержка» в группе, работающей в стрессогенных условиях, не снижая выраженности стресса, способствует «переводу» его неблагоприятных проявлений в благоприятные, т. е. дистресса в эустресс.
В исследованиях психологии стресса можно выделить ряд направлений, отличающихся методическими подходами к исследованию реакций при стрессе. На протяжении ряда лет широко использовалось определение социальной интроверсии-экстраверсии с помощью опросника Айзенка [Eysenck H.J., 1975]. Этот метод ассимилирует методологические основы гештальтпсихологии, интерпретируя их в социально-психологическом смысле. При этом в качестве «фигуры» выступает внутренний мир субъекта, в качестве фона — его социальное окружение. Еще более близки к методам гештальтпсихологии исследования так называемой социальной полезависимости. Они проистекают из сопоставлений индивидуальных показателей сенсорной полезависимости индивида с его представлением о себе в социальном окружении [WitkinH.A., 1962].
Сходные методологические принципы легли в основу метода определения «точки опоры» субъекта при организации и выполнении им своих социальных действий: на себя, на свои силы или же на окружающих людей, на внешние события. Этот метод, предложенный Роттером [Rotter J. В., 1966], в последующие годы стал популярным среди исследователей социально-психологических и социальных факторов стресса, т. е. так называемого стресса жизни. Широкое распространение получило использование в психологических исследованиях дифференцированного определения двух видов тревожности: «тревожности характера» и «ситуационной тревожности», предложенное Шпильбергером [Spielberger CD., Gorsuch B.L., Lushene R.E., 1970]. Этот метод является примером привлечения к психологическим исследованиям медицинских и психоаналитических принципов.
Несмотря на несомненные успехи социально-психологических исследований общественного поведения человека при действии на него социально-психологических стресс-факторов, проблема «личность при стрессе» не решена. Наряду с очевидным прогрессом в изучении индивидуальных особенностей человека при стрессе в литературе по проблемам стресса возникали все новые малорезультативные подходы к анализу структуры межличностных отношений людей, все новые фрагментарные оценки особенностей взаимодействия людей при «социальном давлении». Однако частные успехи не приближали к осмыслению глобальной проблемы «стресса жизни» и тем более в разработке методов предотвращения стресса, вызываемого «социальным давлением» Причины такого своего неуспеха теоретики психологии видели: 1) в исключительной сложности и разнообразии индивидуальных особенностей человека, мобилизуемых для защиты от социальных экстремальных факторов; 2) в постоянном и сравнительно быстром изменении сложнейшего конгломерата факторов среды (социальных, биологических, физических и т. п.), действующих на людей в современном обществе. Такая методологическая установка побуждала большинство исследователей все более детализировать изучаемые особенности личности, а также постоянно модернизировать методики исследований.
Социальные психологи анализировали преимущественно негативные социально-психологические проявления стресса, т. е. социальной активности, ведущей кдеструкции группы, коллектива. Уродливые и парадоксальные проявления таких тенденций можно усмотреть в возникновении антиобщественных групп: уголовных, фашиствующих. Их активность приводит к разобщенности и дегуманизации общества. Аморальность кодексов, уставов, лежащая в основе формирования этих групп, создает специфическую, клановую, гангстерскую, «воровскую» сплоченность.
Для изучения психологических феноменов общения (особенно наглядно проявляющихся при стрессовом изменении общения) могут быть использованы методологические принципы разных психологических направлений [Китаев-Смык Л.А., 1978; Фран-кенхойзер М., 1970 и др.].
Изменения общения при стрессе могут возникать как при действии на человека физических, физиологических стрессоров так и в результате контактов с людьми, характер общения которых изменен стрессом. Целесообразно использовать три уровня ана лиза изменения общения как субсиндрома стресса [Ломов Б.Ф 1975]. Первый (мегауровень) должен охватывать анализ взаи модействия людей на протяжении больших отрезков времени сопоставимых с продолжительностью жизни поколений, с учетом так называемого «стресса жизни», т. е. изменения особенностей личностных характеристик и показателей здоровья, возникающих под влиянием длительных социальных, биологических и физи ческих стрессоров, действующих локально на группу людей или на широкие слои населения. Второй (метауровень) относится к анализу отдельных актов общения людей при стрессе с учетом их индивидуальных, профессиональных и т. п. особенностей, а также с учетом специфики стресс-факторов. Третий уровень анализа (микроуровень) должен относиться к изучению отдельных, сопряженных элементов общения при стрессе, раскрываемых специальными методами исследования (психофизическими, инженерно-психологическими и т. п.).
Особенности общения при стрессе могут так или иначе проявляться на разных этапах развития стресса как важный элемент адаптационно-защитных ответов индивида на экстремальность ситуации. Взаимодействие совокупности людей при стрессе должно создавать более эффективный защитный потенциал, чем антистрессовый потенциал отдельного человека. Стрессовые изменения общения вплетаются в структуру жизнедеятельности, поведения, рабочей активности людей. Однако они могут и отрицательно, и положительно влиять на психологический климат коллектива, на производительность труда, на успешность преодоления экстремальных ситуаций, на самочувствие и здоровье людей. При разработке мер овладения стрессом необходимо, учитывая конкретные, частные факторы, базироваться на анализе общих закономерностей стресса.
5.8. РЕЗЮМЕ
Генеральные закономерности социально-психологического субсиндрома стресса проистекают из того, что каждый человек, как элемент человеческой популяции, является воплощением противоречия между личным и общественным. Человек не может стать «человеком разумным» вне человеческого общества. Взращенный, обученный, воспитанный людьми, он переживает глубокий дистресс при недостатке общения. Однако превышение эволюционно установившихся норм скученности людей также вызывает дистресс. И в том, и в другом случае дистресс, стабилизируя нормы общественного существования, может способствовать развитию общественных взаимоотношений, но и деформировать их. Психологическая сущность человека, как существа общественного, требует от него претворения в жизнь альтруистических тенденций. Однако ни один человек со своим индивидуальным сознанием не может полностью отрешиться от эгоистических мотивов. Постоянное уравновешивание этих двух тенденций является источником многочисленных проявлений стресса (эустресса, дистресса), в свою очередь ведущего к прогрессу или регрессу личности.
Половая дифференциация людей и обусловленная ею необходимость общения — одна из ведущих сил, побуждающих к социализации человека, вместе с тем это источник ярких проявлений эмоционального стресса. Сожалею, что судьба не вела меня по путям изучения «сексуального стресса» и рекомендую читателям обширную научную литературу по этой тематике, хотя полнее и достовернее «стресс любви»описан (с анализом и рекомендациями) в классической художественной литературе. Следует обратить внимание на не только русских, европейских, американских, но и на китайских, иранских, арабских и африканских авторов.
Другой важной силой, организующей людские сообщества, принято считать агрессивность индивидуумов, малых групп, больших политических сообществ и даже якобы народов и государств. Не углубляясь в эту проблему, я попытался в пятой главе упорядочение изложить результаты анализа собственных наблюдений непосредственно в зоне боев в ходе так называемых чеченских войн в конце XX и начале XXI в. Уверен, уникальная возможность изучать психологию и некоторые социальные феномены по обе стороны «линии фронта» способствовала объективизации моих суждений. Благодарен конкретным людям, создававшим мне возможность проводить психологические исследования в конфронтирующих боевых подразделениях. Понимая, что абсолютно объективная оценка военных конфликтов невозможна, все же надеюсь, что мои наблюдения и суждения смогут использовать (с хорошими намерениями) исследователи и организаторы военного стресса.
Приступая к переработке этой главы, первично опубликованной четверть века назад [Китаев-Смык Л.А., 1983], я был удивлен тем, как мало публикаций на русском языке было посвящено проблеме «выго-ранияличности», «выгорания души». Благодаря молодому энтузиазму К. Маслач, обозначившей этот феномен в 70-80-е гг. прошлого века, многочисленными учеными в западных странах было детально (но ие исчерпывающе!) изучено это своеобразное проявление «стресса общения». В России ему уделила должное внимание только группа ученых, работающих в системе МВД над проблемой купирования профессиональной деформации личности сотрудников этой системы Для привлечения внимания к проблеме «выгорания» мной описаны в этой главе результаты ранних исследований этого феномена, предпринятых К. Маслач и ее последователями, а также некоторые работы психологов МВД, проведенные под руководством профессора, полковника М.И. Марьина. Хочу обратить внимание нового поколения наших психологов на то, что «выгорание» — чрезвычайно актуальная проблема современной России.
Наиболее тяжкий стресс (дистресс) возникает при ограничении как физического пространства обитания людей в тюрьмах, коншгагерях, в тесных квартирах городских трущоб, так и при ограничении душевного, духовного «пространства» цензурой, репрессиями тоталитарных автократических режимов. Первой из этих проблем были посвящены мои экспериментальные исследования, описанные в книге «Психология стресса» (Китаев-Смык Л.А., 1983, с. 297-304]. В дополненном виде они включены в эту монографию.
Я был удивлен большим вниманием к моему изучению стресса в ограниченном пространстве имитатора космического корабля. За последние двадцать лет на основе результатов этих экспериментов проведено много исследований и внедрений разными авторами. Они касались не только космической тематики, но и квартирного, и коттеджного строительства, организации сценического пространства и «заэкранного» пространства в телевидении и кино и даже тюремного содержания преступников.
Вторую проблему — ограниченности духовного пространства — по понятным причинам я не обсуждал в 70—80-х гг. Но и в данной, дополненной главе я не касаюсь ее, во-первых, из-за крайне ограниченного доступа к конкретным сведениям о политико-психологических преобразованиях в нашей стране и за ее рубежами, во-вторых, оставляя обсуждение этой проблемы политическим психологам.
Участвуя в организации общественных взаимоотношений, человек вынужден по возможности полнее учитывать общественные, популя-ционные тенденции развития взаимоотношений. Однако неспособный полностью отрешиться от индивидуальных позиций понимания бытия, человек должен использовать коллективный опыт, воплощающийся в продуктивных общественных нормах и традициях. Можно полагать, темпы их формирования отстают от темпов развития современного индустриального и постиндустриального общества, при этом могут возникать скороспелые, непродуктивные нормы и традиции жизни, они становятся причиной нынешних «болезней стресса». Создание современного глобального управления, планирования и прогнозирования (на базе современных технологий) различных сторон жизни человеческого общества должно учитывать многогранность и не всегда полезную лабильность психической сущности человека.
Литература к пятой главе
Aiello JR., Aiello Т., 1974. The development of personal space: proxemic behavior of children 6 through 16 //Hum. Ecol., N 2, p. 177-189.
Alexandr R.J., 1980. «Burning out» versus «punching out» / / Journal of Human Stress 6(1), 37-41.
Altman J., 1975. Human behavior and the social environment: Privacy, territoriality, personal space and crowding. Belmont (Cal.): Brook / Cole.
BavelasA., 1960. Communication patterns in task-oriented groups/ / Group dynamics / Ed. D. Cartwright, A. Zander. N. Y.: Row, Peterson.
Broadbent D.E., 1971. Decision and stress. N. Y.: Acad, press.
Chandler E.V., Jones C.S. Cynicism: an inevitability of police work? / / Journal of Police Science and Administration, 7(1) 65-68.
Chang D.H., Zastrow Ch.H., 1976. Police evaluative perceptions of themselves, the general public and selected occupational groups / / Journal of Criminal Justice, 4(1), 17-27.
Cheek F., Miller M., 1983. The Experience of stress of Correction Officers: A Double-Bind Theory of Correctional Stress / /Journal of Criminal Justice, 11, p. 105-120.
Cherniss С. 1980. Professional burnout in human service organizations. N.Y.: Praeger.
Christian ].]., 1961. Phenomena associated with population density / / Proc. Nat. Acad. Sci., vol. 47, p. 428-449.
Cozby P.C., 1973. Effects of density, activity and personality on environmental preferences / / J. Res. Personal., vol. 7, p. 45-60.
Denenberg V.W., 1972. The development of behavior. Stanford (Conn.): Sinauer, 1972.
Donahue M.J., 1977. Peer counseling for police officer: A program for shill development and personal growth / / Diss. Abs. Int. 38 (4-А), 1992-1993.
Dubos В., 1965. Man adapting. New Haven (Conn.): Yale Univ. press.
DukeM.P., NowickiS., 1972. A new measure, and social learning model for interpersonal distance / /J. Exp. Res. Personal., vol. 6, p. 119-132.
Durkheim £., 1951. Suicide. Glencoe (111): The Free press.
Edelwich J., BrodskyA., 1980. Burn-out: stages of disillusionment in the helping professions N.Y.: Human Sciences Press.
Emener W.G., Luck R.S. 1980. Emener Luck Burnout Scale (E.LB.OS).
Epstein Y.M.,AielloJ.R., 1974. Effects of crowding on electrodermal activity. New Orleans: Amer. Psych. Assoc. Convent.
Evans G.W., 1973. Personal space: research review and bibliography / /Man-Environ. Syst., vol. 3, p. 203-215.
Evans G.W.,Elchelman W., 1976. Preliminary models of conceptual linkages among proxemic variables / / Environ, and Behav., 1976, vol. 8,N l,p. 87-116.
Evans G. W, Howard R.B., 1972. A methodological investigation of personal space / / Environmental design: Research and practice / Ed. W. I. Mitchell. Los Angeles: Univ. of California press.
Evans G. W., Howard R. В., 1973. Personal space / /Psychol. Bull., vol. 80, p. 334-344.
Evans G.W., Pezdek H., Nalband E., 1975. Behavioral and physiological consequences of crowding in children / Intern. Soc. for the Study of Behav. Develop. Surrey, England: Guilford.
Eysenck H.J., 1975 a. The measurement of emotion: Psychological parameters and methods / / Emotions — their parameters and measurement / Ed. L. Levi. N. Y.: Acad, press.
Eysenck H.I., 1975 6. A genetic model of anxiety //Stress and anxiety 2. N. Y.: Whiley a. Sons, p. 81-116.
Farber B.A. (ed.), 1983. Stress and burnout in the human service professions. N.Y. Pergamon Press.
Flowers ]., Whalen C., 1974. Personal space in children and other assorted developments with clinical apilications. San Francisco: Western Psych. Assoc. Convent.
Freedman J.F., Levy A.S., Buchanan R. W. et al., 1972. Crowding and human aggressiveness //J. Exp. Social Psychol., 1972, vol. 8, p. 528-548.
Freedman J.F., LevyA.S., Buchanan R.W. et al., 1972. Crowding and human aggressiveness / /J. Exp. Social Psychol., 1972, vol. 8, p. 528-548.
Freedman J.L., Klevanski, S., Ehrlich P.H., 1971. The effect of corwdingon human task performance// J. Appl. Social Psychol., vol. 1, p. 7-25.
FreudenbergerH.J., 1974. Staff burnout//Journal of Social Issues 30(1), 159-165.
Gillespie D.F. (ed.), 1986. Burnout Among Social Workers. N. Y.; London: The Haworth Press.
Gillespie D.F., 1981. Correlates for active and passive types of burnout / / Journal of Social Service Research 4 (2). 1-16.
Griffit W., VeitchR., 1971. Hot and crowded: influencesof population density and temperature on interpersonal affective behavior / / J. Person. And Social Psychol., vol. 17, p. 92-98.
Hall E.F., 1966. The hidden dimension. N. Y.: Doubleday.
Harrison W.D., 1980. Role strain and burnout in child-protective service workers / / Social Service Review 54,31 -44.
Henry A.F., Short J.F., 1954. Suicide and homicide. Glencoe (111): The Free press.
Hepburn ]., Knepper P., 1993. Correctional Officers as human Service Workers: The Effect on Job Satisfaction / / Justice Quarterly. 10, p. 315-335.
Hilbert S.B., 1979. Social isolation among police officers / / Dis. Abs. int. 39 (11-А), 6976.
30 Психология стресі.:.»
Jones J.W. (ed.), 1981. The burnout syndrome: Current research, theory, interventions. Park Ridge, 111.: London House Press.
Kahneman D., 1973. Attention and effort. Englewood Cliffs (N. Y.): Prentice Hall.
Kaplan S., 1972. The challenge of environmental psychology: a proposal for a new functionalism // Amer. Psychol., vol. 27, p. 140-143.
Kaplan S., 1973. Cognitive maps, human needs and the designed environment / / Environmental design research/Ed. W. F. E. Preiser. Stroudsburg (Pa): Dowden, Hutchinson a. Ross, p. 275-283.
KaplanS., 1976. An informal model for the prediction of preference / / Lands cape assessment: Values, perceptions and resources / Ed. E.H. Zube, I.G. Fabos, R.O. Brush. Stroudsburg (Pa). Dowden, Hutchinson a. Ross, p. 12-24.
Kardiner A., 1978 a. The social distress syndrome of our time // J. Amer. Acad. Psychoanal., 1978, vol. 6, N 1, p. 89-101.
Kardiner A., 1978 6. The social distress syndrome of our time: 2 //J. Amer. Acad. Psychoanal., 1978, vol. 6, N 2, p. 215-230.
Keele 5., 1973. Attention and human performance. Pacific Palisades (CaL): Goodyear.
Keeley K., 1962. Pre-natal influences on behavior of offspring of crowded mice / / Science, vol. 135, p. 44-45.
Kelly H.H., ThibautJ. W. et al., 1962. Psychological monographs / / Gen Appl. Psychol., vol. 76, N 538.
Kitajew-Smyk LA., 1989. Psychologia stresu. Wrotclaw: Ossolyneum.
Krowinski W.J. 1981. A construction validation study the Maslach Burn-out Inventory. Pittsburgh: UniversityofPittsburgh. School of Social Work.
La-Rocco I.M., Jones A.P., 1978. Co-worker and leader support as moderators of stress-strain. Relationships in work situations / / 3. Appl. Psychol., vol. 63, N 5, p. 629-634.
Leighton D.C., 1978. Sociocultural factors in physical and mental break-down // Man-Environ. Syst., vol. 8, N 1, p. 33-37.
Lester £>., 1986. Subjective Stress and Self Esteem of Police Officers / / Perceptual and Motor Skills 63.13-34.
Loo СМ., 1973. Important issues in researching the effects of crowding on humans / / Represent. Boa. Social Psychol, vol. 4, p. 219-226.
Maslach C, 1976. Burned-out // Human Behavior, 5 (9), p. 16-22.
MaslachC. 1978 a. Job burnout: How people cope//Public Welfare 36 (2), 56-58.
Maslach C, 1978 6. The client role in staff burnout / / Journal of Social Issues 43 (4). 11-124.
Maslach С, 1982. Burnout the cost of caring. N. Y.: Prentice Hall Press
Maslach C, Jackson S. E., 1979. Burnout cops and their families / / Psychology Today 12(12) 59-62.
Maslach C, Jackson S. E., 1981 a. The Maslach Burnout Inventory Palo Alto. Calif.: Consulting Psychologists Press.
Maslach C, Jackson S. £., 1981 6. The measurement of experienced burnout / / Journal of Occupational Bechavior 299-113.
Maslach C, Jackson S. E., 1982. Burnout in health professions: A social psychological analysis / / Social psychology of health and illness. Hillsdale N.J.: Lawrence Erlbaum.
Maslach K., Schaufeli W. В., Letter M. P., 2001. Job Burnout / / Annual Review of Psychology. V. 52, p. 387-422.
McBride C, King M.G., James J. W., 1965. Social proximity effects on galvanic skin responses in adult humans / / J. Person., 1965, vol. 61, p. 153-157.
MckKay Charles, 1841. Extraordinary popular delusions & the madness of crowds. London.
Newton O., Levine S., 1968. Early experience and behavior. Springfield (111): Charles C. Thomas
NordlichtS., 1979. Effects of stress on the police officer and family// New York State Journal of Medicine 79 (3) 400-401.
Pain W.S. (ed.), 1982. Job stress and burnout: Research, theory and intervention perspectives, Beverly Hills, Calif: Sage Publications.
Pichevin M.E., Rossignol C, 1975/1976. Perception of the group: Structure of the subject and structural equilibrium // Bull. Psychol., May-June, vol. 29, N 14/15, p. 724-734.
Pines A.M., Aronson E., Kafry D., 1980. Burnout: From tedium to personal growth. N. Y.: Free Press; potter B.A. Beating job growth. San Francisco: Harbor/ Putnam.
Pines A., Maslach C. (eds.), 1979. Experiencing social psychology. N.Y.: Knopf.
Reid K.E. (ed), 1979. Burnout in the helping professions. Kalamazoo, Mich: Western Michigan University.
Rotter J.В., 1966. Generalized expectances for internal versus external control of reinforcement / / Psychol. Monogr., vol. 80, N 1, p. 1-28.
Saegert S., 1973. Crowding: cognitive overload and behavioral constraint //Environmental design research / Ed. W.F.B. Preiser. Stroudsburg (Pa): Dowden, Hutchinson a. Ross, vol. 2, p. 254-260.
Schiavo R. S., Schiffenbauer A., Roberts J., 1977. Methodological factors affecting interpersonal distance in dyads //Percept, and Motor Skills, vol. 44, N 3, pt. 1, p. 903-906.
Sherrod D.R., 1974. Crowding, perceived control, and behavioral after // J. Appl. Social Psychol., vol. 4, p. 171-186
Singleton G.W., 1977. Effects of job related stress on the physical officers / / Dissertation Abstracts international 38, (5-B), 2384.
Sommer R., 1969. Personal space: The behavioral basis for design. Englewood Cliffs (N.Y.): Prentice Hall.
Spector P.E., Sistrunk F., 1978. Does the presence of others reduce anxiety? / / J. Social Psychol., vol. 105, N 2, p. 300-301.
SpielbergerC.D., Gorsuch B.L., LusheneR.E., 1970. Manual for the state-trait-anxiety inventory. Palo Alto (Cal.).
Stokols D., 1972. On the distinction between density and crowding: some implications for future research //Psycho!. Rev., vol. 79, p. 275-277.
Toch H., Klofas J., 1982. Alienation and Desire for Job Enrichment Among Correction Officers. Federal Probation, 46: p. 35-44.
Triplet R., Mullings J.I., Scarboroungh К., 1996. Work Related Stress and Coping Among Correctional Officers: Implications from Organizational Literature / / Journal of Criminal Justice, 24, p. 291-308.
Vash C., 1980. The burnt-out administrator. N.Y.: Springer.
Veninga R.L., Spradley J.P., 1981. The work/stress connection: How to cope with job burnout. Boston: Little Brown.
White W.L., 1979. Relapse as a phenomenon of staff burn-out among recovering substance abusers, Rockvill, Md: HCS. Inc.
Within H.A., 1962. Psychological differentiation: Studies of development. N. Y., L.: Whiley.
Авдеев В.Б. (ред.), 2006. Философия вождизма: Хрестоматия по вождеведению. М.: Белые альвы.
Агапова М.В., 2004. Социально-психологические аспекты социального выгорания и самоактуализация личности. Дис. ... канд. психол. наук. Ярославль.
Аграйл М., 2003. Психология счастья. СПб.: Питер.
АдаевА.И., 2005. Организация психологический помощи пострадавшим в результате террористических актов/ / Вопросы психологии экстремальных ситуаций, № 1, с. 3-7.
Адоньева С.В., 2005. Матерные частушки и частушки «с картинками», брань и доминирование / / Речевая агрессия в современной культуре. Челябинск: Изд. ЧГУ, с. 167-170.
Анохин П.К., 1980. Узловые вопросы теории функциональной системы. М.: Наука.
Антонян Ю., 1991. К чему приговаривает суд / / Правители преступного мира. М.: Зеленый парус, с. 42-53.
Арсамаков А., 2006. Зикризм. М.; Грозный.
Балод А. Тайна Робинзона Крузо. http://www. netslova.ru/ balod/trk. html, 2005-2007.
Батов В.И., 2002. Владимир Высоцкий: Психогерменевтика творчества. М.: РИК.
Бахтин MM., 1965. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.
Безносое СП.. 1997. Профессиональная деформация личности: подходы, концепции, метод. Автореф. дис. ... докт. психол. наук. СПб.
Белоусов А.Ф., 2003. Современный анекдот / / Современный городской фольклор / Белова О.В., Шумилова Е.П. (ред.). М.: РГГУ, с. 581-598.
Бехтерев В.М., 1921. Коллективная рефлексология. Петроград, Колос.
Бич и молот: охота на ведьм в XVI-XVIII вв. СПб.: Азбука-классика, 2005.
Буданов А.В., 1992. Работа с сотрудниками органов внутренних дел по профилактике профессиональной деформации: Практическое пособие для руководящих работников УВД, ОВД, служб по работе с личным составом, подразделений морально-психологического обеспечения деятельности ОВД. М.: ГУВДг. Москвы.
Быстрицкая А.Ф., НовиковМ.А., 1966. Изменения устойчивости в групповой деятельности и условиях конфликтной напряженности / / Проблемы космической медицины. М.: Медицина, с. 83-87.
Быховская ИМ., 1993. Человеческая телесность в социокультурном измерении: традиции и современность. М.: ГЦИФК.
Вислова А., 2007. Трагическая маска в пространстве «черной комедии»,с. 154—167 / / Катарсис: метаморфозы трагического сознания. Шестаков В.П. (ред.). СПб.: Алетейя, с. 156-157.
Волконский С, 1913. Выразительный человек. СПб.
Володкович В.И., 2007. Амазонки ли прародительницы матерщины?/ / Личное сообщение.
Володкович ВН., 2007. Жизнь иллюзий. Личное сообщение.
Гаврилов Л., 1991. Психология безысходности и страха/ / Правители преступного мира. М.: Зеленый парус, с. 54-83.
Гордеева Н.Д., Зинченко В.П. 1982. Функциональная структура действия. М.: Изд. МГУ.
Гордиенко Ш.А., 2006. Психолого-педагогическая подготовка к выполнению оперативно-служебных задач в экстремальных условиях / / Психопедагогика в правоохранительных органах, № 1 (25), с. 40-42.
Грачев С.Г., 2006. Особенности социально-психологический деформации личности сотрудников органов внутренних дел, принимавших участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона/ / Вопросы психологии экстремальных ситуаций, № 4, с. 25-29.
Гроф С, 2001. Психология будущего: Уроки современных исследований сознания. М.: ACT.
Гурьева В.А., Гиндикин В.Я., Макушкин Е.В., 2005. Психология и патопсихология аффективных расстройств. М.: Изд. МБА, с. 48.
Дивингер Э.Э., 2004. Армия за колючей проволокой: Дневник немецкого военнопленного в России 1915-1918 гг. М.: Центрполи-граф.
Дикая Л.Г., Крылова Г.Ю., 2007. Социально-психологические аспекты профессиональной адаптации в стрессогенных условиях деятельности / /Психология адаптации и социальная среда: современные подходы, проблемы, перспективы. М.: Per Se.
Дозорцева Е.Г., Калачев М.А., Макушкин Е.В., Терехина С А., 2005. Посттравматическое стрессовое расстройство у подростков с делинквентным поведением / / Посттравматическое стрессовое расстройство. М.: ГПЦССП им. В.П. Сербского, с. 120-143.
Долгова А .И., 1981. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних. М.
Дубов Г.В., Опалев А.В. (ред.), 1998. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: Учебное пособие. М.
Дюркгейм Э., 1998. Самоубийство. Социологический этюд. СПб.: Союз.
Ениколопов СИ.,Лебедев С.В., Бобосов ЕА. 2004. Влияние экстремального события на косвенных участников // Психол.журнал. Т. 25. №6. С. 73-81.
Ениколопов СИ., Мкрпгычян А.А. 2008. Психологические последствия терроризма / / Вопр. психол. № 3. С. 71-80.
Ефимова Е.С, 2003. Субкультура тюрьмы // Современный городской фольклор. М.: РГГУ, с. 231-236.
Желвис В. И., 2001. Полебрани // Сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира. М: Ладомир.
Зимбардо Ф.Д., 2000. Стенфордский тюремный эксперимент / / Пайнс Э., Маслач К. (ред.-сост.). Практикум по социальной психологии. СПб.: Пирет, с. 296-320.
Зинченко В.П. 1997. Живое знание. Психологическая педагогика. Материалы к курсу лекций. Ч. I. Самара: Самарский дом печати.
Зинченко В.П., Мунипов В.М. 1979. Основы эргономики. М.. МГУ.
Зинченко В.П. 1994. Возможна ли поэтическая антропология. М.: Росс, открытый университет.
Зинченко В.П., Величковский Б.М., Вучетич Г.Г. Функциональная структура зрительной памяти. 1980. М.: МГУ.
Зинченко В.П., 1997 б. Посох Осипа Мандельштама и Трубка Мамарджашвили: К началам органической психологии. М.: Новая школа
Зинченко В.П. Образ и деятельность. Воронеж: МОДЕК.
Зинченко В.П., Моргунов Е.Б., 1994. Человек развивающийся: Очерки российской психологии. М.: Тревога.
Зотов В.Б., 2005. Об опыте организации работы с населением, попавшим в экстремальные ситуации/ / Боевой стресс: механизмы стресса в экстремальных условиях: Сб. тр. симпозиума, посвященного 75-летию ГНИИИ ВМ. М.
Иванов В.Д., 1996. Влияние девиантного поведения на формирование замыслов о совершении преступлений //Преступность и профилактика преступного поведения молодежи. Ростов н/Д.
Идрисов К.А., 2003. Распространенность посттравматических стрессовых расстройств среди населения Чеченской Республики в условиях локальной войны / / Актуальные вопросы охраны психического здоровья населения. Краснодар, с. 445-449.
ИнкельсА., 1972. Личность и социальная структура / / Американская социология (перспективы, проблемы, методы). М.: Прогресс, с. 37-54.
Казеев Ш.М., Карпеев И.В., 2003. Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке. М: Мол. гвардия.
Кант И., 1965. Основы метафизики нравственности // Соч.: В 6 т. М.: Мысль, т. 4, ч. 1.
Кантор А. М., 2004. В тени культуры: Аффект и власть в России. Психоисторический опыт // Тетради Международного университета (в Москве). Вып. III, с. 18-34.
Китаев-СмыкЛА., 1964. Человек в невесомости: Психол. опыты / / Наука и жизнь, № 9, с. 16-21.
Китаев-Смык Л.А., 1977. Вероятностное прогнозирование и индивидуальные особенности реагирования человека в экстремальных условиях / / Вероятностное прогнозирование в деятельности человека. М.: Наука, с. 189-225.
Китаев-СмыкЛА., 1978.0 некоторых информационных аспектах этиопатогенеза / / Психология и медицина: Материалы к симпоз. М. Медицина, с. 428-431.
Китаев-Смык Л. А., 1988. Ясли в парадном зале // Химия и жизнь, № 10.
Китаев-Смык Л. А., 1983. Психология стресса. М.: Наука.
Китаев-Смык Л. А., 1989. Экология и психологический стресс// Природа, № 7, с. 98-105.
Китаев-Смык Л. А., 1996. Синдром заложника // Архетип №3-4, с. 17-20.
Китаев-СмыкЛ. А., 1997 а. Мирное население в начале гражданской войны // Архетип, № 1, с. 5-12.
Китаев-Смык Л. А., 1997 б. Попытка психоанализа мирного населения Чечни во время войны / /Архетип, № 5, с. 20-25.
Китаев-СмыкЛА., 2001. Стресс войны: Фронтовые наблюдения врача-психолога. М.: РИК.
Китаев-Смык Л .А., 2004. Тендерный кризис после многолетней войны в Чечне / / Мужчина и женщина: Диалог или соперничество? Т. 1.М.:ИАРАН, с. 345-361.
Китаев-Смык Л. А., 2005 а. Информация электронных СМИ о терактах и здоровье населения (доклад) //Терроризм и электронные СМИ. Первая международная конференция. Геленджик. Краснодарский край, Россия. 24-28 октября 2005 года http: / /antiterrorism.ru.
Китаев-Смык Л.А., 2005 б. Сексуально-вербальная защита и агрессия (матерная речь и матерная ругань). //Речевая агрессия в современной культуре. Челябинск: ЧГУ, с. 17-21.
Китаев-Смык Л.А., Галле P.P., Клочков A.M. и др., 1969. Клинико-физиологические исследования при длительном (до трех суток) действии на организм человека ускорений малых величин / / Тр. 3-й конф. по авиац. и косм, медицине. М., т. 1, с. 286-288.
Китаев-Смык Л.А., Галле P.P., Гаврилова Л.Н. и др., 1972. Динамика симптомокомплекса «укачивания» в процессе адаптации к длительному вращению / / Космическая биология и авиакосмическая медицина: Материалы Всесоюз. конф. Москва, Калуга, т. 2, с. 197-199.
Китаев-Смык Л.А., Голицын В.А., Мокеев В.П.., Софии В.А., Филиппенков С.Н., 2005. Динамический стенд моделирования искусственной силы тяжести «Орбита»: История разработки, характеристика и перспективы использования //Научное творчество К.Э. Циолковского и современное развитие его идей: Материалы XL научных чтений памяти К.Э. Циолковского. Калуга: ИП Кошелев А.Б., с. 106-107.
Китаев-Смык Л.А., Крок И.С, Ощепков Н.А., 1974. Исследование читаемости знакосинтезирующих электролюминесцентных индикаторов при кинетозе в условиях медленного вращения / / Проблемы инженерной психологии и эргономики: IV Всесоюз. конф. Ярославль,т. I.e. 153-156.
Китаев-Смык Л.А., Хромов Л.Н., 1981. Использование микроструктуры эмоционального стресса для формирования целепола-гания //IX Всесоюз. симпоз. по кибернетике. М.: Науч. совет по комплекс, пробл. «Кибернетика» при Президиуме АН СССР, т. № 1. с. 72-74.
Китаев-СмыкЛА., Сухая СМ. (ред.), 2005. «Загадочная отрава», «Труд», 23 декабря, с. 2.
Катаев Смык. Л А., 1989. Стресс и психологическая экология / / Природа. № 7, с. 98-105.
Китаев-Смык Л.А., 1997. Попытка психоанализа населения Чечни / / Архетип, № 3, с. 5-8.
Кобзев А.И., 2002. Эрос за китайской стеной. М.: Пионер.
Кон И., 2004. Сексология. М.. Издательский центр «Академия».
Константинов А. Е., 2005. Акмеологические условия саморегуляции отрицательных психологических состояний государственных служащих в особых условиях деятельности. Дис.... канд. психол. наук. М.
Конфуций, 1973. Древняя китайская философия: Собр. текстов. М.: Наука, т. 1.
Конюхов ЕМ. .БолоцкихМ.Е., Китаев-Смык J]'А. и др., 1965. А. с. 187931 (СССР). Устройство для исследования влияния на человека условий длительности вращения и ускорения кориолиса. Приоритет от 2 июля 1965 г.
Котова Э.С., Китаев-Смык Л.А., Устюшин Б.В., 1971. Исследование зрительных функций и ретинального кровообращения в условиях действия на организм человека комплексных ускорений / / Косм, биология и косм, медицина, № 4, с. 42-47.
КундераМ., 2005. Неведение. СПб: Азбука-классика, с. 167-168.
Кургинян С.Э., 2007. «Качели» — новый виток войны спецслужб и его влияния на ход политического процесса / / Доклад на заседании клуба «Содержательное единство». 11.10.07. www. kurginyan.ru.
Лабунская В.А., 1999. Психология выражения и проблемы формирования экспрессивного «Я» личности / / Прикладная психология, № 5, с. 53-62.
Лаудаев У., 1871. Чеченское племя: Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. 6. Тифлис.
Ле-Бон Г., 1995. Психология масс и народов. СПб.: Макет.
Ле-Бон Г., 1998. Психология масс. Самара: Бахрах, с. 5—45.
Левашова Т.Н., 2005. Опыт деятельности психологов при освобождении заложников театрального центра / / Вопросы психологии экстремальных ситуаций, №1, с. 29-35.
Леонтович Ф.И., 1883. Адаты кавказских горцев. Тифлис.
Ли Т.Ч., 1911-1912. История инквизиции в средние века. т. 1,2, СПб.: Брокгауз-Ефрон.
Линде Н., 2008. Сутра о счастьи / / Личный архив.
Линде Н.Д. 2008. Гнев, подавленный гнев и его коррекция в эмоционально образной терапии / / Вопросы психологии, № 2. с.20-28.
Ломов Б.Ф., 1975. О системном подходе в психологии.//Вопр. психологии, № 2, с. 3-12.
Лунина Е.Г., 1997. Социально-психологическая поддержка как фактор минимизации профессиональной деформации сотрудников правоохранительных органов. Автореф ... канд. пед. наук. М.
Лурье СВ., 2005. Психологическая антропология. М.: Академический Проект.
Маккей Ч., 2003. Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы. М.: Альпина паблишер.
Малкина-Пых ИГ, 2005. Экстремальные ситуации Справочник практического психолога. М.: Эксмо.
Мамардашвилли М.К., 1990. Как я понимаю философию. М.
Маринин М-, 2005. Детей душит ужас/ /Жизнь, № 292, 23.12, с. 4.
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23.
Марьин М.И., 2005. Психологическое сопровождение деятельности сотрудников в экстремальных условиях / / Вопросы психологии экстремальных ситуаций, № 1, с. 1-2.
Марьин М.И., Буданов А.В., Петров В.Е.. Борисова С.Е., Такасаева К.Р.. Адаев А.И., 2004. Профилактика профессиональной деформации личности сотрудника органов внутренних дел: Методическое пособие / Под общ. ред. В.М. Бурыкина. М.: ИМЦ ГУК МВД России.
МарьинМ.И., КасперовичЮ.Г., 2006. Психологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности ОВД и работа с кадрами / / Психопедагогика в правоохранительных органах. № 1 (25), с. 3-8.
Маурицио М., 2005. Агрессивность между Союзом и Россией: некоторые соображения или к постановке проблемы/ / Речевая агрессия в современной культуре. Челябинск: ЧГУ, с. 206-212.
Медведев B.C., 1991. Психология профессиональной деформации сотрудников внутренних дел. Автореф. ... дис. докт. психол. наук, Киев.
Московичи С., 1996. Век толп: Исторический трактат о психологии масс. М.: Центр психологии и психотерапии.
Иазаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи: Лекции по социальной и политической психологии. СПб.: Питер.
НаздрачеваЛ., 2007. На нас ставили опыты / / Новые Известия, 11 сентября, №163 (2280), с. 6.
Новиков М.А., 1981. Психофизиологические и экопсихологиче-ские аспекты межличностного взаимодействия в автономных условиях //Проблема общения в психологии. М.: Наука, с. 178-218.
Носуленко В.И., 1981. Общение в задачах оценки сигналов // Проблема общения в психологии. М.: Наука, с. 18-24.
Онищенко Г., 2005. О массовом отравлении детей в Чечне / / Газета «Труд», 22 декабря, с. 2.
Орлова ЭЛ., 1993. Культурная политика в контексте модернизаци-онных процессов/ / Теоретические основания культурной политики. М.: РИК, с. 47-75.
Панфилов О..МельниковМ., Григорян М. (ред.), 2006. Прикладная конфликтология для журналистов. М.: Права человека.
Пеев И.П., 1996. Психическа подготовка на личния състав на подноводиците. София: Изд. Св. Георги Победоносец.
Плотникова AM., 2006. Подросток в условиях социальной изоляции //Психопедагогика в правоохранительных органах, № 1 (25), с. 70-72.
Пономаренко В.А., 1998 Психология духовности. М.: Магистр.
Пэрна И.Я., 1925. Ритмы жизни и творчества. Л.; М.: Петроград.
Разлогов К.Э., 2006. Экранный гипертекст // Экранная культура в современном медиапространстве: методология, технология, практика. Кириллова КБ., Разлогов К.Э. (ред.). М.; Екатеринбург: ИПП Уральский рабочий, с. 8-14.
Разумов С. А., 1976. Экспериментальное изучение эмоционального стресса в условиях кормы // Эмоциональный стресс в условиях нормы и патологии человека. Л.: Медицина, с. 46-81.
Райкрафт Ч., 1998. Критический словарь психоанализа. М.
Риман Ф., 1998. Основные формы страха: исследование в области глубинной психологии. М.: Алетейя.
Савельев А.И., 2006. Мотивационные особенности преступного поведения несовершеннолетних // Психопедагогика в правоохранительных органах, № 1 (25), с. 75—77.
Савельев А.Н., 2007. Образ врага. Расология и политическая антропология. М.: Белые альвы.
Свядощ A.M., 1997. Неврозы: Руководство для врачей. СПб.: Питер.
Севастьянов В.И., 1979. Проявление некоторых психофизиологических особенностей человека в условиях космического полета / / Психологические проблемы космических полетов. М.: Наука, с. 29-38.
Сидоренко И.В., 2006. Антропология счастья. М.: МАКСПресс.
Совкова (Тарасова) И.Ю., 2003. Деструктивное поведение личности в кризисных ситуациях служебной деятельности/ / Психопедагогика в правоохранительных органах, № 1 (19), с. 73-81.
Сочиеко Д.В., Литвшико В.М., 2006. Пенитенциарная антро-погогика: Опыт систематизации психолого-педагогической теории и практики в местах лишения свободы. М.: ИПСИ.
Стенько Ю.М., 1978. Новые режимы труда и отдыха рыбаков в Северо-Западной Атлантике. Рига: Звайгзне.
Стенько Ю.М., 1981. Психогигиена моряка. Л.: Медицина.
Судаков К.В., 1981. Системные механизмы эмоционального стресса. М.: Медицина.
Суханов НМ., 1991. Записки о революции, т. 2. М.: Политиздат.
Такасаева К.Р., 2001. Морально-психологические факторы профессиональной деформации личности сотрудника ОВД. Автореф. дисс.... канд. психол. наук. М.
ТардГ., 1901. Социальная логика. СПб.
Тард Г., 1906. Социальные законы СПб.
Тимофеев ЮЛ., 2002. О некоторых проблемах предупреждения отклоняющегося (девиантного) поведения сотрудников органов внутренних дел / / Психопедагогика в правоохранительных органах, № і (17).
Ткаченко АЛ., Введенский Т.Е. (ред.), 2003. Аномальное сексуальное поведение. СПб: Юридический центр Пресс.
Ткаченко В.Д., 1980. Психология в практике рыболовного промысла // Психол. журн.,т. 1, №5,с. 140-145.
Тыртышкина Е.В., 2005. Агрессия авангардистского текста: цели и функция (теоретические заметки) //Речевая агрессия в современной культуре. Челябинск.: ЧГУ, с. 228-230.
Филипс Д.П., 2003. Влияние насилия, отображаемого в СМИ на совершение убийств в США / / Общественное животное: исследования. Аронсон Э. (ред.). СПб.: Прайм-Еврознак; М.: Олма-пресс.
Франкенхойзер М., 1970. Эмоциональный стресс. М.: Медицина.
Франкл В., 1990. Психолог в концентрационном лагере // Человек в поисках смысла. М.: Прогресс.
Франкл В., 2007. Сказать жизни «да»: психолог в концлагере. М.: Смысл.
Фрейд 3., 1990. Психоанализ детских неврозов / / Фрейд 3. Психология бессознательного. М.: Просвещение, с. 37-199.
Фрейд 3., 1998 а. Массовая психология и анализ человеческого «Я» / / Психология масс: Хрестоматия. Самара: Издательский дом «Бахрах»,с. 131-194.
Хани К., Манциолэти Д., 2003. Криминология на телевидении: искаженное изображение в средствах массовой информации реалий криминологии// Общественное животное: исследования / Аронсон Э. (ред.). СПб.: Прайм-Еврознак; М.: Олма-пресс, с. 190-211.
Харитонов А.Н., Корчемньш ПА. (ред.), 2001. Психология и психотерапия в условиях воинской деятельности. М.: ВУ.
Хейдметс М-, 1979. Обзор исследований о пространственном факторе в межличностных отношениях // Человек. Среда. Пространство. Тарту: ТТУ.
Цуканова Е.В., 1981. Влияние межличностных отношений на процесс общения в условиях совместной деятельности / / Проблема общения в психологии. М.: Наука, с. 148-168.
Човдырова Г.С, 2000. Проблемы стресса, психической дезадаптации и повышения стрессоустойчивости личности в условиях социальной изоляции / / Тюремная библиотека, вып. 4.
Шадриков В.Д., 1995. Духовные способности. ЯрГУ.
Шестаков В.П., 2007. Катарсис: от Аристотеля до хард-рока, с. 8-27 / / Катарсис: метаморфозы трагическогосознания. Шестаков В.П. (ред.). СПб.: Алетейя.
Шилова Л.А., 2006. Из опыта оказания психологической помощи сотрудникам в г Беслане // Вопросы психологии экстремальных ситуаций, № 1, с. 4-8.
Эзоп. 2003. Заповеди. Басни Жизнеописания. Ростов н/Д.: Феникс.
Энгвер НИ., 1990. Стелющаяся яблоня, или «Лагерный» синдром //Радикал, № 1, октябрь.
Эриксон Э., 1996. Идентичность: юность и кризисы. М.: Прогресс.
Юнг К.Г., 1991. Архетип и символ. М.: Ренессанс.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Со времени, когда первое издание монографии «Психология стресса» появилось в магазинах, прошло более четверти века. В ней опубликован анализ результатов изучения стресса, полученных в уникальных лабораторных и натурных экспериментах, проведенных по инициативе и при участии автора. Это была большая удача, и он ею воспользовался по мере своих сил, но в основном благодаря поддержке коллег и властных «лиц, принимавших решение» на заре космоплавания. Энергичные противодействия изданию «Психологии стресса» оказались несостоятельными.
Как ни странно (для автора), но анализ многообразия проявлений стресса с учетом позиции разных научных дисциплин (психологии, психофизиологии, медицины, инженерной психологии, социологии и др.), представленный уже в первом издании монографии, до настоящего времени привлекает очень многих ученых и практиков; свидетельство этого — тысячи цитирований и ссылок в Интернете. «Психология стресса» стала раритетом. Это было доказательством, которое смогло убедить автора в необходимости ее переиздать.
Согласившись на переиздание монографии «Психология стресса», автор решал две задачи: сократить ее текст, по возможности переписав его современным общедоступным языком, чтобы сделать учебным пособием для начинающих свой путь и для опытных профессионалов, работающих в смежных с экспериментальной психологией областях. Вторая задача — расширить анализ психоантропологии стресса за счет исследований автора, выполненных в последние годы, и публикаций, подтверждающих его гипотезы.
Благодарности. Прежде всего благодарю моего деда Ефима Михайловича Смыка: многому научил он меня и создал позитивный вектор всей жизни. Благодарен я родителям: матери Матрене Васильевне Китаенко, отцу Александру Ефимовичу Смык-Китаеву; энергичные и умные, они смогли сохраниться вопреки сталинским репрессиям, показав мне границу между жизнью и смертью. Благодарю близких мне людей, поддерживавших и вдохновлявших меня, друзей, коллег и сослуживцев, помогавших и разделявших трудности работы в экстремальных условиях. Моя сердечная признательность добровольцам-испытуемым, летчикам, космонавтам, российским воинам (солдатам, офицерам и генералам), ставшим и объектами моих исследований, и беззаветными помощниками в сборе и анализе научных данных. Благодарю людей, спасавших меня в «горячих точках» нашей страны и за ее рубежами. Особая благодарность Наталии Николаевне Крюковой, зам. директора Российского института культурологии, несколько лет помогавшей, заставлявшей, воодушевлявшей меня работать над этой книгой.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Биография Л.А. Китаева-Смыка, составленная American Biographical Institute, Inc. и опубликованная в сборнике биографий Five Hundred Leaders of Influence (1998, p. 148—149). Ниже перевод с английского.
«Леонид А. Китаев-Смык, родился 18 мая 1931 г. в Москве, столице СССР. Его отец, Александр, был профессиональным администратором, мать, Матрена, была дипломатом-экономистом.
Детство Л. Китаева-Смыка прошло в России, Китае и Японии с родителями. Отрочество протекало во время Второй мировой войны, сначала под фашистскими бомбардировками, потом в маленьком селе среди дикой степной природы. Там ему приходилось выполнять мужскую сельскую работу, так как взрослые мужчины были далеко, на войне. Основное чувство его детства и отрочества — "радость узнавания разнообразия мира".
После учебы в средней школе и Первом московском медицинском институте (там он получил диплом врача с отличием) он работал практикующим врачом с 1955 года. Его юность проходила на фоне чувства "беспечности", она была психологической защитой против опасности репрессивного коммунистического режима Сталина.
В 1956 году, как врач, отличившийся при лечении и изучении эпидемии гриппа, Л. Китаев-Смык был переведен на научную работу в Академию медицинских наук. Он ассистировал в исследованиях гомотрансплантации эндокринных желез у животных. Он понял, что такая трансплантация бесперспективна, так как живая субстанция на планете Земля разделена на особи, которые ограждены иммунитетом от прирастания одной особи к другой. Потом он изучал в экспериментах на животных действие сердечных глюкози-дов, нейролептиков, участвовал в создании новых лекарств.
В раннем детстве (Леониду было пять лет) отец рассказывал ему о космосе, и после этого он всегда мечтал о полетах на другие планеты. Когда отец тяжело заболел, Леонид Китаев-Смык думал о будущей космической медицине и о лечении невесомостью. Поэтому он оставил удачно начавшуюся научную карьеру и в 1960 году перешел в секретный тогда Летно-исследовательский институт.
Несколько счастливых факторов сопутствовали Л.А. Китаеву-Смыку.
Во-первых, это был гражданский (невоенный) институт, поэтому там не было военной рутины, свойственной военным учреждениям. Во-вторых, Л. Китаев-Смык руководил маленькой группой врачей-исследователей, вкрапленной в огромный инженерный коллектив, и у него была полная свобода проведения экспериментов (медицинских, физиологических, фармакологических, психологических), на него не давили авторитетные начальники. В-третьих, он проводил пионерские — впервые в СССР — исследования, поэтому (в соответствии с секретным законодательством) сам должен был определять секретность результатов исследований своей группы. Он регистрировал их как несекретные и мог публиковать в несекретных научных журналах, докладывать на научных конференциях.
В 1961 году Л.А. Китаев-Смык начал изучать действие невесомости на людей и животных в авиационных полетах по параболе. Невесомость продолжительностью тридцать секунд можно было создавать многократно, изучая ее действие на многих людей разного возраста, пола, разного состояния здоровья. Сам Л. А. Китаев-Смык был в такой невесомости 2580 раз. При кратковременной невесомости он проводил физиологические, психофизиологические, эргономические экспериментальные исследования. Большинство из них проводилось впервые в мире. Было получено много очень интересных практических результатов и теоретических концепций. [Кандидатская диссертация Л. Китаева-Смыка «Функции зрения при кратковременной невесомости» была защищена на закрытом заседании Ученого совета.]
Д-р Л. Китаев-Смык участвовал в подготовке первых советских астронавтов: Юрия Гагарина и других.
В 1963 году д-р Л.А. Китаев-Смык выступил с инициативой изучения влияния на людей искусственной силы тяжести во время полетов на другие планеты. При его участии был изобретен и построен наземный имитатор межпланетных космических кораблей — большая вращающаяся квартира-центрифуга. Полезной конструктивной новизной этой центрифуги была возможность входить в ее внутренние апартаменты во время вращения (не останавливая его). Это очень расширило круг проводимых физиологических, психофизиологических, психологических, эргономических, социологических исследований стресса, возникающего во время непрерывно длительного (многонедельного) вращения. Результаты этих исследований отражены в многочисленных научных публикациях и обобщены в монографии (Л.А. Китаев-Смык. Психология стресса. М.: Наука, 1983 [представлена как докторская диссертация]). Разработаны рекомендации для строительства межпланетных космических кораблей и полетов на них. Можно надеяться, что эти рекомендации будут полезны в будущем.
Основной эмоцией д-ра Л.А. Китаева-Смыка в этом периоде жизни было «изнуряющее воодушевление реализацией великих задач». В это время советская империя вступила в период стагнации, скорого распада. Позднее других отраслей науки и промышленности стагнация охватила авиацию и астронавтику.
Из-за этого в 1973 году д-р Л.А. Китаев-Смык оставил престижную работу в астронавтике и перешел в только что созданный Институт психологии АН СССР, начал теоретическое обобщение полученных им ранее результатов экспериментального изучения стресса. Им была создана и опубликована генеральная концепция стресса. Она объясняет его вегетативные и соматические проявления, когнитивные проявления при стрессе и нарушения общения людей при экстраординарных влияниях.
Институт психологии АН СССР переживал стагнацию вместе со всей советской империей. Чтобы ускользнуть от ее обесчелове-чивающего воздействия, д-р Л.А. Китаев-Смык в 1974 году, продолжая работать в институте, согласился быть волонтером в Кремле (неоплачиваемым советником в высшей администрации СССР). Поначалу он был удивлен тем, что его скрываемая неприязнь к тоталитарному режиму в СССР, проявляющаяся в его экспертных рекомендациях, не отвергалась высшей государственной администрацией. Он думал, что советская власть нежизнеспособна и подлежит ликвидации, но он излагал все это в очень завуалированной форме. В Кремле были очень умные люди. Они полностью понимали его, продолжали приглашать его и давали ему заказы: анализировать и прогнозировать разные проблемные ситуации в СССР.
С 1987 года он изучал психологический и социологический стресс в «горячих точках» в СССР. Сам присутствовал там, где были или могли быть массовые беспорядки или боевые действия внутри СССР: в Дальневосточном регионе, в Таджикистане, на Кавказе, в Прибалтике. Несколько раз д-р Л.А. Китаев-Смык проводил психологические и психоаналитические исследования в Чечне во время войны: и у чеченских боевиков, и у российских солдат. Д-р Л.А. Китаев-Смык в надежде на Бога и с опорой на искренность своих добрых, миротворческих помыслов обретал в себе смелость и силы. Интересные научные находки его психологических и социологических исследований военного стресса публиковались в прессе и научных журналах, доложены на международных конференциях.
С 1993 года д-р Л.А. Китаев-Смык работает в Российском институте культурологии над темой «Культурология глобальной безопасности». Им сделано ранее боле 300 научных публикаций, семь монографий, двенадцать изобретений, немало публицистических выступлений в СМИ. Он работает над монографиями: «Психологическая антропология стресса», «Психология чеченской войны (Введение в психологию военного насилия)».
Д-р Л.А. Китаев-Смык в молодости и в зрелые годы посвящал свободное время парашютному спорту и альпинизму. Он житель Москвы, женат, отец Екатерины, Юли и Александра».
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ................................................ 3
Глава 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ СТРЕССА 9
1.1........................................................................... КОНЦЕПЦИЯ СТРЕССА ГАНСА СЕЛЬЕ — «ОБЩИЙ
АДАПТАЦИОННЫЙ СИНДРОМ»............ 9








