4. 3. Восприятие при стрессе
4.3.1. Изменение зрительного восприятия при кратковременном гравитационном стрессе. Реакции зрения в полетах по параболе
У обитателей Земли восприятие всего происходящего на нашей планете так «рассчитано и создано» Природой, чтобы мы могли адаптироваться почти ко всем возможным на этой планете стрессорам. Так как притяжение планеты всегда одинаково и лишь на мгновения изменяется при прыжках и падениях (не смертоносных), то ощущение гравитации «не удостоилось» представительства в коре больших полушарий головного мозга и, следовательно, не осознается нами как то, что мы видим, слышим, осязаем, обоняем. И угловые ускорения (повороты) также воспринимаются ограниченно, т. к. устройство шеи и тела не приспособлено (за ненадобностью) к быстрым и долгим вращениям.
Создание скоростных транспортных средств (автомобилей, самолетов, космических кораблей) обрушило на управляющих ими людей массу гравиинерционных стрессоров (ускорений, вращений и т. п.), непривычных для человеческого организма. Возникли вопросы: насколько при этом разлаживается сложнейшая система взаимодействия органов чувств (анализаторов) и быстро ли и насколько полно наступает адаптация к таким «транспортным» стрессорам. Наиболее важным была проблема сохранения надежного зрительного восприятия как наиболее значимого для человека.
Изобретение маневренных самолетов, сделавших возможной технику высшего пилотажа, поместило человека в условия, где на него действовали непривычные и небезразличные для организма изменения действия земной гравитации, необычные вращения, инерционные перегрузки, которые могли отрицательно сказываться на работоспособности пилотов и в конечном итоге на безопасности полета. Некоторые изменения (нарушения) функций сенсорной и двигательной сфер организма, которые были отмечены летчиками при изменениях силы тяжести в полете, сразу же привлекли внимание не только создателей авиационной техники, но и психологов. Еще в 1928 г. Вульфтен-Пальте, известный летчик-врач, много сделавший для развития зарождающейся авиационной психологии, провел летный эксперимент, изучая иллюзию «смещения» приборной панели в кабине самолета, возникающую у летчиков при пониженной весомости во время вхождения в пикирование. Результаты исследований кажущихся смещений визуального поля, возникающих при повышении и понижении действия силы тяжести, были обобщены Аштоном К. Грейбилом в 1952 г. в монографии «Окулограви-ческие иллюзии». Проблема работоспособности человека в невесомости стала особенно актуальной с созданием ракетной техники, которая должна была обеспечить возможность космических полетов человека. Огромное значение сохранности зрения в этих условиях связано, во-первых, с тем, что оно обеспечивает поступление человеку большей части информации; во-вторых.
с тем, что в невесомости вследствие исчезновения реакции опоры существенно нарушаются функции специфических и неспецифических гравирецепторов и, таким образом, возрастает «удельный вес» зрения.
Несмотря на большое число физиологических исследований, выполненных в невесомости, поначалу лишь отдельные сообщения касались надежности зрения. Сопоставление и анализ разрозненных результатов затруднялись различием как методов исследования зрения разными авторами, так и способов создания ими состояния невесомости [Китаев-Смык, Л.А. 1967 а, 1968 а, 1969, 1977, 1978; Петров Ю.П., 1969; Anthony A.J., 1956; PiggL.D., 1961; Sasaki Е.Н., 1965; White W.J., Monty B.A., 1963; White W.J., 1965 и др.]. В связи с этим вопрос о характере зрительного восприятия в условиях невесомости оставался во многом не решенным.
Для повышения надежности полетов при действии на экипаж невесомости первоочередной задачей явилась оценка вероятности возникновения изменений зрительного восприятия в первые секунды ее действия. Для решения этой задачи мной проводились многолетние наблюдения за людьми, впервые находившимися в условиях невесомости, и опрос их после полета.
Как указывалось в предыдущих главах (2.1, 2.2 и др.), в начале действия невесомости возможны возникновения интенсивных эмоций, существенные сдвиги в работе органов чувств. Следует учитывать и то, что начальный период действия невесомости связан с особым напряжением в работе пилотов и космонавтов.
В режимах кратковременной невесомости испытуемым и членам экипажа специально оборудованной самолета-летающей лаборатории (ЛЛ ТУ-104А № 42396) предлагалось обращать внимание на свои ощущения, а также следить за окружающим. Если в режимах невесомости или перегрузки обнаруживались реакции, которые могли быть результатом изменения визуального восприятия, испытуемые согласно дополнительной инструкции должны были в последующих режимах обращать на них особое внимание. Они пользовались электросекундомером для регистрации времени возникновения и продолжительности субъективно воспринимаемых реакций зрения.
В полетах при кратковременных воздействиях невесомости были обследованы 425 человек, из них 215 не имели летного опыта. Об изменениях зрительного восприятия во время действия невесомости сообщили 46 человек.
Первый тип нарушения зрения объединяет то, что во всех случаях у испытуемых в невесомости нарушалась способность видеть окружающее. Все четырнадцать человек, у которых возникали такие нарушения, были представителями нелетных профессий и впервые находились в невесомости. Зрительные реакции возникали у этих людей в невесомости на фоне представления о падении «вниз» и чувства испуга. Три человека сообщили, что в начале первого пребывания в невесомости «ничего не видели». За двумя из них в полете велось наблюдение и производилась кинорегистрация их поведения. У обоих отмечены в начале невесомости мимические реакции, характеризующие испуг. Один из них в это время размахивал руками перед собой, другой крепко держался, подтягиваясь к лееру, укрепленному на потолке кабины, но глаза оставались открытыми. Семеро других отмечали в первые секунды первого для них пребывания в невесомости «затуманивание», «расплывание» видимых предметов. Три человека сообщили о кажущемся сужении поля зрения.
Следующий тип нарушений зрения у 12 человек характеризовался возникновением визуальных иллюзий движения. Из них семь человек описали в послеполетных отчетах кажущееся смещение видимых предметов вниз при возникновении невесомости и вверх — после ее окончания. Пятеро сообщили, что во время невесомости они видели многократное вертикальное «подергивание» предметов; у трех из этих испытуемых на протяжении первой секунды невесомости обнаружены вертикальные нистагмоидные движения глаз. Один испытуемый сообщил, что во время первого пребывания в невесомости панель прибора, с которого он должен был считывать показания, казалась ему циклично перемещающейся — «медленно вниз, затем быстрее вверх и т. д. Считывать данные при этом не мог» (из отчета испытуемого Ф.). Иллюзорное движение происходило всегда в вертикальном направлении. Из двенадцати человек, сообщивших о кажущихся перемещениях визуального окружающего пространства, пятеро имели значительный летный опыт.
Еще один тип нарушений зрения был связан с изменением восприятия глубины (у пяти человек). Четверо отметили во время невесомости кажущееся удаление видимых объектов или «вытягивание» кабины. Из отчета испытуемого Л.: «Во время полета я сидел на полу салона для парения, ни за что не держась. Во время перегрузки мягкие маты, на которых я сидел, промялись и в невесомости подбросили меня вверх. Но я почувствовал, что лечу не вверх, а вниз, в колодец. При этом все виделось удаленным и уменьшенным, как будто я действительно смотрел из колодца. Вначале ощущал страх, как при падении. Потом чувство страха прошло, но картина, "как из колодца", еще сохранялась. Когда я стал летать по салону, отталкиваясь от стен, то видел все как обычно, чувство "как из колодца" прошло как-то незаметно». По данным расшифровки киносъемки, испытуемый Л. с наступлением невесомости взмахнул руками и, медленно поворачиваясь назад через голову, завис в воздухе. На лице выражение удивления. На 4-й секунде невесомости ухватился за поручень. На 7—10-й секундах разговаривал с испытуемым П. Иногда отталкивался и плыл по салону. У одного испытуемого в режиме невесомости возникло иллюзорное приближение наблюдаемого объекта. Из отчета испытуемого К.: «Во время невесомости, приборная панель стала приближаться к моему лицу. Я подумал, что при перегрузке не выдержали крепления, и схватил панель руками... Она была закреплена».
Субъективные реакции еще двух человек имели сложный характер и могут расцениваться как сочетание различных зрительных иллюзий. Из отчета первого из них — испытуемого И.: «Во время полета в соответствии с заданием наблюдал за показаниями индикатора, расположенного передо мной на уровне груди. При действии перегрузки работоспособность не изменилась. В невесомости индикатор стал опускаться вниз, казалось, ниже колен. Я схватился за стол, на котором был укреплен индикатор, чтобы помешать ему опускаться. Почувствовал, что я тоже опускаюсь вниз. Ухватиться за стол не сразу удалось, т. к. в это время я видел только индикатор. Все остальное исчезло. Стола я тоже не видел. Когда после невесомости наступила перегрузка, все виделось обычным; только руки были тяжелее. При повторениях невесомости ничто не мешало считывать показания прибора».
Второй испытуемый С, согласно протоколу эксперимента, в первом режиме невесомости не смог считывать показания прибора, а в последующих режимах производил считывания в соответствии с инструкцией, безошибочно. Из отчета испытуемого С: «Во время перегрузки почувствовал, что мягкая подушка сиденья медленно продавливается под отяжелевшим телом, кровь отливает от лица. И вдруг... будто кабина самолета раскололась и стремглав стала падать. Стало светлее, но туманно; все, что было перед глазами, поехало вниз и остановилось ниже градусов на 10-15. Ужас сдавил горло, захватило дыхание. Подушка кресла расправилась, вытолкнув меня. Руки судорожно сжимали подлокотники. Я понял, что это невесомость. Вокруг был не простой туман. Казалось, что совершенно побелели, будто покрылись снегом или инеем, все светлые части предметов, а темные, напротив, почернели. При этом поблекли цвета, как на недодержанном фотоснимке, напечатанном на контрастной фотобумаге. Все это сохранялось секунд 15-20. И вдруг сразу облегчение, чувство радости. Все еще крепко сжимая руками подлокотники кресла, я стал понемногу взлетать над ним и осматриваться. Все казалось таким умытым, как после дождя, цвета ярче. В последующих режимах невесомости чувство падения и страха было менее выраженным. Затуманивания предметов я больше не замечал». По данным киносъемки: «С наступлением первого режима невесомости на лице испытуемого С. появилось выражение испуга, который через 4 секунды сменился улыбкой, и он стал оглядываться вокруг».
Таким образом, немногие из числа обследованных (7,7 %) отметили в условиях невесомости те или иные нарушения зрительного восприятия. Во всех случаях эти явления расценивались испытуемыми как «кажущиеся». В большинстве случаев реакции зрения появлялись у лиц, не имеющих летного опыта,— у 26 человек. Из числа людей летных профессий указанные реакции были лишь у семи. Во всех случаях зрительные иллюзии появлялись одновременно с исчезновением силы тяжести в первом же режиме невесомости. После нескольких пребываний в невесомости иллюзии перестали возникать.
У лиц, не имеющих летного опыта, преобладали нарушения видимости (иллюзорные затуманивания поля зрения, расплывание видимых предметов и т. д.). Эти реакции возникали на фоне чувства страха и выраженного двигательного и эмоционального возбуждения, были непродолжительны (2—5 с). В большинстве случаев наблюдались лишь в первом режиме невесомости. Иллюзорные смещения визуального поля возникали у 13 человек и сохранялись, как правило, на протяжении всей невесомости, повторяясь в 1—3 ее режимах. Иллюзорное искажение зрительно воспринимаемой глубины отмечено двумя испытуемыми — одним на протяжении одного режима, другим — на протяжении двух режимов невесомости. Важно отметить, что нарушения зрения появлялись только у тех, у кого в режимах короткой невесомости было ощущение опускания вниз — «падения», «проваливания». У них в этих полетах не было ни тошноты, ни рвоты. И напротив, ни у одного из «тошнотиков» в невесомости не было заметных нарушений зрения. В связи с этим еще в 1961 г. я рекомендовал отбирать из числа космонавтов для работы с визуальными индикаторами, шкалами, приборами именно «тошнотиков», а для работы с интенсивными перемещениями при невесомости в кабине и в открытом космическом пространстве направлять тех, кого не тошнит при тестировании в кратких режимах невесомости (в авиационных полетах по параболе) [Бестужев К.И., Берез-кин Е.Т., Китаев-Смык Л.А., Клочков A.M., 1961].
В режимах невесомости (и перегрузки) во время полетов по параболе мной было обнаружено изменение различной функции зрения, в том числе и цветовосприятия. Это свидетельствовало о сложности взаимодействующих систем в структуре анализатора одной (в данном случае зрительной) модальности [Китаев-Смык Л.А., 1963,1964; Китаев-Смык Л.А., 1969; Китаев-Смык Л.А., Пинегин Н.И., 1966 и др.]. Стрессогенные факторы могут изменять сбалансированность этих систем, что сказывается на показателях восприятия, регистрируемых инструментально, и воспринимаемых как субъективно заметные изменения внешней среды. А если, по мнению испытуемого, их «быть не может», то они интерпретируютя им как сенсорные иллюзии.
Большой серией экспериментов в коротких режимах невесомости и перегрузки, т. е. при гравитационном стрессе, были
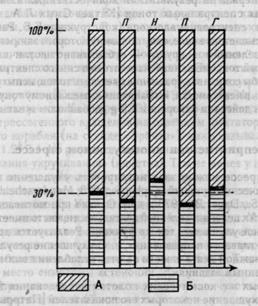
Рис 28. Изменения цветовой чувствительности при кратковременном гравиинерционном стрессе (в режимах невесомости и перегрузки):
Яркость (в%). А — желтого — 560 нм. Б — синего — 450нм. Эти спектраль ные тона «смешивались» испытуемыми так. чтобы приравнять их смешанный тон к зеленому («салатовому») спектральному тону с длиной волны 540 нм установлены разнонаправленные изменения чувствительности зрения к синему и желтому насыщенным и спектральным тонам. Если ненасыщенные цветовые тона (близкие к порогу различения цвета) при изменении действия силы тяжести (возникновение ускорения 1,5 g или невесомости) казались еще менее насыщенными или бесцветными, то насыщенные тона при тех же воздействиях казались более насыщенными и яркими. При возникновении невесомости испытуемым казалось, что намного ярче других насыщенных цветов становился желтый тон. При ускорении 1,5 g несколько более ярким и насыщенным казался синий цвет. Эксперименты проводились с окрашенными полями, колориметрированными с помощью «Атласа цветов» Е. Б. Рабкина и при его консультационной помощи.
Указанные качественные данные [Китаев-Смык Л.А., 1963] были подтверждены результатами количественных измерений восприятия спектральных тонов [Китаев-Смык Л.А., 1969]. С помощью спектроанамалоскопа (конструкции Е.Б. Рабкина) создавалось цветовое поле, одну половину которого занимал спектральный зеленый тон, другую — субъективно неотличимый от него зеленый тон, смешанный из желтого и синего спектральных тонов. Чтобы сохранять уравнение цветовых тонов, испытуемые, оказавшись в невесомости, «добавляли» к смешанному тону синий цвет, а при действии ускорения 1,5 g «добавляли» желтый цвет (рис. 28).
4.3.2. Восприятие при многосуточном стрессе
При стрессе можно зарегистрировать ухудшение целого ряда психических функций [Kaplan S., 1973; Manderscheid R. W., Silbergeld S., Dager В., 1976 и др.]. Однако при мотивации, побуждающей к целенаправленной деятельности, часто имеет место значительное улучшение тех же функций. Реализуется принцип «усиления главного направления», т. е. улучшение результатов наиболее важной деятельности за счет ослабления внимания к второстепенным заданиям.
В первых же космических полетах исследования зрения выявили ухудшение некоторых его показателей [Петров Ю.П., 1969; Хрунов Е.В., Хачатурьянц Л.С., Попов В.А., Иванов Е.А., 1974]. Вместе с тем космонавты отлично выполняют задания, связанные со зрительной нагрузкой [Береговой Г.Т., Бузни-ков А.А., Васильев О.В. и др., 1972 и др.]. Более того, стали известны многочисленные случаи наблюдения из космоса столь мелких наземных объектов, что это, казалось бы, противоречило научным данным о возможностях зрения. Оценивая эти случаи, во-первых, не следует забывать, что усредненные данные, полученные в целях профотбора, отражают скорее нижнюю границу его требований. Во-вторых, в «космическом феномене» проявляется процесс «обучения видению», который постепенно реализуется при профессиональном обучении и из-за этой постепенности иногда ускользает от исследователей зрения. Впервые попав в космос, человек оказывается как ребенок перед беспрецедентным фактом, как обучающийся ремеслу, но в кратчайшие сроки оснащенный умением обучаться. Такой процесс «обучения видению» описан В.И. Севастьяновым: «В первые дни с космической высоты я различал мало объектов. Потом стал замечать суда в океане. Затем — суда у причалов. В середине полета обнаружил поезд, подходивший к мосту. Первое время возле дороги виднелись какие-то квадратики. Через несколько дней заметил, что это приусадебные участки. Вскоре стал различать, какие из них вспаханы, а какие нет. В конце полета уже видел постройки на этих участках... Начинаешь замечать крупные объекты: острова, моря, горные цепи. Потом поле зрения "сужается", становится больше знакомых объектов. После второй недели полета стоило взглянуть в иллюминатор, и я сразу узнавал, где летит корабль» [Севастьянов В.И., 1979, с. 30—31].
У испытуемого Ко-ва (рис. 29) в ходе 15-суточного непрерывного стрессогенного вращения на наземном имитаторе межпланетного корабля (на стенде «Орбита»), как указывалось выше (см. 3.1.2—3.1.4), развился болезненный дистресс — «болезнь укачивания-укручивания» (кинетоз). Тем не менее у него сохранялась психологическая установка на преодоление проявлений дистресса и вместе с этим регистрировалась удовлетворительная работоспособность. Указанная двойственность проявлялась в направленности изменений показателей восприятия. Ухудшилась аккомодационная возможность зрения, снизилась способность к конвергенции глазных яблок, при длительном напряжении возникали болезненные ощущения в области глазниц. Таким образом, имели место симптомы астенопии. Это усиливало неблагоприятные проявления дистресса: головную боль, чувство тошноты, мышечную слабость. (Такие же явления — усиление кинетоза «по замкнутому кругу» — были зарегистрированы нами у всех испытуемых в аналогичных экстремальных условиях.) В то же время у Ко-ва, как и у других испытуемых, существенно возросла острота зрения, т. е. один из ведущих показателей зрительной работоспособности. Острота зрения связана с центральным кол-бочковым зрением, обеспечивающим цветовосприятие. В связи с этим я предположил, что цветовосприятие у Ко-ва при дистрессе улучшилось. С помощью спектроаномалоскопа конструкции Е.Б. Рабкина было обнаружено, что пороговая чувствительность к коротковолновой (синей) части спектра, действительно, возрастала. Однако в то же время чувствительность к средне- и длинноволновым цветовым тонам (зеленому, желтому, красному) снизилась. Надо полагать, эти фрагментарные улучшения зрения (несмотря на симптомы астенопии) связаны не с тотальным повышением чувствительности колбочкового зрения, а с изменением нейрогуморальных и иных «механизмов» в высших интегративных уровнях зрительной системы.
Связь зрительного, в частности цветового восприятия, с вегетативными функциями организма может быть проиллюстрирована эффектом цветовых воздействий на вегетативные симптомы стресса. Мной обнаружено, что быстрая установка перед испытуемым хорошо освещенного яркого желтого экрана («цветовая нагрузка») могла при наличии легкой тошноты провоцировать рвоту; это воздействие часто вызывало у испытуемых (при наличии у них симптомов кинетоза) ощущение удара в живот. «Цветовая нагрузка» с использованием коричневого, оранжевого цветов тоже заметно усиливала имеющуюся при кинетозе тошноту [Китаев-Смык Л.А., 1977]. «Цветовые нагрузки» с использованием голубого, фиолетового и главным образом синего, напротив, несколько снижали тошноту при стрессе-кинетозе. Следует сказать, что известно много экспериментальных данных относительно влияния цветовых воздействий на вегетативную систему [Шапиро Б.И., 1965; StolperJ.H., 1977 и др.].
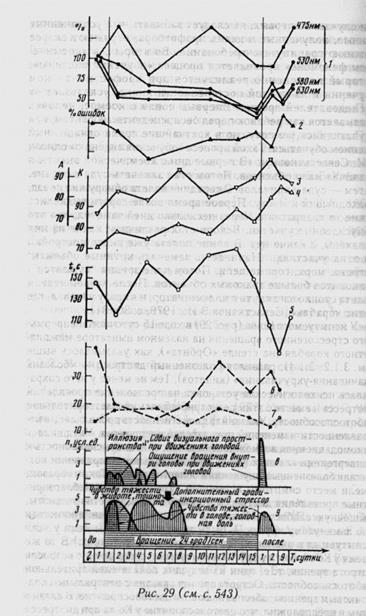
Рис. 29. Сенсорно-перцептивные показатели при многосуточном стрессе у испытуемого Ко-ва (при жизнедеятельности его в стенде «Орбита», вращающемся с угловой скоростью 24 град/с).
1 — пороговая контрастная чувствительность (по яркости) цветового зрения к спектральным тонам 475,530,580,630 нм.; 2 — острота зрения; 3 — максимальная аккомодация (шкала А в мм); 4 — максимальная конвергенция (шкала К в мм); 5— пороговая чувствительность периферического зрения (в сек.); 6 — продолжительность нистагма при «сильном» вестибулярном воздействии (вращение на кресле Барани со скоростью 10 оборотов за 20 с); 7 — продолжительность нистагма при •слабом» вестибулярном воздействии (вращение на кресле Барани со скоростью 5 оборотов за 20 с ); 8 — сенсорные иллюзии: «внешние» (сдвиг визуального пространства при движениях головой) и «внутренние» (ощущение вращения внутри головы при движениях головой).
♦Жирной короткой» стрелкой обозначено время двухчасовой остановки вращения стенда «Орбита» по техническим причинам (эта остановка стала «дополнительным» гравиинерционным стрессором).
В описанных выше исследованиях максимально противоположные эффекты создавали при стрессе желтый и синий тона. О полярности субъективной оценки именно желтого и синего цветов говорил известный художник Василий Кандинский. Функциональные механизмы, лежащие в основе этой полярности, следует обсуждать с учетом двойственности нашего зрения, т. е. наличия фотопического и екотопического зрения, и того, что максимальная чувствительность одного адресована к желтой, другого— к синей частям цветового спектра. Полярные эффекты желтого и синего цветов были подмечены в древности и отражены в представлениях о субстанциях «янъ» и «инь». Ц. Ле-Престр сообщает, что первоначально на Дальнем Востоке янъ было обозначением солнечного склона горы, инь — теневого [Le Prestre С. 1971, с. 178]; в дальнейшем под этими понятиями стали понимать более широкие явления. В последние десятилетия опубликовано немало экспериментальных данных о том, что сложность реакции зрительного анализатора при гравитационных стрессорах не исчерпывается «двойственностью», обнаруженной автором этих строк и описанной выше.
4.3.3. Зрительные иллюзии при кратковременном гравиинерционном стрессе
Следует отметить, что у лиц, имеющих значительный летный опыт, зрительные реакции в невесомости были чаще в виде иллюзорного движения оптического поля и искажения видимой глубины пространства, а не ухудшения видимости окружающего. И как ни странно, у «опытных» испытуемых такие зрительные иллюзии были намного более устойчивы (повторялись в большем числе режимов невесомости), чем у людей нелетных профессий.
Наиболее изученной зрительной иллюзией, возникающей в условиях невесомости, стала так называемая окулогравиче-ская иллюзия — кажущийся вертикальный сдвиг пространства [Китаев-Смык Л.А., 1968 a; Roman J.A., Warren В.Н., Graybiel А., 1964 и др.]. Она чаще возникает в условиях затемнения при наблюдении за тускло светящимся ориентиром во время гравитационных воздействий у большинства людей и воспроизводится при многократных повторениях такой ситуации. То, что в ходе настоящего исследования окулогравическая иллюзия была отмечена только четырьмя из 425 обследованных, следует объяснить отсутствием затемнения в кабине нашего самолета во время изменения силы тяжести в полете, а также тем, что многие из наблюдавшихся нами в полетах людей ко время невесомости были заняты реальной, подчас напряженной деятельностью, что, как известно, стимулирует осознаваемость текущей ситуации и препятствует активизации в сознании иллюзорных представлений. В темноте снижение тонического влияния интегративных центров центральной нервной системы наряду со снижением значимости сигналов об оптическом пространстве способствует возникновению иллюзорного восприятия [Popov V.A., YuganovE.M., 1967].
Экспериментальные данные [Китаев-Смык Л.А., 1968 а] позволяют считать, что окулогравическая иллюзия при гравитационных воздействиях не является результатом движения глазных яблок. Как полагал 3. Гратеволь [Gerathewohl S., Ward J., 1960], она возникает как актуализация в сознании обратной афферентации, сигнализирующей об изменениях в глазодвигательном аппарате, компенсирующих тонические влияния на него гравирецепторов. Сообщалось, что не движение глаза, а корректирующие сигналы, которые предотвращают его движение, являются причиной иллюзорного блуждания светового пятна в темноте [Грегори Р.Л., 1970]. И все же иллюзорное периодическое смещение визуального ориентира в условиях невесомости, отмеченное в ходе нашего исследования испытуемым Ф., возможно, является ни-стагмообразным проявлением окулогравической иллюзии, когда вестибулярные тонические влияния, вызывающие поворот вверх глазного яблока, периодически «накапливались» и преобладали над компенсирующими их стимулами к его опусканию.
Наблюдаемое в ходе настоящего исследования иллюзорное «удаление» или «увеличение» визуальных объектов — это два проявления иллюзий одного и того же вида (типа) [Китаев-Смык Л. А., 1967 а]. В зависимости от того, величина ли рассматриваемого объекта или расстояние до него представляется наблюдателю константным, как указывал Вунд [Wundt W., 1908—1911], может возникать ощущение либо меняющейся удаленности объекта, или изменения его величины, т. е. измененным кажется нефиксируемый показатель пространства. Если испытуемые, парящие при невесомости в освещенной кабине, знали о размерах рассматриваемых объектов, но не получали точной информации о расстоянии до них, то иллюзия проявлялась в виде «удаления» видимых объектов. Когда же испытуемые были фиксированы на определенном расстоянии в затемненной кабине перед светящимися ориентирами, о неизменности которых им не было известно, то данная иллюзия при невесомости проявлялась как «увеличение» светящихся фигур [Китаев-Смык Л. А., 1967 и др.] (рис. 30).
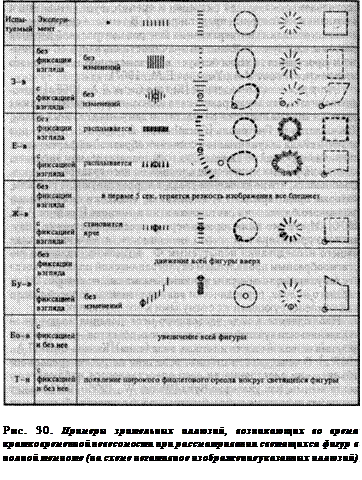 |
Яркое описание подобной иллюзии приводит испытавший ее при кратковременной невесомости известный психолог-исследователь В.И. Лебедев: «Во второй "горке" я должен был "плавать" в невесомости. Надел защитный шлем и лег на пол, покрытый толстым слоем поролона. Началась перегрузка, и я стал вдавливаться в поролон. Состояние невесомости наступило внезапно, и я, не успев опомниться, почувствовал, что полетел вверх, а затем в неопределенном направлении. Наступила полная дезориентация в пространстве. Затем я начал в какой-то степени разбираться в обстановке. Увидел пол и стены помещения. Показалось, что последнее быстро удлиняется. Иллюзия напоминала такое ощущение, когда смотришь в перевернутый бинокль. Взглянул на пол и увидел, что он движется подо мною, убегая от меня вместе с удлиняющимся и уменьшающимся помещением. В это время старался за что-нибудь ухватиться. Но хотя предметы подо мной и по сторонам казались близко расположенными, я никак не мог дотянуться до них руками, что вызвало чувство крайнего эмоционального возбуждения. Затем, очутившись в хвосте самолета, ухватился за какой-то предмет и стабилизировал свое положение в пространстве» [Леонов А.А., Лебедев В.И., 1971, с. 83].
Пространственную иллюзию «удаления» органов управления самолета в невесомости отметил летчик Стэллингс. Он писал: «Сначала у меня возникли некоторые ошибочные ощущения при состоянии невесомости, так что приходилось тянуться, чтобы достать различные приборы управления» [Леонов А.А., Лебедев В.И., 1971, с. 105].
При продолжительном действии невесомости в первых же космических полетах у космонавтов возникали зрительные иллюзии. Макдивитт во время полета на «Джемини-4» должен был, управляя кораблем, сблизиться со второй ступенью ракеты-носителя, определяя при этом визуально расстояние до нее. Судя по опубликованным данным, это оказалось очень трудным делом. Анализ выдержек из записей радиопереговоров свидетельствует о том, что космонавт в какой-то момент даже приблизительно не мог оценить расстояние до ракеты-носителя. Временами ему казалось, что он приблизился вполне достаточно. Когда было израсходовано «рабочее тело» микродвигателей «Джемини-4», Макдивитт определил расстояние до цели в 120 м, тогда как фактически оно равнялось 600 м. Таким образом, вследствие возникновения у космонавта в невесомости иллюзии «приближения» задача сближения при визуальном контроле за расстоянием не была выполнена. После этого полета все американские пилотируемые корабли обеспечиваются радиолокаторами для определения расстояния между кораблем и объектом стыковки, а также для измерения их относительных скоростей [Леонов А.А., Лебедев В.И., 1971].
А.А. Леонов сообщал, что в тот момент, когда он первый раз оттолкнулся от шлюза космического корабля «Восход-2» и, отплывая от него, оказался в состоянии свободного парения, то хорошо знакомый ему корабль показался необычно большим, как бы распухшим. Иллюзия «увеличения» усилила, по его словам, эмоциональные переживания необычности обстановки выхода в открытый космос. Космонавт А. Николаев рассказывал, что в невесомости ему казалось, будто бы двигался сам по себе один из приборов, укрепленных в кабине. Но иллюзия возникала только тогда, когда прибор был на периферии поля зрения. Можно полагать, что эта иллюзия возникала при поворотах глаз или головы космонавта и являлась результатом нарушения баланса глазодвигательных мышц при долгой невесомости в орбитальном полете. Электроокулография, проводившаяся в полетах П.Р. Поповича и В.В. Терешковой, показала, что в отдельные моменты полета появлялась асимметрия в работе глазодвигательных аппаратов. Подобный же дисбаланс мышечных аппаратов глаз был отмечен мной при определении гетерофории в полетах на параболе, а также в условиях длительного медленного вращения в наземных условиях.
Определенную роль в формировании пространственных иллюзий в невесомости играет функциональное состояние аппаратов аккомодации и конвергенции, фузионные резервы и т. п. Эти зрительные функции изменчивы при невесомости [Егоров Б.Б., 1964; Китаев-Смык Л. А., Пинегин Н. И., 1966; Петров Ю. П., 1969идр.[. Различная направленность этих изменений создает возможность возникновения в невесомости как иллюзии «увеличение — удаление», так и иллюзорного «уменьшения - приближения».
Наличие корреляции между профессиональной подготовленностью человека и тем, в каком виде у него актуализировалась иллюзия переворачивания («полет в перевернутом положении» у обладающих большим летным опытом и «подъем вверх» у лиц, не обладающих таким опытом), соответствует концепции Б.Г. Ананьева о том, что состав и структура чувственного отражения образуют сенсорную организацию, зависящую от образа жизни и деятельности человека [Ананьев Б.Г., 1961].
Решающую роль в возникновении зрительных иллюзий при невесомости играет, можно полагать, изменение центральных, кортикофугальных влияний, регулирующих приток гравирецеп-торной афферентации и координирующих ее взаимоотношения со зрительной анализаторной системой. Известны многочисленные факты, свидетельствующие об особой роли височно-теменной коры в координации связей зрительного восприятия с информацией, поступающей от вестибулярного и кожно-мышечного анализатора. При раздражении височной коры головного мозга человека во время оперативного вмешательства или в результате болезненного процесса у него появляются ощущения, охватывающие весь спектр возникающих в невесомости реакций зрения, описанных в монографии [Китаев-Смык Л.А., 1983], а также [Бинг Г., Брюккер, 1963; Лобова Л.П., 1937; Меркулов И.И., Жаботинский Н.В., 1963; Шмарьян А.С, 1940].
Известны механизмы «фильтрации» афферентного потока на различных уровнях сенсорных систем. Благодаря этим механизмам «существенные» сигналы достигают сознания, а «несущественные» подавляются. Предположение о недостаточной фильтрации гравирецепторных сигналов, как об одной из причин возникновения в режимах невесомости искажений формы визуальных ориентиров, подтверждает тот факт, что волевые усилия при фиксации взгляда стабилизируют визуальное изображение вблизи от точки фиксации взгляда [Китаев-Смык Л.А., 1967 а] (рис. 30). В данном случае, согласно существующим концепциям, надежность получаемой информации увеличивается благодаря активности кортикофугальных влияний на системы, фильтрующие избыточную информацию.
Интересны результаты, полученные в экспериментах с воздействием на испытуемых ускорения Кориолиса, проведенных мной в авиационных полетах по пораболе. В темной кабине самолета было поставлено вращающееся кресло. Перед лицом сидящего в нем человека на кресле был укреплен черный экран, в котором прорези создавали круг из светящихся штрихов. Испытуемого усаживали с наклоненными вперед туловищем и головой. Начинали вращение, во время которого он по команде выпрямлялся, поднимал голову и смотрел на черный экран со светящейся геометрической фигурой. При подъеме головы уменьшался радиус ее вращения и на нее (на вестибулярные аппараты) действовало кориолисово ускорение. При естественной силе тяжести испытуемый, подняв голову во время вращения, видел «картинку» на экране без какого-либо иллюзорного искажения, но когда он подымал голову во время вращения в невесомости, то ему казалось, что светящийся пунктирный круг распался. «Отдельные светящиеся штрихи независимо друг от друга извивались и ползали, как огненные червячки, по экрану. Но лишь только невесомость сменялась перегрузкой, все они кидались на свои места и образовывали штриховой круг» (из отчета испытуемого С.) [Китаев-Смык Л.А., 1967 а, 1983, с. 232].
Неожиданным стало то, что когда во время невесомости, после воздействия кориолисова ускорения, сидя на вращавшемся кресле, испытуемые по нашей команде сосредоточивали внимание (фиксировали взгляд) на отдельных штрихах, образующих круг, то именно эти штрихи начинали казаться самостоятельно двигающимися, извивающимися. При этом остальная часть штрихового круга оставалась стабильной.
Исследования зрительных иллюзий при одновременном действии на человека гравитационных (невесомости), инерционных (ускорение Кориолиса), т. е. гравиинерционных, воздействий были продолжены мной в экспериментах с пятнадцатисуточ-ными вращениями на стенде «Орбита» (при скорости вращения 36 град/с, а также до вращения и после его остановки).
Испытуемый усаживался в кабине стенда на расстоянии 9 м от центра вращения, лицом «от центра». Для создания визуального последовательного образа (на сетчатке глаз) использовалась лампа-вспышка (фотопринадлежность), заклеенная черной бумагой, в которой были прорезаны щели, расположенные радиально и образующие круговую фигуру. Мгновенным включением лампы-вспышки, на которую смотрел испытуемый (с расстояния 50 см) у него создавался зрительный последовательный образ, т. е. человек продолжал видеть «лучистую фигуру». После этого он по команде быстро наклонял голову и туловище вперед, «рассматривал» последовательный образ, затем поднимал голову (выпрямлялся) и опять «смотрел» на последовательный образ.
Наиболее интересным оказалось то, что самые заметные иллюзорные искажения лучистой, кругообразной фигуры при действии на испытуемых кориолисовых ускорений были не в первые, а с третьих по пятые сутки проживания в непрерывно вращающейся квартире-центрифуге (в стенде «Орбита»).
Напомню, что в описываемых экспериментах, когда человек, находящийся во вращающейся среде, двигается, перемещается, то почти всегда изменяется его удаленность от центра вращения и из-за этого на него действует ускорение Кориолиса. «Толчки» этим ускорением по телу человека, «удары» по его вестибулярным аппаратам становятся основными стрессорами, вызывающими «болезнь укачивания-укручивания», т. е. кинетоз.
За первые трое суток этой «болезни» у человека «разлаживается», «разрушается» так называемая функциональная системность анализаторов пространства, т. е. привычное, обыденное неосознаваемое представление о пространстве при жизни на земной поверхности. А с пятых суток вращения начинает складываться новая «функциональная системность» органов чувств, адекватная жизни во вращающейся среде.
За десятилетия после описываемых экспериментов нейрофизиологией и нейропсихологией накоплены обширные сведения для понимания механизмов возникновения зрительных иллюзий, подобных рассмотренным выше. Однако задачи предотвращения аварийности скоростного транспорта из-за таких иллюзий не решены. Это создает проблемы даже в космоплавании, хотя на их устранение направлены обширные финансовые и интеллектуальные средства.
Проводящиеся на протяжении нескольких десятилетий исследования при длительной невесомости в орбитальных полетах подтвердили данные, полученные мной в режимах кратковременной невесомости: «Анализ результатов анкетирования свидетельствует о том, что подавляющее большинство космонавтов
(80-93 %) испытывали в полете головокружение и различного рода иллюзии восприятия пространства. Последние выражались чаше всего в появлении ощущения наклона тела вперед или назад или перевернутого положения, "зависания вниз головой". Реже возникала иллюзия вращения собственного тела или смещения окружающих предметов. Подобные реакции появляются либо сразу, либо (значительно реже) спустя 2 ч после наступления невесомости и продолжаются, как правило, от нескольких минут до 4 ч и более. При этом космонавтами замечено, что усиление или повторное возникновение иллюзий часто сопряжено с повышенной двигательной активностью или рассматриванием Земли через иллюминатор. У некоторых космонавтов появлялось также чувство смещения внутренних органов вверх, при резких движениях головой возникало ощущение "плавания" окружающих неподвижных предметов внутри корабля, затруднение в "фокусировании" взгляда и в "захвате предмета взором"» [Горгиладзе Г.И., Брянов И.И., Юганов Е.М., 1990, с. 198-199].
4.3.4. Взаимная экспансия сознания и подсознания при беспрецедентности стрессогенного состояния
Возникновение зрительных иллюзий, описанных выше, можно рассмотреть с позиции гипотезы (А.И. Миракян и др.), согласно которой наблюдаемый объект первоначально в перцептивных структурах наблюдателя «искажается», «распадается» (без осознания того) с тем, чтобы потом «сложиться» в осознаваемый образ. Немаловажную роль играет знание о предмете, ранее имевшееся у человека, а также формирующееся в процессе текущего наблюдения объекта. Согласно указанной гипотезе, можно предположить, что при стрессе сознание как бы расширяет область своей компетенции, «вторгаясь» в обычно неосознаваемые процессы [Китаев-Смык Л.А., 1983. с. 232-234; Kitajew-SmykL.A., 1988, s. 172-174]. При этом осознается еще не сформированный образ наблюдаемого объекта. В результате он видится наблюдателем иллюзорно расчлененным или искаженным. И если при неинтенсивном стрессе (во время возникновения кратковременной невесомости) напряжение внимания способствовало восприятию объекта в соответствии с известной субъекту «нормальной» его формой, то при значительной интенсивности комплексного гра-витоинерционного стрессора интеллектуальное напряжение приводило к «экспансии» сознания в обычно не осознаваемые сферы при игнорировании знания о «нормальной» форме объекта. Такие предположения потребовали специальных экспериментальных исследований, чтобы обрести статус научных гипотез.
Еще в 70-х гг. прошлого века мной высказаны рекомендации: «Можно апробировать указанные выше предположения при создании технических средств для тренажа стрессустойчивости людей и систем "человек—машина" применительно к экстремальным условиям деятельности. Целесообразно исследовать возможности предъявлять человеку-оператору отображение информации не в целостном виде, а в "расчлененном", "искаженном" таким образом, чтобы это "расчленение" предвосхищало аналогичные явления в когнитивной сфере человека, как бы наталкивая ее к определенного рода ресинтезу образа, т. е. служило бы особого рода подсказкой к осознанию человеком информации в форме, способствующей его стрессустойчивости» [Китаев-Смык Л.А., 1983, с. 233].
В основе угасания описанных реакций зрения при повторных режимах невесомости лежит процесс «привыкания». Высказывалось мнение, что оно обусловливается центробежными механизмами, регулирующими сенсорный поток с помощью кортикофугального «клапанного» эффекта [Hernandes-Реоп R, 1969]. Быстрая по сравнению с другими сенсорными реакциями нормализация функций зрения у большинства наблюдавшихся при невесомости людей свидетельствует об относительной устойчивости зрительной системы при гравитационных экстремальных воздействиях, о высокой ее «пластичности».
Было обнаружено, что вероятность возникновения изменений (нарушений) зрительного восприятия в невесомости уменьшалась по мере адаптации людей к повторным воздействиям невесомости [Китаев-Смык Л.А., 1964, 1967 а]. Практика космонавтики показала, что профессиональный отбор и подготовка космонавтов сводят на нет вероятность существенных нарушений зрения в полете. Однако случаи изменений некоторых показателей зрительных функций были отмечены у людей и в космосе [Иванов Е.А., Попов В. А., Хачатурьянц Л. С, 1968; КопаневВ. И., Юганов Е.М., 1972; Копанев В.Н., Юганов Е.М., 1974; Петров Ю.П., 1969; Хрунов Е.В., Хачатурьянц Л.С., Попов В.А., Иванов Е.А., 1974; Berry С.А., 1973; Горгиладзе Г.И., Брянов И.И., Юганов Е.М., 1990 и др.].
Понятно, что системы отображения информации (СОИ) пилотируемых космических аппаратов должны строиться с учетом малейших возможностей любых нарушений зрения в полете. Исследования различных функций зрения (острота, абсолютная и цветовая чувствительность зрения, границы поля зрения, аккомодация и конвергенция, глубинно-глазомерная функция, симметрия работы глазодвигательных аппаратов) при кратковременной невесомости были проведены нами при подготовке первых космических полетов [Китаев-Смык Л.А., 1963 а, 1964, 1969,1977 а и др.]. Одновременно с нами или с некоторым отставанием, как потом стало известно, большая часть аналогичных исследований была проделана в США [Pigg L.D., 1961; Roman J.A., Warren В. H.,Graybiel А., 1964; Sasaki Е.Н., 1965; White W.J., 1965; White W.J., Monty B.A., 1963]. Полученные данные стимулировали инженерно-психологические работы, направленные на оптимизацию систем отображения информации пилотируемых космических аппаратов [Китаев-Смык Л.А., Крок И.С, Ощепков Н.А., 1974; Хрунов Е. В., Хачатурьянц Л.С., Попов В.А., Иванов Е.А., 1974 и др.].
4.3.5. Пространственная ориентация при гравиинер-ционных стрессорах, имитирующих турбулентные влияния атмосферы во время вхождения в нее космического корабля
Техническое обеспечение ориентации в пространстве и управление пилотируемых летательных аппаратов должны предусматривать компенсацию различий между обыденно привычными афферентными сигналами, возникающими при перемещениях человека на Земле, и сенсорной афферентацией, возникающей у летчика, космонавта при его передвижениях вместе с управляемым им летательным аппаратом. О несовершенстве существующих систем пилотажной индикации свидетельствует сравнительно частое возникновение в полетах пространственных иллюзий, являющихся одной из важных причин аварийности летательных аппаратов. В связи с этим в последние десятилетия увеличилось число исследований ориентации человека в условиях, где пространственная среда в силу своей «непривычности» становится стрессогенным фактором.
Нами в 70-х гг. были проведены исследования пространственной ориентации человека, изолированного в кабине (каюте) плавающего стенда (специально оборудованной крейсерской яхты) [Китаев-Смык Л.А., Чурсинов А.В., 1980; Китаев-Смык Л.А., Попов В.А., Чурсинов В.А., 1983]. Комплексный стресс-фактор на плавающем стенде составляли: укачивание при плавании в штормовую погоду с волнением и ветром от 4 до 6 баллов, относительная изоляция, скученность, реальная опасность длительного пребывания на утлом суденышке вдали от берегов, бытовой дискомфорт. К этому «набору» иногда присоединялись негативные социально-психологические факторы (ссоры, конфликты).
Это исследование проводилось по программе подготовки полета на советском управляемом космическом корабле «Буран». Разраба 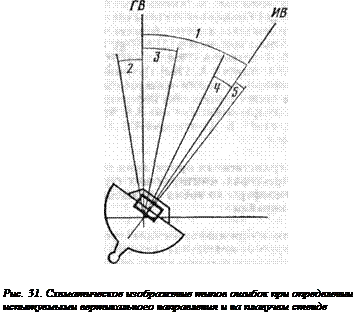
тывались методология и принципы оптимизации управления кораблем на этапе прохождения его сквозь атмосферу, когда на экипаж воздействуют многофакторные гравитационные воздействия (качания, кидания, удары, вращения) из-за турбулентного состояния забортной атмосферной среды. Гравиинерционное воздействие во время плавания в шторм на экипаж крейсерской яхты в некоторой степени было аналогом указанных космических факторов.
Определялось соответствие субъективного представления испытуемого о гравитационном вертикальном направлении (субъективная вертикаль — СВ) с истинным гравитационным вектором (истинная вертикаль — ИВ) (рис. Зі). Для этого использовалось специальное устройство. На электронном дисплее раздельно или вместе предъявлялись истинная и субъективная вертикали. Последняя «устанавливалась» самим испытуемым с помощью ручки управления, которую он должен был удерживать в строго вертикальном, как ему казалось, относительно поверхности Земли положении.
Исследования проводились во время трехсуточных (с участием А.А. Гостева) и десятисуточных непрерывных плаваний при волнении и ветре от 4 до 6 баллов На протяжении всего срока плавания испытуемые не выходили из кабины плавучего стенда (яхты) и не видели внекабинных ориентиров (линии горизонта, поверхности воды, неба, внешнего вида стенда и т. п.). В длительных экспериментах приняли участие 16 испытуемых. Кроме того, во время кратковременных экспериментов (плавание продолжительностью 0,5-5 ч.) обследовано еще 22 человека.
А. Индивидуальные различия субъективного представления о пространстве и вертикальном направлении на основании гравирецепции без визуального контроля.
С учетом словесных и письменных отчетов испытуемых мной были выделены разные типы «чувства вертикали» т. е. комплекса ощущений, на основании которого у испытуемых формировалось представление о гравитационной вертикали. 1. Чувственный образ, создающий у испытуемого представление о субъективной «вертикали», находился вне его тела (сенсорная экстраскопия). Этот образ мог восприниматься преимущественно зрительно или за счет кожной, кинестетической чувствительности.
Зрительное представление «вертикали» у одних испытуемых могло локализоваться вне реального оптического пространства и независимо от него. «Вижу как бы вертикальную черту на фоне горизонта, далеко впереди за стенами каюты, будто это маяк на фоне горизонта» (из отчета испытуемого П.). Напомним, что стены каюты не имели окон, и испытуемый сообщал о мнимых предметах. «Зрительно представляю как бы висящую в пространстве вертикальную линию» (из отчета испытуемого Ш.). Таких людей называли «пространственные внекабинники».
У других испытуемых зрительный концепт вертикали зависел от реальной оптической среды, т. е. был связан с положением и движением каких-либо реальных элементов интерьера. Их называли «пространственные внутрикабинники». «Вижу черточку на стоне каюты впереди меня, о величине крена яхты знаю по наклону этой черточки, который отчетливо вижу» (из отчета испытуемого М.). «Черточкой» испытуемый М называл реальную случайную царапину на стене каюты перед ним; эта царапина, естественно, была фиксирована на стене каюты. Зрительный концепт «вертикали», независимый от оптического пространства каюты, мог разрушаться (исчезать) при отвлечении внимания испытуемого от процесса слежения за ним, однако он сохранялся при перемещении каких-либо предметов, кратковременно заслоняющих оптическое пространство перед испытуемым. Зрительное представление «вертикали», зависимое от конкретных элементов интерьера, формировалось у испытуемого в тот момент, когда у него либо имелись сведения о том, что стенд занял строго вертикальное положение или при предъявлении испытуемому на экране дисплея-индикатора истинного положения «вертикали». Субъективное зрительное представление вертикали, зависимое от оптической среды интерьера, распадалось, когда этот интерьер был, хотя бы на короткий срок, заслонен от наблюдателя, после чего представление о «вертикали» самостоятельно не восстанавливалось до тех пор, пока испытуемому вновь было показано на экране дисплея истинное положение вертикали.
И третьи испытуемые («пространственные чувственники») сообщали, что представление о вертикали возникало у них на основании чувства давления различных внешних опор (сиденья, кресла, заголовника, подлокотников, боковых упоров, привязных ремней и др.) на тело, голову, конечности. «Чувствую, что упираюсь левым плечом в боковую стойку; по силе давления знаю, что левый крен градусов 10-15» (из отчета испытуемого К.). «Изменилось давление ягодиц на кресло, сползаю вправо, приходится упираться правой ногой — крен 18-20 °» (из отчета испытуемого Ж.).
2. Чувственный образ «вертикали» локализовался внутри тела испытуемого (сенсорная интраскопия).
У одних испытуемых этот образ локализовался в каком-либо одном месте: «При наклоне яхты чувствую, будто какой-то гироскоп в голове дает мне понять, что произошел наклон, и, чтобы сохранить вертикальное положение головы, надо держать ее так, а не иначе» (из отчета испытуемого Т.). Подобное ощущение могло при резком изменении положения стенда (при смене крена, при сильном броске на волне) сопровождаться эмоционально окрашенными переживаниями (ощущениями): «При внезапном, резком крене яхты почувствовал холодок, как при падении вниз, в нижней части спины, внутри тела; этот холодок, как какой-то зыбкий стержень, наклонился примерно градусов на 15» (из отчета испытуемого Ш.). Можно полагать, что это ощущение — редуцированный аналог чувства падения (и страха), возникающего при другом гравитоинерционном стрессоре — в невесомости [Китаев-Смык Л. А., 1963 а, 1963 6, 1963 в, 1964 и др.].
В некоторых случаях испытуемые сообщали о множественных интровертированных ощущениях «вертикали». «Ощущения, которые давали мне возможность оценить крен стенда, локализуются раздельно в голове и в пояснично-крестцовой области, причем индицирующей величину крена является как бы разность между ощущением наклона «оси» внутри туловища, фиксированного привязными ремнями к креслу, и положением наклона «оси» внутри нефиксированной головы, которую я старался удерживать «вертикально» (из отчета испытуемого К.). У испытуемых, ощущавших внутри своей головы, тела «ориентиры» вертикального направления, возникало представление об их размерах, форме. «Стержень длиной 4 сантиметра, толщиной 1 сантиметр, как огрызок карандаша» (из отчета К.).
Важным явилось то, что у всех испытуемых, отличавшихся интраскопическим чувственным образом «вертикали», во время плавания при волнении не менее четырех баллов не позднее 30— 40 мин после начала их пребывания во внутренних помещениях стенда возникали выраженные симптомы «болезни укачивания»: тошнота, многократная рвота, повышенная потливость, чувство общей слабости и т. п., т. е. симптомы вегетативного субсиндрома стресса. Подобные симптомы возникали не более чем у 15 % людей, у которых появлялось экстравертированное представление «вертикали».
Данные, полученные в ходе настоящего исследования, позволяют составить следующую классификацию чувственных образов, доминирующих у разных людей при формировании у них концептуальной модели представления «вертикали» во время динамического стрессогенного изменения пространственной среды (качание, кренение и т. п.) [Китаев-Смык Л.А., 1983, с. 238]. А. Экстраскопический чувственный образ «вертикали» (лишенный эмоциональной окраски): 1) зрительный: а) не связанный с оптической структурой интерьера, б) связанный с оптической структурой интерьера; 2) тактильно-кинестетический: а) локальный, б) полилокальный. Б. Интраскопический чувственный образ «вертикали»: 1) локальный: а) эмоционально окрашенный, б) эмоционально не окрашенный; 2) полилокальный: а) эмоционально окрашенный, б) эмоционально не окрашенный.
Таким образом, в натурных условиях плавания при действии гравиинерционных факторов, так же в авиационных полетах, при управлении автотранспортом, как и в невесомости [Китаев-Смык Л.А, 1963, 1967], и во время непрерывного вращения [Китаев-Смык, Л.А., 1977 и др.], возникают два типа субъективной (•образной) локализации стрессогенных изменений пространства: во внешней или во внутренней пространственной среде субъекта. У профессионалов эти психологические феномены участвуют в возникновении представления, во-первых, о положении транспортного средства в пространстве, во-вторых, о слиянии ощущения своего тела и корпуса самолета, автомобиля, корабля: «Самолет (автомобиль) — это я, он — мое тело».
Различают следующие основные потоки афферентации, участвующей в формировании концептуальной модели (образа) пространства: 1) гравирецепторную: а) специфическую — поступающую через отолитовые и купулярные рецепторы вестибулярного аппарата, б) неспецифическую — тактильную, кинестетическую и т. д.; 2) зрительную; 3) слуховую и др. Различна у разных людей степень доминирования того или иного потока афферентации в процессе формирования у них концептуальной модели пространства. Важную роль в этом процессе играют «вторичные» признаки пространственной среды (словесная информация о пространственной среде, особенности поведения людей в данной среде и т. п.).
В ходе этого исследования было обнаружено, что неустойчивость положения стенда (качания, крена, поворота и т. д.) у подавляющего большинства испытуемых существенно снижала значение гравитационной афферентации в формировании чувственного образа вертикали (субъективной вертикали). При этом у ряда испытуемых возрастало доминирование зрительных сигналов о пространстве каюты, могло возрастать значение афферентации от неспецифических гравирецепторов и т. д. В результате этого практически у всех испытуемых при той или иной продолжительности плавания возникало ошибочное (иллюзорное) представление о вертикальном направлении. Субъективная вертикаль могла приближаться по своему положению во фронтальной плоскости стенда к его вертикальной оси (рис. 31.4), что обусловлено доминированием «интерьерного фактора», т. е. зрительных сигналов, и в ряде случаев «недооценкой» тактильно-кинестетической афферентации; напротив, субъективная вертикаль могла приближаться к истинной гравитационной вертикали (рис. 31. 3), можно полагать, в результате доминирования гравитационной афферентации. Иллюзорные представления, когда крен стенда казался испытуемым большим, чем он есть (см. рис. 31.5), вероятно, обусловлены «перерегулированием» за счет избыточного доминирования «интерьерного фактора» (зрительных и тактильных его компонентов).
В отдельных случаях испытуемые устанавливали «субъективную вертикаль» с наклоном относительно истинной вертикали в сторону, противоположную реальному крену стенда (см. рис. 31. 2). Подобного типа иллюзии, видимо, связаны с «перерегулированием» за счет избыточного доминирования гравирецепторной афферентации.
В этих экспериментах мной были обнаружены значительные различия продолжительности латентного периода и времени установки испытуемыми «субъективной вертикали» на экране
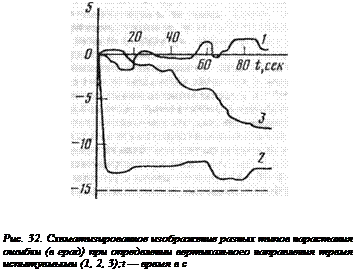
дисплея в начале «отслеживания» за ней или при очередном изменении крена яхты.
При анализе качества определения вертикального направления на начальном этапе сеанса работы по данной методике были выделены три типа испытуемых (рис. 32). Первый тип характеризовался тем, что отслеживаемое положение «субъективной вертикали» мало отличалось от истинной вертикали, т. е. величина ошибки была незначительной (гравиремепторное доминирование). Испытуемые второго типа с самого начала работы устанавливали субъективную вертикаль в положение, существенно отличающееся от истинного, с наклоном в сторону вертикальной оси стенда, т. е. интерьерной вертикали (зрительное доминирование). Третий тип испытуемых характеризовался первоначально малой величиной ошибки и постепенным (за 10-30 мин), ее нарастанием с увеличением наклона субъективной вертикали в сторону крена (постепенный распад гравирецепторного доминирования с заменой его зрительным доминированием) (см. рис. 32).
В ходе длительных экспериментов отмечено, что у испытуемых 1 типа (с малой величиной ошибки) ошибка в определении вертикального направления возрастала: а) при длительном (более 1,5 ч) непрерывном слежении; б) при утомлении; в) во время дремотного состояния; г) при возникновении неблагоприятных симптомов «болезни укачивания» (тошнота, рвота, головная боль и т. д.).
Были обнаружены разные виды периодичности изменений величины ошибок при определении испытуемыми вертикального направления («субъективной вертикали»). Многие испытуемые отмечали, что «вертикальное направление — это не строго определенное положение, которое надо придать светящейся линии на экране дисплея, а некоторая вертикальная зона с наклоном в диапазоне 3-7 в пределах которого можно произвольно устанавливать эту линию» (из отчета испытуемого Ш.). Однако некоторые испытуемые сообщали, что они чувствуют этот диапазон, но у них «периодически меняется ощущение того, где правильное вертикальное положение светящейся линии на экране» (из отчета испытуемого К.). При этом были зарегистрированы колебания (с периодом 4—10 с.) величины ошибки в установке вертикали (в диапазоне 5—8). Данные колебания, надо полагать, являются результатом циклического перебора «альтернативных решений», связанного с периодической сменой в определенном диапазоне то гравирецепторного, то зрительного доминирования в текущем синтезе концептуальной модели пространства.
У некоторых испытуемых были зарегистрированы относительно длительные колебания значения ошибки при установке «субъективной вертикали». Смена ее одного значения на другое осуществлялась за 8-12 с. То большее, то меньшее значение ошибки поддерживалось на относительно постоянном уровне по 30-60 и более секунд.
Б.Способность (и неспособность) учитывать крен при операторской деятельности в имитаторе космического корабля, при воздействии на него турбулентных потоков при входе в плотные слои атмосферы. Выше описана способность укачиваемых и неукачиваемых людей сохранять представления о «вертикали» в закрытой кабине при ее качке и кренений. Но как эти гравиинерционные воздействия влияют на способность человека к операторской деятельности? Совместно с В.А. Чурсиновым проведено исследование операторской деятельности (слежение за периодически исчезающей целью), совмещенной с необходимостью оценивать величину крена плавучего стенда (специально оборудованной крейсерской яхты) [Китаев-Смык Л.А., Чурсинов А.В., 1980]. Сигналы (а) об изменениях крена стенда суммировались с сигналами (б) при автоматическом управлении перемещением цели на экране дисплея. (Без суммации сигналов о крене «цель» двигалась по параболической траектории, иногда «цель» была не видна.)
Испытуемый, направляя движение курсора по экрану дисплея, должен был совмещать его с двигающейся «целью», а когда последняя исчезала, он должен был проводить курсором на экране воображаемую линию, по которой должна проходить «цель». При этом надо было учитывать, насколько заданная параболическая траектория искажена креном кабины яхты.
Испытуемые выполняли задание со сравнительно небольшими погрешностями в моменты, когда «цель» была видна. Ошибка при слежении резко возрастала, когда «цель» исчезала. Это свидетельствует о неточности экстраполяции испытуемыми динамики движения «цели», а также о несовершенстве механизмов «утилизации» афферентных сигналов от вестибулярных или иных анализаторов при формировании концептуальной модели перемещения цели в пространстве.
Полученные данные свидетельствуют о существовании двух типов операторов. Одни практически не использовали субъективные данные о пространственном положении собственного тела при организации процесса управления и строили траекторию движения «метки» на основе пространственного и временного представления о заданной траектории ее движения.
Операторы другого типа компенсировали движением курсора возникшие (вследствие поступления сигналов о крене стенда) изменения положения «цели». Как в режимах слежения с ее предъявлением, так и в режимах с ее исчезновением они учитывали не только заданную траекторию движения «цели», но и трансформацию этой траектории вследствие «наложения» на нее сигналов об изменении пространственных координат плавучего стенда при его качании и кренах.
В.Феномен деструкции («отключения») концептуальной модели пространства при длительном пребывании в динамически измененной пространственной среде.
Важная особенность экстремальных условий — это то, что могут возникать ситуации, когда «наличного резерва» адаптационных возможностей в организме недостаточно для адекватного реагирования на стрессоры. Расширение этого резерва может произойти в последующем, в ходе адаптивной перестройки функциональных систем. Это потребует времени (сутки, недели и т. п.). Пока этого не произошло, т. е. в тот момент, когда возникает дефицит адаптивных возможностей, организм может реагировать «отключением» каких-либо своих функций, участвующих в восприятии и переработке стрессогенной информации. Это «отключение» может касаться контроля со стороны сознания за тем или иным каналом информации и затрагивать осознавание собственных, в том числе профессиональных, действий [Горбов Ф.Д., Лебедев В.Я. 1975].
В ходе описываемых здесь экспериментов на плавучем стенде было обнаружено возникновение у ряда испытуемых периодов резкого снижения качества пространственной ориентации при установке ими «субъективной вертикали». Эти явления можно расценивать как результат указанной деструкции процесса непрерывного синтеза концептуальной модели пространства. В указанном смысле можно рассматривать следующие явления.
1. У отдельных испытуемых, начиная со вторых суток непрерывного пребывания на плавучем стенде, периоды резкого ухудшения качества определения вертикального направления возникали на фоне хорошего общего состояния и самочувствия при регулярном отдыхе, сне и питании. Во время такого временного ухудшения имела место фазность смены поведенческих реакций испытуемых.
1-я фаза — неосознаваемое испытуемым, чаще постепенное — на протяжении 10—30 с, а иногда резкое — за 3—5 с нарастание ошибки в определении «субъективной вертикали»;
2-я фаза — осознание потери уверенного ощущения вертикального направления, беспокойство и поиск «правильного» положения вертикали. Это выражалось в том, что испытуемый внезапно начинал, дергая ручку управления из стороны в сторону, искать «правильное» положение «вертикали», меняя наклоны светящейся линии на экране дисплейного индикатора;
3-я фаза — «самоуспокоение» («самоутверждение»). При этом испытуемый, как бы убеждая себя, заявлял экспериментатору:
«Ну, этой методикой — "вертикаль" — я овладел хорошо, с ней все ясно!» (из отчета испытуемого Ж.), или: «Я же летчик, я знаю, как управлять!» (из отчета испытуемого М.). При этом величина ошибочно устанавливаемого испытуемым показателя крена могла на 40-60 % быть больше истинного;
4-я фаза — уверенная работа с постоянной или неорганизованно изменяющейся ошибкой в установке «субъективной вертикали».
Подобные «отключения» прослежены не дольше чем на протяжении 20-40 мин, т. к. в ходе настоящей работы не удавалось сохранять дольше этого срока стабильный режим плавания стенда (яхты).
2. Значительное ухудшение качества отслеживания «субъективной вертикали» могло возникать при нарастании выраженных
неблагоприятных симптомов кинетоза (тошнота, головная боль, чувство общей слабости и т. д.). При этом некоторые испытуемые жаловались на то, что плохое самочувствие еще более ухудшается при попытке отслеживать «вертикаль». Из отчета испытуемого К.:
«Слежение за "вертикалью" на экране дисплея и даже напряжение для осознания вертикального направления при установке в вертикальном положении ручки управления или просто напряжение мыслей, внимания при попытках определить внутреннюю систему координат — все это усиливает тошноту, чувство слабости и безразличия, снижает чувство ответственности. Хочется не думать ни о каких системах координат, а закрыть глаза и забыть, что есть мое собственное тело с его пространственным расположением».
При выраженной «болезни укачивания» у одних испытуемых качество слежения за вертикалью долго удерживалось на относительно высоком уровне, но в какой-то момент резко снижалось, «держался до последнего, больше не удается сохранять ощущения вертикали» (из отчета испытуемого Д.). У других испытуемых нарастание ошибки в установке «субъективной вертикали» могло происходить синхронно с ухудшением самочувствия.
Показ испытуемому значения «истинной вертикали» или словесный приказ: «Внимательнее!», «Сосредоточьтесь!» — могли на короткое время восстанавливать имевшееся ранее качество установки «субъективной вертикали».
3. Резкое ухудшение качества установки испытуемым «субъективной вертикали» могло возникать при снижении у него «чувства опоры», например при размещении его лежа, со слегка приподнятой головой на мягкой поверхности. В такое положение помещались отдельные испытуемые для облегчения плохого самочувствия при «болезни укачивания». В одном таком случае у испытуемого с симптомами выраженного «укачивания» (периодическая рвота, сильная тошнота, чувство слабости, головная боль) было зарегистрировано абсурдное представление о том, что плавучий стенд (крейсерская яхта), якобы имеет крен около 90°, что невозможно, т. к. в таком положении яхта затонула бы, т. е. у испытуемого было состояние, близкое к пространственной дезориентации, с резким снижением контроля сознания за качеством собственных действий.
За время со 2-х по 3-5-е сутки плавания у всех испытуемых происходила адаптация к условиям жизнедеятельности на плавучем стенде. Исчезали симптомы «болезни укачивания», улучшалась самочувствие и настроение, нормализовались многие показатели психологических и физиологических функций. Была прослежена тенденция к нормализации показателей способности испытуемых определять вертикальное направление.
На фоне адаптации к действию укачивания (экстремального физического фактора) в ходе экспериментов иногда возникали ситуации, оказывающие на испытуемых неприятные (экстремальные) социально-психологические воздействия. Например, нарушения привычного хода исследований из-за поломки той или иной аппаратуры вызывали у них нервозность, обиду, рассерженность. У испытуемых со сравнительно равными поведенческими и физиологическими стрессовыми реакциями во время подобных психологических экстремальных ситуаций были обнаружены различия показателей функционирования системы пространственной ориентации. У одних испытуемых эти показатели либо не изменялись, либо изменялись незначительно. У других при определении вертикального гравитационного направления величина ошибки увеличивалась и достигала уровня, имевшегося в начальном периоде плавания, когда эти испытуемые не были адаптированы к действию физических экстремальных факторов (рис. 33). Следовательно, у этих испытуемых не было стабильной адаптации к гравиинерционным стрессорам (к условиям штормового плавания).
Пониманию причин указанных различий способствует сопоставление этих данных с результатами проводившихся в тех же экспериментах исследований функций, зависящих от разных иерархических уровней центральной нервной системы. Исследование гетерофории (психофизиологический «уровень») обнаружило возникновение существенных изменений ее показателей при выраженных неблагоприятных симптомах «болезни укачивания» и отсутствие таких изменений у испытуемых, адаптированных к условиям плавания при указанных выше дополнительных социально-психологических нагрузках. Напротив, показатели памяти (психический «уровень») ухудшались как при выраженных симптомах «укачивания», так и при указанных выше социально-психологических нагрузках. Следовательно, их адаптация была неустойчивой.
Улучшение способности к правильной ориентации в динамически измененной пространственной среде («обучаемость») связано с мобилизацией высших психических функций человека. Испытуемый, пытаясь компенсировать ошибочность концептуальной модели пространства, «деформированной» сенсорными сигналами об изменениях физических факторов пространства, привлекает первоначально оптические признаки пространства. Затем (после получения в ходе «обучения» информации о том, что «интерьерная вертикаль» не адекватна истинной гравитационной вертикали) к нему поступает «вторичная» информация о пространственной среде: при наблюдении за направлением
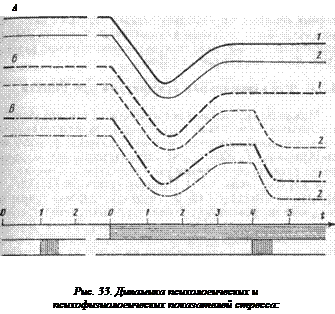
Изменение показателей гетерофории (А), суммарной ошибки при определении гравитационной вертикали (Б), показателей кратковременной памяти (В) у ипытуемых 1 и 2 при действии укачивания (горизонтальная штриховка) и конфликта между ними (вертикальная штриховка) t — время в сутках
свободно падающих или висящих в кабине предметов, либо приборная информация (предъявляемая испытуемым при обучении) об истинной вертикали.
Представленные результаты свидетельствуют о том, что концептуальная модель пространства, базирующаяся на «вторичных» признаках изменения пространственной среды, оказывается неустойчивой и «разрушается» при действии психических экстремальных факторов, возникающих на 3-6-е сутки непрерывного плавания в динамически измененной пространственной среде, т. е. при плавании на крейсерской яхте при штормовой погоде с волнением и ветром 4—6 баллов. Более устойчивой оказывается концептуальная модель пространства, базирующаяся на физиологических и психофизиологических механизмах (функциях).
Результаты исследований, описанные в этом разделе, были использованы при подготовке космических полетов на пилотируемых кораблях типа «Буран». Однако состоялся лишь один космический полет «Бурана» в автоматическом режиме. Экипаж, подготовленный для таких полетов (шеф-пилотом был назначен Игорь Волк), так и не слетал в космос.
4.3.6. Функциональная асимметрия при стрессе
Можно согласиться или не соглашаться с тем, что «одной из предпосылок формирования индивидуальности является величина функциональной асимметрии нервно-психических функций мозга» [Аракелов Г.Г., 2004, с. 334]. Однако «степень латерализации может служить объективным критерием стрессоустойчивости» [там же] (см. также 3.5.1). Принцип «усиления главного направления» при стрессе (он был проиллюстрирован примерами того, как в экстремальных условиях «улучшаются» интегральные показатели восприятия) подчиняется закону Йеркса—Додсона. т. е. при увеличении экстремальности стрессогенного фактора вслед за указанным «улучшением» наступает их «ухудшение». Проиллюстрирую это результатами определения при стрессе такого интегрального показателя зрения, как гетерофория (сбалансированная асимметрия глазодвигательных систем). Ее иногда называют показателем «скрытого косоглазия»; заметим, что последнее определение не вполне корректно.
Ошибка в определении вертикального направления может возникать не только за счет внешних факторов пространства (гравиинерционные и интерьерные факторы). Формированию ошибочного представления вертикали может способствовать изменение свойственной данному человеку величины асимметрии парных анализаторов пространства. Экспериментально было показано, что при различных стрессогенных воздействиях у многих людей могут существенно изменяться показатели асимметрии анализаторов и двигательного аппарата.
В экспериментах с плаванием на крейсерской яхте в штормовую погоду мной регистрировалась гетерофория (сложный баланс мышечных аппаратов двух глаз) как показатель дисбаланса глазодвигательных аппаратов испытуемых (об этом упоминалось выше). Обнаружено, что в большинстве случаев при ухудшении самочувствия испытуемых в первые 2-5 суток плавания гетерофория увеличивалась, т. е. нарушалась сбалансированность парного зрительного анализатора пространства. Это можно рассматривать как одно из проявлений дистресса на психофизиологическом «уровне» адаптационной перестройки организма.
При обследовании 270 спортсменов-горнолыжников (с квалификацией 2-й спортивный разряд и выше), которое проводилось на протяжении нескольких зимних сезонов в г. Славское и на спортивных базах в Баксанском ущелье Кавказа, мной было обнаружено, что у 96,4 % из числа обследованных гетерофория не превышала 4 °. Обследование 540 практически здоровых молодых людей, не занимающихся горнолыжным спортом, выявило у них разброс показателей гетерофории отО до 11 с максимумом кривой распределения этого показателя в диапазоне 5-7. Последнее соответствует результатам обследований больших масс населения, проводившихся в различных странах.
Можно было предположить, что столь высокий уровень сбалансированности асимметрии глазодвигательных аппаратов горнолыжников обусловлен отбором и многолетней тренировкой при занятиях горнолыжным спортом, требующим максимально возможно сбалансированной симметрии в работе органов восприятия пространства и органов движения. Однако это предположение не подтвердилось. Обследуя членов сборной команды СССР по горнолыжному спорту во время сезона соревнований, я установил, что у них (за исключением двух человек) индекс гетерофории, как правило, равен нулю и не превышает 3 градусов. Этот высокий показатель сбалансированности парных органов обнаруживался в различное время суток; он не зависел от спортивных нагрузок. Обследование тех же горнолыжников экстракласса во время летних, спортивных сборов, проводимых без горнолыжных тренировок, выявило, что кривая распределения показателей гетерофории у них не отличалась от кривой распределения у людей—спортсменов и неспортсменов, не занимающихся горнолыжным спортом. Иначе говоря, только у отдельных горнолыжников, когда они не занимались спуском на лыжах с гор, сохранялся высокий уровень сбалансированности глазодвигательных аппаратов (возможно, это их личный постоянный показатель). У большинства же из них гетерофория возросла до уровня, видимо, свойственного им в то время, когда они не подвергались стрессовым нагрузкам на систему пространственной ориентации, требующим сбалансированности ее симметричных органов.
Возрастание такой сбалансированности, т. е. «улучшение» показателя гетерофории, — отражение начального возрастания стрессогенных требований к организму. Более значительная их экстремальность приводит к возрастанию гетерофории, т. е. к увеличению дисбаланса симметричных, содружественно работающих систем, к «ухудшению» их функциональных возможностей (в соответствии с законом Йеркса-Додсона [Yerkes В., Dodson J.,
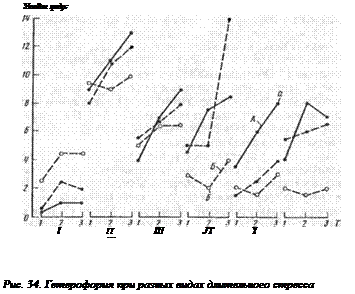
А (сплошные линии) — в лабораторном эксперименте, Б (прерывистые линии) — в эксперименте на плавучем стенде;
а (с черными кружками) — в режиме непрерывной деятельности с лишением сна, б (с белыми кружками) — в эксперименте с ночным сном, t — время в сутках
1908]). При «средней» экстремальности стрессогенного фактора указанный показатель может оказаться у одних людей «улучшающимся»; у других — «ухудшающимся». При выраженном нарастании проявлений дистресса (при различных интенсивных стрессорах) гетерофория у всех обследованных мной людей увеличивалась.
На рис. 34 показаны изменения гетерофории при трехсуточной относительной изоляции испытуемых, занятых операторской деятельностью в лабораторных условиях и на плавучем стенде (в специально оборудованной парусной яхте во время плавания в штормовую погоду). И в тех, и в других условиях проведены две серии экспериментов: с ночным сном при нормированном «рабочем дне» и с лишением сна при непрерывной круглосуточной деятельности. К указанному стресс-фактору в условиях плавания на яхте присоединялись стрессогенное действие укачивания (волнение от 2 до 6 баллов) и опасность автономного плавания вдали от берегов. В указанных условиях на вторые сутки у одних испытуемых показатели гетерофории «улучшались», у других — «ухудшались». На третьи сутки они «ухудшались» у всех испытуемых, т. е. гетерофория увеличивалась; у двух из них это увеличение превышало уровень, обеспечивающий бинокулярное зрение. Эти двое испытуемых сообщали о временами возникающем двоении ориентиров, предъявляемых им на экране дисплея (чего на самом деле не было).
Таким образом, уровень функциональной симметрии (асимметрии) парных органов следует рассматривать как эффект сбалансированной их асимметричности, а не как сравнение показателей их асимметрии. Для этого следует использовать интегральные показатели совместной работы парных органов, а не изолированную регистрацию показателей функций этих органов. На примере исследований гетерофории при стрессовых нагрузках на системы пространственной ориентации организма человека видно, что оптимальную эффективность в совместной работе парных органов следует ожидать при максимальной сбалансированности асимметрии парных органов. Можно предполагать, что наличие умеренной гетерофории не является неблагоприятным фактором, а служит как бы своего рода единицей отсчета при стереоскопическом бинокулярном восприятии пространства. В таком случае уменьшение гетерофории при указанных выше стрессогенных нагрузках, возможно, отражает уменьшение такой «единицы» измерения пространства. Указанное толкование «ценности» гетерофории не единственное и требует подтверждения.
Увеличение гетерофории может быть использовано как весьма чувствительный индикатор малозаметных проявлении дистресса или склонности к нему при экстремальных нагрузках на систему пространственной ориентации организма. Следует заметить, что указанные выше закономерности динамики гетерофории при стрессе имеют место только при нормальном зрении, они иные при необходимости пользования оптикой, коррегирующей дефекты зрения.
В целостном акте восприятия одновременно участвуют анализаторы разных модальностей. Стрессовая нагрузка, казалось бы, лишь на одиних из них все же сказывается на функциях и других органов чувств, а также на общем акте восприятия.
О сложности стрессовых преобразований перцептивных функции свидетельствует парадоксальность нистагменных реакций при кинетозе (регистрировались Галле Р. Р. и Гавриловой Л. Н.) (рис. 20). Было обнаружено, что «слабая» стимуляция, адресованная к вестибулярному анализатору (за 10 секунд — 5 оборотов на кресле Барани), вызывала у испытуемого Ко-ва в первые трое суток медленного стрессогенного вращения нистагменную реакцию, по продолжительности практически не отличающуюся от реакции, имевшейся до начала стрессогенного вращения. В этот же период дистресса «сильная» стимуляция (за 10 секунд — 20 оборотов) вызывала значительно меньшую нистагменную реакцию, чем при нормальном состоянии испытуемого и при слабой стимуляции.
Можно предположить, что эти парадоксальные вестибуломо-торные реакции — отголосок стрессогенных преобразовании в перцептивно-когнитивной сфере, которые привели к возникнове нию у испытуемого Ко-ва пространственных иллюзии при кинетозе в условиях медленного вращения. У Ко-ва в данном эксперименте возникали два типа пространственных иллюзий. При движениях головой с закрытыми глазами в условиях длительного медленного вращения у него появлялось ощущение «вращения чего-то неопределенного внутри головы» (из отчета испытуемого Ко-ва). При открытых глазах движения головой вызывали у этого испытуемого кажущееся движение (сдвиг) визуального пространства. Во время этого «движения» все предметы, находящиеся в поле зрения, казались ему слегка затуманивающимися, в других случаях визуальная картина как бы смазывалась во время своего движения.
Напомню, что в подавляющем большинстве случаев людям свойственен либо один — интериоризированный тип пространственных иллюзий, либо другой — экстериоризированный их тип. При стрессогенных изменениях гравиинерционной среды мной были обнаружены индивидуальные различия людей в зависимости от особенностей пространственных иллюзий [Китаев-Смык Л. А., 1977 и др.]. У одних испытуемых, склонных к пассивному эмоционально-двигательному реагированию на гравитоинерцион-ный стрессор, возникали при его действии интериоризированные пространственные иллюзии, т. е. «ощущение движения чего-то внутри себя». Эти люди были склонны к тотальным превентивно-защитным вегетативным реакциям. У других людей, отличавшихся склонностью при стрессе к активному эмоционально-двигательному реагированию и к локальным вегетативным реакциям, пространственные иллюзии были экстериоризированы, при гравиинерционных воздействиях им казалось движущимся окружающее пространство.
Таким образом, при описанном стрессе у одних людей имело место сочетание интраскопических пространственных иллюзий (ощущение иллюзорного пространственного образа внутри себя) и экскреторно-эвакуаторных вегетативных реакций (рвота, потливость, слюнотечение и т. п.), т. е. выбрасывание «субстанций, находящихся внутри себя»; при этом снижалась двигательная активность субъекта, т. е. активность, адресованная вовне. Для других людей были характерны пространственные иллюзии, локализованные вне тела субъекта. Они сочетались с усилением двигательной активности субъекта. Для этих людей не были характерны вегетативные экскреторно-эвакуаторные реакции. Можно полагать, у людей, вошедших в первую группу, вследствие «субъективной невозможности» сложившейся внешней ситуации возникал не осознаваемый ими концепт стрессора, локализованного во внутренней среде организма. У лиц второй группы, напротив, — локализованного во внешней среде. Соответственно конструировалась стратегия «защиты» от стрессора. Здесь очевидна взаимосвязанность когнитивных и вегетативных адаптационных процессов.
Однако есть люди, у которых возможны двоякие (сменяющиеся) реакции при стрессе. Напомню, что испытуемый Ко-в, участвуя в первых для него экспериментах с длительным стрессогенным вращением, отличался интериоризированными пространственными иллюзиями и выраженными тотальными вегетативными реакциями. В дальнейшем в подобных экспериментах у него было отмечено уменьшение вегетативных проявлений кинетоза и снижение яркости интериоризированных пространственных иллюзий. Наряду с этим стали возникать усиливающиеся от эксперимента к эксперименту экстериоризированные пространственные иллюзии. Это свидетельствует о возможности перехода одних проявлений стресса в другие по мере многократного адаптирования к стрессору и об изменениях формы, локализации и подвижностей сенсорных и иных иллюзий.
Подробнее о зависимости подверженности кинетозу («болезни укачивания, укручивания», «космической и т. п. болезни») от нарушениях парной функции гравирецепторов (ушных лабиринтов) было указано выше, в разделе 3.5.2 В.
4.4. ПАМЯТЬ ПРИ СТРЕССЕ
Помним ли мы свои сладостные либо горестные чувства, и могут ли эмоции извергаться из глубин памяти? Или же бесстрастные ее запасы эмоционально окрашиваются, возвращаясь в наше сознание воспоминаниями о былых страстях? Как ни странно, нет простого ответа на такой вопрос у психологов и психиатров. Потому что не ясны механизмы памяти, а ведь она — основа нашего сознания. Предлагались различные модели организации памяти: нейропсихо-логические [Лурия А.Р., 1975І, информационные и компьютерные [Норман Д., 1985; Аткинсон Р., 1980; Грановская P.M., 1974], математические[ПрисняковВ.Ф., Приснякова Л.М., 1990], психосемантические (Шмелев А.Г., 1978; Петренко В.Ф., 1986; НикитинБ.П., 1991 ], «слоистые» организации памяти [Ганзен В.А., Игонин Д.А., 1981, с. 47-55], психолингвистические [Носенко Э.Л., 1981; Спи-вак Д.Л., 1989]. Немало споров вызвала ассоциативная голографи-ческая модель хранения информации в памяти [Lindsay D.S., 1991 ]. Многочисленные исследования академика Н.П. Бехтеревой и ее учеников предполагали основой памяти — нейронные популяции головного мозга [Бехтерева Н.П., 1974 и др.]. Часто забывают, что «человеческая память характеризуется не только и не столько репродуктивными, сколько конструктивными (продуктивными) свойствами.... Не память является детерминантой деятельности, а, наоборот, последняя детерминирует процессы памяти, влияет на объем, скорость, точность процессов запоминания, хранения, воспроизведения материала» [Зинченко В.П., Величковский Б.М., Вучетич Г.Г., 1980, с. 248]. Тайны механизма памяти и мышления не раскрыты; академик Бехтерева использует свои обширные знания о строении и функционировании головного мозга человека для постижения «загадочных» возможностей человеческой души.
Возвращаясь к вопросу «Есть ли эмоциональная память?», предложу описания некоторых событий, касающихся этой проблемы. Далее, как о раритете, напомню об исследованиях (в 60-х гг. XX в.) «ситуационной» памяти в кратких режимах невесомости и при долгом тяжелейшем дистрессе у подопытных людей во время подготовки первого полета на планету Марс (полет тогда не состоялся). В конце этого раздела, посвященного памяти при стрессе, будут изложены результаты исследований, проделанных нами в 70-х гг. прошлого столетия, положенных в основу ряда современных методов влияния на массы людей через СМИ, т. е. приемы PR. Потом в разделе 4.5 рассмотрим феномен посттравматического стресса как фантом «неизгладимой памяти».
4.4.1. Стрессовые «извержения» затаившейся эмоциональной памяти и фрагментарная «ампутация» памяти о дистрессе
В девятнадцатом веке развернулась дискуссия — остаются ли эмоции в памяти. Их создают и удерживают в нашем сознании текущие события: радостные, веселые, печальные, страшные. Но если нет события, если оно завершилось — то нет и эмоций спровоцированных им? Известный российский психолог и литератор Д.Н. Овсянико-Куликовский писал «Наша чувствующая душа по справедливости может быть сравнима с тем возом, о котором говорится: что с воза упало, то пропало... Если бы чувства, нами переживаемые сохранились и работали в бессознательной сфере, постоянно переходя в сознание (как это делает мысль), то наша душевная жизнь была бы такой смесью рая и ада, что самая крепкая организация не выдержала бы этого непрерывного сплетения радостей, горестей, обиды, злобы, любви, зависти, ревности, сожалений, угрызений, страхов, надежд и т. д. Нет, чувства, раз пережитые и потухшие, не поступают в сферу бессознательного, и такой сферы нет в душе чувствующей.» [Овсянико-Куликовский Д.Н., 1914, с. 24-26.]. С этим соглашался 3. Фрейд: «Ведь сущность чувства состоит в том, что оно чувствуется, т. е. известно сознанию. Возможность бессознательного совершенно отпадает, таким образом, для чувства, ощущений и аффектов». [Фрейд 3., 1923, с. 135.]. Такие суждения соответствовали результатам экспериментов знаменитого американского психолога В. Джемса, утверждавшего, что эмоции продуцируются телесными реакциями: напряжением мышц, дрожанием, учащением дыхания и пр. [James W., 1890].
Однако, в последующем было показано, что надо различать «действительные» («периферические») и «воображаемые» («центральные») эмоции. Первые заметны извне, вторые — душевно переживаемы субъектом. Л.С. Выгодский обратил внимание на то, что «мы вправе смотреть на фантазию как на центральное выражение эмоциональных реакций» [Выгодский Л.С, 1965, с. 272]. «Центральные» эмоции могут как усиливать, так и ослаблять («растрачивать») периферическое их воплощение. Такому освобождению от эмоционального напряжения, можно сказать от «стресса жизни» служат произведения искусства благодаря тому, что «... с усилением фантазии как центрального момента эмоциональной реакции, ее периферическая сторона задерживается во времени и ослабевает в интенсивности» [там же, с. 273]. «Эмоции искусства суть умные эмоции. Вместо того, чтобы проявиться в сжимании кулаков и в дрожи, они разрешаются преимущественно в образах фантазии» [там же с. 275].
Еще П.П. Блонский полагал, что «можно считать почти обоснованным следующий вывод: дольше всего помнится сильно эмоционально возбудившее событие» [Блонский П.П., 1979, с. 149]. Экспериментально это было подтверждено A.M. Вейном, и Б.М. Каменецкой: 80 % всех запомнившихся событий эмоционально окрашены, 16 % безразличны, 14 % не оцениваются. Из эмоционально-окрашенных 65 % связаны с пережитым чувством удовольствия, 30 % с неприятными переживаниями (цитировано по [Носенко Э.Л., Егорова С.Н., 1996, с. 26]).
Сейчас известно, что чем эмоциональнее, чем талантливее и злободневнее произведение искусства, тем лучше освобождает оно людей от их готовности к внешним эмоциональным, стрессовым действиям из-за накопившихся в душе (в памяти) эмоций. [Дорфман Л.Я., 1977].
Эти суждения базируются на убежденности в существовании эмоциональной памяти, накапливающей следы переживаний. Но как же быть с утверждением Овсянико-Куликовского о том, что с такими накоплениями наша душевная жизнь была смесью рая и ада? Конечно же эмоциональная память может быть разной: постоянно вносимым в сознание незабываемым чувством, либо давно пережитыми и ушедшими в подсознание эмоциями, казалось бы похороненными в душе.
Прямые доказательства о наличии эмоциональной памяти с сохранением всех событий, всех мгновений прожитой жизни впервые были получены американским нейрохирургом У. Пен-фильдом [Пенфильд У., Джаспер Г., 1958]. Во время операции на головном мозге он раздражал его участки микроэлектродами. Пациенты, находившиеся при этом в полном сознании, т. к. операции проводились при местном обезболивании, сообщали об удивительных картинах прошлого, проходивших перед их мысленным взором. Так одной женщине вспомнился сад, где она бывала в детские годы, с запахом цветов, по которым бродил ее взгляд, вспомнила и свои тогдашние мысли и чувства. Достоверность экспериментальных данных У. Пенфилда подтверждалась многими исследователями [Бехтерева Н. П., 1974 и др.].
Наблюдения и экспериментальные исследования автора этих строк свидетельствуют о том, что в глубинах души (психики) эмоциональная память о пережитых трагических временах может сохраняться как огненная лава в недрах Земли, не напоминая о себе до начала извержения. Стресс закладывает в неосознаваемые глубины психики (в подсознание) взрывчатую магму эмоциональной памяти. Новый стресс, напомнивший о старом, может пробить «земную твердь» забвения и выпустить вулкан стрессовых воспоминаний с переживанием, казалось бы, давно ушедших чувств.
Вот несколько примеров из тех, что накоплены мной.
1. «Ржаной коржик». Описание случая, произошедшего с Ко-вым (44 лет), в 1975 г. «Впервые в филипповской булочной на улице Горького <ныне Тверская улица в г. Москве> взял я к чаю ржаной коржик. Откусил от него, чувствую, что-то ужасно неприятное со мной происходит. Все тело, от макушки до пяток, будто чем-то очень противным наполнилось, мерзко стало на душе. Выплюнул я кусочек коржика, а то жевать его уже стал. И тут все понял: его вкус — грубопомолотой ржи — напомнил мне и будто заполнил меня вкусом лепешек из ржаных отрубей, которые мама пекла на сухой без масла сковородке, на коптящей керосинке, в холодной чужой кухне, там мы жили в эвакуации во время войны. Ничего, кроме лепешек из ржаных отрубей, тогда не было. Запивали кипятком, заваренным сухой толченой морковкой. Это я хорошо помнил, но никаких неприятных переживаний не ощущал до того, как пожевал ржаной коржик.
Через час-полтора после этого мерзкие ощущения у меня прошли. Потом еще несколько раз нарочно заходил в булочную, пробовал те коржики. Нехорошие ощущения были еле-еле заметны. С четвертого раза не появлялись».
У Ко-ва возникли эмоционально яркие дискомфортные переживания при вкусовом ощущении, напомнившим о чрезвычайно дискомфортных детских переживаниях во время Второй мировой войны. Внезапный стимул — вкус ржи грубого помола (сейчас это экзотический деликатес) — оказался символическим напоминанием о давно ушедших и, казалось бы, совершенно забытых «стрессорах жизни»: голоде, холоде, страхе. Эмоциональная память, затаившая яркие, сильные, негативные чувства выстрелила ими, как вулканическая бомба. Это свидетельствует о сохранности в подсознании мнемических (памятных) следов минувших переживаний. Надо полагать, адаптивное защитительное назначение таких прорывов в том, чтобы насторожить человека: «Не возвращается ли опасное прошлое и не пора ли противостоять его повторению!»
2. «Gott mit uns». Теперь о случившемся с Мо-вым (50 лет) в 1978 г. Тогда у молодежи были в моде поясные ремни с пряжками замысловатых конструкций. Мо-в в троллейбусе увидел стоящего рядом парня. На нем ремень с большой алюминиевой пряжкой с выпуклой надписью: «Gott mit uns». Это — пряжка солдата вермахта, рядового фашисткой Германии в годы Второй мировой войны. Далее выдержки из рассказа Мо-ва: «Озлился я вдруг на парня... даже затрясся. Вообще-то я человек спокойный. И рука напряглась, чтобы ударить, что есть мочи, того парня. Конечно, я удержался, даже не дернулся, на всякий случай отошел и отвернулся. Но злобой кипел весь, дыхание перехватило и чувствовал, что лицо кровью налилось. Думаю, что я за старый дурак. Парень-то и про войну ничего не понимает, а пряжка — игрушка для него, потому что современную, наверно, купить не смог. И ведь на фронте я не был... И под немцами не был. Пленными их — видал. Конечно, натерпелся всего, но вспоминал о войне спокойно... Никаких прежних случаев с немецкими пряжками не помню».
У Мо-ва вспыхнули гневные эмоции при случайном напоминании о эмоционально-пережитых, но крепко забытых неприятных, опасных событиях. Вероятно, в прошлом его гнев, страхи и унижения детской (и гражданской) беспомощностью во время войны не были отреагированы. Потревоженная эмоциональная память, простимулированная памятным предметом, взорвалась ментально, вегетативно, двигательно (двигательная агрессия была заторможена).
В отличие от Ко-ва, стимулом для вспышки забытых чувств у Мо-ва стал символ злых, вражеских сил, а не голода и собственной беспомощности. Потому эмоциональное «отреагирование» было агрессивно-стеническим, а не астенизирующе-пассивным, как у Ко-ва. Не только неприятные дистрессово-травмирующие переживания могут на годы погружаться в забвение, а потом вдруг актуализироваться. Это может случиться и с эустрессом.
3. «Позабытая страсть». Пе-ов (58 лет) согласился на встречу с женщиной, попросившей его об этом. Разговаривая с ней, он внезапно вспомнил, что 18-летним недолго работал в колхозе. Там он страстно влюбился в 14-летнюю девочку — ловкую, умную, изумительно красивую. Ею была эта женщина.
И вот теперь Пе-ов вспомнил, что тогда твердо решил писать ей, а после достижения ею совершеннолетия — жениться на ней. Уехав из колхоза, он забыл о ней и, казалось, ни разу не вспомнил за прошедшие десятилетия. Тогдашняя девочка, теперь пожилая, располневшая, некрасивая женщина сидела рядом с Пе-овым. А он вспоминал ту чудную девочку. И сильнейшее чувство счастья, любви, платонического вожделения наполнило вновь все его существо как когда-то. Нынешняя женщина была совсем не похожа на ту прежнюю давнишнюю девочку. И потому счастливое, ликующее воспоминание Пе-ова было «сдобрено» терпкой горечью утраты. После этой встречи ему временами вспоминалась очаровательная девочка и лето в колхозе. А горечь от несбывшегося не уменьшала сладости возращенных ему любовных чувств.
Он вспоминал и не мог вспомнить, посылал ли он ей письма после отъезда из колхоза и что помешало ему поехать за ней в далекое село. Возможно препятствия для продолжения романа Пе-ова с сельской красавицей стали психологической травмой для него, и это «запечатало» все воспоминания о ней в его эмоциональной памяти.
* * *
Эти случаи пробуждения воспоминаний о прошлом были замечены мной у лиц в пожилом возрасте, когда их мысленный взор уже обращен не столько в прогнозы будущего, сколько в сожаления о прошлом. Ниже — несколько похожих «взрывов» памяти у молодых. Однако преобладание мыслей о прошлом или о будушем, или же концентрация их на настоящем времени зависит не только от возраста, но и от характера человека. Заметим еще, что в приведенных случаях яркая эмоциональная окрашенность неприятных дистрессовых воспоминаний быстро угасала. Яркость воспоминаний приятных — сохранялась долго. Бывает и иначе.
4. «Труп в фольге». Выше представлены случаи «извержений» стрессовых воспоминаний из эмоциональной памяти, спровоцированных всего лишь однократными стимулами-напоминаниями. Не менее, а может быть и более вероятны такие же извержения, если к ним готовят человека напряженные припоминания прошлого. Проиллюстрирую это рассказом В-ова (23 лет), участника боевых действий на Северном Кавказе в 1999-2001 гг.
«Перед встречей с однополчанами все время вспоминал о Чечне, о боевых операциях, о погибших ребятах. Встретились в моей квартире. Поначалу все было нормально: помянули, закусили. И тут принесли зажаренную курицу-гриль, завернутую в фольгу. Когда начали разворачивать фольгу... она зашуршала, заскрипела, и мне вдруг плохо стало: дыхание перехватило, слабость в ногах, руки как каменные. И весь липким потом покрылся. На рвоту потянуло. На душе тяжко, горестно. А почему?! Потому что вдруг вспомнилось, как мы ребят наших убитых «грузом-200» возили. Чтобы на солнце, на жаре не портились, их в фольгу заворачивали — отражает она солнечные лучи. Особенно запомнилось, когда из села Ведено вывозили на вертолете сверхсрочника Ваню С. Ветерок в кабине несколько раз отгибал фольгу... Она скрипела, и казалось, Ваня встать хочет... фольгу на куриной тушке-гриль отогнули, и она также заскрипела... как тогда... Раньше курицу-гриль в фольге покупал, нормально разворачивал, ел... ничего такого со мной не было».
Очевидно, встреча с сослуживцами, напряженные воспоминания о боях в Чечне и о гибели друзей-сослуживцев как бы приблизили экстремальное военное прошлое, истончили кору забвения надэмоциональной памяти о боевом дистрессе. И незначительной аналогии — фольги на курице и на трупе — стало достаточно, чтобы прорвалось воспоминание об убитом друге, чтобы горе вновь наполнило душу и тело бывшего солдата.
Несомненно, у В-ова был не проявлявшийся ранее скрытый (латентный) посттравматический стресс. Он был усилен (сенсибилизирован) воспоминаниями о боях и встречей с соратниками. Посттравматический стресс резко обострился из-за стимула-напоминания — скрипа и вида фольги Стресс проявился эмоционально (чувство горя), телесно (слабость ног, тяжесть рук), вегетативно (позывы на рвоту).
5. «На следственном эксперименте». Различные способы активизации припоминания (активизации памяти) используются в юридической, следственной практике. На следственном эксперименте (при нарочитом воспроизведении обстановки, в которой совершено преступление) нередко пробуждаются не только перцептивные образы, хранящиеся в памяти (зрительные, слуховые), но и эмоциональное их сопровождение, т. е. эмоции, испытанные человеком (обуревавшие его, владевшие им) во время свершения преступных действий.
При этом нередко удивительным образом изменяется эмоциональное состояние подследственного (обвиняемого). Перед этим в тюрьме он мог быть испуганным, в подавленном, угнетенном состоянии, бледным и дрожащим. А вновь оказавшись на месте совершенного им преступления, начинает переживать те же эмоции, которые были у него при преступном акте: возбуждение, злобу или отвагу, наглость, решимость. И все это несмотря на окружение: конвой, юридический персонал. Из глубин эмоциональной памяти высвобождаются чувства, владевшие некогда человеком. Они не только воссоздают в его сознании мнемические (памятные) образы, но и вновь овладевают его телом, мимикой, поведением сходно с тем, как это было при совершении преступления.
Телезрителям, наблюдающим за следственным экспериментом в документальной телепередаче, когда они видят на экране спокойного, наглого преступника, упоенно рассказывающего и показывающего, как он убивал, не надо думать, что это самодовольный убийца. Часто такой человек — несчастный, которым овладела эмоциональная память. Подчиняясь ей, он как работ, дублирует свои действия, совершенные в критический момент его жизни, трагически изменившие ее. Такие редубликации эмоционального поведения, немало изумляя (пугая, огорчая) самого субъекта, могут происходить не только при событиях с трагическими завершениями, и во вполне благополучных ситуациях.
6. «Просоночный страх у бесстрашных людей». К категории ужасов, вулканирующих из глубин «подсознательной памяти», можно отнести приступы ночных страхов и страха в просоночном состоянии, когда человек уже не спит, ходит, действует, но все еще не вполне проснулся. Такие эмоции бывают и у людей, абсолютно бесстрашных в дневной обстановке. Я изучал их во время боевых действий в Чечне в 1995-1996 гг. Эти необузданные страхи изначально возникают во сне как кошмары, сюжетно связанные с опасностями дневной, боевой действительности. Затем у, казалось бы, полностью проснувшегося человека сохраняется привнесенный из сна ужас перед реальными опасностями, которых он никогда не боялся в состоянии полного сознания, днем. Бесполезно пытаться рационализировать его просоночные представления о реальной вероятности ночной угрозы. Она кажется неустранимо-надвигающейся. В таких случаях я осуществлял оперативную психотерапию:
—полностью соглашался с представлениями «просоночного» человека об ужасе опасности;
—побуждал его к утрированно-детальному анализу действий его врагов — реальных и мнимых;
—энергично ускорял защитные действия: совместно с «просо-ночным» человеком собирали все необходимое и покидали помещение, где спали;
—мы с ним выходили во внешнее открытое пространство села, города, либо в поле, в горную или лесистую местность;
—мы с «просоночным» человеком включались совместно в эмоционально-индифферентные дела и заботы, наступающего дня;
—я напоминал ему о необходимости его ответных, рискованных действий в угрожающей обстановке, шедшей тогда войны. Наконец, к этим действиям такой человек был готов приступить уже безо всякого страха. Просоночный ужас иссякал на этом этапе психотерапии, т. е., как правило, не больше чем через два, два с половиной часа после пробуждения от ночного кошмара.
Замечу, что такие ночные просоночные приступы ужаса, купированные мной, были у людей абсолютно бесстрашных, отважных в реальной боевой обстановке, у тех, кого называли «зоологически бесстрашными» (см. также 4.2.8).
Оставался вопрос, как устранить такие ночные кошмары. Для этого в дневное время я «нагружал» курируемых мною людей в дополнение к их опасной боевой деятельности интеллектуальными занятиями, не имеющими никакого отношения к войне:
—они (по одному или в группе) читали и запоминали стихи и прозу из зарубежной классической литературы (якобы для тренировки памяти);
—читали и «искусствоведчески» анализировали фрагменты из этих классических произведений (якобы для развития аналитических способностей);
— посещали театральные спектакли в городах, находящихся вблизи от зоны боевых действий (якобы для тренировки наблюдательности).
Очевидна сущность и направленность таких психотерапевтических действий:
1. Снижалась значимость (масштабность) опасных, боевых эмоциогенных факторов;
2. Травматическая память о них вытеснялась дополнительной, интеллектуальной работой;
3. Несущие угрозу образы «перемешивались» с художественным вымыслом классического искусства.
Медикаментозные средства и алкоголь я не применял, чтобы не уменьшить боеспособность подопечных. Сексуальные утехи, эффективно излечивающие последствия психологических травм (см. 3.2.4), не применялись ввиду провозглашения моральных принципов, как элементов психотерапии. Выше описаны случаи пробуждения воспоминаний об эмоциогенных ситуациях. Но бывает, что человек не может вспомнить неприятность. Она «вытеснена» как говорят психоаналитики из его сознания, чтобы не тревожить его.
Ниже опишу два случая «вытеснения» из памяти не всего неприятного (дистрессогенного) прожитого эпизода, а лишь его тягостных фрагментов.
7. «Исчезнувшая из памяти персона». При отъезде в командировку в Ленинград из Москвы Се-ву (38 лет) напомнили: «там ты вновь встретишься с Ка-вой. С ней ты беседовал, когда она приезжала в Москву». Но сколько Се-в ни вспоминал, не мог припомнить Ка-ву. Помнил комнату, мебель в ней и всех присутствовавших тогда людей, содержание разговоров. Но только Ка-ву среди них припомнить не мог. Хуже того — он точно помнил, что ее не было среди собравшихся тогда людей. Это его озадачило. Как бы невзначай, он расспросил многих участников той встречи. Все они делились с Се-вым впечатлениями о том, что Ка-ва рассказывала на той встрече, о ее яркой экспансивности. Но для Се-ва вместо нее на той встрече среди всех собравшихся было будто бы пустое место. В Ленинграде он увидел Ка-ву, не узнав, как будто впервые. Она показалась Се-ву особой неприятной, авторитарной, несдержанной и некрасивой.
8. «Забвение интимности». К М-ну (39 лет) в троллейбусе очень игриво обратилась с вопросом незнакомая и, как ему показалось, не очень приятная женщина. Он разговорился с ней. Позднее друзья напомнили М-ну, что семь лет назад она входила в их компанию, а сам М-н был интимно близок с ней. Ни о чем таком М-н никак не мог вспомнить, хотя отлично помнил всех других участников и участниц их компании и квартиру, где они собирались. Алкоголь был не в моде тогда у них, и алкогольной амнезии у М-на быть не могло. Вновь познакомившись с этой женщиной. М-н чувствовал, что представления о близости с нею были отвратительными. Описанные в п 7 и 8 «ампутации» фрагментов памяти, т. е. невозможность, неспособность вспомнить лишь отдельных людей — женщин имеет гендерно-сексуальный оттенок. Возможно, в такой фрагментарной забывчивости проявляется зооантропологическая мужская (вирильная) особенность, помогающая избавляться от женских привязанностей и от обязательств перед женщинами (см. также работы В.А. Геодакяна [Геодакян В.А., 1966]).
Остается без ответа вопрос, каков психологический механизм таких ампутаций памяти. Либо она прочно скрывает, не выдает отдельные фрагменты запечатленной действительности, окрашенные дистрессом, или же она стерла их напрочь, вытеснила эти фрагменты из себя.
Известна и тщательно изучена защитно-адаптивная способность психики — вытеснять из памяти психотравмируюшее событие все целиком со всеми подробностями [Фрейд 3., 1990 и др.]. Я участвовал в рассмотрении случая, когда в боевой обстановке водитель грузовика без спешки выбросил из него загоревшиеся ящики со снарядами до того, как они взорвались бы. Вскоре присев отдохнуть, он не мог уже вспомнить об этом, отвечая на вопросы подоспевших солдат, его сослуживцев. Освобождена ли, избавлена ли навсегда при этом память от травмирующей информации?
Возможно, ответ на этот вопрос есть в детально изученных мной случаях, когда «исчезнувший» из памяти отрезок времени, во время которого произошла психотравма, потом, спустя дни и недели, воспроизводился во сне. Сновидением был весь забытый промежуток действительности со всеми деталями, но без того, что было до и после него, т. е. без того, что человек помнил постоянно.
Однако в двух приведенных выше случаях (7 и 8) эмоциональная память безвозвратно «проглатывала» лишь отдельные образы неприятных (психотравмирующих?) людей. И ничто не способствовало их припоминанию. Неприятные образы как будто ампутировались, утрачиваясь навсегда.
И все же память может хранить не только картины прошедшего, но и пережитые эмоции. И они, вспоминаясь, рождают новые образы, уж не констатирующие, а символизирующие прошедшее. Это проникновенно описал поэт Роберт Рождественский:
Где-то далеко в памяти моей
Сейчас, как в детстве, тепло;
Хоть память моя укрыта
Такими большими снегами.
В завершении вернусь к началу и процитирую известных исследовательниц памяти при эмоциональных напряжениях — Элеонору Носенко и Светлану Егорову: «Сторонники мотивационной теории эмоций считают, что глубина и интенсивность переживаемых человеком эмоций, соотношение силы мотивации мнемического процесса и его содержания (того, что именно запоминается: бессмысленные слоги, слова, связные тексты ит. п.) влияют на процессы, происходящие в памяти (В.К.Вилюнас, 1989) [Вилюнас В.К., 1989, с. 46-60]. Сторонники когнитивной теории, напротив, считают, что «запоминание» эмоций вообще не может осуществляться, скорее память фиксирует определенные когнитивные факты, сопровождающие эмоциональные переживания и воспроизведение этих фактов приводит к возникновению эмоций. В целом же однозначный ответ на вопрос о том, возникают ли сначала эмоции, а затем вызванные ими воспоминания или наоборот, пока не дан» [Носенко Э.Н., Егорова С.Н., 1996, с. 25-26].
Накапливаются знания о том, что у разных людей эмоциональные сопровождения воспоминаний не одинаковы. У одних — даже при отличной памяти о прошлом — детальные припоминания не эмоциональны. Однако, у них возможны эмоциональные «вспышки», пережитые в прошлом. Примеры таких «вспышек» описаны выше. У других людей воспоминания о прошедших событиях окрашены эмоциями. И трудно решить — «всплыли» ли они из залежей памяти вместе с тем, что вспомнилось, либо нынешние эмоции присовокупились к череде давних эмоциогенных событий, проходящих теперь перед мысленным взором. Вспомним случай с известным французским писателем Густавом Флобером. Когда он описывал состояние отравления героини романа «Мадам Бовари», то у него самого проявились в тяжелой форме все симптомы отравления; понадобилась врачебная помощь. Вспомнилось ли писателю собственное отравление (нет сведений, что он когда-то отравился) ? Видел ли он и вспомнил людей когда-то отравленных? Или же сцену отравления реконструировал творческим воображением и сам
«заразился» переживаниями так, что они затронули психику писателя и его тело, вызвав соматические расстройства?
Результаты изложенных выше исследований подтверждают то, что сущность памяти, мышления и всего феномена сознания людей, тем более при стрессе, не ясна, а всесторонние исследования когниций человека имеют перед собой необозримые перспективы.
4.4.2. Осознание и запоминание информации при коротком стрессе
Одни из первых исследований памяти при стрессе были проведены при «ударах» кратковременной невесомости [Китаев-Смык Л.А., 1983]. Напомню (см. подробнее гл. 2.1), что при стрессе возникают две основные формы изменений поведенческой активности: активизация поведенческого реагирования (АР) и пассивное поведенческое реагирование (ПР) [Китаев-Смык Л.А., .1977а, 19776, 1978а, 19786, 1979]. АР возникает, когда стрессо-генная ситуация неосознаваемо воспринимается как возможная, т-. е. в фило- или онтогенетическом опыте субъекта есть память об аналогичных прецедентах, достаточных для сформирования программы активного защитного реагирования (поведения, действия). ПР возникает, когда стрессогенная ситуация неосознаваемо воспринимается как невозможная, т. к. она беспрецедентна для субъекта. Мной были описаны две основные фазы микроструктуры АР. Начало действия стрессора «включает» первую фазу— «программного реагирования», т. е. актуализацию одной из имеющихся как бы всегда наготове программ защитного действия (поведения), эмоционально активированного за счет чувств испуга, гнева, решимости и т. п. После завершения первой актуализируется вторая фаза АР — фаза «ситуационного реагирования». Во время нее поведение в той или иной степени (обусловлено сложившейся ситуацией, при этом активизация поведения связана с экстатическими эмоциональными переживаниями, как бы раскрепощающими субъекта от нормированных правил поведения [КвиткинЮ.П., 1977; Китаев-Смык Л.А., 1968, Д977идр.].
. Осознавания и запечатления текущей ситуации были исследованы во время действии на испытуемых гравитационного стресса при режимах кратковременной невесомости у 28 человек. Из них Юотличались в невесомости АР—первая группа, 12—ПР—вторая группа, у шести поведение и эмоциональные проявления практически не отличались от имевшихся при естественной силе тяжести — третья группа.
В первой серии экспериментов испытуемым предлагалось произвольно наблюдать за всем происходящим перед ними (парение в воздухе людей, животных, проведение различных экспериментов и т. д.). Во второй серии им предъявлялись тестовые события с заданием запомнить их содержание и последовательность. Одновременно велась киносъемка всего того, что мог видеть испытуемый. После серии экспериментов испытуемые сообщали обо всем, увиденном ими (при наличии и при отсутствии силы тяжести). Затем им показывали кинофильм, запечатлевший те же события, и предлагали сопоставить то, что они рассказали «по памяти», с тем, что запечатлела киносъемка. В ходе данного исследования было обнаружено, что в первой фазе АР (во время краткого испуга) в той или иной мере «блокируется» осознание внешней визуальной информации, «сужается» ее восприятие, можно полагать для избирательного обслуживания программы адаптивного поведения (быстрые хватательные действия и «лифтные» реакции). Для второй фазы АР отмечено снижение контроля сознания за правильностью и ценностью поступающей испытуемому визуальной информации. Вместе с этим возникало облегчение запечатления в памяти (и воспроизведения в последующем) лишь той информации, которая подкрепляла представления испытуемого (концептуальную модель) о том, что, как ему казалось, происходит при невесомости.
Для испытуемых с пассивным реагированием при «ударах невесомостью» были характерны: снижение контроля за избирательностью мнестических ассоциаций, значимости данных им инструкций, успешности наблюдения за монотонно текущими событиями и склонность к отверганию заданий, побуждающих к монотонным действиям, тенденция к их «замещению» нетривиальными действиями. При наличии тошноты, рвоты у некоторых стрессово-пассивных испытуемых отмечена склонность избегать действия, требующие значительного волевого напряжения. Результаты этих исследований использовались в последующем для оптимизации деятельности людей в экстремальных ситуациях [Beach D. А., 1976].
Психологов всегда привлекали краткие внезапные провалы в памяти, возникающие в экстремальных ситуациях и очень опасные при управлении транспортом (авиационным, автомобильным и др.). «Пароксизмальные нарушения памяти в условиях непрерывной деятельности, лимитированной во времени — это трудные состояния, когда человек переживает кратковременный "провал сознания", чем-то напоминающий малый эпилептический припадок, что в начале так и квалифицировалось медицинскими экспертами [Горбов Ф.Д., Лебедев В.И., 1975]. Но эти клинические диагностические гипотезы не были подтверждены при тщательном стационарном обследовании... Наиболее правдоподобной представляется гипотеза "одного канала" при такой его загрузке, когда человек не прерывает деятельность, но настолько на ней сосредоточен, что возникает перерыв в осознанном запоминании окружающего. Это позволило исследователям относить рассматриваемые состояния не в разряд нарушений сознания, а в разряд нарушений памяти. Но проблема диагностики состояний, связанных с пароксизмами дифференцировки, памяти и т. д. трудна для решения в практике вреча и психолога... Ретро- и антиретроградной амнезии, по мнению Ф. Д. Горбова, составляют те же стороны процесса памяти, которые замаскированы в обычных условиях, но могут "сработать" при возникновении трудных состояний» [Пономаренко В.А., Ушаков И.Б., Усов В.М., 1999, с. 43].
4.4.3. Особенности памяти при длительном стрессе
При длительном гравиинерционном стрессе мной исследовалась кратковременная память у испытуемых в условиях непрерывного, многосуточного вращения на имитаторе межпланетного корабля (на стенде «Орбита») [Китаев-Смык Л.А., 1976].
При многосуточном вращении, как подробно описано выше (в гл. 3), были выделены периоды развития кинетоза («болезни движения», «болезни укачивания, укручивания»). На протяжении 1-2-х суток вращения (I период) доминирующими симптомами кинетоза стали у одних людей головные боли, у других — тошнота и рвота. Со 2—3-х суток по 7-9-е сутки (II период) выраженности этой симптоматики уменьшалась. С 8-10-х суток (III период) общее состояние и самочувствие испытуемых приближалось к нормальному. Следует отметить, что в первые 5—7 суток вращения наиболее показательными симптомами дистресса становились симпатико-тонические реакции сердечно-сосудистой системы, показатели раздражения кроветворной системы, повышение содержания катехоламинов в крови (рис. второй с графиками, помещенный в гл. 2). Наряду с ухудшением общего состояния и самочувствия в эти первые дни вращения отмечалось повышение сенсорной чувствительности разных модальностей, а также улучшение качества выполнения относительно простых интеллектуальных тестов при ухудшении показателей выполнения более сложных (рис. из гл. 3 с графиками).
Жалобы испытуемых на возникновение забывчивости при «болезни укачивания» (кинетозе) в условиях вращения побудили нас исследовать правильность выполнения ими простой, циклически повторяющейся операторской деятельности с хорошо знакомой, заранее заученной последовательностью операций. В экспериментах с трехсуточным вращением проанализирована деятельность восьми человек: четырех при скорости вращения 24 град/с, других четверых — при 36 град/с.
До начала вращения ошибки в работе испытуемых отсутствовали. В условиях вращения у всех испытуемых они возникали, как правило, в виде пропусков (забывания) не более чем одной операции. Отмечены индивидуальные отличия в общем количестве ошибочных действий, причем у лиц с преобладанием таких симптомов кинетоза, как тошнота и т. п., число ошибочных действий не превышало 3 % от общего числа операций, а у испытуемых с доминированием головной боли, апатии — 5-8 %. На 1-2-е сутки после прекращения трехсуточного вращения число ошибок при выполнении указанной деятельности уменьшалось.
В тех же экспериментах ежедневно исследовалась кратковременная память с предъявлением 10 слов. У двоих испытуемых в многосуточном эксперименте на стенде «Орбита» при скорости вращения 24 град/сиу двух других — при 36 град/с. определялась способность запоминать ряды из 10 существительных с воспроизведением через 5 сек после предъявления и при пятиминутном периоде ретенции (пережидания): а) при «пустом» таком периоде (испытуемый молча сидел с закрытыми глазами) и б) с речевой интерферирующей (отвлекающей) деятельностью (его спрашивали о чем-либо, а он отвечал). Во всех перечисленных вариантах ряды слов предъявлялись на слух и зрительно. На протяжении 7 суток обследования (2 суток перед началом вращения испытуемые жили в кабине стенда «Орбита», 3 — во время вращения стенда и 2 суток — после остановки вращения испытуемые оставались в нем) ряды слов для каждого обследуемого не повторялись. Когда испытуемому предлагается запомнить ряд русских слов, то он ведь не впервые сталкивается с ними. Следовательно, они есть в его длительной памяти и ему надо лишь запомнить факт (эпизод) предъявления ему именно этих слов- Потому предложено называть такие эксперименты исследованием «эпизодической», «ситуационной» памяти, а не «кратковременной».
Уменьшение числа правильных актуализаций обнаруживалось в условиях вращения только при усложнении мнести-ческой задачи — заполнении периода ретенции гомогенным интерферирующим материалом. При этом в условиях вращения правильно воспроизводилось 3—5 слов, между тем как в стационарных 5-8.
Отмечено, что до начала вращения, живя в кабине стенда и работая, испытуемые уверенно называли запомнившиеся слова, затем часто заявляли: «Все, больше не помню», после чего актуализированный материал, как правило, не дополнялся, несмотря на старания испытуемых. Во время вращения испытуемые, напротив, в большинстве случаев называли запомнившиеся слова не сразу, неуверенно, поправляя и дополняя названные слова, подчас неправильно. Эта нерешительность припоминания свидетельствует о том, что при дистрессе неопределенная опасность стрессора, создающего кинетоз препятствует определенности припоминания (мыслительных решений). Появляется неуверенность памяти, стремление не ошибиться в выборе защитных действий.
Существенно, что при всех видах исследования вербальной памяти дистресс-кинетоз увеличивал количество ошибочных припоминаний (до 5 при актуализации одного ряда слов). 80 % ошибочных актуализаций составляли слова, сходные по смыслу («береза» вместо «дерево» и т. п.). Аналогичный феномен был впоследствии обнаружен при эмоциональном напряжении Э. Л. Носенко и С.Н. Егоровой. Они полагают, что такие семантические ошибки возникают из-за «активизационных процессов в семантической памяти» [Носенко Э.Л., Егорова С.Н., 1997, с. 56]. Вероятно это происходит не из-за активизации, а из-за растор-моженности семантической памяти, из-за снижения контроля за припоминанием. В наших экспериментах не отмечено различий памяти при предъявлении материала зрительно или на слух.
У тех же четырех испытуемых в ходе экспериментов с трехсуточным вращением до его начала, потом, на 2-е сутки непрерывного вращения и на 2-й день после его прекращения определялась способность воспроизводить отрывок прозаического текста из 25—30 слов, содержащий 7 смысловых групп, после 15—20-минутной ретенции, заполненной гомогенной интерферирующей деятельностью. Если до начала вращения правильно воспроизводились 60—70 % слов и практически все смысловые группы, то на 2-е сутки вращения правильно актуализировались 10-20 % слов, причем двое из числа обследованных, назвав 3—4 отдельных слова, безрезультатно пытались вспомнить смысл текста. Следует отметить, что эти испытуемые спустя 4 часа после предъявления отрывка текста (во время их отдыха в ходе продолжающегося вращения) продемонстрировали значительно более полное припоминание по сравнению с результатами, полученными в ходе пробы.
Исследования влияния гравиинерционного стресса на память были продолжены в ходе экспериментов с 15-суточным проживанием в непрерывно вращающемся стенде «Орбита» двух испытуемых при скорости 24 град/с и двоих других — при 36 град/с. Исследовалась их способность припоминать ряды из 5 слов — двухзначных числительных — после 5-минутного интервала ретенции, заполненного гомогенной интерферирующей деятельностью. Отмечено ухудшение показателей выполнения этой пробы в условиях вращения, особенно выраженное в первые 4 суток вращения. Различий показателей мнестической функции в ходе проведенных исследований при скорости вращения 24 и 36 град/с обнаружить не удалось.
Суммируя результаты исследования интеллектуальной деятельности и памяти (в экспериментах с многосуточном вращением) можно видеть, что из-за гравиинерционного стресса возникают затруднения при переключении внимания, забывчивость во время монотонной деятельности, ухудшение качества выполнения сложных интеллектуальных и мнестических задач. Наряду с этим улучшалось выполнение относительно простой умственной деятельности. Было отмечено усиление ретроградного торможения памяти следов под влиянием интерферирующей (посторонней, мешающей) деятельности. При простых мнестических заданиях наряду с увеличением объема памяти (несмотря на ухудшеннное самочувствие!) возрастало и число ошибочных актуализаций в виде парафазии и контаминации, т. е. нарушалась избирательность воспроизведения при расторможенности ассоциаций. По мнению И.М. Фейгенберга (Фейгенберг И.М., 1972] в основе такой «рыхлости ассоциаций» лежит нарушение функций «аппарата вероятностного прогнозирования».
Замедление флюктуации изображения при восприятия «обратимых» и «двойных» фигур, обнаруженное нами при длительном стрессе, может прямо свидетельствовать о снижения в этих условиях активности процессов, обеспечивающих перебор альтернативных решений (Китаев-Смык Л.А., 1977]. Это также может быть причиной (и механизмом) дисфункции мышления и памяти при дистрессе.
Позднее в обширном и кропотливом исследовании памяти при стрессе Э.Л. Носенко и СЕ. Егорова показали, «что состояние эмоционального напряжения оказывает воздействие на вербальную память, активизируя те компоненты деятельности, которые в ходе восприятия, припоминания, воспроизведения информации на родном языке активно не осознаются субъектом и не сопровождаются активной смысловой переработкой информации...Необходимость, активность смысловой переработки информации, подлежащей запоминанию и воспроизведению, ухудшает запоминание в состоянии эмоционального напряжения как на родном, так и на иностранном языке» [Носенко Э.Л., Егорова С.Н., 1997, с. 96].
Исследованиями Н.П. Бехтеревой (Бехтерева Н.П., 1974] с сотрудниками обнаружены жесткие и гибкие элементы системы головного мозга, причем гибкие являются основой различных форм приспособления организма к изменениям среды. Процесс адаптации организма в условиях вращения в наших экспериментах сопровождался весьма болезненным состоянием кинетоза. Возможно, это связано с дистрессовой перестройкой ряда «пространственно организованных нейронных ансамблей» (терминология Н.П. Бехтеревой). Вместе с тем можно допустить, что чем меньшей гибкостью обладает перестраиваемый в ходе адаптирования элемент, тем большей болезненностью сопровождается процесс перестройки.
Настоящее исследование показало, что интенсивность грави-инерционных воздействий в условиях вращения в значительной мере зависела от уровня двигательной активности испытуемых, который, в свою очередь, определялся уравновешиванием мотивационно-волевых побуждений испытуемых (желанием действовать) и отрицательных подкреплений негативными ощущениями, возникавшими у испытуемых из-за усиления головной боли и тошноты при движениях головой. Напомню, что интенсивность «самоукачивания», создающая кинетоз, соответствовала субъективному оптимально-терпимому уровню переносимости гравиинерционных воздействий. При этом более простые и более часто используемые психические механизмы оптимизировались, сложные и редко включаемые, напротив, минимизировались.
Ранее мной описаны две группы людей, отличающиеся при экстремальных воздействиях характером эмоционального, моторного и вегетативного реагирования, а также разной склонностью к сенсорным иллюзиям [Китаев-Смык Л.А., 1963а, 19636, 1964 идр.]. Подобное разделение проявилось в ходе настоящего исследования в разной выраженности реакций памяти у лиц с вегетативными (тошнота, рвота и пр.) или психологическими (головная боль, апатия и пр.) проявлениями кинетоза. У последних при головной боли ухудшение припоминания рядов слов было более выраженным, чем у тех, кого тошнило. Мной было высказано предположение о том, что указанные различия связаны с преобладающем функций доминантного или субдоминантного полушария головного мозга в организации указанных форм реагирования [Китаев-Смык Л.А., 1968.1983]. Различная специализация полушарий головного мозга человека показана в ряде работ [Газанига М., 1974 и др.].
Локальная общность вестибулярного и слухового представительства в темпоральной (височной) коре больших полушарий не вызывала, как указано выше, преимущественного ухудшения слуховой памяти. Это может косвенно свидетельствовать об отсутствии преобладающего значения вестибулярных анализаторов в возникновении изменений ситуационной памяти, обнаруженной нами при дистрессе из-за «болезни движения».
4.4.4. Микрострессовые влияния для «насильственного» создания «собственного мнения» о действительности
Совместно с Л.Н. Хромовым [Китаев-Смык Л. А., Хромов Л.Н., 1981] нами был разработан и создан метод «внедрения» в подсознание людей заданных представлений. Формирование и «закрепление» в сознании информации осуществлялось путем использования микроструктуры эмоционального стресса при усвоении информации.
Пятнадцати подопытным предъявлялся «на слух» текст, содержащий стрессогенные посылки («стимулы») в виде эмоционально значимых слов и выражений разного типа: профессионально-значимого (о летных катастрофах), детективно-авантюрного (с упоминанием «крови», «убийств» и т. п.) и сексуально-значимого. В работе с другой группой (20 человек) предъявлялся текст, в содержательной структуре которого не было эмоциональной вербальной нагрузки. Вместо нее при прочтении текста диктор имитировал «досадную» ошибку, «неуместную» оговорку, за что на глазах группы испытуемых получал выговор от руководителя экспериментом, якобы гневно требовавшего безошибочного прочтения текста. При прочтении другого текста диктор вновь имитировал аналогичные «ошибки»; при этом отсутствовал руководитель экспериментом. Таким образом, стрессогенной посылкой («стимулом») являлось «ошибочно» произнесенное слово.
В обеих сериях экспериментов определялись показатели кратковременной памяти (через 1 —10 мин после прочтения). Это будто бы являлось главной задачей экспериментов. В действительности основной целью было исследование длительной памяти (через сутки после прочтения).
Наиболее интересным в результатах этих экспериментов оказалось, что информацию, услышанную накануне на протяжении двух-пяти секунд после «микрострессовых стимулов», многие подопытные через сутки вспоминали и представляли себе как «давно знакомую», «придуманную» ими самими, как собственное мнение, а не как услышанную в ходе вчерашнего эксперимента.
Профессионалам летного дела казалось «давно известной» информация, изложенная им после упоминаний о летных авариях, катастрофах, а юношам, после слов: «кровь», «убийство», «труп» и т. п. Стрессогенные «внедрения» в мышление «сексуально-вербальных стимулов» Аналогичным образом создавалось у сексуально озабоченных субъектов.
Итак, оказалось, что информация для «насильственного» внедрения в сознание (досознание? подсознание?) может быть избирательно адресована той или иной категории слушателей. Иные, чем намеченные категории слушателей, могут стать за-программировано-индифферентными (интактными) к информации конкретного типа.
В отдельной серии экспериментов, проведенной совместно с Л.Н. Хромовым, обнаружено, что для более эффективного «внедрения» в сознание (и формирования «собственного мнения») лучше, если информационные стресс-стимулы не слишком стройно включены в контекст подаваемой человеку информации. Лучше, если они образно или даже по смыслу выделяются из общего информационного потока (дикторского текста, видеоряда). Более того, как стресс-стимулы, можно использовать не связанные со смыслом основного текста краткие неординарные звуки: посторонние оригинальные шумы, выкрики или едкие замечания людей, якобы случайно оказавшихся рядом с диктором и даже краткие музыкальные вставки, будто бы неуместные. Это наше наблюдение нашло объяснение в концепции асимметрии головного мозга. Известно о различии их мнестических (связанных с памятью) функций [Rotenberg V.S., Weinberg I., 1999]. Выделяющиеся и дробные сигналы достигают преимущественного левого (а не правого) полушария. Это подтверждается экспериментами группы профессора Ю. Куля из университета в Оснабрюке fBauman N.. Kuhl J., Kazen M, 2005]. Они обнаружили, что активизация левого полушария дробными сигналами (от сенсомоторики) побуждала испытуемых воспринимать предложенные им рекомендации как результат собственного выбора. А вот при дробной активизации правого полушария не происходило такого внедрения навязанных решений в сознание.
Эти методы целенаправленного «внедрения» информации (с применением кратких стресс-стимулов и символов) в последующие годы были неоднократно успешно использованы многими СМИ, в частности в рекламе и PR-мероприятиях.
4.4.5. Эмоциогенная информация и «насильственные» вербальные реакции
Эмоциональные переживания могут изменять поведение человека, его речь и направленность мышления. Ниже изложены результаты наблюдений за вербальными реакциями людей, когда им в обыденных условиях предъявлялась эмоциогенная информация. Наблюдения проводились в ходе восьми семинарских заседаний (один раз в месяц) группы лиц с непостоянным составом (от 25 до 75 человек). В ходе этих научных семинаров одним из присутствовавших (тайным экспериментатором, в роли которого был автор этих строк) создавались ситуации, несколько эпатирующие собравшихся людей за счет эмоциогенных высказываний, осуществлявшихся по заранее подготовленному «сценарию». Создавалось краткое эмоциональное напряжение слушателей с последующей эмоциональной разрядкой. В структуре эмоциогенного высказывания имелось «ключевое» слово (словосочетание), на котором заострялось внимание аудитории. Намеренность таких эмоциогенных воздействий и их «сценарий» были известны только 2-3 лицам из числа присутствовавших. Эти лица выступали в роли экспертов—наблюдателей за соответствием эмоциогенных воздействий «сценарию» и за реакциями других людей на эти воздействия.
По единодушному мнению «наблюдателей» в ходе шести заседаний (из восьми) имело место отчетливо выраженное влияние высказываний, содержащих эмоциогенную информацию, на характер последующих выступлений участников семинара. Оно проявлялось, в частности, в том, что эмоциогенное «ключевое» словосочетание, невольно и «навязчиво» использовалось в тех или иных вариантах в последующих выступлениях других участников семинара. Его произносили люди, для лексикона которых оно было чуждым. В ряде случаев стрессогенное словосочетание оказывалось неуместно, ошибочно включенным в контекст выступления, что вызывало смущение самого выступавшего и его слушателей.
Для примера опишем один из таких случаев. На очередном семинарском занятии обсуждались художественные произведения человека, являющегося новатором в своем жанре, недавно представившего свои работы на суд общественности. Тестовая эмоциогенная ситуация была создана одним из выступавших (тайным экспериментатором), сказавшим следующее: «Мы присутствуем при рождении нового художественного направления, а я как врач, принимавший вот этими руками на свет новорожденных (при этом он поднял вверх руки), знаю, что роды — это и боль, и кровь, и крики роженицы, а не только радость рождения нового» и т. п. В данном случае «ключевым» словом было слово «рождение» (роды, роженица), эмоциогенность создавалась за счет слов: «боль», «кровь», «крики».
Четверо из шести выступавших вслед за этим выступлением употребили слова «роды», «родовспоможение», «роженица», «родить». В одном случае такое слово было произнесено ошибочно и оговорившийся человек смутился Эти четверо выступавших были опрошены после заседания и сообщили, что слова «роды» и т. п. нет в их повседневном и в их профессиональном лексиконах, один из них сказал, что это слово он произнес как бы невольно. Эта и другие подобные «прививки» слов и словосочетаний, предъявлявшихся в эмоционально стрессовой ситуации, свидетельствуют о том, что стрессогенная вербальная «посылка» может как бы усваиваться некоторыми людьми и на время становится либо «равноправным», либо «навязчивым» элементом их лексики.
Приведенные выше экспериментальные данные и результаты наблюдений указывают на то, что при кратковременном стрессе изменяется «доступность» сознания для поступающей информации. Свойственная человеку, либо «созданная» у него стрессором, психологическая установка облегчает усвоение информации, подкрепляющей эту установку, и, напротив, препятствует усвоению информации, если последняя противоречит этой установке.
Информационные микрострессоры, подобные описанным выше, в нашей повседневной жизни являются одними из множества побудителей психической активности людей. Подробный психоаналитический анализ таких феноменов был проведен еще 3. Фрейдом [Фрейд 3., 1990. Ошибочные действия // Введение в психоанализ: Лекции. М.: Наука, с. 5-48 и др.].
4.5. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ СТРЕССОВЫЕ РАССТРОЙСТВА — ОНИ ИЗ-ЗА НЕУДОВЛЕТВОРЯЕМОЙ ЖАЖДЫ МЩЕНИЯ ЛИБО ИЗ-ЗА НЕУТОЛЯЕМОЙ ЖАЖДЫ ЛЮБВИ?
4.5.1. Подходы к пониманию посттравматического стрессового расстройства
Последствия психологических травм, особенно с социальным компонентом, известны с давних времен. Как при всяком стрессе, они могут быть положительными, т. е. полезными или даже приятными (эустрессовыми), и отрицательными — это эмоционально-психические и психо-соматические расстройства. Положительные последствия некоторых психотравм используются в медицинской практике (шоковая терапия и т. п.) и для психологической рекреации (экстремальный спорт и др.). Однако они не выделены в единый синдром. А вот отрицательные последствия психотравм всегда были объектом внимательного изучения.
После стрессовой травматизации бывают не только расстройства, но и противоположные, положительные преобразования личности. Человек, познав свою способность преодолевать экстремальные «сверхтрудности» и опасности и даже утраты, уже имея опыт самореализации при стрессах, обретает веру в себя и знания, как ему с оптимальным успехом овладевать и дальше при стрессе своей судьбой, совершенствуясь духовно и интеллектуально, создавая семью, карьеру, способствуя благополучию окружающих людей. Однако ниже рассмотрим нежелательные, плохие последствия психологического травматизма.
Мировые войны и локальные конфликты XX столетия дали много примеров негативного посттравматического стресса [PallmeyerT.P., Blancherd Е.В., Kolb L.C., 1986; Foy D.W. Carroll E.M., Donahoe C.P., 1-987; Goderez B.J., 1987; Fairbank J.A., Nickolson R.A., 1987 и др.]. В ходе и после окончания боевых действий США во Вьетнаме американцев поражала массовая неадекватность поведения вернувшихся ветеранов (от лат. — veteranus — vetus — старый, опытный) Вот некоторые статистические данные: во время войны во Вьетнаме погибло 58 226 американских граждан [Лесной Н., 2006, с. 104-108]. После возвращения с войны покончили с собой в три раза больше ветеранов; треть заключенных в американских тюрьмах тогда были участниками войны во Вьетнаме [Посттравматическое стрессовое расстройство. Предисловие, 2005, с. 3-4].
«В России локальные военные конфликты, природные и техногенные катастрофы привели к широкому распространению посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). К сожалению, специальных, широкомасштабных эпидемических исследований распространенности ПТСР в нашей стране не проводилось, однако выборочные клинические работы определяют показатель этой патологии среди ветеранов афганской войны в 30 %, а среди участников ликвидации аварии в Чернобыле — 15 %. По предварительным данным, среди участников военной операции в Чечне (комбатантов) количество таких пациентов больше» [там же]. Профессора И.Б. Ушаков и Ю.А. Бубеев сообщают более конкретные данные: «рассматривая отдаленные последствия боевого стресса следует сказать, что до 50—55% комбатантов, участвовавших в локальных войнах последних десятилетий, впоследствии страдают ПТСР» [Ушаков И.Б., Бубеев Ю.А., 2005, с. 10].
Последствия войны во Вьетнаме вынудили администрацию США финансировать обширные исследования ПТСР. В номенклатуру болезней был введен диагноз: «посттравматическое стрессовое расстройство». В нашей стране этот диагноз ставится в соответствии с Международной классификацией болезней (МБК — 10), там ПТСР сокращенно описано в рубрике F 44.88 [Международная классификация болезней (10-й пересмотр), 1994].
До сих пор в ПТСР много не ясного, даже загадочного. Потому подходы к пониманию ПТСР, изложенные ниже, могут казаться сумбурными, но, надеюсь, будут полезны для людей, затронутых этой проблемой: исследователей, лекарей ПТСР и его жертв.
1. Единой теории патогенеза посттравматических стрессовых расстройств нет. Потому многие исследователи и клиницисты, основываясь на разных гипотезах, предложили различные психологические и иные модели: психодинамическую, когнитивную, психосоциальную, психобиологическую, условно-рефлекторную и др. [Кузнецов А. А., 2004, с. 132-136; Калмыкова Е.С, Падун М.А., 2002; Малкина-Пых И.Г., 2005; Тхостов А. Ш., Зинченко Ю. П., 2001, с. 10-18]. Причина не только в сложности посттравматического стресса, но и в том, что под его многоликостью происходят разные адаптивные и болезненные процессы.
Анализируя ПТСР, Е.О. Александров опирается на разработанную мной еще в прошлом веке [Китаев-Смык Л.А., 1983] дифференциацию развернутой картины стресса на субсиндромы: эмоционально-психологический, вегетативный, когнитивный оциально-психологический. Однако наиболее интересны, а, может быть, и удачны подходы к пониманию сущности ПТСР с учетом психоанализа, трансовой и диссоциативной теории, гипотезы о травматическом импринте, теории формирования патологических ассоциативных эмоциональных сетей [Александров Е.О., 2006].
Есть сведения о том, что ПТСР при определенных обстоятель-\ ствах может тяжелее протекать у людей с доминированием правого полушария головного мозга [Тарабрина Н.В., 2007, с. 11].
4.5.2. Разные пути посттравматического стрессового расстройства
Что становится причиной посттравматического стресса? У него I многофакторные истоки. Нередко основная причина — «травма прошлым», т. е. ни как не забываемое событие, чрезвычайно выводящее за пределы обычного (раньше привычного) опыта жизни Іиеловека. «Травма прошлым» могла быть нанесена переживанием Іужаса или боли. Ею начат, запущен своеобразный процесс пост-Ігравматического стресса.
Еще в 1894 г. Р. Соммер предложил термин «психогении» для заболеваний психики, возникающих исключительно из-за прошлых эмоционально-психических переживаний [Sommer R., 1894]. К таким нарушениям психики (без органических поражений нервной системы) относят и посттравматические стрессовые расстройства. Но нельзя не видеть специфику их проявлений и длительного развития болезни с переходами по фазам, как по ступеням (см. ниже).
Причиной посттравматического стресса может оказаться и «травма нынешней жизнью». Это бывает у человека, который адаптировался, привык к одним условиям существования. Но вот он оказывается в совершенно иной обстановке, казалось бы, более легкой, чем та, к которой он привык. Такая новая нынешняя жизнь может стать нетерпимой, психотравмирующей. И, как болезненная защита от нее, формируется посттравматический стресс, хотя в таких случаях это название не вполне корректно, т. к. психику уязвляет не предшествующая, а текущая травматизация.
Действительность может травмировать психику не только своей нетерпимой новизной, необычностью, но и психологическими невзгодами. В начале прошлого века Карл Ясперс развил суждения о том, что психогении могут быть, по словам 3. Фрейда, «бегством в болезнь из непереносимой реальности» [Jaspers К., 1965]. Посттравматический стресс может оказаться своеобразным ускользанием от травм, наносимых реальностью.
Наконец, источником посттравматического стресса часто бывает «травма ожидаемым будущим », когда человек страшится трагедий, случавшихся раньше и оставивших ужасный след в его душе. Однако, еще хуже незнакомые опасности, надвигающиеся из будущего. «Травма ожидаемым будущим» часто самая нехорошая. Человек живет здесь и сейчас, т. е. в каждый «моментжизни» (см. у Карла Бэра), и живет он для будущего. Для какого? Хорошего! А если оно ужасно, то омрачает, уродуется каждый момент текущей жизни. И у человека (в его психике, в его организме) формируются процессы, характерные для посттравматического стресса. Неврозы из-за страха перед будущим были изучены и подробно описаны Е. Блойлером [Е. Bleuler, 1920].
Возможны разные формы патологического развития ПТСР: преимущественная — психосоматизация заболевания, либо наиболее заметным становится регресс психики, или же начинает проявляться диссоциация сознания и подсознания. 1. Психосоматические расстройства актуализируются как:
а) «уничтожение» болезненным процессом внутри организма локусов, пораженных, якобы «захваченных» гипотетическим врагом. Тогда страдают отдельные органы и физиологические системы; б) «уничтожение» психосоматическим заболеванием субъекта (самого себя), как поля, где развивается мучительный стресс (с его неразрешимыми проблемами). Возникает тотальное, губительное расстройство организма, т. е. невольный психосоматический «суицид». 2. Стойкий регресс психики из-за ПТСР можно рассматривать, как «уход» от понимания и переживания неустранимых (незабываемых) последствий психотравмы. Так могут возникать:
а) инфантилизация, возврат к детскому сознанию, еще не понимающему и потому не переживающему в полной мере мучительной психотравмы;
б) дебилизация, т. е. «уничтожение» психических потенций субъекта, как «чувствилища» и «переживалища» мучений
стресса.
3 Диссоциация (расщепление, разведение) сознания и подсознания может происходить как формирование психического «аварийного клапана», либо «защитного убежища»:
а) возникновение такого «аварийного клапана» происходит для выпускания накапливающегося дискомфортного психического перенапряжения. Его источник — все еще не излеченная (не забытая, не зажившая) психотравма. Диссоциация продуцирует приступы доминирования («властвования») подсознания над сознанием. Тогда подавляются осознаваемые нормы поведения, этические ограничения, традиционные запреты. Такие приступы проявляются как необузданные крики, скандалы, агрессия и т. п. Это как бы борьба против образа врага, причинившего некогда психотравму;
б) приступы самоагрессии (попытки суицида), тоже как борьба с таким «врагом» внутри себя самого;
в) периодический уход, прятание себя в «защищенный мир» подсознательных образов, представлений, переживаний.
Это припадки благодушия, не адекватного реальной действительности, либо экстаза, либо летаргической дремотности;
г) «проваливания» человека в хранящиеся в подсознании яркие образы событий, травмировавших его психику когда-то: припадки страха, приступы боязни окружающих людей, тревоги перед текущими или предстоящими событиями.
Глубоко зашедшая диссоциация без возможности вытеснения последстий психотравмы создает «дробление» личности с формированием множественности характеров в одном человеке
Можно видеть еще и иные «пути» развития ПТСР.
Основываясь на собственных клинических данных, Е.О.Александров высказал предположение, что ПТСР не только ухудша качество последующей жизни человека, но может сокращать ее. Однако, ведущим фактором оказывается то, каким смыслом он наполняет ее: мудростью жизненного опыта, либо болезненными переживаниями. В первом варианте — пережитый стресс может продлять жизнь человека [Александров Е.О., 2005, с. 123]. Это суждение согласуется с концепцией Н. Я. Пэрна, видевшего в жизни человека два основных периода: первый — накопление опыта жизни и знаний о созиданиях и разрушениях, второй — з вершающий период, — передача жизненной мудрости молодым поколениям, либо руководство ими [Пэрна Н. Я., 1925]. Может ли невостребованность окружающими людьми жизненного опыта, жизненной мудрости человека с незаживающими ранами души, с неотомщенными и непрощенными обидами, со своими не искупленными грехами (все это глубинные причины ПТСР) укорачивать жизнь страдальца посттравматическим стрессовым расстройством?
4.5.3. Симптоматика посттравматического стрессового расстройства
При всяком внезапном остром стрессе, даже очень интенсивном, нельзя предугадать, станет ли он в дальнейшем причиной ПТСР, т. е. будет ли продолжаться стрессовое расстройство, когда уже не будет психотравмирующего стрессора. Таким образом, ПТСР имеет две существенные особенности, отличающие его от обычного стресса.
Первая состоит в том, что психологические, физиологические и социально-психологические расстройства продолжаются после устранения стрессора, когда вокруг человека, ранее психотрав-мированного, уже спокойная, привычная жизнь.
Вторая особенность — это то, что ПТСР может возникать спустя несколько месяцев, даже лет, после пережитой психотравмы, т. е. когда стрессовое состояние, возникшее из-за нее, казалось бы, давно закончилось.
Различают разные виды ПТСР:
—острое его развитие с яркими проявлениями, продолжающееся не больше трех месяцев;
—хроническое, продолжающееся больше трех месяцев;
—отсроченное, когда проявление заболевания возникает спустя месяцы и годы после психологической травмы и вызванного ею давно закончившегося острого стресса;
- без ярких проявлений, но с деформацией характера, самочувствия и поведения человека, изменяющих его жизнь: его
- склонности, пристрастия и, соответственно, отношение к нему г окружающих людей, когда изменение личности сказывается
на всем образе его существования.
В Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), как и другие формы стресса, имеет активные и пассивные проявления. Активные — это неадекватная агрессивность, повышенная реактивность в ситуациях, чем-либо напоминающих психотрав-мировавшее событие и многое другое, что рассмотрим ниже. Пассивные проявления ПТСР (они названы М.Дж. Горовицем «избегание» [Horwitz M.J., Solomon G.F., 1975; Horowitz M.J., 1986]), т. е. уклонение от напоминании о травме: разговоров и мест, связанных с ней, блокировка эмоциональных реакций, снижение интереса к жизни, чувство отстраненности от происходящего вокруг и др. В картине заболевания могут преобладать активные либо пассивные симптомы; они могут перемежаться.
» Исследователи психических болезней стресса и Международная классификация болезней десятого пересмотра (МКБ-10) упоминают большой ряд условий возникновения ПТСР и его симптомов [Международная классификация болезней (10-й пересмотр), 1994; Волошин В.М., 2005; Чуркин А.А., 2005, с. 20-31 ндр.|:
- Человек пережил событие, угрожающее жизни.
- Реакция в виде страха, ужаса, беспомощности.
- Навязчивые воспоминания о событии.
- Сны о пережитом событии.
- Действия или ощущения, воссоздающие пережитое.
- Психологическое напряжение при напоминании о травмирующих событиях. w Избегание разговоров, связанных с травмой.
- Избегание мест и людей, связанных с травмой.
- Запамятование аспектов травмы.
- Снижение интереса к значимой деятельности.
- Чувство отчуждения от окружающих
- Неспособность испытывать любовь.
- Неспособность ориентироваться на перспективу
- Трудности при засыпании.
- Раздражительность или вспышки гнева.
- Трудности концентрации внимания.
- Сверхнастороженность.
- Усиленная реакция на испуг.
- Стойкое психическое напряжение.
Наличие у человека одновременно шести или более из этих симптомов позволяют диагностировать развернутый синдром ПТСР. Если выявлены пять или меньше симптомов, то это свидетельствует о компонентах ПТСР как последствии психологического травмирования.
«Для посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) характерно постоянное чувство тревоги, частые навязчивые воспоминания о пережитых событиях, неспособность к поддержанию адекватных контактов с близкими. Такие больные предпочитают общаться с бывшими комбатантами. Они начинают злоупотреблять алкоголем, наркотиками, быстро теряют социальную адаптацию, нередко совершают самоубийства» [Шостакович Б.В., 2005, с. 150].
Многообразие посттравматического стресса, т. е. его многочисленные проявления можно свести к двум видам навязчивости, они могут сочетаться. Более заметна — «навязчивость прошлого». Другим основанием посттравматического стресса является «навязчивость будущего», т. е. не вполне осознаваемое, часто беспричинное предвиденье психотравмирующих событий, аналогичных тем, что были.
Наиболее важным симптомом, дающим право говорить о наличии ПТСР, — по мнению известного американского психолога Б. Колодзина, бывают «непрошенные воспоминания» [Колод-зин Б., 2003, с. 207-319]. В памяти человека внезапно всплывают жуткие, безобразные сцены, когда-то травмировавшие душу. Из-за малейшего напоминания (звука, запаха, соответствующих ситуации и пр.) яркие образы прошлого обрушиваются на психику. Главное отличие их от обычных воспоминаний в том, что посттравматические воспоминания сопровождаются сильными чувствами тревоги и страха.
Особая форма «непрошенных воспоминаний» — галлюцинаторные переживания. При них воспоминания о случившемся, не управляемые сознанием, навязчиво и очень ярко проходят перед взором бодрствующего человека, так что события текущей реальности отходят на второй план и кажутся менее реальными, чем воспоминания. И человек склонен чувствовать, думать, действовать так же, как он вел себя во время той страшной или постыдной ситуации, которую не может забыть. Галлюцинаторные посттравматические переживания провоцируются наркотиками и алкоголем, но бывают и без них. Психотерапия избавляет от этой навязчивости прошлого.
Ночные кошмары у людей, страдающих от ПТСР, так же можно рассматривать как «непрошенные воспоминания». Жуткие сновидения бывают двух типов. Первые с точностью видеозаписи воспроизводят травмировавшее событие. Перед тем, как оно приснилось первый раз, человек его совершенно не помнит, вместо него провал в памяти. Но вот оно поднялось во сне из памяти, мучает потом и во снах, и помнится наяву. Кошмарные сны второго типа не связаны с реальностью. И обстановка, и персонажи в них могут сменяться раз от раза. Однако методами психоанализа можно обнаружить их связь с психотравмой.
Навязчивость прошлого, напоминающая о себе в снах, как замечает Б. Колодзин, — самый пугающий симптом посттравматического стресса. Бывает, человек мечется во сне, сонный выкрикивает угрозы или мольбы и просыпается усталый, как после борьбы, но не помнит сна, это тоже напоминания о прошлой психологической травме, болезненно хранящиеся в памяти. Навязчивое психотравмирующее прошлое раскрепощается во время сна, вызывая бессонницу. Человек страшится кошмаров и не может заснуть. Ночные кошмары и пробуждения из-за сновидений, которые каждый раз создают новые психотравмы. Может •возникать особая форма ПТСР - просоночный стресс. Либо его агрессивная форма с опасностью суицида, или гиперактивная с неконтролируемой агрессивной жестокостью.
С позиции современной сомнологии (науки о сне) не вполне понятен следующий феномен, нередко оказывающийся причиной суицида, людей, переживающих ПТСР. Их самочувствие днем во время работы, отдыха, общения, казалось бы, ничем не омрачены. Однако, они просыпаются под утро еще затемно из-за чувства тес-нения в груди и дрожи во всем теле, с частым сердцебиением и с невыносимо горестным ощущением себя негодяем или человеком, ни на что не годным и потому недостойным жить. Проснувшись, они 'отчетливо помнят, что сновидение, прерванное пробуждением, было эмоционально-индифферентным, не содержало никаких страшных, угнетающих и даже просто неприятных сцен, следовательно, не сновидение, а иной процесс, идущий одновременно с ним, создает мучительный дискомфорт у пробудившегося от сна человека. IS поисках избавления от мучительного, безнадежного горя, от непереносимо тягостного ощущения, заполняющего грудь, человек в таком просоночном состоянии подвержен риску самоубийства, если рядом нет никого заботливо-успокаивающего. Приступы такого мучительно-горестного отчаяния бывают, когда у людей, занимающихся творческим трудом, возникает интеллектуальное изнурение, «о нет условий для рекреации. Немало писателей, артистов уходили из жизни в таком состоянии (см. 4.1.4). И неверно катамнестическое Определение причины их гибели — как неблагоприятного исхода маниакально-депрессивного психоза (см. также 4.1.3. Е.).
Память о прошлом часто терзает психику человека, пережившего смерть близких ему людей. Это может быть из-за не вполне осознаваемого отождествления себя с безвременно умершим. Горе его смерти и то, что оставшийся жить лишен полноты прошлой жизни, когда было общение с усопшим, разрушает целостность «Я», ломает привычное самосознание продолжающего жить. Возникает особая форма посттравматического стресса, называемая «работой горя» [Малкина-Пых И.Г., 2005, с. 776-861 и др.]. Даже без психотерапии должно наступать исцеление не позже, чем через год. Если горе не затихает, то надо специализированно лечить человека.
Гибель в бою сослуживцев-соратников нередко создает посттравматический стресс, при котором ведущим симптомом становится чувство вины выжившего в боях. Это особая форма горя. Оно побуждает одних ветеранов избегать любых напоминаний о войне и о погибших. Другие, напротив, стараясь уменьшить свое горе, почитают погибших, славят их, ставят памятники им, поют песни от их имени и тем самым как бы делают их участниками ныне идущей жизни (см. также 5.5.6).
«Непризнание обществом доблести погибших в боях резко усиливает посттравматический стресс у выживших и вернувшихся с войны ветеранов. Это утяжеляет чувство "вины выжившего" и может побуждать к суициду. После вьетнамской войны самоубийством закончили жизнь в три раза больше вернувшихся с нее солдат, чем погибло в боях во Вьетнаме. Американские психологи пытались объяснить: "Смерть догнала тех, кто приехал с войны с покалеченной на фронте душой". Это не так. В большинстве вернулись нормальные парни, осознавшие свою силу, способность жить энергичней, интенсивней других, успокоенных в мирном довольстве. Рутинно процветающая Америка не приняла их, "не востребовала" их фронтового задора. У вьетнамских ветеранов возникал "вторичный послевоенный синдром", добровольно уходя из жизни, они присоединялись к погибшим на фронте друзьям, героям, не признанным обществом, оставались верными фронтовому братству» (см. [Китав-Смык Л.А., 2001, с. 62]).
«Эпидемия самоубийств» ветеранов, аналогичная той, что была в США после вьетнамской войны, прогнозировалась и в России после «чеченских войн» в конце XX в. Была создана и реализована программа предотвращения самоубийств у «воз вращенцев» с этих войн. В соответствии с этой программой мной опубликованы в СМИ статьи и интервью, целью которых было уменьшение суицидальных тенденций у ветеранов. Это была особого рода «психотерапевтическая литература», адресованная через СМИ не только российским военнослужащим, но и жителям Чечни, страдающим ПТРС [Китаев-Смык Л.А., 2001]. Статистические данные МВД РФ свидетельствовали о позитивных результатах реализации этой программы предотвращения суицидов у ветеранов «чеченских войн».
Замечено, что после дорожно-транспортных проишествий (ДТП) ПТСР интенсивней и дольше у виновников ДТП, чем у «безвинно» пострадавших, ПТСР усилено чувством вины. Однако это проявляется заметнее у людей с врожденной либо с «воспитанной» склонностью к переживанию чувства вины. Комплекс виновности может повышать виктимность человека, т. е. вероятность стать жертвой неблагоприятных и даже трагических обстоятельств. У некоторых таких людей новые трагедии, как «оплата» своей вины, уменьшают выраженность симптомов ПТСР. Однако, и комплекс вины, и виктимность могут многократно восстанавливаться, «всплывая» из эмоциональной памяти [Малкина-Пых ИТ., 2006 идр].
При ПТСР в сложнейших механизмах памяти включаются процессы, препятствующие «всплыванию» тягостных, жутких воспоминаний. Эти препятствия часто не очень избирательны и могут создавать разные нарушения памяти.
Особым симптомом посттравматического стресса бывают приступы неспособности концентрировать внимание на текущих событиях, на решении актуальных задач. Надо полагать, навязчивая память о прошлом «оттягивает» на себя внимание, когда что-то в текущий момент напоминает о былой психотравме.
В постоянно опасной, боевой обстановке выживают те, кто своевременно оказывался готовым отразить угрозу, т. е. те, кто бдителен. Это особое боевое состояние напряженной бодрости без экстаза, поначалу радостное или испуганное затем перерастающее в уверенность в себе с концентрацией внимания на текущем моменте. Возвратившись в мирную жизнь, боевой ветеран еще долго «оснащен» боевой бдительностью. Но в обыденной обстановке она нередко оказывается неуместной. Поведение такого ветерана кажется окружающим людям странным из-за его немотивированной бдительности. А он постоянно следит за всем вокруг, будто ему угрожает опасность.
Хуже если он не только готов заметить ее, не только готов отразить опасность, но сразу проявляет агрессивность, не дожидаясь активных действий против себя, т. е. при их малейшей вероятности. Плохо, когда человек агрессивен при кажущейся конфронтации окружающих людей. Из-за немотивированной бдительности многое может показаться ему угрожающим без реальных причин.
Болезненным проявлением посттравматического стресса бывают приступы ярости. Не неумение сдерживать свой гнев, а взрывы необузданной злости: ругань, драка, попытки убийства.
Такие приступы более вероятны после приема наркотических веществ и, особенно, алкоголя.
Постоянная боевая опасность сформировала у ветеранов способность к мгновенной защите еще без полного осознания того, что угрожает и как защищаться, т. е. без прохождения информационных сигналов по сложнейшим нейрональным путям в центральной нервной системе. Человека, только что приехавшего из зоны боевых действий на Северном Кавказе, в конце XX в. можно было отличить по тому, как он быстро пригибался при звуке выхлопа автомобильного мотора. Бывали и такие, кто падал на землю при взрыве петарды. У ветеранов бывают и другие мгновенные боевые действия, не адекватные в мирной обстановке.
Под навязчивым давлением ожидания будущих опасностей психика человека, у которого посттравматический стресс, вырабатывает особые механизмы предотвращения болезненных переживаний при будущих трагедиях. Такой человек невольно избегает тесных эмоциональных контактов, чтобы потом не горевать об утрате; избегает ответственности за кого-то и за что-то.
Сложнейший процесс взаимовлияний навязчивых представлений о прошедших и предстоящих ужасах и невзгодах может мобилизовать волю и сознание, но может и обессилить их. Одним из проявлений последнего бывает депрессия. «В состоянии посттравматического стресса депрессия достигает самых темных и беспросветных глубин человеческого отчаяния, когда кажется, что все бессмысленно и бесполезно. Этому чувству депрессии сопутствует нервное истощение, апатия и отрицательное отношение к жизни» [Колодзин Б., 2003, с. 212]. Обессиливая человека, лишая его воли к защитным действиям, депрессия предотвращает неадекватную агрессивность, адресуемую против других людей и против себя самого. Однако свойственные посттравматическому стрессовому состоянию безответственная ярость и «воля к суициду», накапливаясь под покровом депрессии, могут вырываться как яростная месть или как тайное мщение [Ахмедова Х.Б., 2004]. Объектом такой посттравматической мнительности могут стать люди, «замещающие» в сознании мстителя истинных виновников его психологической травматизации.
Изучены разные типы ПТСР]Международная классификация болезней (10-й пересмотр), 1994; Волошин В.М., 2001]. — Тревожный тип ПТСР отличается частыми возникновениями немотивированной тревоги, не только осознаваемой, но и ощущаемой телесно. Из-за этого — частые смены настроения, нарушен сон: кошмары, бессонница. Такие люди стремятся к общению и это облегчает их болезненно-тревожное состояние.
— Астенический тип ПТСР характеризуется вялостью, слабостью, апатичностью, навязчивым равнодушием к своей жизни и проблемам окружающих людей. Собственная несостоятельность мучает, и это еще больше угнетает. Сон нарушен иначе, чем при тревожном типе ПТСР: надолго возникает мучительная дремота, иногда весь день трудно подняться с постели. Больные этого типа согласны лечиться, откликаются на помощь друзей и близких.
Людям с дисфорическим типом ПТСР свойственны постоянная раздражительность, агрессивное недовольство и мрачное настроение. Они обидчивы, бывают активно мстительны, драчливы, потом могут сожалеть о своей несдержанности или, напротив, испытывать недолгое удовлетворение. За помощью не обращаются, избегают ее. Их начинают лечить после того как становится ясно, что протестная агрессивность таких людей неадекватна реальности.
При соматоформном типе ПТСР возникают массивные болезненные ощущения внутри тела: в области сердца (54 %), в желудочно-кишечном тракте (36 %), в голове (20 %) [Малкина-Пых И.Г., 2005, с. 152]. Эти болезненные симптомы появляются, как правило спустя, 6 месяцев после психотрав-мирующего события, т. е. это отставленный вариант ПТСР. Ипохондрическая фиксация на этих симптомах и тревожное ожидание их усиления заставляет больных обращаться к врачам, если у них не сформированы комплексы неверия в медицину и своей обреченности.
Профессор Х.Б. Ахмедова, изучая мирное население Чеченской республики, пережившее военные действия, обратила внимание на фанатический тип развития личности при ПТСР. «При фанатическом варианте изменения личности обнаруживается зависимость между наличием ПТСР в сочетании с расстройством адаптации и выраженностью отчужденности, замкнутости, подозрительности, жестокости, прямолинейности, авторитарности. Данный вариант изменений наблюдается у лиц возбудимого и застревающего типа. Сочетание указных черт, снижающие гибкость, конструктивность, открытость, эмоциональную упорядоченность поведения. В 39,2% случаях приводит к формированию регидных установок, достигающих уровня сверхценных идей, в частности идей мести... При фанатическом варианте изменения личности смысл жизни меняется: в 77 % случаев смыслом жизни становится месть и в 32 % случаев утверждается, что жизнь не имеет смысла [Ахмедова Х.Б., 2004, с. 37-38].
Исследователи и клиницисты, курирующие (от лат. curatio — лечение, забота, попечение) людей, страдающих от ПТСР, свидетельствуют о том, что реальное его многообразие значительно богаче и сложнее, чем изложенное в официальной рубрике «F43.1, МКБ-10», посвященной этому расстройству.
«Исследования американских психологов показали долгосрочные эффекты на семейную жизнь, когда травматическое событие не было рассказано, и необходимое лечение не проводилось (Фиглей, 1989; Крушен, 1987).
Возможны четыре варианта развития семьи при наличии не-леченного человека с ПТСР.
Первый вариант — частые ссоры из-за повышенного возбуждения. Акты вербального и физического насилия над другими членами семьи, которые будут это терпеть. Развивается цикл насилия.
Второй вариант — развиваются очень «бедные» навыки близости в семье, не только сексуальные, но и все остальные межличностные навыки общения. Люди с ПТСР избегают эмоциональных тем, становятся очень скрытны в собственных чувствах. Таким образом, эмоционально отходят от других членов семьи. Через некоторое время такая коммуникация приводят к недостатку доверия и чувству фрустрации.
Третий вариант — общая неудовлетворенность всей семьи. Человек с ПТСР начинает злоупотреблять алкоголем или другими веществами. Семья испытывает периодически кризисы стабильности, и в один из них может распасться.
Четвертый вариант — развитие созависимости других членов семьи. Созависимость — это нездоровая зависимость от одного человека до такой степени, что созависимый человек жертвует своими потребностями и эмоциями, своей жизнью для удовлетворения потребностей и желаний другого человека. Созависимый человек начинают помогать аддикции человека с ПТСР, скрывая от других, давая деньги и т. д.» [Александров А.Е., 2005, с. 200-201 ].
4.5.4. Боевой посттравматический стресс
Неспособность сотен тысяч американских ветеранов, адаптировавшихся к жутким условиям войны во Вьетнаме, реадаптироваться к благополучию мирной, комфортной жизни в США (более 150 тысяч из них, так или иначе покончили с собой), заставила обратить особое внимание на боевой стресс и его последствия. Обширная, многолетняя программа обследований возвращающихся с войны комбатантов (от фр. combattant — лицо, входящее в состав вооруженных сил воюющего государства и принимающее участие в боевых действиях) позволила описать сложную многофакторную симптоматику психических и телесных расстройств у ветеранов войны.
Различают два типа причин боевого ПТСР: во-первых, это психотравма, вызвавшая заметные стрессовые изменения психического и физического сотояния и явные нарушения поведения (агрессия, паническое бегство, либо оцепенение, уход «в себя» и др) Другого рода причины ПТСР актуализируются у людей, успешно участвовавших в боях, но не способных к реадаптации в мирной жизни.
То, какие факторы оказываются более значимыми в возникновении ПТСР, зависит и от характера боевой психотравмы, и от сопутствующего ей физического травмирования (ранения, контузии, ожога), от генетической предрасположенности и от характера послевоенной жизни пострадавшего бойца.
Причиной возобновления ПТСР после латентного спокойного периода бывают повторные травматизации. Ими могут стать и негативные отношения окружающих людей, медицинского персонала, социальных работников. Это бывает из-за того, что у них сформировался своеобразный психологический комплекс в виде неосознаваемого протеста против возможности возникновении у них самих такого же недуга, таких же нарушений здоровья и поведения, какие они видят и лечат у страдающих ПТСР [Тара-брина М.В., 2001 ]. Такое нарушение профессионального навыка хорошо изучено и названо «выгорание персонала» [Maslach С, 1976 и др.] (см. 5.7). С психоаналитических позиций данный феномен можно рассматривать как «контрперенос» с вытеснением собственной тревожности, пробуждаемой видом несчастий. Но надо иметь в виду, что повторная травматизация может возникать у страдающих ПТСР и из-за оберегания их от обыденных житейских стрессов, т. е. в результате гиперопеки.
«По определению И. Б. Ушакова и Ю. А. Бубеева (2003), боевой стресс является системной многоуровневой реакцией организма человека на воздействие комплекса факторов вооруженной борьбы с противником и сопровождающих его социально-бытовых условий, с реальным осознаванием высокого риска гибели или серьезной утраты здоровья, которая проявляется на личностном, психофизиологическом, эмоционально-вегетативном и соматическом уровнях при значительной, а возможно ведущей роли изменений в подсознательной сфере, заключающихся в грубой деформации базовых эго-структур» [Василевский В. Г., Фастовцев, Г. А., 2005, с. 41]. Многолетние исследования боевого стресса [Kormos Н. R., 1978, р. 3—22; Литвинцев СВ., 1994; Снедков Е. В., 1997; Довгополюк А. Б., 1997; Епачинцева Е. М., 2001; Харитонов А.Н., Тимченко Г.Н., 2002; Дмитриева Т. Б., Васильевский В. Г., Растовцев Г. А., 2003; Василевский В. Г., Фастовец Г. А., 2005, с. 32-53 и др ] показали, что боевые ПТСР более многообразны и часто бывают более продолжительными, чем ПТСР мирного времени из-за кумулированных (накопленных) в душе, в памяти многократно пережитых ужасов войны, физического и психического перенапряжения, горя утрат соратников, сопереживаний с ранеными. В ходе боевых действий формируется постоянная тревожная настороженность, готовность к мгновенному агрессивному отражению врага. При этом снижается ощущение ценности человеческой жизни и ответственности за свою агрессивность. Важно и то, что военнослужащих заранее готовят к боям, их психика в боях настраивается на стремление выжить любой ценой.
Совокупность этих необходимых на войне трансформаций психики бойцов, во-первых, нередко дается ценой изнурения психики, что также ведет к психическим и соматическим нарушениям, т. е. к ПТСР. Во-вторых, такая трансформация надолго сохраняется и становится причиной ПТРС после возврата к мирной жизни. И чем в более благополучную мирную жизнь возвращаются фронтовики, тем более травматичной (и ведущей к ПТСР) становится попытка реадаптации к жизни без войны. Многолетние исследования, руководимые Н.В. Тарабриной, показали, что «после воздействия боевого травматического психологического стресса участникам боевых действий приходится фактически заново воссоздавать в условиях мирной жизни структуру своего субъективного жизненного пространства, в том числе и структуру самоотношения, самооценки и смысложизненных ориентации» [Зеленова М.Е., 2005, с. 91].
В виду лучшей изученности боевого ПТСР, чем после других чрезвычайных ситуаций, на его примере нагляднее видны стадии развития этого растройства. Здесь изложены результаты анализа стадийности боевого ПТСР по В.Г. Василевскому и Г. А. Фастовцу [Василевский В.Г., Фастовец, Г.А., 2005].
Как первую стадию ПТСР, они рассматривают острые аффективные реакции непосредственно в боевой обстановке; в бою, при обстреле, под бомбежкой. Для некоторых солдат боевое напряжение может быть изначально чрезмерным и сразу сорвать адаптацию к боевым эмоционально-психическим нагрузкам. Большинство военнослужащих так или иначе адаптируется к боевой обстановке, но есть и те, у кого-то уже первое знакомство с ней становится началом надолго скрытого, латентного формирования ПТСР. Среди острых аффективных реакций в боях наиболее заметны: эмоционально насыщенные переживания с сужением сознания и поля восприятия, повышение у одних активности.
у других, напротив, пассивности поведения, ослабление интеллектуальных способностей и потому безотчетная внушаемость (подчиненность командам, либо «заражение» паническими действиями окружающих). Или, напротив, полная потеря контакта с внешней обстановкой.
После аффективного перенапряжения в бою, под бомбежкой наступает эмоциональное истощение с астенией и переживания опустошенности, душевного потрясения. «Ближайшие исходы состояний, возникших вслед за воздействием экстремальных стрессоров, довольно благоприятны — практическое выздоровление наступало в 67 % случаях. Однако, вероятность развития хронических последствий боевой психологической травмы в отдаленном периоде оказывалась при этом выше (р<0,05). Среди непосредственно участвовавших в боях ветеранов они прослеживаются в 48,7 % случаях; среди остальных военнослужащих — в 20 %» [Снедков Е. В., 1997, с. 24].
Важной и специфической особенностью ПТСР оказывается то, что после окончания периода времени, насыщенного пси-хотравмирующими событиями, когда исчезает эмоциональное перенапряжение, многим людям кажется, что вернулось хорошее самочувствие. У них нет жалоб на здоровье и прошлые психотравмы кажутся забытыми. Но позднее оказывается, что это латентный (скрытый, переходный) период формирования ПТСР и болезнь к ним возвращается снова (о латентном периоде подробнее — ниже).
Из-за многократных острых стрессовых нагрузок и нервно-психического изнурения в боях, минуя латентный период, или после него могут возникать невротические реакции. Это еще одна стадия на пути к стойкому ПТСР. Появляются клинически выраженные, синдромально оформленные психические реакции на фоне соматовегетативных расстройств, значительная личностная и социальная дезадаптация. Каждая новая, даже не значительная трудность ухудшает психическое состояние, любая опасность усугубляет болезненно-тревожные переживания. Но они могут инвертироваться, превращаясь в неразумное пренебрежение опасностью или в протестные вспышки агрессивности, которые нарушают сплоченность в боевом подразделении, ухудшают дисциплину. Результаты таких невротических реакций — значительное снижение боеспособности.
Следующей стадией в патогенезе ПТСР становятся патологические изменения характера, которые приближают состояние человека к развернутой картине ПТСР, и в той или иной мере остаются у ветеранов в последующие годы их жизни. Это невротическое развитие характера не одинаково у разных людей.
Оно зависит от генетических, личностных факторов, влияний социальной среды и особенностей военной деятельности или отдельных поступков: героических или предосудительных с обыденной точки зрения.
Стойкое, многосимптомное, развернутое ПТСР В.Г. Василевский и Г.А. Фастовцов предлагают рассматривать как заключительную стадию его развития.
С позиции академиков П.К. Анохина и К.В. Судакова стадийность развития ПТСР можно рассматривать как череду формирований функциональных систем, способствующих адаптированию психологически травмированного человека к «требованиям» дальнейшей жизни [Анохин П.К., 1980; Судаков К.В., 1981]
Важным психотравмирующим фактором становится длительное пребывание воинов в зоне боев. Казалось бы, хорошо известно, что многие из них в сражениях «закаляются», адаптируясь в смертельно-опасной обстановке, они осознают себя стойкими, непобедимыми, неустрашимыми. Обширные исследования боевого стресса в «афганской» и на «чеченских» войнах, проведенные Е.В. Снедковым, существенно дополняют и исправляют вышеприведенное суждение о «боевом закаливании». Он обнаружил, что действительно на протяжении до 6 месяцев пребывания в боевой обстановке у 20,3 % боевого контингента повышаются адаптивные способности личности, бойцы становятся стойкими, обстрелянными, способными успешно противостоять противнику. У 42,6 % воинов нет заметных эмоционально-поведенческих изменений. Однако у 36,1 % — возникает «стойкая социально-психологическая дезадаптация». В боевых подразделениях, участвующих в боях от 7 месяцев до 1-го года число солдат и офицеров с повысившейся адаптивностью к боевым экстремальным воздействиям уменьшалось до 5,8 %, и напротив, «стойкая дезадаптация» — нарушение способности адаптироваться к опасностям и тяготам войны — была отмечена в 61,1 %. Пребывание более года в боевой обстановке создает такую «личностную дезадаптацию» у 83,3 %; спустя год ни у кого уже не сохраняется повышенной адаптированности к боевому стрессу [Снедков Е.В., 1997, с. 31 ]. «Вероятность развития хронических последствий боевой психической травмы напрямую зависит от тяжести перенесенного стрессорного воздействия и продолжительности пребывания в условиях театра военных действий. Она увеличивается у военнослужащих с наличием акцентуации характера эпилеп-тоидного, гипертимного, неустойчивого и конформного типа» [Снедков Е.В., 1997, с. 44].
Привлекает внимание то, что во время локальных войн Советского Союза и России в минувшем столетии процент случаев «военной истерии» был меньше (поданным Е. В. Снедкова [там же]), чем в ходе Первой и Второй мировых войн (по данным С.Н. Да-виденкова) [Давиденков С.Н., 1915; Психозы и психоневрозы войны, 1934 и др.]. Причина различия не только в разных методах диагностики, но и в том, что Первая и Вторая мировые войны были в значительной мере патриотичны и, что немаловажно, велись «публично». Напротив, «афганская война» велась «секретно». «Военнослужащим-афганцам», как правило, не позволялось разглашать — где и как они были травмированы. Даже их — убитых хоронили «секретно», не указывая, где погиб. Это подавляло демонстративную (истероидно-конверсивную) составляющую в симптоматике ПТСР. Во время «чеченских войн» к такой форме «подавления» прибавилось создававшееся СМИ отрицательное общественное мнение об этих войнах и о возвращавшихся с них ветеранах. Их невольная истероидная демонстративность инвертировалась (превращалась) в другие проявления ПТСР
Сравнивать ПТСР, возникавшие во время разных войн — дело не благодарное, т. к. не было единых критериев. И все же. Анализ клинических даннах, накопленных во время Великой Отечественной войны, свидетельствует о том, что «были отмечены колебания в течении психотического процесса травматической этиологии от легкой оглушенности со спутанностью до картин тяжелой и, ирреверзобильной травматической дедеменции. Динамика описываемых форм представляется в следующем виде
Частота процесса:
Второй год войны — 5,5 %.
Третий год войны — 4,3 %.
Четвертый год войны — 2,4 %.
Выписано в часть:
Второй год войны — 23,1 %.
Третий год войны — 56,5 %.
Четвертый год войны — 20 % к числу лечившихся.
Второй представлена группа экзогенных психозов. Довольно обширное место в этой группе, как специфические психозы военного времени, занимают психозы в связи с тяжелой потерей и соматическим истощением. Во второй год войны — 6,9 %, в третий год — 7,2 %, в четвертый год — 4,6 % ко всему числу лечившихся в психотделениях.
Характерным клиническим ядром у больных этой группы является картина своеобразного гипоманиакального возбуждения часто со спутанностью, создающей картины подлинной спутанной мании. В отличие от других форм экзогенного типа реакций, астения никогда не преобладает. Больные весьма приподняты, возбуждены Наблюдается упорная асомния, переоценка собственных возможностей, постоянные переходы от благодушия к гневу, эксплозивным реакциям и двигательному возбуждению.
Интересно отметить, что в первые годы войны в обстановке тяжелых и изнурительных оборонительных боев, часто в обстановке окружения и пр., наблюдалось большое преобладание этих форм психоза, нежели в последние наиболее благоприятные для фронта годы.
Во второй год войны — 18,9 %.
Третий год войны — 10,2 %.
Четвертый год войны — 8 %.
Такое демонстративное снижение случаев заболевания с острыми или более пролонгированными психогенными процессами, естественно, находит свое объяснение в изменившихся в благоприятную сторону условиях ведения войны, повышением морального состояния участников боев и прочими условиями позитивного порядка» [Гаврилова Т.В., 2005, с. 62].
Современные историки отмечают, что «Советские психиатры единодушно указывают на сравнительную малочисленность психогенных, в частности истерических, реакций среди участников Великой Отечественной войны. В этом, несомненно, сказываются высокий морально-политический уровень бойца Советской Армии и большая нервно психическая выносливость советского человека» [там же, с. 62—63]. Патетика этого суждения не должна вызывать недоверие к ней. Я сам помню, что уверенность в разгроме фашизма преобладала во время Великой Отечественной войны и положительно влияла на стойкость населения СССР и Советской Армии. Однако, вызывает сомнение утверждение о том, что преобладала «сравнительная малочисленность психогенных в частности истерических, реакций среди участников Великой Отечественной войны». Тогда жестко карались любые проявления «пораженчества», «упадничества», «неверие в свои силы». Потому заместители по политической части (замполиты) начальников военно-медицинских учреждений (медсанбатов, госпиталей и др.) часто были вынуждены корректировать сообщения (сводки) о диагнозах, уменьшая численность истериков, астеников. Если бы замполиты не делали бы этого, то были бы наказаны за «плохую партийно-воспитательную работу». Потому достоверность исторических документов может быть выявлена только с учетом лжи, заключенной в них.
Анализ частоты возникновения ПТСР в локальных войнах второй половины XX века свидетельствует о том, что «есть все основания утверждать, что перенесенные участниками боевых действий на территории Чеченской республики психотравми-руюшие события имеют более выраженный негативный характер в сравнении с аналогичными событиями, пережитыми воєнно служащими в Афганистане.» [там же, с. 61]. Это справедливое суждение. Но повторим, что трудно сравнивать психическую трав-мированность ветеранов разных войн. Потому что так или иначе, засекречиваются данные о боевых потерях, кроме того, надо учитывать психическую травмированность войной и населения, среди которого оказываются вернувшиеся с войны ветераны.
Как указывалось, благополучное, не желающее омрачать своей жизни население США не было готовым принять «вьетнамских ветеранов». Это породило «эпидемию» самоубийств. Тогда же возникли понятия: ПТСР и «вьетнамский синдром». Наиболее психотравмирующим фактором, усиливающим ПТСР у возвращающихся после боев в Афганистане «афганских ветеранов» было, напротив, неприятие их все более беднеющим населением СССР. В последнее десятилетие коммунистического режима в советской стране была крайняя недостаточность продовольствия, одежды, жилья и длиннющие очереди во всех магазинах. Афганские ветераны имели льготы, т. е. право вне очереди покупать еду, промтовары. Это вызывало озлобление людей, стоящих там часами, «ветеранам кричали: "Убийцы! Недобитки!" или что-нибудь подобное, — писал тогда профессор Н.Н. Энгвер.— Дело кончается либо драками, либо самоубийствами. Я хочу, чтобы все поняли: "афганцы" приходят к мысли о самоубийстве потому, что для них непереносима мысль об утрате своей ценности, своего достоинства в глазах соотечественников, чье раболепное молчание не уберегло солдат от страшной судьбы. "Афганцы" не могут перестать хотеть быть ценимыми. Наша черствость ввергла их в войну, наша же черствость доводит слишком многих из них до самоубийств. Этот урок афганской войны надо усвоить всем» [Энгвер Н.Н., 1991, с. 4].
Две последующие чеченские войны показали наивность призывов профессора. «Уроки войны» учат людей, вознесенных к вершинам государственной власти по-новому начинать новые войны: ожесточеннее, страшнее. Использование новейших технических средств, ракетного и бронетанкового оружия (пока еще не применялось оружие массового уничтожения?) делает военные побоища кровопролитнее и мучительнее. Наглядность этого — главная причина большей выраженности ПТСР у ветеранов «чеченских войн», чем у «афганцев». И это несмотря на то, что российское общество уже не отвергает воевавших на Северном Кавказе, уважает, приветствует их. Часто на площадях, на рынках, в электричках, в метро можно слышать песни ветеранов чеченской войны, собирающих подаяния. Это новый фольклорный песенный жанр (см. 5.5.6).
Актуальнейшей проблемой становится изучение ПТСР у мирного населения на «театрах военных действий», там, где применяется современное оружие в миротворческих целях.
Далеко не у всех свидетелей жестокости и у совершивших изуверские действия возникает впоследствии ПТСР. Многое в возникновении этих расстройств зависит от социокультурных особенностей времени и места совершенных действий, неблаговидных с точки зрения обычной морали. Предоставлю читателю самому (читательнице самой) оценивать психологическую и моральную сущность поступков в ходе войны 1812 г., совершенных людьми не военными, прозванными тогда «партизанами». Ниже — художественное изложение эпизода той войны в стихотворении великого русского поэта Н.А. Некрасова (но прежде вспомним, что «службой» в просторечии называли военного человека):
«Так служба! сам ты в той войне
Дрался — тебе и книги в руки;
Да дай сказать словцо и мне:
Мы сами делывали штуки.
— Как затесался к нам француз; Да увидал, что проку мало; Пришел он, помнишь ты, в конфуз И на попятный тотчас драло. Поймали мы одну семью;
Отца да мать с тремя щенками: Тотчас ухлопали мусью; Не из фузеи — кулаками! Жена давай вопить, стонать; Рвет волоса, — глядим да тужим! Жаль стало: топорищем хвать -И протянулась рядом с мужем! Глядь дети! Нет на них лица: Ломают руки, воют, скачут; Лепечут — не поймешь словца -И в голос, бедненькие, плачут. Слеза прошибла нас, ей-ей! Как быть? Мы долго толковали; Пришибли бедных поскорей; Да вместе всех и закопали...
— Так вот что, служба! Верь же мне: Мы не сидели сложа руки;
И хоть не бились на войне;
А сами делывали штуки!» [Некрасов Н.А., 1886, с. 46—47].
Если описываемое стихами событие имело место, а, скорее всего, это так, то отношение к плачущим жертвам, возможно, не было ни ерническим, как у «рассказчика», ни парадоксально-жалостливым, как у «героев» рассказа. Слезливость виновников перед расправой над ними очень часто ожесточает мстителей: «Не дави меня слезой!», «Москва слезам не верит». Французская армия в 1812 г., конечно, была виновна перед русским мирным населением, которое она грабила, «реквизируя» продовольствие и фураж. Описанная Н.А. Некрасовым, казалось бы, бессмысленная, расправа над безоружными могла быть действенным результатом военного стресса, пережитого ограбленными крестьянами, и острой, не вполне контролируемой потребностью отомстить какой-либо ритуальной жертве за поругание. Ксенофобия, вспыхнувшая по отношению к иноязычным инородцам, сделала неизбежным их убийство. И как бывает «радость со слезами на глазах», так в затяжных критических, кризисных условиях случается и «ожесточение и жестокость со слезами на глазах». Их причиной становится посттравматическое стрессовое состояние. Берегитесь его.
Здесь следует вспомнить, что отношение к смерти не одинаково у разного типа личностей (см. 4.2 и [Китаев-Смык Л.А., 1983, с. 260-267]). Как говорил и писал В.В. Налимов, в любой исторической эпохе есть люди, психическая сущность которых (на генетической основе) адекватна моральным, психологическим, социальным требованиям эпохи. Но люди с той же генетической основой психики оказываются «ненормальными», «сумасшедшими», «преступными маньяками», родившись в другую историческую эпоху с иными нормами жизни.
4.5.5. Латентный (переходный) период посттравматического стрессового расстройства
Во время войны США во Вьетнаме всерьез обратили внимание на то, что у ветеранов, благополучно отпраздновавших возвращение к мирной жизни, оправившихся после боевого стресса, вдруг возвращаются его тяжелейшие симптомы [Kolb L.C., 1983; Kolb L.C., Mutalipassi L.R., 1982 и др.].
После исчезновения опасностей, травмировавших психику, прекращаются острые стрессовые реакции. Но для многих людей — это далеко не полное избавление от последствий психологической травмы. У них наступает скрытый (латентный, переходный) период ПТСР. После недолгих психотравм, когда угроза их повторения ничтожно мала, переходный период длится всего несколько дней. После длительного сильного психологического травмирования переходный период может продолжаться несколько месяцев (как правило — не больше шести месяцев — см. МКБ-10), но иногда длится годы и десятилетия. В это время может быть негативно изменено самочувствие, поведение, отношение к себе и к людям, но все это не заставляет человека, пережившего стресс, обращаться за помощью к врачам и к психологам. Немного нарушается сон, ухудшается аппетит, проявляются несвойственные человеку нерешительность и несамостоятельность, повышается осмотрительность. Замечено, что в переходном периоде люди либо ищут опору в общении, либо, напротив, замыкаются в себе. «Объем и качество оказываемой психолого-психиатрической помощи и социальные мероприятия, которые проводятся в "переходный" период, в значительной мере определяют эффективность всего комплекса реабилитационных мероприятий, направленных на ресоциализацию пострадавших» [Кекелидзе З.И., 2005, с. 82].
Одной из первых стала использовать комплексное исследование боевого ПТРС 3. Соломон в Израиле [Solomon Z., Benbenishy R.. 1986; Solomon Z., Mikulincer M., Blech A., 1988 и др.]. Особое значение она придавала латентному периоду после боевой психотравмы. Ее небольшая группа энтузиастов оказалась более результативной, чем большая громоздкая структура — «Администрация военных ветеранов» в США. Захава Соломон создала трехступенчатую медикопсихологическую систему диагностики и лечения ПТСР, возникающего в боевой обстановке. На первой ступени психологи опрашивали после боя командиров. По их отчетам выявляли для последующего обследования тех солдат и офицеров, кто чрезмерно эмоционально (активно, либо пассивно) переживал стресс в бою. На второй ступени этих военнослужащих, когда их боевое подразделение отводилось на отдых, обследовали, чтобы выявить латентное «вызревание» ПТСР; При необходимости их сразу отправляли в госпиталь для профилактики развернутых форм ПТСР. Третий этап — лечение тех, кому не помогла профилактика и тех, у кого ПТСР возникло без чрезмерных первичных эмоционально-стрессовых реакций в боях и с бессимптомным переходным (латентным) периодом.
Многолетние исследования эффективности психологической реабилитации военнослужащих после боевых травм во время «афганской» и «чеченских войн» подтвердили целесообразность «многоступенчатой» психологической службы в боевой обстановке [Снедков Е. В., 1997]. «Использование комплекса методов коррекции непосредственно в боевых условиях обеспечивает их максимальную эффективность по сравнению с отсроченным использованием» [Ушаков И.Б., Бубеев Ю.А., 2005, с. 12]
«Ступенчатость», «фазность» в динамике ПТСР используется для его профилактики и лечения [Цыганков Б. Д., Григорьев М.Э., 2000; Марьин М. И., Касперович В. Г., 2003; Шилова Л. А., 2003; Кекелидзе 3. И., 2005 и др.].
Во время переходного (латентного) периода интересы человека устремлены на то, чтобы узнать — не повторится ли чрезвычайная ситуация и как ее избежать. Это помогает уменьшить психологическое и иное травмирование при повторении экстремальной ситуации. Академик А.Б. Смулевич отмечает, что сигналами о возможности развернутой картины ПТСР. т. е. маркерами латентного периода, могут быть субдепрессивность и гипоманиакаль-ность людей, ранее подвергшихся психическому травмированию [Смулевич А.Б., 2006].
Лечебно-профилактические мероприятия во время латентного периода ПТСР существенно уменьшают число развернутых форм этого расстройства после любых чрезвычайных ситуаций. Однако есть разные мнения о том, когда наиболее эффективны эти мероприятия. Многие утверждают, что чем раньше после психотравмы они начаты, — тем лучше. Но ряд практических психологов заметили, что надо уловить в динамике ПТСР момент, когда оно уже «вызрело», но развернутой формы расстройства еще нет. Часто это бывает к исходу третьего месяца после психотравмы [Захарова СИ., 2006 и др.]
Что происходит в психике после редукции острой реакции на стрессор во время латентного (переходного) периода перед разворачиванием болезненной симптоматики ПТСР? Почему ПТСР может формироваться, минуя латентный период? Попытки ответить на эти вопросы показывают лишь сложность проблемы изучения «работы травмы» в душе человека.
Что же становится причиной массивного разворачивания ПТСР после «благополучного», латентного периода, после, казалось бы, оставшегося в прошлом и забытого события, некогда травмировавшего психику?
- Может быть, причиной стали новые, пусть даже небольшие, не сильные психотравмы, «ударившие» по еще чувствительной, хотя и зажившей «душевной ране»? Ведь даже слабый «повторный удар» может вызвать «фейерверк» психических расстройств.
~ Заболевание затаивается и зреет, как «неизгладимая память» об ужасном и недопустимом событии, и, «не помещаясь» в глубинах души, начинает проявляться как уже неадекватная борьба с давно минувшим.
—Или давняя психотравма, оставшись неотреагированной (невыплаканной, нерассказанной толком никому, неисповеданной) почти бессимптомно, исподволь мучает душу, истощает психику. И вот теперь наступает момент, когда вновь необходима «защита болезнью» («уход в болезнь») от никак не забываемого несчастья?
—Либо взрослеющий (или стареющий) человек, несущий свою психотравму по периодам своей жизни, попал на неблагоприятный ее отрезок?
—Возможно, латентный период зреющего ПТСР завершается исчерпанием в душе, в подсознании способности терпеть свою вину из-за участия в кровавых деяниях (или виновности»зрителя» в несправедливостях, творимых другими людьми).
—Но может быть, у вернувшегося воина — исчерпание способности терпеть «новизну» мирной жизни? Ведь его самосознание сформировано войной, он все еще готов лишь к жизни, полной опасности.
—И еще, у ветерана возможно исчерпание подсознательных ожиданий возврата в мир экстремальных радостей борьбы и побед, риска жизнью и счастья дружеской поддержки соратников. Человек познал свою сущность бесстрашного воина и хочет им быть, и кончаются силы ждать возвращения в бой. Смертельного риска нет в мирной жизни, и это действует на бойца как психотравма.
Перечень предположений можно продолжать, но часто остается неясным, чем все же определяется продолжительность латентного периода перед разворачиванием полной картины ПТСР. Причины отставленной интенсификации ПТСР могут быть разными. Чем правильнее они поняты лечащими психологом, психиатром и чем раньше начато «опережающее» лечение, тем надежнее выздоровление при ПТСР.
«Таинственность» латентного периода ПТСР высвечивает непонятность всей картины этого расстройства. И все же можно с уверенностью видеть, что ПТСР — это сложнейшим образом, так или иначе трансформированная неудовлетворяемая страсть отмщения (может быть и самому себе) за неотреагированную психотравму. Не случайно Е.О. Александров пишет: «Могут отметить, что в случаях насилия, когда жертва активно сопротивлялась, то клиника ПТСР протекает значительно мягче и заканчивается быстрее, если вообще развивается, и впоследствии менее выражены остаточные явления, чем у тех, кто реагировал пассивно» [Александров Е.О., 2005, с. 77].
Во время латентного периода страсть отмщения неосознаваемо зреет. И если мстить уже некому, то шквал мстительности обрушивается на того, кто не смог отомстить, отреагировать, отыграться, т. е. на себя самого, претерпевшего некогда психотравму.
Многие исследователи считают причиной ПТСР истощение механизмов вытеснения из сознания психотравмы [Малкина-Пых И.Г.,2006идр.].
Выдающийся мыслитель прошлого столетия В. И. Володкович, объясняя ПТСР, основывался на положении Зигмунда Фрейда о том, что «человеческое влечение бывает только двух родов: ...сексуальным... либо те, что направлены на разрушение и убийства» [Фрейд 3., 1992, с. 264]. Оба эти влечения направлены на продление своей жизни, либо сексуально — в потомстве, либо войной, защищая себя и свое потомство. 3. Фрейд в начале XX в. писал: «Мы видим, таким образом, что и в обществе не избежать насильственного разрешения конфликта интересов. Но повседневные нужды и общие заботы, происходящие из повседневной жизни, способствуют быстрому оканчиванию такой борьбы, и вероятность мирного решения в этих условиях постепенно возрастает» [там же, с. 261].
Вторая мировая война, потом частые локальные войны и ныне нарастание терроризма — свидетельства порочного оптимизма Фрейда. Вопреки ему, и все же основываясь на его учении о двух влечениях, Владимир Володкович говорит: «Если человек ощутил, пережил (а не только ждал) одно или оба эти главные влечения-переживания, то велика вероятность, что потом он все время будет жаждать их. И эти влечения-переживания должны воспроизводиться. Если их нет, то возникают "болезнь жажды любви" и "болезньжажды войны". Это и есть развернутые формы ПТСР. Обыденные неврозы и психосоматические болезни (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, страдания желудочно-кишечной системы, опухоли) — это ПТСР, возникающие из-за "стресса жизни", а точнее, из-за неудовлетворенной жажды любви (в самом широком смысле). А вот ПТСР боевых ветеранов еще и из-за неутоляемого влечения к войне, точнее из-за жажды побед в смертельно-опасных сражениях» [Володкович В.И., 2006].
4.5.6. Посттравматическое стрессовое расстройство при ожоговой болезни
Особенно интенсивные, долгие и болезненные изменения психики образуются после обезображивающих ожогов. Тогда ПТСР формируется, во-первых, из-за психологической «огненной травмы» (пожара, взрыва), из-за обваривания кипятком, раскаленной смолой, горячим газом и др. Во-вторых, из-за боли в обожженных местах и страданий во время лечения. В-третьих, из-за утраты своего прежнего облика (нормального, привычного, красивого). И наконец, из-за негативного отношения окружающих людей к обезображенной личности (из-за частых столкновений с их испугом, смущением, отвращением, стыдом). Сходные расстройства и страдания бывают у людей, изувеченных ранениями.
На пожаре у обжигаемых людей возможны два типа стрессового поведения: активное (метание, бег, попытки тушить себя, вопли, крики) и пассивное (оцепенение, «комок в горле», «руки, и ноги, как ватные», ступор, каталепсия). После огненной травмы бывает частичная или полная амнезия, забывание страшного события.
Сразу после интенсивных, обширных ожогов наступает шок (от англ. Shock — удар, потрясение). Его психологические компоненты: ужас из-за случившегося, боль и надежда на спасение. Бывают два варианта шокового состояния. При первом возникает адинамия (обездвиженность), снижение способности осознать случившееся и понять что происходит. Нередко — помрачение сознания. При втором варианте ожогового шока — эмоциональная возбужденность: больной мечется, плачет и кричит от боли. Его мучают кошмарные видения, могут возникать обманы восприятия и псевдогаллюцинации. Иногда, чаще у пожилых людей, возникают психозы. Головная боль, головокружение, помраченное сознание, тошнота и рвота во время шока свидетельствуют о нарушениях в центральной нервной системе. Это подтверждается результатами электроэнцефалографии.
В первой половине XX столетия большинство погибших от ожогов умирало на стадии шока. Сейчас разработаны и успешно применяются методы противошоковой терапии. Среди них главные — применение болеутоляющих средств (анальгетиков), уменьшающих страх (ангсиолитиков), успокаивающих (седативних препаратов) и компенсаторные введения в организм больших количеств жидкости, содержащей белок.
Какова ведущая причина смерти обожженных на стадии шока? Перенапряжение, разрушения и расстройства жизненно-важных систем организма, или неосознаваемый субъектом отказ от жизни, невыносимой из-за ужаса, боли, страданий? Рациональные ответы на эти вопросы подсказывают оптимальную тактику лечения при ожоговом стрессе.
Еще до окончания шока начинает проявляться токсемия (от греч. Toxikon — яд + haema — кровь, текущая внутри тела), т. е. отравление организма попадающими в кровь продуктами распада обожженных тканей тела. В начале стадии токсемии у большинства обожженных возникает депрессия. По данным психологического исследования, проведенного Светланой Григорьевной Лафи (под моим руководством), ожоговый стресс с серьезными психологическими проблемами испытывают 56,37% пациентов, в 18,18% он сопровождается чувством беспомощности и ажитацией, а в 3,6% невыносимой болью. Напряженное, настороженное ожидание со стремлением контролировать ситуацию характерно для 21,81% обожженных [Лафи С.Г., 1996].
С.Г. Лафи описала следующие категории людей, у которых ожоговый шок и начинающаяся токсемия делают ярко выраженными стрессовые изменения поведения, отношения к себе и окружающим людям:
- активные, обращенные во вне, постоянно ищущие мнения о себе и своей травме у других людей;
- активно-деятельные, ориентированные исключительно на себя;
- активно-протестные, «отрицатели-бунтари»;
- пассивные, ведомые, зависимые от других больных и от персонала;
- пассивно-замкнутые, упрямо-настороженные;
- спокойные, с поведением, адекватным травме и больничной обстановке;
- инфантилизированные личности.
На стадии токсемии у обожженных возрастают депрессия и тревожность, повышается эмоциональная реактивность.
При обширных и глубоких ожогах происходит редукция (от латин. — reduction — отодвигание назад, упрощение) психических процессов и функций, т. е. спонтанная инфантилизация, даже с уподоблением младенческому поведению. По мнению ветерана реаниматологии Р. Н. Кокубава, «чем больше отравление при токсемии, тем ниже и ниже спускается обожженный человек по ступеням биологической эволюции. Выздоровление сопровождается подъемом по тем же ступеням, первоначально с зоологическим, затем с младенческим и лишь потом взрослым реагированием» [Кокубава Р.Н., 2006].
По данным С.Г. Лафи, редукция психических функций наблюдалась у 23,61 % больных с ожоговой болезнью [Лафи С.Г.,1996]. Редукция психики при тяжелом заболевании — это использование организмом адаптивно-защитных механизмов (процессов, функций), сформировавшихся на начальных этапах биологической эволюции.
При уменьшении редукции психических функций, тем более когда ее не было, обожженные больные начинают осознавать сбою обезображенность и изменения «сценария их жизни» из-за последствий ожогов. При этом выраженность тревоги и депрессии зависит от психотерапевтических мероприятий и, главное, от моральной поддержки близкими людьми, посещавшими обожженных людей в больнице. Депрессия и тревога выше у социально не устроенных пациентов. Негативные эмоции, горе, страх перед будущим выше при ожогах (и обезображивании) открытых участков кожи (лица и рук) и, кроме того, гениталий (больные страшатся своей сексуальной несостоятельности), ягодиц (эта локализация ожога всегда ощущается, как только обожженный пытается сесть).
Важным проявлением послеожогового ПТСР бывает нарушение «схемы тела». Оно случается при увечьях и обезображиваниях. У всех здоровых людей есть нормальная «схема тела». Не вдумываясь и даже не осознавая, они всегда представляют, где и какие у них руки, ноги, лицо, голова, туловище, т. е., не обращая на то внимания, люди осознают все наличные подробности своих тел. Еще в младенчестве ребенок знакомится с собой, изучает у себя тело, конечности, интересуется ртом и другими отверстиями («оральная», «анальная», «вагинальная» и другие фазы младенчества по Зигмунду Фрейду). Для горожанина «схема тела» — это, в основном, и видимая, и осязаемая его внешняя пропорциональность и целостность. Лишь забо лев, горожанин чувствует, что у него болит — значит, есть — сердце, желудок, сустав и пр. Селяне, с детства присутствуя при убое и разделке (вскрытии) туш скота, не только познают расположение и вид всех внутренних органов у животных, но и мысленно переносят эти познания на себя. У сельских жителей, имеющих домашнюю скотину, «схема тела» — это адекватное представление не только о своей внешности, но и о внутреннем содержании своего тела.
Представления человека о «схеме своего тела» участвуют в осмыслении того, каким видят его другие люди, и каким он кажется себе, «отраженным» видением его другими. «Схема своего тела» участвует в нашем представлении того, какими должны быть окружающие нас нормальные люди (не уроды). Собственное увечье и обезображивание порождают череду взаимозависимых дисфункций в структуре личности и ее взаимоотношений с людьми.
То или иное заметное (или не очень) нарушение «схемы тела» всегда есть у страдающего ПТСР (даже без увечий и обезображивания) из-за невольных болезненных изменений представления о себе, о здоровье своего тела, о своем месте в обществе. Наиболее яркие и психотравмирующие расстройства «схемы тела» и «схемы» своего присутствия в социальной среде при ПТСР возникают одновременно с обезображиванием после ожоговой травматизации (и из-за увечий после ранений).
Изучая психические расстройства у ожоговых больных, П.В. Качалов отмечал, что в этом периоде «амнезии редки, но оценка обстоятельств ожога (при упорном расспросе) дается противоречивая (в связи с ослаблением способности осмыслять происходящее). У больных, оказывающихся в условиях сенсорной депривации (помещенных в палаты с ламинарным потоком воздуха) отмечаются своеобразные парейдолии ("видения" лиц на перфорированном металлическом потолке) и функциональные галлюцинации (музыка, оклики, слышимые в шуме оборудования). Все эти расстройства носят кратковременный характер» [Александровский Ю.А., 2000, с. 250).
С.Г. Лафи изучила становление новых взаимоотношений обезображенных ожогами пациентов с окружающими людьми.
1. При уменьшении ожоговой токсемии, выходя из состояния с редукцией психики, человек начинает испытывать радостные переживания, еще не осознавая, что с ним произошло. Это проблески счастья победы жизни над смертью. Это радость борьбы организма с ожоговой травмой. Восстанавливающееся сознание первыми воспринимает «людей в белом», — медицинский персонал, — по началу безликих, в марлевых масках, заботливых, внимательных. «Они — ласковые, добрые ангелы над мной» (из рассказа ожогового больного 3.)
2. Вторым шагом на пути обретения новых социальных взаимоотношений становится знакомство с соседями по палате и понимание того, что «и я, и они уже не прежние, а пережившие огненный стресс». Но чувство общности, сближая их, поначалу уменьшает понимание их отличия от здоровых людей.
3. Прорывом из «редуцированного настоящего», из болезни в прошлое время, когда обожженный был здоровым, красивым, становится первое посещение его больничной палаты родными, близкими людьми. Обезображенный ожогом замечает за их добрыми чувствами горестное изумление перед его измененным обликом.
4. Общение с внешним миром людей и понимание пропасти между своей прошлой нормальной, привычной жизнью и нынешнем существованием с измененным обликом возникает при первых прогулках по больничному двору, саду. Но у пациента есть еще возможность укрыться в «убежище», в своей больничной палате среди привычных товарищей по несчастью.
5. После выписки из больницы начинается сложная, многофазная адаптация (или дезадаптация) обезображенного человека в мире людей, не могущих скрыть, увидев его, ужаса, брезгливости, жалости, стыда.
6. Потом в обыденной социальной среде продолжается динамическое формирование послеожогового ПТСР. Американские исследователи Г. И. Каплан и Б. Дж. Садок
обнаружили разворачивание симптоматики ПТСР через 1 -2 года после тяжелых ожогов у 80 % детей и 30 % взрослых [Kaplan H.I., Sadock B.J., 1996]. Весьма отличаются данные российских ученых Б.С. Положий и И.В. Турина, отметивших ПТСР лишь у 8,9 % от общего числа обожженных людей [Положий Б.С., 2005, с. 163—175]. Столь большие различия могут быть из-за разной тяжести ожоговых травм и более эффективных методов психотерапии. Наряду с этим меньшей вероятности возникновения ПТСР в России могут способствовать психосоциальные особенности нашего нынешнего общества, закаляющего души людей трудностями жизни.
У подверженных ПТСР существенно сильнее эмоционально-стрессовые переживания ожоговой травмы [Положий Б.С., 2005]. У них возникают:
- фиксация мыслей на тягостных воспоминаниях («погружение»);
- стремление избегать любых напоминаний о перенесенной травматической ситуации («избегание»);
- повышается реактивная тревожность;
- достоверно чаще наблюдается депрессия.
Наряду с этими негативными реакциями у людей, пострадавших от ожогов, возникает «психологическая защита», как «подсознательная регулятивная система стабилизации личности, которая вызывает устранение или сведение к минимуму чувства тревоги, связанного с осознанием конфликта» [там же, с. 163—166]. Психологической защитой могут быть:
- тенденция «держаться героем, которому нипочем прошлая травма» («подавление»);
- «наивная забывчивость» обо всем, что касалось ожогового стресса («вытеснение»);
- недооценка тяжести последствий ожога и неадекватно оптимистический прогноз восстановления своей дееспособности («отрицание»);
«Казалось бы, именно в таких случаях подавление, вытеснение и отрицание носят характер наиболее адекватных механизмов психологической защиты. Однако без отреагирования мощного аффекта, вызванного перенесенным травматическим событием, данные механизмы психологической защиты не могут быть в полной мере эффективными, поскольку неотреагированная ситуация как бы загоняется внутрь и становится источником отставленного во времени психического расстройства, каковым и является ПТСР» [там же, с. 167].
В латентном периоде, еще до развернутых проявлений ПТСР, уже в первые месяцы после ожоговых травм у пострадавших наблюдались:
—представления пережитого травматического события, ярче при закрытых глазах, чаще ближе к вечеру и в одиночестве («аффективные галлюцинации»);
—переживание своей мнимой вины и якобы упущенных возможностей избежать травмы («тревожные руминации»);
— тревога с неадекватной пугливостью;
— навязчивые воспоминания психотравмировавшего события при любом внезапном стимуле (хлопанье дверью, зажигание света в темной комнате и т. п.);
Б.С. Положий отметил, что у обожженных после завершения латентного периода протекают две стадии ПТСР:
Первая — стадия невротических расстройств. «Она начинается в среднем спустя 6 месяцев после перенесенного травматического события и продолжается — при отсутствии специализированной психиатрической помощи — до 2-х лет» [там же, с. 169].
Вторая — стадия психохарактерологических изменений личности. Она развивается в среднем спустя 2 года после перенесенного травматического события в случае неблагоприятного течения ПТСР, в частности при отсутствии или неадекватности лечения на предшествовавшей стадии невротических расстройств» [там же, с. 170].
И первая и вторая стадии могут актуализироваться в разных психопатологических проявлениях. Наличие этих стадий сближает ПТСР с неврозами и указывает на общность ряда болезненных процессов психики в динамике этих заболеваний [Менделевич В.Д., 2005].
4.5.7. Посттравматические стрессовые расстройства после массовых психотравм при чрезвычайных ситуациях
Благодаря созданию в России Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) в последнее время увеличилось внимание общественности и специализированных служб к проблеме ПТСР, изучаются его особенности при различных катаклизмах. Массовый характер поражений бывает во время экологических и природных катастроф [Кекелидзе З.И., 2005 и др.].
Травма психики во время стихийного массового бедствия — особая. Обширные природные, военные и техногенные катастрофы создают представления о всеобщности несчастья: все люди вокруг стали его жертвами, всем нужна помощь. При массовости страдальцев у каждого появляется чувство одиночества, т. к. не на кого опереться, нет того, кто спасет. Массированность сил, поражающих людей (землетрясение, цунами, токсическое облако, ковровая бомбардировка и т. п.) создают ощущения неодолимости и, хуже того, неизбежности бедствия и горя. Все это у одних ломает адаптационно-защитные механизмы психики, обрекая на ПТСР. Но у других, напротив, мобилизует и раскрепощает душевные силы, способствует полнейшей самореализации. Эти вторые в горестях бедствий обретают счастье преодоления массовых трагедий. У них «самопрофилактикой» ПТСР становится энергия альтруизма, воплощающаяся в мужественном лидировании. Предотвращению ПТСР при рукотворных катастрофах (техногенных, военных) может способствовать мстительная, действенная агрессия пострадавших против реальных или мнимых виновников бедствия.
При массовых бедствиях причиной ПТСР у людей, непосредственно (первично) не затронутых бедствием, может стать информация о нем. Если в давнем прошлом она доходила виде слухов, молвы, поверья, то теперь вторичной причиной массовых ПТСР часто становятся средства массовой информации (СМИ). Они используют то, что все люди готовы в любой момент сохранять и продлять свою жизнь, жизнь своей семьи, своего рода, т. е. воспринимать информацию об опасности для жизни, не задумываясь об ее достоверности. Привлечение всеобщего внимания информационными «страшилками» повышает рейтинг СМИ, однако, вместе с тем у многих расшатывает психику, готовя их к ПТСР (см. так же 5.5.5).
Замечу, что второй «педалью» безусловного привлечения массового внимания становится сексуальная тема. Нескромное и беззастенчивое использование ее в рекламе и для увеличения рейтинга СМИ становится массовым бедствием, увеличивая сексуальную заболеваемость (3.1.8) и провоцируя половые аномалии.
Нельзя не учитывать и то, что для многих людей «ужастики», доставляемые им СМИ в сообщениях о массовых (и одиночных) чрезвычайных происшествиях — «спасение» от напряженной монотонии обыденной жизни, создающей «болезни стресса». Это может быть развлечением и отвлечением от скуки жизни, «излечивающим» психику противопоставлением: «Другим хуже, чем мне?»; таков «выход» невротических комплексов. Но все же у части населения обильная информация о чужих бедствиях опосредованно создает ПТСР.
Иные механизмы психических расстройств при массовых радиационных поражениях. Неосязаемые, но смертельные радиационные воздействия при аварии на Чернобыльской АЭС, как причина своеобразного ПТСР, многие годы изучаются под руководством профессора Н.В. Тарабриной [Тарабрина Н.В., Лазебная Е.О., Зеленова М.Е., 1994; Румянцева Г.М., Степанова А.Л., Чинкина О.В., 2005 и др.].
Особым образом протекает ПТСР после сексуального насилия. Все больше средства массовой информации обращают внимание на опасность сексуальных маньяков, а это создает предпосылки для массовых проявлений ПТСР [Печерникова Т.П., Шостакович Б., 2005 и др.].
Наиболее глубокая травматизация психики, иногда с отсроченными на годы патологическими последствиями, происходит в детском возрасте [Черепанова Е.М., 1996; Шостакович Б.В., Ушакова И.М.. Потапов С.А., 1994; Портнов А.А., 2005, с. 144-162 и др.].
Обзор исследований психологических расстройств при катастрофах сделан А.Б. Исаевым с соавторами [Исаев А.Б., Котенев И.О., Филиппов Н.М., 1989]. Большинство исследователей на первой стадии состояния, названного «синдромом катастроф», обнаруживали панические действия: дезориентацию, поступки, неадекватные реальным нуждам (преимущественно истерические) либо апатию, пассивность, ступор. Человек застывает на месте, скорчившись, будто чтобы уменьшиться, в эмбриональной позе. На второй стадии — экзальтированная радость спасенных: бравада, рассказы о пережитом; потом они сменяются вялостью, утомлением, апатией. Повышается внушаемость и чувство зависимости от окружающих. Это переходит на третьей стадии в усиленное чувство коллективизма и даже «братства» переживших близость смерти. Наконец, на четвертой стадии формируется осознание горестных последствий катастрофы, тревоги за будущее [Александровский Ю.А., ЛобастовО.С, Спивак Л.И., Щукин Б.П.. 1991; Wallace A.F.C., 1956;Tyhust J.S., 1956].
Исследователи обнаружили, что паника возникает не столь выраженной, если ситуации и действия людей поддаются контролю. Плохо сказываются неподготовленность населения к катастрофам и неконтролируемая информация о происходящем или отсутствие адекватных сообщений о катастрофе [Chandessais С, 1972; Larsen O.N., 1954 и др.].
Не только пострадавшие, но и свидетели катастрофы в последующем страдают от ПТСР. Профессионалы, отобранные и обученные оказывать помощь в экстремальных, катастрофических ситуациях, также подвержены ПТСР. «W.A. Foreman, анализируя аварию самолета, рухнувшего на супермаркет... через шесть месяцев обнаружил посттравматические расстройства у 50%, через 12 месяцев — у 71%, и через 1,5 года у 43% полицейских, участвовавших в ликвидации последствий аварии. Автор отмечает, что подразделение, принимавшее участие в ликвидации пожара, сопровождавшегося массовыми жертвами и большим количеством обгоревших или изувеченных трупов, может в последующие 3-5 лет потерять до 20% всей численности личного состава за счет увольнения лиц с нарушенной психической адаптацией» [ЧовдыроваГ. С, 2000, с. 132]. Т. Пирсон обнаружил, что после «стресса критического инцидента» у 87 % профессионалов, призванных купировать такие инциденты, возникают симптомы ПТСР [Pierson Т., 1989].
Однако Ю. А. Александровский доказывает, что есть различия ПТСР и социально-стрессовых расстройств [Александровский Ю.А., 1986]. «Психотерапевтическое лечение является важным компонентом в комплексной помощи больным с ПТСР. Применение психотерапевтических методов должно учитывать личностное своеобразие пациента, стадию и клинический вариант развившегося у него заболевания, сочетание индивидуальных и групповых, в том числе семейных, подходов, базироваться на сочетанном применении методов кризисной интервенции и патогенетической личностно-ориентированной психотерапии с достаточной продолжительностью лечебно-реабилитационных мероприятий» [Положий Б.С, 2005, с. 201-202].
Полно и лаконично обобщение симптоматики, анализа механизмов ПТСР и схем лечения представлены в монографии И.Г. Малкиной-Пых «Экстремальные ситуации: Справочник практического психолога» на стр. 134-488 [Малкина-Пых И.Г., 2005]. Не буду описывать здесь применяемого при ПТСР лечения, потому что оно должно быть индивидуальным и проводиться под контролем профессионалов: психиатров и психотерапевтов.
4.6. СОН И СТРЕСС
Существует обширная научная и популярная литература, посвященная проблеме сна, и многочисленные попытки объяснения его сущности и значения для нормальной жизнедеятельности организма [РотенбергB.C., 1982; Власов Н.А., Вейн A.M., Александровский Ю.А., 1983; Борбели А., 1989; Современная теория сновидений, 1998; Сон — окно в мир бодрствования, 2003; Вейн A.M., Корабельникова Е.А., 2004; Shapiro СМ., 1994]. Большинство исследователей сообщают о благоприятном действии сна на самочувствие и состояние человека, перенесшего острый стресс или находящегося в условиях ежедневных стрессовых воздействий [Горбов Ф.Д., Мясников В.И., Яздовский В.И., 1963; Горбов Ф.Д., Мясников В.И., 1968; Кассиль Г.Н., 1978; Мясников В.И., 1967; Ellis B.W., Dudley Н.А., 1976; Hartmann Е., Brewer V., 1976, Schneider D., 1977 и др.]. Вместе с тем известно, что характер сна меняется при стрессе. Отмечено, что наиболее «уязвимым» оказывается так называемый парадоксальный сон — его продолжительность уменьшается; снижается глубина сна, нарушается индивидуальная ритмичность фаз сна. Чем больше дистрессогенный эффект воздействия, например при хирургическом вмешательстве [Ellis B.W., Dudley Н.А., 1976], тем более выражены указанные изменения сна. Может уменьшаться антистрессовый эффект сна.
В экспериментах на наземном имитаторе межпланетного корабля (в квартире-центрифуге), проведенных в 60-х гг. прошлого века, нами было обнаружено, что при выраженном дистрессе, возникавшем во время многосуточного медленного вращения, «глубина сна, быстро нарастая, вскоре уменьшалась, сон становился поверхностным, чутким, с частыми перерывами» [Китаев-Смык Л.А., 1979, с. 149]. В экспериментах продолжительностью от трех до тридцати пяти суток были обследованы одиннадцать человек. Все они сообщали об уменьшении глубины сна и его прерывистости при дистрессе. Это подтверждали результаты анализа ночных электроэнцефалограмм. При дистрессе в условиях медленного вращения нами была отмечена легкая пробуждаемость испытуемых в любое время ночи [Китаев-Смык Л. А.. 1977; Китаев-Смык Л.А., 1979]. Испытуемые говорили, что ночью они несколько раз просыпались, «чтобы перевернуться на другой бок». При каждом пробуждении чувствовали себя совершенно проснувшимися, но тут же могли заснуть, что хотя спали ночью плохо, но утром чувствовали себя выспавшимися и помнят 6—8 снов. Эти воспоминания отличались яркостью образов и эмоциональностью переживаний. Один испытуемый сообщал, что с первой ночи в условиях вращения ему впервые в жизни стали сниться цветные сны. Итак, наши испытуемые при тяжком дистрессе по ночам вдруг сразу чувствовали себя совершенно проснувши мися, но понимая, что спать надо дальше, вновь проваливались в новое сновидение, не забыв прошлого сна с его персонажами. Известно,что в спокойном (нестрессовом) состоянии люди, проснувшись, помнили один-два сна, либо отрывки снов, или им казалось, что спали без сновидений.
Особо отметим, что состояние дистресса возникало в наших экспериментах из-за «укачивания, укручивания», т. е. без каких-либо эмоциональных негативных нагрузок (воздействий), без тревог, страха, огорчений, обид и т. п. Вероятно, в связи с этим ночью во время кратких пробуждений испытуемые были совершенно спокойны. У них не было негативных либо, напротив, позитивных эмоциональных переживаний. Об этом свидетельствовали отчеты испытуемых как после окончания сна по утрам, так и непосредственно во время кратких ночных пробуждений.
Можно полагать, что эти неоднократные пробуждения возникали после завершения каждого периода сна, а периоды становились короче.
Иным было эмоциональное наполнение промежутков между периодами сна у людей, переживающих мучительный либо опасный военный стресс. Во время двух «чеченских войн» с 1995 по 2001 г. мне приходилось участвовать в купировании боевого стресса у российских военнослужащих, участвовавших в боях, у журналистов-стрингеров и мирного населения, проживавшего на территории боевых действий. Эмоциональные переживания во время неоднократных ночных пробуждений были разного типа.
А. Стенические просоночные эмоции. В просоночном состоянии человек вскакивал, убежденный, что ему надо (а) спасаться, бежать, покинуть то помещение, где он спал, т. к. сюда вскоре придут, ворвутся враги; либо (б) что для него (проснувшегося) опасен кто-то из людей, находящихся рядом. Этот вариант просо-ночных эмоций мог бы сопровождаться агрессивными действиями, особенно опасными, если человек в состоянии «активного просо-ночного стресса» был вооружен.
Б. Астенические просоночные эмоции. Во время каждого ночного пробуждения человек переживал мучительное горе, отчаяние и трудно переносимые ощущения, тремор во всем теле, или только в груди и руках. В таком состоянии «астенического просоночного стресса» у человека терялось разумное представление о реальных событиях вчерашнего дня, о текущей действительности. Она казалась непереносимой. Человек был способен к самоубийству. У людей в состоянии просоночного стресса нам удавалось зарегистрировать значительное увеличение артериального давления и частоты сердцебиения.
Психотерапевтические действия были многовариантны. Общим было: 1) признать правомерность всех эмоциональных переживаний человека, пробудившегося в состоянии просоночного стресса, 2) выйти вместе с ним из помещения на городскую, сельскую улицу, 3) начать вместе с ним общение с другими людьми (с продавцами ночного магазина, с дежурными по воинской части), 4) вспомнить о довоенной жизни, о членах семьи, 5) заговорить о программе действий предстоящего дня, 6) вернуться в помещение и лечь спать (до следующего пробуждения).
Об особенностях сна при стрессе писал Гарри Стек Салли-ван: «Когда мы спим, мы испытываем некоторый недостаток защитных операций, поскольку обязательным условием самого погружения в сон является уверенность человека в том, что его самооценке ничто не угрожает. При наличии сильной тревоги сон практически невозможен, хотя когда накапливающаяся у человека усталость достигает определенного уровня, он уже не может сопротивляться сну; в этом случае сон протекает в порядке чередования коротких периодов глубокого сна и сравнительно протяженных стадий легкой дремоты, которую, строго говоря, трудно отличить от состояния бодрствования.» [Салливан Г.С., 1999, с. 300]. Салливан имел свое мнение о сущности сна: «функциональное значение сна, если рассматривать его с психиатрической точки зрения, сводится к полному отключению защитных операций. В результате многие неудовлетворенные потребности дня... удовлетворению которых в состоянии бодрствования мешает вмешательство тревоги или защитных операций, по возможности удовлетворяются через скрытые операции, символические механизмы, реализующиеся во сне» [там же, с. 301 ].
Изучение влияния стресса на сон проводилось при подготовке и проведении космических полетов, а также в клинических условиях. Эти исследования подтвердили, дополнили и во многом объяснили результаты наших опытов в наземном имитаторе космического корабля — квартире-центрифуге. Были изучены «нейрофизиологические аспекты стрессореактивности» и разработана концепция «схемы сна», исследован сон при стрессе у людей, изолированных в замкнутом пространстве, при напряженном ожидании опасности и др. Однако, пытаясь понять сущность механизмов сна, исследователи констатировали, что «внутренняя организация этих механизмов сложна и не изучена» [Ковров Г.В., Вейн A.M., 2004, с. 80].
Е. Хартман и В. Бревер, изучая потребности в сне у пятисот человек разного возраста и разных профессий, обнаружили, что стресс (при напряженной работе или учебе), создающий беспокойство или депрессию, может увеличивать потребность в сне. Напротив, при счастливой, беззаботной жизни потребность в сне снижалась [Hartmann Е., Brewer V., 1976]. Наверное, такая зависимость не однозначна. Многие исследователи подчеркивали антистрессовое значение скрытой психической активности, имеющейся во время сна [Мясников В.И., 1967; Ellis B.W., Dudley Н.А., 1976; Hartmann Е., Brewer V., 1976; Schneider D., 1977 и др.]. По мнению И.М. Фейгенберга, во время сна «преобладающее значение имеют "внутренние входы", через которые поступает информация, хранящаяся в мозгу,— память о прошлом, прогноз и планы на будущее» [Фейгенберг И.М., 1972, с. 26].
Описанные выше феномены просоночного стресса у людей, днем бесстрашных, можно анализировать с учетом концепции о «панических атаках в цикле сон-бодрствование» [Башмаков М.Ю., Дюкова Г.М., Голубев В. Л., Столярова А.Т., Ту-шерВ.Н., 1995, с. 21-29]. Пробуждающиеся из-за «панической атаки» люди в 99,2 % случаев испытывают страх, в отличие от того, как при дневных «панических атаках», страх бывал лишь в 63,3 % случаев. Ночные страхи свойственны мужчинам, однако в целом из-за «панических атак» больше страдают женщины. Для дневных «панических атак» более характерны функционально-неврологические проявления: «ком в горле», нарушения речи, временные параличи. У людей с дневными «паническими атаками» отмечены депрессивные явления, у лиц с ночными — повышенная тревожность. «Панические атаки» способствуют возникновению агарофобии (боязнь открытых пространств) и «фобии сна» (боязнь засыпания), нарушают нормальные отношения всех фаз сна. Причинами «панических атак» могут стать и текущий стресс жизни, и психические травмы детства.
Многих интересовало, как влияет стресс на сновидение. B.C. Ротенберг установил зависимость особенностей снов от высокой либо низкой «поисковой активности» людей во время бодрствований [Ротенберг B.C., 1982]. Участие сновидений в адаптации к стрессу у здоровых людей и невротиков изучала Е.А. Коробельникова [Коробельникова Е.А., 1997].
Анализируя феномен сновидений при стрессе, Г.В. Ковров и A.M. Вейн писали: «сложность понимания данной проблемы заключается в том, что исследователи, как правило, сталкиваются только с отчетами о сновидениях, а не с самим процессом... Провести однозначную параллель между феноменологией сна и самим сновидением, которое становится "доступным" только после окончательного пробуждения, не представляется сегодня полностью возможным» [Ковров Г.В., Вейн A.M., 2004, с. 60).
Интересно замечание о сне выдающегося мыслителя и исследователя Н. Я. Пэрна: «Наблюдения показывают, что сон проявляется как особое стремление, как особый позыв. Пуркинье, например, говорит (1846 г.), что сон может иногда наступить среди полных сил и что наступление его обыкновенно ясно сопровождается характерными ощущениями около висков и в сочленениях в виде особой теплоты и особого влечения — нечто аналогичное половому чувству. И из этого видно, что стремление ко сну ие нечто пассивное, а нечто активное, т. е. организм не подпадает сну, как он подпадает бессилию, а деятельно устремляется к нему, как некоему делу. Не внешние причины толкают его роковым образом ко сну, а внутреннее стремление заставляет его переходить в это "иное состояние"» [Пэрна Н.Я., 1925, с. 32]. Суждение профессора Н.Я. Пэрна основаны не только на результатах лабораторных опытов и клинических наблюдений. Николай Пэрна проводил свои изыскания и на фронтах Первой мировой войны. Будучи военным врачом, он обращал внимание на то, что позднее было названо «боевым стрессом». И все же его суждения не бесспорны. В них важно указание на то. что состояние перехода ко сну может быть в чем-то сходно с особой активной формой стресса и с оргастическими признаками сексуального эустресса. Но в какое «иное состояние жизни» переходит человек засыпая? Ответу посвящено множество научных изысканий, отсылаем к ним читателя. Здесь же обратим внимание на то, что выдающийся ученый-естествоиспытатель и богослов Павел Флоренский указывал, что мир горний и мир дольний соприкасаются только во снах [Флоренский П. Иконостас, 1972].
4.7. О ТИПОЛОГИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ СТРЕССЕ
Различия людей возникли в ходе биологической эволюции и антропогенеза как приспособления живого мира и человечества, обеспечивающие жизнь при постоянных медленных изменениях условий существования на Земле. Диапазон и тенденция этих изменений на протяжении многих миллионов лет требовал и от живой материи на нашей планете разделения на особи: на отдельные растения, на различные существа и пр., и пр. (подробнее об этом см. 3.6.3). И вот мы — разные, и нас много. Дальше надо бы сказать: «И мы все нужны друг другу». По мнению В.В. Налимо-ва, в многотысячелетнем диапазоне истории это действительно так, но в отдельные эпохи лишь некоторые типы людей оказываются особенно востребованными и потому более успешными и счастливыми. А другие типы сохраняются «про запас», пока не будут особенно нужны в иные будущие эпохи существования человечества; тогда нынешние «счастливчики» станут запасными игроками на арене жизни.
В XX в. в разных течениях психологии была модной диагностика людей с «сильной» и со «слабой» нервной системой. Якобы первые лучше (легче) переносят превратности жизни. Но более верно утверждение, что не существует изначально «сильных» и «слабых» типов нервной системы и темпераментов. Потому что одни свойства личности либо компенсируют недостатки других, либо компенсируются при своей недостаточности другими своими свойствами. При этом создается индивидуальный стиль жизни [Мерлин B.C., 1986].
Для решения психологических задач (при организации труда, в медицине и педагогике, в политике и в шоу-бизнесе, в предвыборных PR-технологиях), требующих учета и эксплуатации человеческих различий, было создано множество классификаций индивидуальных, личностных особенностей. Как только возникала новая деловая задача, для решения которой требовались специфические особые свойства исполнителей, тут же создавалась новая или модернизировалась старая классификация человеческих различий. Над этим трудились многие русские психологи В.М. Теплое, Б.Г. Ананьев, В. С. Мерлин, В.Д. Небы-лицин, В. М. Русалов, В.В. Столин, А.Г. Асмолов, Э.А. Голубева, Э.А. Фарбер и др. В.А. Бодров, имеющий свой опыт профотбора людей для работы в экстремальных условиях, сделал анализ индивидуальных особенностей преодоления неблагоприятных форм стресса [Бодров В.А., 2005, с. 308-316].
Здесь кратко изложу результаты наших исследований, касающихся проблемы индивидуальных различий при стрессе.
4.7.1. Типология пьяниц. Стрессовые различия в отношении «к себе» и «к другим»
В 70-х гг. прошлого века, участвуя в антиалкогольных мероприятиях, я видел, что при классификации проявлений и последствий алкоголизма целесообразно учитывать различия в отношении людей «к себе» и «к другим», особенно когда у них стресс. Классификация, созданная на этих основаниях, приведена здесь в качестве примера дифференциации индивидуальных различий, проявляющихся у людей при стрессе жизни [Боброва Э.С., Китаев-Смык Л.А., 1984, с. 44-48].
Людям свойственно страдать или радоваться из-за того, что происходит вокруг них. При этом они думают и о себе, и о других, оценивая свои достоинства и недостатки. Есть такие, кто больше склонны заглядывать в себя, анализировать свои переживания. Они меньше внимания обращают на окружающую их жизнь, легко погружаются в собственные мысли. Их называют «чувственно обращенными в себя» (сенсорными интровертами).
У других людей, наоборот, преобладает способность замечать и обдумывать преимущественно то, что происходит вокруг них. Забывая о себе, они хорошо запоминают собеседников. Их легко отвлекает от дел шум или другое внешнее воздействие.
Типология поведения людей при стрессеи при «уходе» от дистресса в пьянство /Боброва Э.С., Китаев-Смык Л.А., 19841
| Обращенность внимания | В себя (интроверт) | Вне себя (экстраверт) | Особенность стресса |
| Потребнотсть в опоре(точка опоры) | |||
| В себе (интернал) | «Неспиваю- щийся выпивоха» | «Пьяница-буян» | При «уходе» от дистресса в пьянство |
| «Стоик» | «Лидер» | При стрессе и при эустрессе | |
| Вне себя (экстернал) | «Потерянный» | «Искатель» | При стрессе и при дистрессе |
| «Тихий пропойца» | «Лихой собутыльник» | При «уходе» от дистресса в пьянство |
Это — «чувственно обращенные во внешний мир» (сенсорные экстраверты).
Из этого разделения не следует, что интроверты не разбираются в событиях, происходящих вокруг них, а у экстравертов будто бы внутренний мир беднее. Но все же первые с большим вниманием относятся к своим внутренним переживаниями, вторые — к течению внешних событий [Юнг К., 1995 и др.].
Обнаружено еще, что при «стрессе жизни» у одних людей ярче проявляется склонность противостоять внешнему социальному давлению, опираясь на себя («точка опоры» внутри). Они названы «интерналами». Другие люди, наоборот, тяготеют к тому, чтобы найти «опору» в сочувствующих им людях, в поддерживающих их организациях или в каких-либо мнимых силах, представление о которых возникает на основе религиозных или мистических учений. Это «экстерналы» [Thorn G.W., Jensking W., Laidlaw J.С. et al., 1953; Rotter J. В., 1966 и др.].
Мы изучали особенности людей с разным сочетанием у них «интроверсии»—«экстраверсии» и «интернальности»-«экстернальности», используя психологическое шкалирование для определения состояний людей во время спокойного, «обыденного» существования, при стрессе жизни и, в частности, при алкоголизме, когда жизнь «надломила» их (см. таблицу). Нами были обследованы только мужчины-алкоголики.
А. «Лидер» и «пьяница-буян».
Интернал-экстраверт. Это человек, у которого точка опоры — «внутри себя». Он в той или иной мере самоуверен, действует, надеясь на себя, независим от признания и поощрения со стороны других людей. При этом его внимание в значительной мере обращено вовне, что позволяет ему хорошо ориентироваться во внешней обстановке, используя это для достижения своих целей, формируемых со свойственной такому человеку самоуверенностью (благодаря его «интернальности»). Если такой человек наделен умом и знанием людей, то это потенциальный лидер группы, организатор тех или иных мероприятий.
Нами было обнаружено, что человек такого типа меньше подвержен стрессу, чем люди с иным складом психики. Внимательно наблюдая за окружающей обстановкой, он вовремя видит опасность и может подготовиться к ней. Черпая уверенность в опоре на себя, он в случае неудачи мало внимания обращает на осуждение со стороны окружающих людей. Это помогает ему сохранять самообладание без эмоционального перенапряжения.
Если такой «лидер» хорошо воспитан, образован и добр, то он отличный педагог, воспитатель и даже вождь. Бодрость его заразительна, речь — убедительна. Лидер с дурным воспитанием асоциален, опасен. Такой человек при недостатке ума может стать бессовестным психопатом. Но когда такого «лидера» постигает большое несчастье и он утрачивает веру в себя, у него возникает тяжелейший стресс: возможна сильная депрессия с обвинениями себя, будто бы виновника неудач и невзгод. В душе у такого человека при изнуряющем стрессе из-за поражения и краха надежд возникает мучительная борьба с самим собой. И окружающим людям — членам семьи и сослуживцам — достаются его ярость и негодование.
На пике негативного эмоционально-стрессового напряжения возможны инсульт мозга или инфаркт миокарда и даже попытки самоубийства. Окружающим людям трудно помочь ему, т. к. он привык полагаться на себя и не склонен «опираться» на других людей, хотя и ругает их почем зря. Помощь ему должна быть дружественной и тактичной.
Если такой человек не справляется с невзгодами, начинает чувствовать свою несостоятельность, некомпетентность и, главное, неуважение или неподчинение, то это травмирует его. Чтобы уходить от мучительного дистресса (болезненного стресса), человек такого типа может начать употреблять алкоголь и тогда становится «пьяницей-буяном».
Пьяным он перестает замечать свою социальную несостоятельность и пытается «восстановить», как ему кажется, свое лидирующее положение в глазах окружающих его людей руганью и драками. На этом этапе заболевания (а алкоголизм у такого типа людей — это уже болезнь) его озлобленность переносится с себя на других. Среди близких и знакомых, а то и незнакомых он ищет и «находит» обидчиков, виновников его несчастий.
Чтобы уменьшить неблагоприятные проявления стресса у работника такого типа, надо (опираясь на его способности хорошо видеть окружающие явления) ненавязчиво показать, что в жизни есть много привлекательного и ценного, ради чего стоит активно трудиться и жить. Но главное — показать, что окружающие люди все еще уважают его и даже нуждаются в его организаторском таланте, в его радушии, доброте.
Нужно понемногу дать человеку такого типа, переживающему дистресс, возможность восстановить свой престиж. Чтобы он, помогая людям или даже руководя ими, снова почувствовал бы свою значимость. Вернувшись к выполнению своей работы (полностью или частично), он должен настойчиво и вдумчиво восстанавливать свою компетентность и уверенность в себе.
Но что делать ему, если он опустившийся пьяница и нет рядом с ним ни родных, ни друзей, кто помог бы вернуть ему веру в себя? Может ли он сделать это сам? Да, может. Надо поднять свои веки, осмотреть тех, кто рядом, таких же несчастных пропойц. Опереться на былую способность властвовать, но теперь не ругать недостойных, а порадовать их хоть чем-то — грустной шуткой, дружеским жестом, прикрыть их наготу, отдать свою пищу им или приказать прекратить безобразничать.
Но главное, не надо быть «буяном». Станьте «отцом» или «старшим братом» для таких, как вы. Шаг за шагом ведите их к лучшему — в приют для обездоленных, в религию, в общество анонимных алкоголиков. Возвращайтесь к лидированию, и вы вновь обретете веру в себя.
Б. «Потерянный» и «тихий пропойца»
Экстернал-интроверт. «Точка опоры» для такого человека во внешнем мире, но он не видит ее, не способен отыскать ее и потому не может на нее опереться. Все из-за того, что его внимание обращено «внутрь себя» — на свои переживания, ощущения. Для него характерна неуверенность в себе, потребность в поддержке и поощрении со стороны окружающих. Он плохо ориентируется во внешнем пространстве и в социальном мире, часто не находит поддерживающих его обстоятельств, не замечает ободряющих его людей и потому вынужден полагаться на судьбу, на случай.
Не имеющий точки опоры в своем внутреннем мире, не умеющий найти ее вокруг себя, человек такого типа оказывается «потерянным» в мире людей и событий. Он склонен к бесплодному самокопанию и самобичеванию, им овладевает тревожность, мучает страх без причины, он легко впадает в депрессивный дистресс. Такой человек не способен влиять на психологический климат коллектива, иногда ухудшает его своим плохим настроением.
Когда удача сопутствует ему, «потерянный» отказывает себе в счастье обладатьею. У него «горькие радости». Вместе с тем такой человек, хорошо зная собственные тягостные переживания, как правило, чуткий и отзывчивый. Он, чем может, старается помочь другим людям.
Если человек такого типа, уходя от «стресса жизни», начинает употреблять алкоголь, то становится «тихим пропойцей». Напиваясь до бесчувствия, он как бы старается уйти от себя, от угрызений совести, возникающих у него при жизненных неудачах, и от внешних трудностей, с которыми, как ему кажется, он не может справиться. Люди такого типа при жизненных неудачах более других склонны находить поддержку в религии или в мистике.
Психологическая помощь для человека такого типа, переживающего дистресс, может заключаться в том, чтобы снять с него нагрузки, травмирующие его. Поначалу уменьшить, не обижая его, служебные, семейные или иные обязанности. Освободить от угрызений совести: простить, отвлечь, ободрить его. Затем постепенно вовлекать его в посильную деятельность, дружески поддерживая. Такому человеку полезны занятия спортом или искусством. Он склонен бросать эти занятия, но его следует вновь привлекать к ним. Человеку такого типа при стрессе полезны коллективные психотренинги.
Если он остался один со своими невзгодами, если упущены все возможности и жизнь лишь мученья, то как искать путь к спасению? Из последних сил или пользуясь случайным душевным порывом, надо выйти к людям, на улицу, хотя бы во двор своего дома. Все вам кажется серым, унылым? Вглядитесь в прохожих. Среди них непременно появится красивое, доброе лицо. И тогда суета людей ободрит вас. Посмотрите на детей, вглядитесь в молодые лица, и они поделятся с вами жизненной силой. Пройдите по скверу, по парку или по лесу, по полю. Пусть поначалу природа кажется вам печальной, «обреченной», «отцветающей». Погладьте еловую ветку. Не стесняйтесь, обнимите березу. Вглядитесь в нее, и она вознаградит вас богатством своей разноликости, силой природы. Живая природа станет нежной опорой для «потерянного» человека. Это начало его ухода от «тихого» пьянства. Отстраняйтесь от него, занявшись неспешным делом, лучше тем, о чем мечталось, но все времени не хватало. Работа, природа возвратят надежду на лучшее. Тогда и среди людей вы сможете увидеть друзей.
В. «Стоик» и «неспивающийся выпивоха»
Интернал-интроверт. Он настолько хорошо знает себя, что даже не задумывается об этом, уверенность в себе черпает «внутри себя». Хорошо ориентируется в своих особенностях и способностях. Верит в себя и знает, что сам себя никогда не подведет, хотя может в этом ошибаться. При наличии знаний, опыта, интеллекта он правильно планирует свою деятельность и эффективно расходует силы, довольно устойчив перед жизненными невзгодами- Это своего рода «стоик». Сравнительно мало участвует в организации своих взаимоотношений с другими людьми. Его не интересуют их суждения о нем. Но в трудной ситуации, при «стрессе жизни» такой человек может являться примером для подражания, опорой для окружающих его людей. Он поддерживает их теплом своей души, не обидчив, разозлить его трудно. Но в гневе он опасен, т. к. не очень-то ценит жизнь и здоровье противников.
«Стоик» не склонен злоупотреблять алкоголем. Про таких людей есть поговорка: «Пьян да умен — два угодья в нем». Он «неспивающийся выпивоха». Может пить, уходя от дистресса неделями, месяцами, но пить понемногу. Это так называемые «ложные запои» (настоящий запой алкоголика длится не дольше 5-8 суток, до полного отравления, когда организм уже не способен терпеть и нейтрализовать выпитый спирт). С годами пьянства у такого человека, «стоика», крепнет потребность постоянно «жить» в новом ирреальном алкогольном мире.
Если у человека такого типа в силу чрезвычайных критических обстоятельств возникли депрессия, дистресс, то психологическая помощь ему может заключаться в следующем: освободить от травмирующего его психику окружения; дать ему возможность разобраться в себе (возможно, с помощью психотерапевта); помочь ему восстановить веру в себя, на срок «закодироваться» от алкоголизма. Это хорошо действует. Но точно в срок окончания кодирования он снова запьет.
Может ли он сам себя вытащить за волосы из болота пьянства, если останется один? Увы, это самый трудный случай. Если у такого человека опорочена, утрачена вера в себя, т. е. он лишен своей «точки опоры», то ему остается лишь плыть по течению. Может быть, кто-то властной рукой вытащит его в трезвую жизнь.
Г. «Искатель» и «лихой собутыльник»
Экстернал-экстраверт. Такой человек все время нуждается в «опоре» во внешней среде. Он способен ориентироваться в ней, поэтому, как правило, такую «опору» находит. При затруднениях в поисках поддержки и одобрения со стороны других людей он может организовать ситуацию, создать условия, в которых его положительные качества лучше видны, либо условия, которые позволят ему проявить свои способности.
Иногда мучительные периоды поисков условий, в которых он может заслужить одобрение своим поведением, трудом, чередуются у такого «искателя» с периодами радостного для него признания со стороны друзей, руководства, с повышением его престижа в кругу товарищей по работе.
Если в неутешные для него периоды или во времена празднования удач он будет употреблять алкогольные напитки, то может пристраститься к ним. Ему всегда будет нужно пьяное сообщество. Он заводила среди «алкашей». Он — «лихой собутыльник». Даже приноровившись купировать алкоголем свой «стресс жизни», он без пьющей компании все же не пьет в одиночку. Разве что окончательно спившись и потеряв нормальный облик.
При выраженных проявлениях дистресса, чтобы отвлечь от пьянства, такого человека следует заинтересовать новым посильным для него делом. И главное, избавить его от собутыльников. Нужно показать ему, что и на трезвых окружающих его людей, на товарищей по работе, на членов семьи можно положиться.
Такой человек в неблагоприятные для него периоды жизни склонен вступать в группы, объединяющиеся по принципу круговой поруки. Поэтому следует предотвращать для него возможность попасть в асоциальные, криминальные сообщества. Спиваясь, даже оставшись один, он все же будет искать путь к спасению. Ему надо вновь осмотреться, чтобы увидеть не тех, кто рядом, не пьяную компанию, а «работяг», тех, кто работают, а не только пьют, и примкнуть к ним на любых условиях.Наши лонгитюдиальные наблюдения свидетельствуют о привыкании к алкоголю у всех указанных здесь типов людей. Но все же медленнее оно у «неспивающихся выпивох». Такой человек с ложными запоями может прожить долгую жизнь, сохраняя умеренную работоспособность, если он не умер от воспаления легких, пролежав пьяным на снегу, не убит в пьяной драке, если все эти годы была любящая жена, ухаживающая за ним после каждой пьянки. А вот все его собутыльники — алкоголики других типов (с истинными запоями) — уже умерли в 40-50 лет.Предложенная нами классификация алкоголиков (в зависимости от их особенностей, описанных вы ше) успешно применялась профессиональными наркологами [Завьялов В.Ю., 1988 и др.].
Но все же врачи-наркологи нередко ограничиваются классификациями алкоголиков, рассматривая лишь интенсивность симптомов этого заболевания.
Приведем пример из руководства для врачей [Лисицын Ю.П., Сидоров П.И., 1990, с. 202—203]. Алкоголиков, классифицируемых как вступивших в первую стадию алкоголизма, характеризует «ежедневное потребление высоких доз без последующего ощущения насыщения и отвращения». На второй стадии появляется «абстинентный синдром», т. е. симптомы похмелья. На третьей стадии — «общее психофизиологическое истощение... психическое состояние определяется депрессией с переживанием безнадежности, самообвинением».
Уверен, что таких узковедомственных классификаций с усеченной психологической составляющей совершенно недостаточно Для эффективного лечения и реабилитации алкоголиков.
1. Чем плох «сухой закон?»
Древние говорили: «1п vino Veritas* — «истина в вине». И правда, бокал легкого вина (не крепкого и тем более не водки) раскрепощает чувства, снимает тормоза, сковывающие у некоторых людей мысли, идеи, интеллектуальные порывы. Во время дружеских застолий, не злоупотребляя вином, легче анализировать, прожектировать, но не принимать решения. Решать трудные задачи, вершить ответственные дела лучше на трезвую голову.
Замечено, что в этносах, живущих в Европе и исповедующих ислам с полным запретом алкогольных напитков, больше невротических заболеваний, чем у европейцев, свободных от этого запрета. И все же — пить или не пить?
В новой истории были периоды введения «сухого закона» — полного запрета производства и продажи алкоголя. В России этот закон был введен в 1914 г., в начале Первой мировой войны, чтобы повысить мобилизационные способности страны. Действительно, возросло промышленное производство и, главное, резко уменьшилось количество бракованной продукции.
В СССР в 1985 г. были ограничены производство и продажа водки и вина. Через несколько лет алкогольные мафии сорвали полезные результаты этих мер. Сейчас мало кто знает, что благодаря этим запретам тогда значительно уменьшилась смертность в нашей стране. По статистическим данным, в те годы было спасено, т. е. не умерли, 2,5 млн человек. Это число неизмеримо превысило количество погибших из-за самогоноварения.
После отмены тех ограничений смертность возросла скачкообразно. Сейчас в значительной степени «благодаря» усилиям алкогольных мафий и рекламе она растет, приближая Россию к демографической катастрофе. Алкоголизация увеличивает число людей, не способных к напряженной работе, к интеллектуальным усилиям, т. е. дебилизирует часть населения.
2. Об опьянении
Медики знают, что, попадая в мозг, алкоголь нарушает прохождение нервных импульсов между клетками через синапсы, а когда он после многих превращений разлагается, эти связи восстанавливаются. Но часто не учитывается еще один механизм воздействия алкоголя — склеивание эритроцитов (преципитация).
В обычном состоянии эритроцит — красное кровяное тельце — имеет форму диска. Протискиваясь по капиллярам, он принимает форму сосиски. Зачем? Нужна большая площадь поверхности, чтобы отдать тканям организма кислород и впитать взамен продукты их жизнедеятельности. А под действием алкоголя диски-эритроииты склеиваются в стопки по 100-200 штук и протиснуться в капилляры уже не могут. В результате возникает закупорка сосудов, особенно опасная в жизненно важных органах: в сердце и головном мозге.
Капилляры мозга под влиянием даже небольших доз алкоголя не только закупориваются, но и в каком-то проценте не раскупориваются. То есть возникают тысячи постоянных маленьких тромбов, серьезно нарушающих кровоснабжение мозга.
Что такое похмелье? Человеку муторно плохо, у него болит голова. Но ткань мозга сама по себе не может болеть, там нет соответствующих болевых нервных окончаний! И все же мучительное чувство похмелья — это мозг кричит о своих кровавых точечных ранениях, ему не хватает кислорода, он перенасыщен продуктами распада. И люди опохмеляются, чтобы опять наркотизировать себя, уменьшив тем самым мучительный дискомфорт.
Но, облегчая самочувствие пьяницы, похмельная рюмка не уменьшает количество тромбов в его мозгу, а лишь увеличивает И у алкоголиков «со стажем» возникает то, что патологоанатомы называют «поролоновым мозгом». Лишенные нормального кровоснабжения, участки мозга некротизируются и распадаются. На их месте возникают небольшие пустоты — пузырьки-вакуоли, заполненные мутной желтой жидкостью.
А там, где были кровоизлияния, вместо ткани мозга — рубчики из соединительной ткани. Мозг человека, погибшего от алкоголизма, похож на поролон, но пузырьки-вакуоли в нем разной величины. Мой однокашник по Первому московскому медицинскому институту, ставший патологоанатомом, много раз участвовал во вскрытии умерших алкоголиков (в том числе сына И.В. Сталина — Василия) и рассказывал, что их мозг похож на поролон в буквальном смысле. Если вскрывали труп алкоголика, то было удивительно не то, почему он умер, а то, как он умудрялся жить с таким пузырчатым мозгом.
Едва ли существование окончательно спившихся можно назвать полноценной жизнью. Они и трезвея не способны даже к малым интеллектуальным нагрузкам. Их мышление дебильно. Ведь мозг человека изначально представляет собой целостную систему, в которой все взаимосвязано. А отдельные сохранившиеся участки мозга алкоголика фактически отделены друг от друга «поролоновыми» вставками и рубцами из соединительной ткани.
Нервные импульсы через них, естественно, не проходят. Когда алкоголик трезвеет, «живые» участки мозга мучительно пытаются достучаться друг до друга, как подводники в отсеках затопленной лодки, чтобы восстановить прерванные связи. И поскольку это не получается, у алкоголика возникают мучительные ощущения. И он должен снова напиться, чтобы оглушить наркотиком свой кричащий от боли мозг. Поэтому лишать алкоголиков такого обезболивания мозга, как это практикуется в лечебницах и вытрезвителях, может быть, просто бесчеловечно?
Есть один древний способ (практиковавшийся в царской России до конца XIX в. в отношении абсолютно спившихся мужчин) для избавления от пьянства, а не излечения, потому что восстановить мозг законченного алкоголика невозможно. Зимой пьяных забулдыг отлавливали и принудительно отправляли валить лес. При этом на лесоповале их очень хорошо кормили, но только постной пищей. Никаких животных белков: ни молока, ни творога, ни мяса, ни птицы, ни рыбы — как в церковный строгий пост. И при этом во время тяжелой физической работы происходила сильнейшая реорганизация организма.
Механизм ее до сих пор неизвестен. Может быть, когда-нибудь наши наркологи и правоохранительные органы совместно исследуют этот феномен. Возможно, к реорганизации приводит огромная потребность в калориях и ее удовлетворение, но при отсутствии пищи, богатой животными белками. Не знаю... Но у мужчин, возвращавшихся с лесоповала, исчезала тяга к алкоголю И не из-за страха перед повторением экзекуции.
Это был лечебный эффект, и на Руси его знали с глубокой древности. Причем во многих случаях измученные алкоголизмом люди добровольно становились отшельниками — уходили в скиты, сами налагали на себя епитимью или принимали ее от священников. Причем епитимья зимняя, когда сочетаются физическая нагрузка, диета без животных белков и морозная погода. Но — с отдыхом и хорошей, теплой одеждой.
Замечу, что мне известны случаи, когда люди, склонные к запоям, зимой, чтобы не замерзнуть, сутками грелисьлишьтяжелой физической работой. После этого у них надолго исчезала тяга к выпивке
4.7.2. Стресс «постоянно-опаздывающих» и « напряженно-неспешащих»
Полезность классификаций людей и их поведения при стрессе образуется никак не из множественности учитываемых факторов и не из сложности получившейся классификации. Ее конструктивность происходит от разумного подбора свойств людей, их особенностей, положенного в основу психологической классификации. Примером такой, казалось бы очень простой, но чрезвычайно полезной и ставшей широко известной в мире, может быть предложенная М. Фридманом и Р. Розенманом классификация на основе того, как относятся люди ко времени, потребному для выполнения ими рабочих заданий, вернее, для их самореализации [Friedman М-, Rosenman R.H., 1977 и др.].
Изложу ниже их классификацию с нашими дополнениями [Боброва Э.С., Китаев-Смык Л.А., 1984, с. 52-56]. Некоторые ее аспекты отражены выше в подразделе 3.1.6.
Многие люди оказываются неспособными правильно рассчитать свои силы, нужные для выполнения производственных заданий, т. е. время, когда им понадобится отдых. У таких людей возникает болезненное чувство нехватки времени. Характер поведения этого многочисленного типа людей М. Фридман и Р. Розен-ман назвали «типом А» или «стресс-коронарным» типом, в отличие от поведения «типа Б» т. е. людей, не принимающих «близко к сердцу» опасность в чем-либо не успеть, опоздать [Friedman М., Rosenman R.H., 1977]. Название «стресс-коронарный» тип связано с тем, что такие люди очень подвержены при стрессе сердечным болезням. Инфаркт миокарда из-за эмоционального перенапряжения возникает у них в 6—8 раз чаще, чем у людей с поведением типа Б. Наряду с типами А и Б существуют и другие, смешанные типы поведения людей, с особым отношением к дефициту времени. Рассмотрим их подробнее.
а) Тип А (Туре А). Поведение типа А наблюдается у человека, который включен в постоянную, беспрерывную борьбу с более или менее экстремальными условиями жизни ради достижения все большего успеха за все меньшее время. Он подчиняется всем обстоятельствам, которые подгоняют его, и не обращает внимания на возможности избежать спешки. Им овладевает чувство просроченности времени. Он стремится участвовать во все большем числе событий, делать все больше приобретений. У него возрастают амбиции, может обостряться интеллект. Но чрезмерная напористость такого человека часто тратится на удовлетворение мелких нужд, а не на важные дела. Человек типа А, не успевая выполнить то или иное дело в срок, часто имеет поводы для расстройств и неудовлетворенностей собой. В попытке нагнать время он начинает во многом отказывать себе. Наполнять жизнь непреодолимыми преградами и исключать все очарования жизни — это ужасная форма самонаказания. Отказываясь от приятного досуга и общения с другими людьми, не находя времени для обсуждения трудностей в работе с сослуживцами и подчиненными, такой человек «наказывает» не только себя, но и других людей. Поведение такого человека отрицательно влияет на психологический климат в группе за счет постоянного Эмоционального напряжения, навязанной всем гонки в работе и за счет его эмоциональных вспышек и расстройств.
Следует отметить, что психологические черты, отличающие человека типа А, возникают, как правило, только при стрессе, когда экстремальное окружающее действует на него как запал для их «включения». Эти черты могут не проявляться в спокойной обстановке.
В постоянной спешке человек типа А может, как ему кажется, ради ускорения своих решений и действий использовать ранее применявшиеся им решения и действия. Постепенно вырабатывается склонность к трафаретным поступкам. Теряется способность к неспешным обдумываниям, которые необходимы для творческих решений принципиально новых задач, диктуемых жизнью. Погоня за количеством наскоро выполненных дел ухудшает их качество. Ощущая это, человек типа А пытается возместить недостаток качества своих «успехов» их количеством. Он живет в постоянном эмоциональном напряжении, лишенный периодов расслабления, раскрепощения от забот, без радости от успешно завершенных дел. Результат — неблагоприятные проявления стресса, большая вероятность «болезней стресса».
При работе по типу А нарушено важнейшее правило упорядоченной жизни, в формулировке которого каждое слово имеет директивное, непреложное значение: «Кончил дело — гуляй смело». У каждого нормального человека должно быть свое деловое занятие. Оно обязательно должно иметь окончание, завершение. После этого непременно — период рекреации. Не просто отдых (отдышаться), но «смело», без забот, радостно-эмоционально праздновать окончание дела, работы. Но не надо истинную радость подменять «алкогольными костылями» (см. также 3.1.6).
Американские психотерапевты, хорошо изучившие людей с поведением типа А, не дают конкретных рекомендаций, как избежать угрожающих таким людям «болезней стресса». Типу А американские исследователи противопоставляют поведение типа Б, рекомендуя его как образец для подражания.
б) Тип Б (Туре В). Людьми с поведением типа Б называют тех, чье поведение во многом противоположно поведению типа А. Человек типа Б. как правило, не склонен подгонять себя, думая, что опоздает с окончанием работы и опозорится, или из-за жадного стремления успеть как можно больше сделать и тем выделиться среди других людей. Человек типа Б может быть таким же напористым, как и тип А. Но характер человека типа Б таков, что он больше уверен в своей успешности и безопасности, хотя и эмоционально очень напряжен, у него тоже стресс. Все же он не подгоняет себя, не раздражается, не приходит в бешенство, как это бывает у типа А. У типа Б могут быть такая же обидчивость и амбиция, как у типа А, но при этом тип Б более уравновешен, эмоционально более ровный. Эти черты характера человека типа Б делают его более упорядоченным в делах. Поэтому он часто не отстает в работе от вечно спешащего типа А. Имея склонность поразмыслить на досуге, тип Б иногда лучше справляется с решением сложных проблем, чем спешно решающий их тип А.
Американские психологи полагают, что различия характера людей типов А и Б по-разному сказываются, главным образом, на их здоровье при стрессе (как указывалось выше), умеренно выраженные признаки характера А и Б не мешают их профессиональной и руководящей деятельности [Friedman М., Rosenman R.H., 1977 и др.].
в) Смешанные типы — В (types С). Нами изучены несколько смешанных типов [Боброва Э.С., Китаев-Смык Л.А., 1984].
Тип В-1 (Type C-l). Существуют люди, которые, как и причисленные к типу А, склонны спешить и опаздывать, ставить перед собой непосильные задачи и выполнять ничтожную их часть. Но в отличие от людей типа А, они не придают никакого значения той части задания, которую не смогли или не успели выполнить. Более того, ту малую часть задания, которую сделали, они расценивают как «потрясающий успех», что воодушевляет их на постановку себе новых задач и дальнейшую бурную деятельность. Люди этого типа настолько уверены в успешности своей деятельности, а часто и в своих, как им кажется, выдающихся качествах, что им практически чужды чувства обиды, униженности, неуверенности в себе. Они мало подвержены дистрессу. Благодаря постоянной энергии и уверенности в себе они воодушевляют подчиненных, создавая «хороший стресс» (эустресс).
Но может возникнуть момент, когда чрезмерная самоуверенность оттолкнет от них сотрудников, а пренебрежение к ранее взятым обязательствам дезорганизует процесс работы. Для таких людей крайне опасно оказаться перед всесторонним, многократным крахом всех их начинаний, тогда они внезапно прозревают и видят свою суетливую ничтожность. Это как бы лишает их центра кристаллизации всей их уверенности в себе. Распадается вся система их самоосознавания и рушатся не только психические (душевные) устои их личности, но и телесное (соматическое) здоровье. Бывали случаи, когда на наших глазах ни медикам, ни психологам не удавалось сохранить жизнь этим людям при внезапном инфаркте миокарда или инсульте мозга в момент постижения ими своего ничтожества.
Тип В-2 (Туре С-2). Есть тип людей, склонных, как и относимые к типу А, к завышенной оценке своих возможностей при выполнении задания. Вместе с тем от типа А они отличаются тем, что с самого начала деятельности испытывают радость, будто задание успешно выполнено. Невыполнение задания не вызывает у них огорчения. Вместо этого они сердятся на «причину» их неуспеха, которую они видят в чем угодно, только не в себе. Люди этого типа мало подвержены дистрессу. Они быстро теряют контакт с окружающими людьми, не находят общего языка с подчиненными, часто создают в коллективе неприятное эмоциональное напряжение. Они лучше справляются с работой, выполняя задание самостоятельно или узкой группой своих приверженцев.
Эти люди мало подвержены дистрессу и болезням стресса.
Тип В-3 (Туре С-3). Встречаются люди, которые работают спустя рукава, или попросту ничего не делают до тех пор, пока срок окончания работы не приблизился. Когда же времени для выполнения задания остается предельно мало, они в спешке, в авральном порядке пытаются наверстать упущенное. Похоже, они по началу «напряженно не спешат» как тип Б, а потом всякий раз опаздывают как тип А. Если они и заканчивают работу в срок, то выполняют ее намного хуже, чем могли бы, работая все время, предусмотренное планом. Таким людям, чтобы «принудить» себя к работе, нужна стрессовая ситуация и эмоциональное возбуждение, иными словами — «погонялка», например, связанная с опасностью наказания за срыв сроков выполнения задания. Если такая черта характера присуща руководителю, то его подчиненные работают неритмично, в режиме штурмовщины.
Тип В-4 (Туре С-4). Неспособность справиться со своими профессиональными обязанностями может вызывать у работника стрессовую пассивность, он кажется равнодушным к своей работе, к ее выполнению в срок. Внутреннюю напряженность из-за переживания своей несостоятельности такой человек (как тип Б) может маскировать от окружающих (да и от самого себя) шутливостью, беспечностью или показной поспешностью в делах (как у типа А). Люди типа В-4 подвержены болезням стресса, так же как стресс-коронарного типа А.
Обследование, проведенное американскими психологами, показало, что среди работающих жителей больших городов преобладает число людей с поведением типа А — их 50 %; типа Б — 40%; смешанных типов — 10 %.
Тип Г (Type D). В развитии типологизации поведения людей при стрессе М. Фридманом и Р. Розерманом предложено выделять и Тип Г (Type D). Люди этого типа в состоянии стресса (и тем более при дистрессе) замыкаются в себе, не хотят и не могут обращаться за помощью к окружающим людям; и конечно, становятся не способны помогать кому-либо. Ими овладевает депрессия, ее они тяжело переживают. Поэтому эти люди нередко становятся жертвами соматических болезней стресса, реактивных психозов с депрессивным развитием, суицидальных намерений. Выводить их из депрессивного состояния трудно, потому что не удается «достучаться» до их сознания, чтобы пробудить волю к выздоровлению. Потому следует использовать медикаментозные антидепрессанты. Предполагают, что есть пока еще неизвестные психофизиологические механизмы, общие при возникновении депрессии и инсульта мозга либо инфаркта миокарда у людей такого типа. Риск смерти от этих расстройств у них в семь раз выше, чем у людей других типов [ Wassertheil-Smoller S., Applegat W.B., Berge К, ChangC. J., Davis B.R., Grimm R. et al., 1996]. Помимо приведенных выше существуют и многие другие особенности личности, которые влияют на то, каким будет эмоциональное состояние у человека при стрессе и как он сможет влиять на друзей и сотрудников, на подчиненных и начальство в критических ситуациях. Очевидно, что разные подходы к описанию многообразия черт личности, освещая ее с разных сторон, в некоторых фрагментах повторяют друг друга.
Без знания психологических различий людей невозможно успешное руководство ими. Учет того, при каких условиях каждый конкретный человек оптимально проявит свои профессиональные и человеческие возможности, позволит руководителю наилучшим образом распределить производственные обязанности между подчиненными, вовремя прийти на помощь отстающему, опереться на успешных в трудных ситуациях. Индивидуальный подход важен в работе с подчиненными, особенно с «трудными» людьми. Следует помнить, что психологические различия человека определяют лишь общие черты его поведения. Хорошо или плохо будет он жить, зависит от морали человека, от его зрелости, воспитанности и культуры.
4.7.3. Искатели «игр со Смертью»
А. Участники «игр» со своей Смертью. Есть люди, нуждающиеся в переживаниях смертельного риска. У одних это проявление «комплексов неполноценности», сексуальной или иной неудовлетворенности либо контрфобические действия. У других, напротив, потребность «играть» со своей Смертью бывает от избытка жизненных сил, как реализация еще большего самоудовлетворения, как поиск новых «территорий Жизни», рискуя собой. Итак, могут быть два источника потребности в «играх со Смертью»: недостаточность или избыток своих жизненных сил.
Среди наших мужчин «призывного возраста» (18-20 лет) таких «рискованных парней» около 12%. Средидетей 10-12 лет их до 50%. Эти цифры должны быть уточнены применительно к разным регионам, национальностям и др. Чем старше люди, тем меньше среди них тех, кому надо испытывать триумф победы над смертью. При подборе американских космонавтов («астронавтов») обнаружено, что только у тридцатипятилетних и старше в подавляющем большинстве исчезает склонность к смертельному риску. Именно такие «нерискованные» астронавты были нужны, чтобы, всеми силами спасая себя в полете, они сохраняли космические корабли. В зрелом возрасте (после 35 лет) лишь у отдельных мужчин сохранена потребность преодолевать смертельные опасности. Удовлетворению этого свойства способствует профессиональная деятельность, сопряженная с риском жизнью. Развал советской, а потом российской армии в конце XX в. вынудил многих молодых мужчин с врожденной потребностью в смертельном риске «перебазироваться» в криминальный мир с его убийственным риском.
Во все века «рискованные парни» шли на военную службу, в наиболее доблестные отряды, сражались за Родину, за своего сюзерена (властителя) или отстаивали свою родовую честь. Таким «рискованным бойцам» нужны новые схватки с противником, т.е. регулярные войны. Их уродливой подменой бывала мода на дуэли, часто с наглядным смертельным «проигрышем» одного из дуэлянтов.
Сейчас нет моды на дуэли. Хорошо ли, плохо ли, но «борьба за мир во всем мире» сделала для многих недоступным участие в войнах. Как же «рискованным парням» удовлетворять потребность в «играх со Смертью», если не нашлось для них места среди летчиков-испытателей, пожарников, космонавтов, спасателей, бойцов спецназа, шпионов и террористов? «Лихие мужчины» находят спасение от напряженно-монотонного стресса обыденной жизни в экстремальном «отдыхе». Достижения цивилизации разнообразят экстремальные восстановления творческих способностей (рекреацию). Это не только альпинизм, парашютизм, планеризм, мода на них распространялась в XX в. Теперь экстремальная рекреация — уже и спортивные плавания через океаны, прыжки с парашютом с TV-вышек и отвесных скал (бейджинг), глубоководные погружения среди акул (дайлинг), плавания по горным, порожистым рекам (рафтинг), стремительные спуски на лыжах по горной целине со скалистых склонов (фрирайд), даже «космический туризм».
Психологические особенности людей с разными группами крови
| Теория | Группа 0 | Группа А | Группа В | Группа АВ |
| Масахико Нори | Экстраверт Сильный Экспрессивный | Интроверт Перфекционист Сдержанный | Свободно мыслящий Независимый Малоамбициозный | Впечатлительный Пассивный Сдержанный |
| Питер Константин | Экстраверт Открытый | Интроверт Замкнутый Спокойный | Прагматичный Организованный | Баланс экстраверсии и интроверсии |
| Раймонд Кэттл | Стабильный | Склонен к тревожности | Самостоятельный | Отчужденный |
| Ганс Айзенк | Экстраверт | Спокойный | Очень эмоциональный | Интроверт |
| Тест личности www. dadamo. com | Экстраверт Практичный Решительный Живет настоящим | Интроверт Чувствительный к потребностям других | Тонко чувствующий Гибкий Спонтанный Субъективный | Тонко чувствующий Развитая интуиция |
| Питер Д'Адамо, Кетрин Уитли | Экстраверт Сильный Лидер Уверенный Прагматичный Стратег Терпеливый Логичный | Интроверт Впечатлительный Находчивый Требовательный Перфекционист Чувствительный Умеющий сотрудничать Творческий | Независимый Свободно мыслящий Жизнерадостный Творческий Оригинальный Субъективный Прирожденный организатор | Интуитивный Эмоциональный Темпераментный Дружелюбный Доверительный Умеющий сопереживать Другим |
«Кирилл Миновалов, президент банка "Авангард" и страстный любитель фрирайда, так описывает свои выходные: "Каждую пятницу я сажусь вторым пилотом в свой реактивный самолет и через 2,5 часа приземляюсь на горном аэродроме где-нибудь в Швейцарских Альпах. Рано утром меня (бывает, что я езжу с друзьями, но часто — один) уже ждет вертолет с гидом и со специальной горной экипировкой. Вертолет сбрасывает меня на вершину на высоте до 4500 м, и дальше я уже сам без трасс по карте спускаюсь в нужный населенный пункт, где меня и подбирает вертолет. Так проходят суббота и воскресенье. В воскресенье вечером опять сажусь за штурвал, прилетаю в Москву, и в понедельник утром уже на работу. Чтобы в выходные я остался в Москве, должно случиться что-то из ряда вон выходящее. Когда много и интенсивно работаешь, инерция не дает возможности перейти в состояние покоя. Отдых для меня заключается в смене интеллектуальной нагрузки физической: в будни по 12 часов в день я работаю, в выходные дни по 8-Ю часов катаюсь на лыжах. Тем самым я поддерживаю ритм, а голова отдыхает"» [Гришина Е., 2003, с. 48].
Что же такое потребность в смертельном риске, зачем она? И почему пропадает с возрастом? Елена Гришина подводит итог дискуссии, организованной на журнальных страницах: «объяснять стремление к риску потребностью в отдыхе — значит очень упростить проблему. Дело не в отдыхе, а в коррекции, в необходимости уравновесить социальный риск физическим. Как они связаны между собой? Китаев-Смык, который долгие годы занимался подготовкой космонавтов, а в последние 10 лет проводил психологические исследования в зоне боевых действий в Чечне, о поведении человека в экстремальных ситуациях знает больше других. Стремление к риску он объясняет проявлением "ужаса смерти". Этот ужас бывает двух типов:
"Первый тип — это страх своей личной смерти, он проявляется как боязнь боли, операций, ранений, ушибов и в конечном итоге как боязнь погибнуть, исчезнуть из этого бытия. Второй тип в нашей цивилизации не принято рассматривать как ужас собственно смерти. Это страх потери лица. Почему же я его называю ужасом смерти? Потому что человек — это общественное животное. А общественное животное, изгнанное из стаи (стада, прайда), погибает. Совершенно необязательно быть полностью изгнанным из человеческого общества (как случилось с моряком Селькирком, послужившим прообразом Робинзона Крузо). Это может быть изоляция от себе подобных, изгнание из привычного круга общения или даже просто клуба. Человек в этой ситуации переживает крайне неприятные эмоции, в основе которых лежит ужас животного, изгоняемого из стада. Люди, которые постоянно сталкиваются с рискованными ситуациями и хотя бы время от времени испытывают этот, условно говоря, ужас смерти, часто компенсируют его ужасом смерти своей личной", — рассказывает он.
Бизнес вообще, а в России особенно связан с риском социальным. Неудивительно, что многие бизнесмены уравновешивают этот социальный риск физическим. Это не значит, что, рискуя своей жизнью, они испытывают страх, считает Леонид Китаев-Смык. Скорее всего, это страх в перевернутом, инвертированном виде, в виде апофеоза радости от преодоления угрозы личной смерти. Интересно, что многочисленные эксперименты, которые проводили независимо друг от друга психолог Вернер Эрхард и основатель гуманистической психологии Карл Роджерс, показали, что для определенной категории людей после напряжения и риска интеллектуального или экономического необходимо устроить себе риск физический, телесный. Сказать, что эти люди отдыхают, когда ходят по краю пропасти, — это не сказать ничего. "Здесь совсем другое. Это, так сказать, замещение нехватки или балансировка. Может быть и наоборот: для людей, склонных к военному риску, риску жизнью, лучший способ отдыха — интеллектуальная деятельность. Во время поездок в Чечню мне приходилось в блиндаже, в бэтээре, перед боем вести с офицерами содержательные беседы на философские и исторические темы. Для них это было интеллектуальной балансировкой риска", — рассказывает Китаев-Смык. Это подтверждается и экспериментами, которые известный физиолог Иван Сеченов проводил еще в XIX веке. Если тянуть веревочку или пружинку, через некоторое время мышцам потребуется отдых. А если во время отдыха тянуть эту пружинку другой рукой, то первая рука отдохнет в два раза быстрее.
Получается, что бизнесмен, вполне удовлетворяющий потребность в риске своим престижем, сталкивается с потребностью риска своим телом, своей кровью. "Какой же это отдых — удовлетворять свою потребность ужаса личной смерти?!" — заключает Леонид Китаев-Смык.
Исполнительный директор фирмы "Экопси Консалтинг" психолог Марк Розин дает другое объяснение. Он считает, что стремление к экстриму у бизнесменов возникает тогда, когда бизнес не дает достаточно рискованных переживаний: "Конечно, в бизнес идут люди с высоким стремлением к риску. Однако в период максимального риска в бизнесе бизнесмен вряд ли пойдет в горы.
Но вот он добился успехов, реализовал свою бизнес-идею. Напряжение спало. И тут перед ним выбор. Первый — оставить дело менеджерам, а самому заняться новым бизнесом. Многие так и делают, тогда как разумнее было бы развивать существующий бизнес, который уже не так опасен. Но даже если ничего не менять, натура все равно требует риска. Эту тягу приходится реализовывать в других сферах, в каком-то рискованном виде спорта". Марк Розин считает, что это правильный путь, потому что риск остается подкон-тролем: "Ты выделил для этого сферу жизни и сам ее регулируешь, вместо того чтобы продолжать рискованные эксперименты в своей деятельности и ставить свой бизнес под угрозу". "Оправданный риск здорово промывает мозги и переводит на другой — наверное, более адекватный — уровень восприятия окружающей действительности", — соглашается Юрий Зазерский.
Похоже, что такой отрыв от повседневности особенно нужен горожанину. В жизни жителя мегаполиса окружающие люди — безликое суперэго, неодушевленная среда, перед которой он не столь ответственен, как, к примеру, сельский житель, она не очень давит на него. "Он более раскрепощен, более радостен, энергичен и более свободен в своих проявлениях", — говорит Китаев-Смык. «В городе вы живете в плоском мире, а в экспедиции, пусть и рискуя жизнью, вы получаете возможность увидеть мир в полном объеме. Не говоря уже о ни с чем не сравнимых интеллектуальных удовольствиях, — объясняет Валерий Лощиц.—Это особое ощущение—жить в масштабе истории. Когда мы путешествовали по Земле Франца-Иосифа, я особенно остро чувствовал: это те самые айсберги, которые видел Нансен. За 100 лет ничего не произошло. Такой же лед, такое же небо, такое же сияние".
Неудивительно, что удовлетворение такой потребности некоторые психологи (и в их числе Марк Розин) связывают с феноменом "гедонистического риска". Это такой риск, удовлетворение потребности в котором приносит человеку удовольствие, какое он обычно испытывает при удовлетворении других своих жизненных потребностей. Причем один находит свое удовольствие в горах, другой — в океане, третий — в небе» [там же, с. 50—51].
Профессор В.Д. Магазанник среди причин современной моды на «экстрим» выделяет сочетание у определенных групп людей наличия «легких денег» и вместе с тем утрату отчетливого представления о своем будущем и веры в благополучие. Такие люди прожигают жизнь и деньги, но, опять же, одни в сладкой неге развлечений, другие — рискуя за игорными столами и только третьи — рискуя своими жизнями на горных склонах, в глубинах океанов и т. п. [Магазанник В.Д., 2007].
Есть еще один подход к феномену «игр со своей Смертью». Этологами замеченно, что когда хищник преследует стадо, из него могут, как бы намеренно, отделяться отдельные особи и, не способные ему противостоять, все же «жертвуя» собой, бросаются на хищника. Он насыщается «смельчаками» и оставляет стадо в покое. Такие поведенческие стрессовые реакции губительны для отдельных, как бы «героических» особей, но их гибель защищает стадо, т. е. «социальное сообщество». Это указывает на зоологическое происхождение социально-полезной в животном мире «жертвенности» (квазижертвенности) (см. 2.2).
При стрессе войны с большими, кровавыми потерями «живой силы» (это было на Северном Кавказе в апреле 1995 г.) мной были изучены уникальные виды смертельно опасного поведения солдат, невольного и неадекватного обстановке боя (см. подробнее 2.1.11-2.1.14 [Китаев-Смык Л.А., 1995 а, 1995 6; 1996:2001].
Эти поведенческие стрессовые реакции:
- дурашливость под огнем противника (гебофренные состояния);
- чрезмерная, манифестированная озлобленность в бою (брутальные состояния);
- неконтролируемая, совершенно неуместная расслабленность (атонические состояния) и др.
Такие формы стрессового невольного поведения, из-за которых солдаты гибли под огнем противника, были отчасти сходны с «жертвенным» поведением животных, отмеченным выше. Иными словами, невольные «самоубийственные» состояния солдат можно расценивать как проявление атавистических, сохраненных в антропогенезе (т. е. зооантропологических) реакций при стрессе смертельно опасного преследования. Однако если в зоологическом варианте они были индивидуально-губительны, но все же социально (для всего стада) полезны, то на человеческом уровне (в боях с применением современного оружия) это квазижертвенное поведение вело только к негативным последствиям; абсолютно никакой пользы и быть не могло.
Так вот, можно предположить, что экстремальные способы рекреации, т. е. игра с заведомой («обещанной», предугаданной) победой над смертью, предотвращают описанные выше квазижертвенные состояния. Игра с победой над своей смертью многим нужна, чтобы стресс жизни не столкнул их в яму невольных квазижертвенных состояний.
В давней и новой истории и ныне реализуется еще одно проявление рискованных игр с Жизнью и Смертью. Это преступные «игры» с законопослушным обществом и его правоохранительными службами. Преступное поведение, жизнь в преступном мире — это тоже форма рекреационных, рискованных «игр» с опасностями; не сразу со Смертью, но рано или поздно Смерть вступает в свои права на жизнь преступников. Или смертный приговор, либо смерть от рук подельников, или гибель в тюремной камере от нечеловеческих условий в местах заключения (см. также 5.1.3-5.1.15).
Утрата с возрастом у большинства «рискованных парней» склонности к смертельному риску угасает. И это обеспечивает сохранность жизни немолодых людей, ценных для своих сопле менников накопленным жизненным опытом.
Б. Зрители чужой смерти. Таинство смерти, чужой смерти привлекает многих. Уличное «происшествие», тем более с жертвами, останавливает прохожих. Мной подробно описаны типы людей, которых привлекала или, напротив, отторгала смертельная опасность (см. 5.5.1 [Китаев-Смык Л.А., 1997]).
«Толпы зевак на месте происшествия» — все же феномен из прошлого. «Зевак», т. е. праздношатающихся, в больших городах почти нет. Но все же ни одна трагедия не бывает без замерших в изумлении наблюдателей на улице либо у экрана телевизора. Интуитивная потребность — не быть безразличным к чужой трагедии, к смерти — врожденное защитное свойство. За ним — готовность оградить себя от такой же участи.
Нынешние средства массовой информации, используя это свойство, привлекают внимание множеством сообщений о катастрофах, несчастиях, где бы они ни случались, к трагедиям, которые никакого значения не имеют для зрителей, слушателей, читателей данного региона, города, страны. Зачем? Внимание к ужасному используется для «поднятия рейтинга», чтобы дороже продавать рекламное время.
Неудержимый интерес к чужой смерти (к чужому бедствию) пробуждается страхом перед своей смертью и стремлением отторгнуть ее: «Нет! Не я погиб (пострадал) здесь и сейчас. Я жив и все мое существо ужасается, но торжествует. Насыщая взор видом гибели другого, мое Я сильнее и ярче ощущает счастье жизни, не тронутой болью».
Бывает более глубокая и по-своему жуткая потребность «насыщаться» видом смерти и страдания. Такой потребностью были наделены иные великие завоеватели и властители. «Рассечь грудь врага, вырвать его сердце, чувствовать, как оно еще бьется в руке. Может ли быть более сладостное чувство!» Эти слова приписывают Чингис-Хану. Адольф Гитлер много раз смотрел документальный кинофильм, запечатлевший удушение адмирала Канариса струной от фортепиано. Душить предателя Гитлер приказал постепенно.
Зрителей рыцарских поединков, тем более боев гладиаторов в Древнем Риме, воодушевляло не только желание победы «своему». Переживание грандиозности близкой смерти создавало катарсис, «очищение» психики от неприятностей обыденной жизни, делало их ничтожными по сравнению со смертью на арене. И сейчас в нашем «цивилизованном» мире входят в моду «бои без правил» и тайные, в закрытых клубах, сражения «до смерти» одного из современных гладиаторов.
4.7.4. Личности, предрасположенные к психическим болезням стресса
Здесь мы рассмотрим лишь некоторые личностные особенности, которые при стрессе становятся нетерпимыми для окружающих и даже социально-опасными.
А. Болезненное стремление уйти от стрессогенной реальности, изменив свое психическое состояние. Уход от реальности, изменяя свое психическое состояние, называют аддиктивным поведением. Оно создает личные и социальные проблемы в связи с «эпидемией» развития химической зависимости: алкоголизма и наркомании, опосредованно ведущей к росту заболеваемости СПИДом. Болезненная психическая зависимость (аддикция) может быть и иного рода: игромания (карточные игры, рулетка, игральные автоматы, компьютерные игры и т. п.), зависимость от Интернета, сексуальная аддикция, болезненное влечение к смертельному риску (см. 4.7.4) и др. Неэффективность «простых» способов избавления от стремления изменять свое психическое состояние (запреты, наказания, пропаганда) указывает на непонимание сущности и функциональных механизмов аддиктивного поведения.
Аддикция, с одной стороны, — потребность ухода от «стресса жизни», от ее напряженной монотонии. С другой стороны, такому уходу, казалось бы, помогает: (а) алкогольное и наркотическое временное отключение («ампутация») сознания либо (б) создание кратковременных стрессогенных «ударов» по психике, разрушающих долгую мучительную стрессовую монотонию.
Аддикция становится патологической, когда стремление уходить от реальности подчиняет себе мысли, поведение, взаимоотношения людей, разрушая их жизнь. Формы аддикции зависят от особенностей социально-экономического состояния общества и от индивидуальных особенностей [Боброва Э.С., Китаев-Смык Л.А., 1984. У правление и самоуправление эмоциональным состоянием в критических ситуациях в системе взаимоотношений руководитель — производственный, сельскохозяйственный коллектив. М.: ТСХА; Korolenko СР., Dikovsky А.А., 1972. The clinical classification of alcoholism/ / Anali Zavoda za Mentalno Zdravlje. — Beograd. Vol. 1, p. 5-10 и др.]. Алкогольной и наркотической зависимости посвящена обширная научная и публицистическая литература.
Причинами болезненной психологической зависимости могут быть травмы в детском возрасте, но главным образом с нарастанием изменений социально-политических и/или экономических условий жизни, когда люди не успевают или неспособны к ним своевременно адаптироваться. Аддиктивное поведение бывает не только активным, но и пассивным. «Пассивность аддикта проявляется прежде всего в семье, в которой он эмоционально изолирует себя. Внешне человек остается таким же, но "внутри" него живет уже другая аддиктивная личность со своей аддиктив-ной логикой, аддиктивными эмоциями, аддиктивной системой ценностей, аддиктивной психологической защитой. В тонкости психологических механизмов аддикт не посвящает не только других, но и сам старается не думать и не анализировать их. Такой человек в своих высказываниях ограничивается общими положениями типа: "Я делаю, как все. Такова жизнь. Когда-нибудь все будет по-другому"» [Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., 2000, с. 296—297]. Один из основателей современной аддиктологии профессор Короленко Ц.П. описывает специфику сексуальных аддикций и аддиктивное избегание [там же, с. 302—326]. Он указывает на трудности устранения страстной приверженности к изменениям своего психического состояния.
Б. Фанатизм как психопатологическое стрессовое состояние. «Фанатизм определяется как состояние, связанное с личностной структурой и характеризующееся убежденностью в необходимости фиксации на каком-то суженном содержании или суженных системах ценностей» [Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., 2000, с. 351] (лат. phanaticus — «храмово-исступленный»). В последние десятилетия проблемы, связанные с религиозным, идеологическим и индивидуальным фанатизмом, становятся важными в связи с агрессивностью международного терроризма, манипулирующего фанатиками. Однако все еще мало актуальных психологических исследований фанатизма; есть лишь единичные психиатрические оценки этого стрессово-измененного состояния сознания [там же, с. 351-400]. Дж. Рудин предложил классификацию фанатиков. 1. Люди, фанатично преданные лидеру и рьяно, безоговорочно выполняющие его приказы. Такие фанатики не нуждаются в осмыслении моральных последствий своих фанатических поступков.
2. фанатики, истово приверженные какому-либо виду деятельности (искусству, науке, спорту, войне, воровству, писанию доносов).
3. фанатики сверхценной идеи: революционной борьбы, всеобщей справедливости и т.п. Такие люди при уме и организационном таланте могут стать вождями национальных движений, творцами религиозных и государственных реформ [Rudin J. 1975. Fanatismus. Du Magic der Gevalt // Olten. Freiburg: 2 Aufl. Walter Verlag].
Различают «жесткий фанатизм», когда человек полностью захвачен идеей, которой подчинены все его мысли, действия, его общение. Воодушевление, радость, гордость придают силы такому фанатику. «Мягкий фанатизм» проявляется лишь при каком-то определенном виде деятельности. Вне ее человек ведет себя без ажитации и настойчивости.
Проблемы возникают в обществе и у правоохранительных органов, когда фанатизм пробуждает преступную, античеловеческую активность у отдельного человека или у группы психологически индуцированных, увлеченных им людей. Важным становится то, что логика, характер творчества фанатиков отличаются от обычных норм поведения. Чтобы предвидеть или предотвращать действия преступных фанатиков, нужны специальные знания квалифицированных психологов и психиатров [Ахмедова Х.Б. Изменение личности при посттравматическом стрессовом расстройстве (по данным обследования мирного населения, пережившего военные действия). Автореф. дисс. докт. психол. наук. М., 2004].
Фанатиков, воодушевленных благими целями и не преступающих закон, надо поддерживать и поощрять. Однако в экстремальных условиях жизни, пробуждающих фанатизм, как правило, возникают взаимоисключающие моральные и правовые основания для конфронтирующих фанатичных действий: героических или преступных?
В. Антисоциальные личностные расстройства.
Антисоциальные личностные расстройства имеют двоякое значение. С одной стороны, экстремальные жизненные обстоятельства подталкивают, побуждают людей, склонных к ним, к антисоциальным Действиям, которые могут стать и преступными. В исторические периоды, когда возрастают социальная, политическая, экологическая напряженность и опасность для жизни, значимо возрастает антисоциальная активность таких людей. С другой стороны, стресс, который переживают такие люди, действуя антисоциально, не безразличен для их психического и телесного здоровья. Ввиду значимости этого феномена позволим обширное цитирование из книги Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриевой, исследовавших психопатологию антисоциальности. «Для людей с такого рода расстройствами характерна хорошая вербализация, логика, умение правильно оценить обстановку. Основные отрицательные качества у лиц с антисоциальными расстройствами начинают проявляться уже в раннем возрасте. К ним относятся, согласно DSM-IV, следующие:
1) частые уходы из дома с невозвращением на ночь. Стремление взрослых наказать их сопровождается невыполняемыми обещаниями не повторять такого поведения;
2) склонность к физическому насилию, драчливость с более слабыми сверстниками;
3) жестокость по отношению к другим и издевательство над животными;
4) сознательное повреждение собственности, принадлежащей другим;
5) целенаправленные поджоги;
6) частое вранье, вызываемое разнообразными причинами;
7) склонность к кражам и грабежам;
8) стремление к вовлечению лиц противоположного пола в насильственную сексуальную активность.
Наличие трех и более признаков позволяет отнести их носителя к категории лиц, страдающих антисоциальным расстройством. В дальнейшем после 15-летнего возраста у носителей антисоциальных расстройств проявляются следующие признаки:
1) трудности в учебе, связанные с неподготовкой домашних даний;
2) трудности в производственной деятельности, связанные с тем, что такие лица часто не работают даже в тех случаях, когда работа доступна для них;
3) частые, необоснованные отсутствия в школе и на работе;
4) частые уходы с работы без реальных планов, связанных с дальнейшим трудоустройством;
5) несоответствие социальным нормам, антисоциальные действия, носящие уголовно-наказуемый характер;
6) раздражительность, агрессивность, проявляющиеся как по отношению к членам семьи (избиение собственных детей), так и по отношению к окружающим;
7) невыполнение своих финансовых обязательств (не отдают долги, не оказывают финансовой помощи нуждающимся родственникам);
8) отсутствие планирования своей жизни;
9) импульсивность, выражающаяся в переездах с места на место без ясной цели;
10) лживость;
11) отсутствие лояльности к окружающим со стремлением "свалить" вину на других, подвергнуть риску других, например, оставляя открытой электропроводку, опасную для жизни. Несоблюдение правил техники безопасности при работе, сопряженной с риском для жизни. Стремление к рискованному автовождению с подверганием риску других. Отсутствие активностей, связанных с заботой о собственных детях. Частые разводы. Отсутствие угрызений совести по поводу ущерба, нанесенного другим.
У лиц с антисоциальными нарушениями почти не представлены тревога и страх, поэтому они не боятся последствий своих действий.
В XIX в. поведение таких людей квалифицировалось как "моральное безумие" потому, что, с точки зрения психиатров, наблюдавших таких людей, человек с нормальным интеллектом, будучи психически здоровым, не в состоянии совершать подобные действия, т. к. удовольствие, получаемое им, незначительно, а последствия для других и самого себя разрушительны» [Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В., 2000, с. 164-166J.
Здесь уместно оценить нежелательное влияние на социальное положение и самосознание человека с психологическим отклонением термина (диагноза), обозначающее отклонение психического состояния от нормы. Особенности, описанные выше как «антисоциальная личность», в 1835 г. назывались «моральным безумием». Потом этот термин заменили на «психопатию», а затем на «социопатию», чтобы излишняя откровенность диагноза меньше нарушала социальный статус пациента и не создавала у него комплекса неполноценности. Однако из-за таких подмен утрачивался смысл термина, а это дезориентировало врачей-психотерапевтов следующего поколения. Началось восстановление содержательности рассматриваемого термина, возникло обозначение — «асоциальный». Но это означает негативное отношение человека ко всем людям (и к членам семьи), погружение «в себя». В МКБ-10 и в некоторых американских учебниках психиатрии антисоциальное расстройство личности называется «диссоциальным». А это подразумевает разрушенность способности ко всяким социальным контактам. Так стремление к «политкорректности» контаминиру-ет специальную и необходимую терминологию [Короленко ЦП., Дмитриева Н.В., с. 163; Мак-Вильямс Н., 2001. Психологическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе. М.: Класс, с. 17].
Г. Временная реактивная дистрессовая квазидебильность.
При любом виде реактивного психогенного состояния страдают интеллектуальные функции, т. к. сознание центрируется на психотравме и размышления на любую другую тему свертываются. Случаи демонстративности своей интеллектуальной несостоятельности чаще бывают у лиц с истерическим характером. Это может проявляться в виде псевдодеменции, описанной Эрнстом Кречмером [Кречмер Э., 1920].
Можно видеть три разных вида кажущегося поглупения (ква-зидебильности) у некоторых людей, когда дистресс вознику них из-за перенапрягающего социального окружения.
Первый, когда защитно тормозятся почти все интеллектуальные процессы. В экстремальных ситуациях с непривычно большой ответственностью перед незнакомыми персонами у некоторых людей ненадолго возникает дистресс с частичной утратой интеллектуальных способностей. Это часто бывает с детьми, попавшими в незнакомую обстановку, оказавшимися перед чужими людьми. Подобное случается и во взрослом возрасте с людьми застенчивыми.
Слабо выраженное такое состояние — всего лишь эмоциональное смущение. Человек не только заторможен, но и неуклюж, говорит невпопад, краснеет. А так как самооценка у него сохранена, он еще больше смущается и либо убегает, либо тормозится окончательно («деревенеет» или «раскисает»); дело может кончиться слезами, как своеобразной адаптивно-защитной экскреторной стрессовой реакцией (см. подробнее 3.1.4). Это нередко случается на школьных и студенческих экзаменах.
В более продолжительных и неустранимых экстремальных ситуациях с несоответствием человека социальным (житейским, традиционным, деловым) требованиям у него может развиться «вынужденная дебильность». Состояние, когда тормозится и извращается дифференцированность восприятия, почти утрачивается внимание, становятся малодоступными для субъекта его запасы памяти и интеллектуальные потенциалы.
При долгом, вынужденном таком состоянии человек кажется окружающим его людям (и самому себе) дурачком, придурком. Однако, оказавшись в среде, не травмирующей его, где видят, уважают и оценивают его достоинства, этот же человек обретает свои истинные интеллектуальные и духовные способности. Возвращаясь в круг людей, не признающих его и унижающих, он вновь и вновь становится «вынужденным придурком». Но бывает, что он восстает (успешно либо по-глупому), защищая свое попранное достоинство.
Другой вид кажущейся глуповатости (квазисубдебильности) может наблюдаться у лиц, исключительно одаренных интеллектуально, но с диссоциацией речевых и мыслительных способностей, возникающей при дистрессе в ситуациях экстремального общения. У меня были возможности изучать таких людей. У этих умных, толковых, и во многом талантливых субъектов, когда они эмоционально и интеллектуально напряжены во время разговора, буквально «мысли опережают слова». Думая, соображая очень быстро, они в разговоре с собеседником успевают высказывать, проговаривать лишь каждое пятое, десятое слово из их мысленного монолога. Произносят они ключевые слова, и это дает возможность понимать их, но только близким им людям: друзьям, помощникам, ученикам, знающим то интеллектуальное «поле», на котором собирает интеллектуальный «урожай» сверхбыстро думающий человек. А вот случайным слушателям его речь кажется бессвязной, бестолковой, а сам он — потешным чудаком с наивным апломбом.
Одним из таких изучавшихся мной людей был B.C. Черномырдин. Близкие ему люди называли его «Сократом нашего времени». Это исключительно талантливый, работоспособный и потому очень успешный человек. Осознавая свою интеллектуальную мощь, он с юмором относился к людям, видящим в нем косноязычного простака. Черномырдин сам разработал и внедрил этот образ через средства массовой информации в общественное сознание, прикрывая им свою дизлексию, особенно заметную, когда у него эмоциональный стресс.
Многолетний опыт консультирования высшей административной элиты нашей страны позволил мне заметить, что, во-первых, высокопродвинувшиеся личности, несомненно, интеллектуально одарены. Во-вторых, их психологические особенности мало постижимы не только потому, что они боятся «раскрыться» перед психологами, но им незачем раскрываться даже перед близкими людьми. В-третьих, необычайные личностные особенности высшей властной элиты далеки от стандартов, норм мышления, поведения, общения, присущих обычным интеллектуалам. Потому выше приведена лишь фрагментарная характеристика человека этой элиты.
Есть еще один вид кажущейся бестолковости, возникающей при стрессе. У многих людей интеллектуальное напряжение (особенно при работе за письменным столом) нарушает их речь, создавая временную атонию голосовых связок. Срабатывает выбор альтернатив, производимый организмом (центральной нервной системой), независимо от воли человека: «Творчество либо говоруна-оратора, либо щелкопера-писателя». При писательском труде голос таких людей становится глухим, срывающимся. Более того, нарушается координация движений, при ходьбе они спотыкаются, задевают предметы. Погруженные в творческий процесс, кажутся неловкими чудаками, тогда как вне писательского творчества они и ловкие, и хорошо владеющие речью.
4.8. РЕЗЮМЕ
Сознание и подсознание оснащены бесчисленными возможностями изменяться при стрессе. Торжествуя, радуясь, озлобляясь или бедствуя в экстремальных ситуациях, человек обдумывает случившееся и решает, как ему быть, либо действует интуитивно, «бездумно». Когнитивный субсиндром стресса до сих пор остается основным объектом изучения для того направления наук о человеке (антропологии), которое устремлено на уменьшение людских страданий и на поощрение радостей жизни. С каждым десятилетием многократно увеличивается число научных исследований, посвященных особенностям мышления, восприятия, памяти и деятельности при стрессе. И все же лавина публикаций по этой тематике не сметает всех преград к пониманию того, на что способен человеческий интеллект, преодолевая горе, невзгоды и ужас смерти своей и своих близких. Вместе с тем до сих пор плохо изучены и не ясны когнитивные аспекты эустресса: счастья, любви, вдохновенья.
В данной главе, посвященной когнитивному субсиндрому стресса, две части. В первой изложены общие (генеральные) закономерности динамики когнитивных процессов и функций при нарастании интенсивности стресса. Вторая часть состоит из описаний некоторых частных исследований автором когниций в различных экстремальных условиях: экспериментальных и натурных.
Основная, общая закономерность стресса — это дихотомическая дифференциация всех, в том числе когнитивных, процессов и функций при экстремальных требованиях (воздействиях, изменениях) внешней либо внутренней среды. Повседневное (нормальное) их разнообразие уменьшается при стрессе так, что проявляются либо активизация когниций, либо уменьшение их обычной активности, т.е. пассивность. Такая стрессовая закономерность была замечена мной в 1960—1961 гг. при подготовке первых космических полетов, во время изучения переносимости людьми невесомости и гравитационных перегрузок. До 1963 г. были лишь секретные, малотиражные публикации результатов этих исследований. Они эпистолярно (в письмах ко мне) одобрены Г. Селье, также обнаружившим дихотомию «активность — пассивность» при стрессе.
Еще одна общая фундаментальная закономерность пр*ч стрессе — это стадиальность (ступенчатость, фазность) $ его динамике при интенсификации экстремальных воздействий (стрессоров). В данной главе автор, развивая учение Г. Селье о стадиях стресса, обращает внимание на то, что переход, подъем на каждую следующую ступень обусловлен новой формой кризисных преобразований стресс-адаптационных (адаптационно-защитных) систем организма. Стрессовым кризисом первого ранга создается стадия мобилизации поверхностных адаптационных резервов. Г. Селье назвал ее «мобилизацией по-пожарной-тревоге» (но не из-за «тревожности»!). Стрессовый кризис второго ранга мобилизует глубокие адаптационные резервы. Это «стадия резистентности» по Г. Селье.
Результатом первых двух стрессовых кризисных мобилизаций резервов адаптации могут быть как активизация, так и усугубление пассивности когнитивных функций. Стрессовые активность или пассивность восприятия, мышления, памяти и др. могут оказаться как полезными, адекватными задачам выживания р экстремальных условиях существования, так и неадекватным*) для решения таких задач. Эти закономерности иллюстрируются в данной главе результатами исследований автора и обсуждаются с привлечением различных научных источников.
Сравнительно небольшая интенсивность стрессора обостряет сознание, «выплескивает наружу» результаты неосознаваемы* процессов мышления и даже пробуждает возможности инсайтные решений. Увеличение экстремальности стрессора обусловливает «сужение» внимания. Оно может стать сосредоточением интеллект туальных усилий на удалении вредящих стрессоров, однако иногда приводит к потере (к невосприятию) информации, необходимой дл ft успешной деятельности человека. И наоборот, при стрессе могут возникать «рассеянность» внимания, невозможность мысленна сосредоточиться на одном самом нужном решении.
Как «поиски выхода» из экстремальной ситуации могут возникать разного рода иллюзии.
Чрезмерная экстремальность стрессора может обусловливать, разные квазизащитные «отключения» сознания от стрессогенной действительности (дезориентацию с непониманием опасности происходящего, бредообразование, обморок и т. д.), которые мел гут иметь адаптационное назначение, «освобождая» человека от-осознания слишком психотравмирующей информации. Но такой «уход» человека от действительности подчас, освобождая его от-мнимых угроз, оставляет незащищенным перед лицом реальной опасности. Можно полагать, что результатом трансформации оценочных функций мышления (осознаваемого и бессознательного) являются феномены типа: «замедление» течения субъективного времени, «субсенсорная» чувствительность и т. п.
Изменения субъективных факторов экстремальной среды (субъективная значимость, субъективная вероятность, субъективная возможность, субъективная определенность и т. п.) изменяют ее стрессогенный эффект. Управление этими факторами делает эффективным регулирование когнитивными и другими проявлениями стресса, позволяет людям в чрезвычайных ситуациях сохранять сознание, обострять мышление, создавать творческие шедевры, избегать аварийности при управлении техническими объектами.
Более четверти века назад автор этих строк предложил видеть в «болезнях стресса» стрессовый кризис более высокого ранга, когда происходит уже рискованная, опасная для субъекта мобилизация «болезневидных» процессов адаптации и защиты против угрожающих стрессоров. При этом феномены боли и нетерпимого дискомфорта призваны побуждать субъекта к непременному устранению опасных стрессоров (причин болезни).
В этой главе рассмотрены «психические болезни стресса»: неврозы, посттравматические стрессовые расстройства. До сих пор патопсихологией и психиатрией до конца не понята их сущность. Конечно же, душевные болезни стресса, так же как и телесные болезни стресса, описанные в третьей главе, должны выполнять адаптивно-защитную роль при психотравмах. Печально, но они не всегда справляются с этой ролью, не гарантируют выздоровления.
У людей, непрерывно травмируемых невзгодами и тяготами жизни, возможны разные неврозы. Это истерия — «великая притворщица». Загадочные навязчивости мыслей и действий могут возникать, как неподвластные сознательной воле «магические ритуалы». Астения — навязчивая обессиленность, т. е. ускользание личности в «недеяние» от непреодоленных психотравм.
Обобщая результаты лечения и изучения посттравматических стрессовых расстройств, автор поддерживает тех, кто рассматривает эти расстройства как своеобразную форму болезней стресса. Наиболее загадочным оказывается наличие в их течении скрытого, латентного периода, предшествующего массивным проявлениям дистрессовой симптоматики.
В этой главе автор рассматривает, как запредельные формы дистресса, как самоубийственное кризисное изменение психики, парадоксальную, болезненно сверхактивную гибель людей из-за «безумных растрат» адаптационных ресурсов организма при так называемом остром бредовом психозе и болезненную, сверхпассивную гибель из-за «безумной экономии» этих ресурсов во время беспробудного летаргического сна.
Автор согласен с теми, кто уверен, что «острый бредовый психоз» нередко возникает у фанатически устремленных людей при катастрофическом крахе жизни, целей и амбиций. Однако из-за обязательного для этого психоза симптома — сильного повышения температуры тела — это психолого-соматическое, стрессовое заболевание слишком часто лечится как соматическое и не излечивается без психиатрической терапии. С этих позиций анализируются оригинальные архивные документы с описанием болезни, смерти и вскрытия тела И.В. Сталина.
С небольшими дополнениями автором представлена классификация разных видов «ужаса смерти», опубликованная им раньше. Пять видов такого «ужаса» лежат в основе почти всех вариантов боязни, тревожности, испуга, страха и их инвертированных проявлений: отчаянной отваги, безвыходной смелости, вынужденного героизма. Базовый, основополагающий характер этой классификации всегда актуален. Однако есть и первичная смелость, врожденная или воспитанная у одаренных ею людей.
Неожиданным могло показаться парадоксальное предсмертное переживание не ужаса, а счастья чеченскими смертницами («шахидками»), совершавшими теракты в 2004 г. Изучение автором особенностей их психики, изнуренной чеченскими войнами, выявило наличие у них своеобразного предсмертного транса.
Восприятие внешнего мира, представления о своей дееспособности и телесности, изменяющиеся при экстремальных воздействиях, играют важную роль в разворачивании стресса и при его купировании. С учетом этого кратко описаны разработанные нами в 80-х гг. прошлого века «микрострессорные» методы «насильственного» управления восприятием и сознанием людей с использованием средств массовой информации.
В этой главе анализируется взаимодействие органов чувств при стрессогенных воздействиях пространственной среды. Особенно интересны возникающие при этом зрительные, гравирецепторные, кинестетические иллюзии. Они могут быть интерпретированы как результат взаимной «экспансии» сознания и подсознания. Изучение стрессовых иллюзий при гравиинерционных стрессорах, начатое автором в 60-х гг. прошлого века и продолженное многими исследователями, до сих пор не исчерпало создаваемую такими иллюзиями проблему аварийности авиационного, космического, автомобильного и морского транспорта.
В данной главе кратко представлен научный спор между учеными о том, есть ли эмоциональная память, запечатлевающая чувственный компонент прошедших психотравм и радостных экстазов. Автор на примерах из своей психотерапевтической практики показал, что «забытые» эмоции подобны «уснувшему» вулкану и могут взрываться при ничтожных напоминаниях о прошлых страстях.
Автор описал особенности сна при длительном, многосуточном дистрессе, исследованные им при подготовке первых космических полетов. Последующее изучение сна при стрессе подтверждало и детализировало первые научные находки. Современные представления о сне при стрессе также представлены в данной главе.
В завершение главы читателю предложены некоторые варианты типологизации стресса у людей с разными характерами, с психологическими и антропологическими особенностями. Хотя с древнейших времен до теперешнего времени бесчисленны поводы и способы дифференцировать человеческие качества, все же и сейчас их своеобразие, проявляющееся в экстремальных ситуациях, нередко оказывается неожиданным и непонятным. Не претендуя на окончательное суждение, автор демонстрирует правомочность разных подходов к типологизации людей, переживающих стресс. Представлены свидетельства корреляции отдельных антропологических характеристик (групп крови) и поведения в экстремальных условиях (в боевой обстановке). Описаны результаты различия пьяниц, «уходящих» в алкоголизм от стресса жизни.
Изложенный в данной главе большой массив результатов исследований когнитивного субсиндрома стресса оставляет читателю возможность иметь собственное суждение. Только самостоятельное сопоставление научных и личных свидетельств о том, что происходит в сознании при стрессе, становится полезным для человека и помогает ему разумно, с победой выходить из чрезвычайных ситуаций, купируя собственный стресс, помогать другим людям уменьшать его дурные последствия.
Литература к 4-й главе
Amir Sh., Amit Z., 1978. Endogenous opioid ligands may mediate stressinduced changes in the affective properties of pain related behavior in rats / / Life Sci., vol. 23, N 11, p. 1143-1152.
Anthony A J., 1956. Changes in adrenals and other organs following exposure of hairless mice to intense sound/Acoustical Society of America // Lancaster (PA) Aber Inst. Phys., Incorp., vol. 28, N 2, p. 270-275.
Ваитап N.. Kuhl J., КагепМ., 2005. Left-hemispheric activation and self infiltration: testinga neuropsychological model of internalization / / Motivation and Emotion, 29: 135-163.
Beach D.A., 1976. Anxiety, stress, and short-term memory. Diss Abstr. Intern., vol. 37, N 1-B, p. 435.
Becker £., 1977 The terror of death / / Stress and coping. An anthology I Ed. A. Monat, R.S. Lazarus. N.Y.: Columbia Univ. press, p. 310-323.
Becker P., Scheider В., 1976. Specific reactions to stress and personality characteristics: students before an examination // Ztschr. Exp. und Angew. Psychol, Bd. 23, N 1, s. 1-29.
Berry СЛ., 1973. Effects of weightlessness in man. — COSPAR Life Sci. and Space Res., N 11, p. 187-199.
BleulerE., 1920. Руководство по психиатрии. Берлин: Врачъ.
Bowlby L, 1952. Maternal care and mental health. Geneva: World Health Organisation.
Brown N.O., 1959. Life against death: The psychoanalytical meaning of history. N. Y.: Viking Books.
Chandessais C, 1972. Practical measures against panic / / Bulletin of the 1CDO,№203, p. 1-7;
Choron J., 1963. Death and western thought. N. Y.: Collier Books.
Davis C.W., 1979. The effects of training upon the effectiveness, dogmatism, and stress of first year paraprofessionals within a university setting // Dies. Abstr. Intern, vol. 39, N 7-А, p. 4055.
Ellis B. W., Dudley H.A., 1976. Some aspects of sleep research in surgical stress / /Psychosom. Res., vol. 20, N 4, p. 303-308.
Ellis B. W., Dudley H.A., 1976. Some aspects of sleep research in surgical stress // Psychosom. Res., vol. 20, N 4, p. 303-308.
Fairbank J.A., Nickolson R.A., 1987. Theoretical and empirial issues in the treatment of post-traumatic stress disarder in Vietnam / / Journ of Clinical Psychology 43.1.44-63
Feifel H. (Ed), 1959. The meaning of death. N. Y: McGraw-Hill.
Foucault M., 1976. Mental illness end psychology. N.Y.
Foy D.W. Carroll E. M., Donahoe CP, 1987. Etiological factors in the development of PTSD in climatical samples of Vietnam combat veterans/ / Jornal of Clinical Psychology. 43.1.17-27;
Freud S., 1908. Die Kulturelie Sexualmoral und die moderne Neurosit //GesamtWerkeBd.7,s 143-178.
Freud S., 1936. The problem of anxiety. N. Y.: Norton.
Freud S., 1959. Mourning and melancholia / / Collected papers. N.Y.; Basic Books, vol. 4, p. 152-170.
Friedman M., Rosenman R.H., 1977. The key cause — type A behavior pattern / /Stress and coping, N. Y.: Columbia Univ. press, p. 203-212.
Geller W., Mappes C, 1952 ber die tdlichen katatonien / / Arch Psychiat. Nervenkr., Bd. 189, H. 2, s. 147-161.
Gerathewohl S., Ward /., 1960. Psychophysiology and medica studies of weight less ness / / Physics and medicine of the atmosphere and space. N. Y.; L., p. 422-434.
Goderez B.J., 1987. The Survivor Syndrome Massive Psychic Trauma and Posttraumatic Stress Disorder Among Vietnam Veterans / / Journa of Counselling and Development, v. 65. 363-366.
Hartmann E., Brewer V., 1976. When is more or less sleep required? A study of variable sleepers / /Comprehens. Psychiat., vol. 17, N 2 p. 275-285.
Henry J., Ballinger В., Maher P. et al., 1952. Animal studies of the sub-gravity state during rocket flight / /J. Aviat. Med., vol. 23. p. 421-432.
Hernandes-Peon R., 1969. Neurophysiological aspects of attention //Hand book of clinical neurology / Ed. P. Vinken, G. Bruyn Amsterdam: North — Holland Publ. Co, vol. 3, chap. 9.
Horowitz M.J., 1986. Stress-respons syndromes. 2nd ed. Northvale, N.J. Aronson.
Horowitz M.J., Solomon C. F., 1975. A prediction of delayed stress response syndromes in Vietnam veterans / / J of social issues: soldiers in... and aftes Vietnam. Vol. 31, № 4, p. 67-80;
James W., 1890. The Principles of Psychology. London.
James W., 1958. Varieties of religious experience: A study in human nature. N. V.: Mentor Ed.
Jaspers K., 1964. Allgemeine Psychopathologie. Berlin.
Jaspers K., 1965. Allgeine Psychopatholoie. Berlin: Springer Verlag.
Kaplan H.I., Sadock B.J., 1996. Handbook of Clinical Psychiatry, Baltimore.
Kaplan S., 1973. Cognitive maps, human needs and the designed environment / / Environmental design research/Ed. W. F. E. Preiser. Stroudsburg (Pa): Dowden, Hutchinson a. Ross, p. 275-283.
KaptanS., 1976. An informal model for the prediction of preference / / Lands cape assessment: Values, perceptions and resources / Ed. E.H. Zube, I.G. Fabos, R.O. Brush. Stroudsburg (Pa): Dowden, Hutchinson a. Ross, p. 12-24.
Keele S. Attention and human performance. Pacific Palisades (Cal.): Goodyear, 1973.
Kendall P.C., 1977. Differential state anxiety reactions for subjects differing in measures of trait anxiety / / Diss. Abstr Intern., vol. 37, N 7-B, p. 3614.
Kitajew-Smyk L.A., 1988. Psychologia stresu. Wroclaw: Ossolineum, s. 172-174.
Kolb L.C., 1983. Return of the repressed: delayed stress reaction to war / / Journal of the American Academy of psychoanalysis, 11,4, 531-543.
Kolb L.C., Mutalipassi L. R., 1982. The conditioned emotional response: a sub-class of the Chronic and delayed posttraumatic stress disorder // Psychiatrie Annals 12:11,979-987.
Kormos H.R., 1978. The nature of combat stress //Stress disorders among Vietnam veterans. N. Y.: Brunner and Mazel, p. 3-22.
Larsen O.N., 1954. Rumors in a disaster / /J. Commun, № 4, p. 111-123.
Lazarus B.S., 1977. Cognitive and coping processes in emotion / / Stress and coping. N. Y.: Columbia Univ. press, p. 144-157.
Lazarus R.S., 1969. Stress and emotion / / XIX Intern. Congr. 19-a Short Symp. L.
Le Prestre C, 1971. Les lieux du corps: Г tude sur Pacupuncture. P.: La Table ronde.
Leighton D.C., 1978. Sociocultural factors in physical and mental break-down / / Man-Environ. Systvol. 8, N 1, p. 33-37.
Lindsay D.S., 1991. Metcalf CHARMed, but not convinced: comment on Metcalfe J. Exp. Psychol. Gen. Vol. 120, № 1. P. 101-103.
Manderscheid R.W., Silbergeld S., Dager В , 1976. Alienation: A response stress / / Cybernetics, vol. 5, N 1, p. 91-105.
MandlerG., 1984Mind and Body. Psychology of Emotion and Stress. N.Y., Norton.
Marcuse H., 1959. The ideology о death / / The meaning of death / Ed. H. Feifel. N. Y: McGraw-Hill, p. 64-76.
Maslach C, 1976. Burned-out // Human Behavior, 5 (9), p. 16-22.
Menninger K. Regulatory devices of the ego under major stress / / Stress and coping / Ed. A. Monat, R. S. Lazarus. N. Y, 1977: Columbia Univ. press, p. 159-174.
Menninger K. Regulatory devices of the ego under major stress / / Stress and coping / Ed. A. Monat, R. S. Lazarus. N. Y.: Columbia Univ. press, 1977, p. 159-174.
Menninger K., 1977. Regulatory devices of the ego under major stress // Stress and coping / Ed. A. Monat, R. S. Lazarus. N. Y.: Columbia Univ. press, p. 159-174.
Moore N.C., 1976. The personality and mental health of flat dwellers // Brit, J. Psychiat., vol. 128, p. 259-261.
Murphy С. 1959. Discussion / / The meaningof death /Ed. H. Feifel. N. Y: McGraw-Hill, P. 317-340.
Myers H.F., 1974. Cognitive appraisal and competence as determinants of behavioral responses to stress / / Diss. Abstr. Intern., vol. 35, N 2-B, p. 1058.
Noyes R., Kietti В., 1977. Depersonalization in response to life-threatening danger.— Comprehens. Psychiat., vol. 18, N 4. p. 375-384.
OplerM.K., 1956. Culture, Psychiatry and human values. London: Tomas, s. 67.
Pallmeyer T.P., Blancherd E.B., Kolb L.C., 1986 The psychophysiology of comba-tinduced post-travumatic-stess diaorded in Vietnam veterans/ / Bechev. Res. Ther 24,6,645-652.
Pierson Т., 1989. Critical Insident Stress: A Serius Law Enforcement Problem/ / Police Chief, № 2, p. 32-33.
Pigg L.D., 1961. Human engineering principles of design for in-space maintenance — USAF Aero Syst. Div 61-629, Nov, p 10-18
Popov V.A., Yuganov EM., 1967. Pilot spatial orientation / / Some problems of aviation and space orientation and space medicine. Prague, p. 147-154.
Rath В., 1962. Hipersommnie, Berlin.
Renzulli J.S., 1986. The three ring conception of giftedness. N.Y.: Cambridge University Press., p. 28-33
Rheingold J.C., 1967. The mother, anxiety, and death: The catastrophic death complex. Boston: Little, Brown.
Rochlin C, 1967. Griefs and discontents. Boston: Little, Brown.
Rojek D.G., 1976. Social status, psychological stress and behavior. A model of the stress response sequence / / Disc. Abstr. Intern., vol. 36, N 8-А, p. 5562.
Roman J.A., Warren ВН., Graybiel A., 1964. Observation of the elevator illusion duringsubgravity preceded by negative accelerations / / Aerospace Med.,, vol. 35, p. 121-124.
Rotenberg V.S., Weinberg I., 1999. Human memory, cerebral hemispheres and the limbic system: A new approach// Genetic, Social and General Psychology Monographs. 125: 45-70.
Rotter J.В., 1966. Generalized expectances for internal versus external control of reinforcement / / Psychol. Monogr., vol. 80. N 1, p. 1-28.
Rotter J.В., 1966. Generalized expectances for internal versus external control of reinforcement / / Psychol. Monogr., vol. 80, N 1, p. 1-28.
Sasaki E.H.,\ 965. Effect of transient weightlessness — on binocular depth perception. Aerospace Med., vol. 36, N 4, p. 343-344.
Schachter S., Singer I.E., 1962. Cognitive, social and physiological determinants of emotional state / / Psychol. Rev, vol. 69, p. 379.
Schneider D., 1977. Stress and sleep // Schweiz. Arch. Neurol., Neurochir. und Psychiat., vol. 121, N 1, p. 47-54.
Schregardus D. J., 1977. A study of defensive style and its interaction with perception and experience of stress / / Disc Abstr Intern , vol. 38. N 1-B, p. 400-401.
Schwarz В.М.. 1979. Cognitive response to stress: Experimental study of an in formation processing model of intrusive and repetitive thought // Dies. Abstr. Intern., vol. 39, N 11-B, p. 5585-5586.
Shaler N.S.. 1900. The individual: A study of life and death. N. Y.: Appleton Century Crofts..
ShapiroCM., 1994. ABCofsleep disorders/Bedford. 1993; Principles and Practice of Sleep Medecine. W В Saunders Company.
Solomon Z., Benbenishy R. 1986. The role of proximity, immediacy and expectancy in frontline treatment of combat stress reaction among Israelis in the Lebanon War / / Amer. J. Psychiat., V. 143, № 5, p. 613-617.
Solomon Z., Mikulincer M., Blech A., 1988. Characteristic Expressions of Combat-recanted PTSD among Israeli soldiers in the 1982 Lebanon War // Behavioral Med., V. 14, №4, p. 171-178.
SommerR., 1894. Diagnostic der Jeisterkrankheiten fur practiscke Arste und Studirende, Wien, Leipzig.
SpielbergerC.D., Gorsuch R. L., Lushene R.E., 1970. Manual for the state-trait anxiety inventory. Palo Alto (Cal.).
SpiroM.E., 1977. Religious systems as culturally constituted defense mechanisms // Stress and coping. N.Y.: Columbia Univ, press.
StolperJ.H., 1977. Color induced physiological response / / Man-Environ. Syst., vol. 7, N 2, p. 101-108.
SuzukiD.T., 1956. Zen Buddism. N. Y: Acad, press.
Thorn G.W., Jensking W., Laidlaw J.C. et al., 1953. Response of the adrenal cortex to stress in man.— Trans. Assoc. Amer. Physiol., vol. 66.
Tietz W., 1970 School phobia and the fear of death / / Mental Hyg, vol. 54, p. 565-568.
Tobach B., Gianutsos J., TopoffH. B.,etal.,\974. The four horsemen: rasism, sexism, militarism and social darwinism. N. Y: Acad, press.
Tyhust J.S., 1956. Psychological and social aspects of civilian disaster/ / Can. med. Ass. J. V. 76, p. 385-393.
Valentine J.H., Ebert J., OakeyR. et al., 1975. Human crises and the human environment / / Man-Environ. Syst, vol. 5, N 1, p. 23-28.
Wallace A.F. C, 1956. Tornado in Worcester: Au exploratory study of individual and community behavior in an extreme situation. Disaster Study, № 3. Washington. DC, 166 p.
Wassertheil-Smoller S., Applegat W.B., Berge K., Chang C.J., Davis B.R., Grimm R. et al., 1996. For the SHEP Cooperative Research Group. Change in Depression as Precursor of Cardiovascular Events / / Arch. Int. Med, v. 156. p. 553-559
White W ]., 1965. Effects of transient weightlessness on brightness discrimination // Aerospace Med., vol. 36, N 4, p. 327-331.
White W.J., Monty B.A., 1963. Vision an unusual gravitational forces // Hum. Fact., vol. 5, N 3, p. 239-263.
Winner E., 1996. Gifted children: myths and realities. N.Y.: Basic Books
Wundt W., 1908-1911.GrundzugederphysiologiachenPsychologie. 6. Aufl. Leipzig,.
Yerkes В., Dodson J., 1908. The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation / / J. Сотр. Neurol. Psycho!., N 18, p. 459-482.
Zilboorg G., 1943. Fear of death// Psychoanal. Quart., vol. 12. p. 465-475.
Абаев H.B., 1993. Чань-буддизм и культура психической деятельности в средневековом Китае. Новосибирск: Наука.
Авторханов А., 1991. Загадка смерти Сталина //Новый мир. № 5, с. 194-233.
Айрапетящ М.Г., 1982. Экспериментальные неврозы / / Ай-рапетянц М.Г., Вейн А.М. Неврозы в эксперименте и клинике. М.: Медицина, с. 7-123.
Александров ЕЮ., 2005. Интегративная психотерапия посттравматического стрессового расстройства. Новосибирск: Сибпринт.
Александровский Ю.А., 1986. Социально-стрессовые расстройства / / Русский медицинский журнал, т. 3., №11, с. 489-494.
Александровский Ю.А., 1999. К вопросу о механизмах развития невротических расстройств (идеи И.П. Павлова и современность). Лекция для врачей. VI Росс, конгресс «Человек и лекарства». 19-23 апреля. М.
Александровский Ю.А., 2000. Пограничные психические расстройства: руководство для врачей. М.: Медицина
Александровский Ю.А., 2007 Пограничные психические расстройства: Учебное пособие для врачей. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР —Медиа.
Александровский Ю.А., Лобастое О.С., Спивак Л.И., Щукин Б.П., 1991. Психогении в экстремальных условиях. М.: Медицина.
Аллилуева С.И., 1990. Двадцать писем кдругу. М. Ананьев Б.Г., 1961. Теория ощущения. Л.: Изд-во ЛГУ. Андреева Б.В., 1950. Невропат, и психиатр., т. 19. Вып. 6. с. 49-55.
Анохин П.К., 1980. Узловые вопросы теории функциональной системы. М.: Наука.
Аракелов ГГ., 2004. Психофизиология стресса / / Психофизиология. СПб.: Питер, с. 334.
Аракелов Г.Г., Глебов В В., 2005. Вегетативные составляющие стресса и личностные особенности пациентов, страдающих пограничными расстройствами/ / Псих. журн. № 5, с. 35-46.
Дрьес Ф., 1922. Человек перед лицом смерти. М.: Академия-Прогресс.
Аткинсон Р., 1980. Человеческая память и процесс обучения. М.
Ахмедова Х.Б., 2004. Изменение личности при посттравматическом стрессовом расстройстве (по данным обследования мирного населения, переживших военные действия). Автореф. дис. ... докт. психол. наук. М., с. 37-38.
Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е., 2003. Одаренный ребенок за компьютером. М.: Сканрус, с. 58.
Башмаков М.Ю.,Дюкова Г.М., Голубев В.Л., Столярова АЛ., Тушер В. Н., 1995. Панические атаки в цикле сон-бодрствование / / Расстройства сна. СПб, МИА, с. 21-29.
Береговой Г.Т., 1979. Роль человеческого фактора в космических полетах / / Психологические проблемы космических полетов. М.: Наука, с. 17—24.
Береговой Г. Т., Бузников А.А., Васильев О.В. и др., 1972. Визуальные наблюдения Земли и околоземной космической среды с пилотируемых орбитальных станций / / Исследования природной среды с пилотируемых орбитальных станций. Л.: Гидрометеоиздат, с. 7-66.
Бестужев К.И., Березкин ЕЛ., Китаев-Смык Л.А., Клочков A.M., 1961. Исследования в полетах по параболе методов выполнения режимов невесомости на летающей лаборатории ТУ-104А и физиологические исследования в условиях невесомости / / Научный отчет, ведущий исполнитель Китаев-Смык Л.А.
Бехтерева Н.П., 1974. Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека. 2-е изд. Л.: Медицина.
Бинг Г., Брюккер Р., 1963. Мозг и глаз. М.: Медицина.
Биндер Г., 1967. Психопатии, неврозы, психопатические реакции //Клиническая психиатрия. М.: Медицина.
Блейлер Е., 1993. Руководство по психиатрии, Берлин: Врачъ, 1920, Изд-во НПА.
Блонский П.П., 1979. Память и мышление / /Избранные педагогические и психологические сочинения. М., т. 2, с. 149.
Бобнева М.И., 1964. К проблеме надежности: О закономерных и случайных отказах в работе оператора. Л.: Изд-во ЛГУ, с. 12-14.
Боброва Э.С., Китаев-СмыкЛА.. 1984. Управление и самоуправление эмоциональным состоянием в критических ситуациях в системе взаимоотношений руководитель — производственный сельскохозяйственный коллектив: Учебное пособие для Высшей школы управления сельским хозяйством. М.: Изд-во ВШУСХ, с. 52-56.
Богоявленская Д.Б., 2005 Парадоксы современной психологии творчества / / Материалы международного конгресса по креативности и психологии творчества, Пермь. 1-3 июня, 2005. М.: Смысл, с. 50-52.
Бодров В А., 2005. Психологический стресс: Развитие и преодоление. М.: ПЕР-СЭ, с. 308-316.
Бойко НИ., Даревский С.Г.. Завьялов Е. С., Катаев- Смык Л.А.. Макаров Г.С., Марченко С.Г., Сажин СТ., Шилова Н.В., Эль-кснин В. К вопросу об использовании электронно-лучевых трубок в качестве многофункциональных индикаторов / / Инженерная психология в приборостроении. Л., 1965, с. 65-68.
БорбелиА., 1989. Тайна сна. М.: Знание.
Василевский В.Г., Фастовец, ГА., 2005. История вопроса и клинико-психопатологические особенности посттравматического стрессового расстройства у комбатантов / / Посттравматическое стрессовое расстройство. М.: ГНЦССП им Сербского, с. 32-35.
Вейн A.M., 1964. Гиперсомнический синдром. Автореф. дис. ... докт. мед. наук.
Вейн A.M., 1966. Гиперсомнический синдром. М.: Медицина, с. 59.
Вейн A.M., Корабельникова Е.А., 2004. Сновидение: медицинские, психологические, культурологические аспекты. М.: Эйдос-медиа.
Вертгеймер М., 1987. Продуктивное мышление М.: Прогресс.
Вилюнас В.К., 1989. Перспективы развития психологии эмоций / /Тенденции развития психологической науки. М., с. 46-60.
Власов НА., Вейн A.M..Александровский Ю.А., 1983. Регуляция сна. М.: Наука.
Войскунский А.Е. (ред.), 2000. Гуманитарные исследования в Интернете. М.: Можайск-Терра.
Волков А.А. Даревский С.Г..Завьялов ЕС, Китаев-Смык Л.А., Кремнев О.Г., Макаров Г.С, Мельников СТ., Ощепков НА., Тищенко А.Г., Трелина Е Г., Шилова Н.В. Определение оптимальных яркостей световых сигнализаторов рабочих мест с энергетическими и габаритными ограничениями / / Инженерная психология в приборостроении. Л., 1965, с. 62-64.
Володкоеич В. И., 2006. Таинство латентности ПТСР / / Личное сообщение.
Волошин В.М., 2001. Клиническая типология посттравматических стрессовых расстройств и вопросы дифференцированной психофармакотерапии // Психиатрия и психоформакология. т. 3, № 4.
Волошин В.М.. 2005. Посттравматическое стрессовое расстройство: феноменология, клиника, систематика, динамика и современные подходы психофармакологии. М.: Анахарсис.
Вундт 6.,1912. Очерки психологии. М.
Выгодский Л.С, 1965. Психология искусства М.: Искусство.
Гаврилова ТВ., 2005. Зависимость психологических стрессовых реакций от общественной значимости события / / Вопросы психологии экстремальных ситуаций, № 1, с. 62.
ГазанигаМ., 1974. Расщепленный головной мозг / / Восприятие, механизмы и модели. М.: Наука, с. 47—58.
ГакаевД., 16/07/2003. Террористы-смертники — кто они? «Эхо Москвы»: Интервью, 16/07/2003.
Ганзен В.А., Игонин Д.А., 1981. Информационно-временная модель организации памяти человека / / ЛГУ, Сер. Экономика, философия, право, с. 47-55.
ГарбузовВ.И.,Захаров А.И.,Исаев Д.И., 1977 Неврозыудетей и их лечение. Л.: Медицина.
Геодакян В.А., 1966. Два пола. Зачем и почему? Эволюционная роль разделения на два пола с точки зрения кибернетики / / Наука и жизнь, №3, с. 99-105.
Головин СЮ., 2003. Словарь психолога-практика. Минск: Хар-вест, с. 80.
Горбов Ф.Д..Лебедев В.Я., 1975. Психоневрологические аспекты труда операторов. М.: Медицина.
Горбов Ф.Д., Мясников В.И., 1968. Исследования сна человека в условиях длительного вращения / / Физиология вестибулярного анализатора. М.: Наука, с. 141-151.
Горбов Ф.Д..Мясников ВИ., Яздовский В.И., 1963.0 состояниях напряжения и утомления в условиях изоляции от внешних раздражений //ЖВНД, т. 13, вып. 4, с. 585-592.
Горгиладзе Г.И., Брянов И.И., Юганов Е.М., 1990. Космическая болезнь / / Физиологические проблемы невесомости. М.: Медицина.
Грановская P.M., 1974. Восприятие и модели памяти. Л.
Грегори Р.Л., 1970. Глаз и мозг: психология зрительного восприятия. М.: Прогресс.
Гришина Е., 2003. Жажда страха / / Что как потратить, № 24, декабрь, с. 47-51.
ГурьеваВ.А.Гиндикин В.Я.,Макушкин £.В.,2005. Психология и психопатология аффективных расстройств. М.: МБА.
Д'Адамо П., Уитни К., 2002.4 группы крови — 4 пути к здоровью. Минск: Попурри.
Давиденков СИ., 1915. К вопросу об острых психозах военного времени, истерические формы / / Психиатрическая газета, № 2, с 321-325;
Давиденков СИ., 1963. Неврозы. Л.: Медгиз. Даль В., 1994. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Терра.
Де Сент-Экзюпери Антуан Мари Роже (de Saint-Exupery Antoine-Marie-Roger), 2002. Собр. соч.: В 3 т. т. 1. М.: Терра-Книжный клуб.
Дикая Л.Г., Крылова Г.Ю., 2007. Личностные детерминанты становления профессионала в особых и стрессогенных условиях деятельности/ / Субъект и личность в психологии саморегуляции. М
Дильман В.М., 1972. Почему наступает смерть. Л.: Медицина.
Дмитриева Н.В., 1998. Психосинергетика. Новосибирск, НГПУ.
Дмитриева Т.Б., 2006. Не позволяй душе так злиться! / / Труд, № 187(25115), 10 октября 2006, с. 4.
Дмитриева Т.В., Васильевский В.Г., Растовцев Г.А., 2003. Транзиторные психотические состояния у комбатантов, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (судебно-психиатрический аспект) / / Российский психиатрический журнал, №3, с. 38-42.
Довгополюк А.Б., 1997. Психогенные реакции с поведенческими расстройствами у военнослужащих в мирное время и в боевой обстановке. Автореф. дис.... канд. мед. наук. СПб.
Долин А.А., Попов Г.В., 2006 Кемпо-традиции военных искусств. Цит. по: Александров Е.О. Интегративная психотерапия посттравматического стрессового расстройства. Новосибирск: Сибпринт.
ДорфманЛ.Я., 1977. Эмоции в искусстве. М.: Смысл.
Дорфман Л.Я., 1993. Метаиндивидуальный мир: методологические и теоретические проблемы. М.: Смысл.
ДорфманЛ.Я., 1997. Эмоции в искусстве. М.: Смысл.
Дорфман Л.Я., 2002. Дивергентное мышление и дивергентная личность: ресурс креативности / / Личность, креативность, искусство. Пермь: ПГИИК и Пермский соц. ин-т, с. 89-120.
Дорфман Л.Я., 2005. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания к технологии. М.: Смысл, Изд. Центр «Академия», с. 146.
Достоевский Ф.М., 1998. Идиот. М.: Худ. лит.
Егоров Б.В., 1964. Важные эксперименты / / Авиация и космонавтика, № 12, с. 34-38.
Епачинцева Е.М., 2001. Посттравматические стрессовые расстройства комбатантов // Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. Томск.
Журавлев Г.Е., 1971. Исследование и моделирование энтропийной зависимости времени реакции человека // Дис. ... канд. псих, наук. М.
Завьялов В.Ю., 1988. Психологические аспекты формирования алкогольной зависимости. Новосибирск: Наука.
Захарова С.И., 2005. Формирование мотивации к безопасному поведению сотрудников правоохранительных органов / / Вопросы психологии экстремальных ситуаций, № 1.
Зо.шроваС.//.,2006 КвопросуопрофилактикеПТСР//Личное сообщение.
Зейгарник Б.В., 1973. Основы патопсихологии. М.: Изд-во МГУ.
Зеленова М.Е., 2005. Исследования смысло-жизненных ориентации у ветеранов боевых действий в Афганистане / / Боевой стресс: Механизмы стресса в экстремальных условиях. Сб. научных трудов симпозиума, посвященного 75-летию ГНИИИ ВМ. М.: Истоки, с. 91.
Зиновьев ПМ Душевные заболевания в картинах и образах., http. //rwiufc. spb.ru/doc9.pdf...
Зинченко В. П. .Мунипов ВМ., 1995. Эргономика: ориентированное на человека проектирование. М.: Тривола.
Зинченко Ю.П., 2003. Клиническая психология сексуальности человека в контексте культурно-исторического подхода. М.: Проспект.
Иванов Е.А.,Попов В.А..ХачатурьянцЛ.С, 1968. Рабочая деятельность космонавта в невесомости и безопорном пространстве / / Медико-биологические исследования в невесомости. М.: Медицина, с. 410-439.
Исаев А.Б., Котенев И.О., Филиппов ИМ., 1989 Психологические и психиатрические проблемы при катастрофических стихийных бедствиях / / Психические расстройства у пострадавших во время землетрясения в Армении. Александровский Ю.А. (ред.), с. 31-39.
Калмыкова ЕС, Падун М.А., 2002 Качество привязанности как фактор устойчивости к психической травме / / Журн. практ. психологии и психоанализа, № 1.
Каплинский М.З., Шульман Е.Д., 1934. О периодической спячке / / Труды псих. клин. 1-го Мед. инст. Вып. 4, с. 200-232.
Карвасарский БД., 1997. Неврозы: Руководство для врачей. М.: Медицина, 1990.
Кассиль Г.Н., 1978. Внутренняя среда организма. М.: Наука.
Квиткин Ю.П., 1977. Стресс сельскохозяйственной птицы. М.: Сельхозиздат.
Кекелидзе З.И., 2005. Посттравматическое стрессовое расстройство у пострадавших в чрезвычайных ситуациях / / Посттравматическое стрессовое расстройство. М.: ГНЦССП им. В. П. Сербского, с 81-95.
Катаев Смык Л.А., 2007 б. Феномены послестрессовой алекситимии и неопределенного дискомфорта как последствия пребывания в невесомости / / Психологический журнал, т. 28, № 3, с. 115-123.
Китаев-Смык Л.А. Сенсомоторная активность оператора подвижных средств при гравитационном стрессе / / Методология инженерной психологии, психологии труда и управления. М.: Наука, с. 250-268.
Китаев-Смык Л.А., 1963 а. Некоторые сенсорные нарушения у людей в невесомости / / Авиационная и космическая медицина. М. Медицина, с. 246-247.
Китаев-Смык Л.А., 1963 б. Установка тела (позные реакции) животных в условиях невесомости / / Авиационная и космическая медицина. М.: Медицина, с. 247-250.
Китаев-Смык Л.А., 1963 а. Попытка использования фармакологических средств для профилактики психических и вегетативных нарушений, возникающих в невесомости.— Фармакология и токсикология, т. 26, № 4, с. 508.
Китаев-Смык Л.А., 1964. Человеке невесомости (Психол. опыты) //Наука и жизнь, №9, с. 16-21.
Китаев-Смык Л.А., 1967. Зрительные иллюзии у людей в невесомости и при комбинированном действии невесомости, угловых и кориолисовых ускорений / / Проблемы космической биологии. М.: Наука, т. 7, с. 180-186.
Китаев-Смык Л.А., 1968 а. О механизме окулогравической иллюзии / / Вопр. психологии, № 4, с. 54-59.
Китаев-Смык Л.А., 1969. Изменение фотопической и скотопи-ческой чувствительности зрения человека при кратковременном действии невесомости / / Проблемы физиологической оптики, т. 15. Л.: Наука, т. 15, с. 130-133.
Китаев-Смык Л.А., 1974. Влияние кратковременного действия невесомости, линейного и кориолисова ускорений на считывание с многошкального индикатора / / Проблемы инженерной психологии и эргономики: VI Всесоюзн. конф. по инж. психол. и эргономике. Ярославль, с. 153—156.
Китаев-Смык Л.А., 1974. Восприятие иллюзий перспективы на электронных дисплеях и при длительном вращении // Проблемы инженерной психологии и эргономики: VI Всесоюзн. конф. по инж. психол. и эргономике. Ярославль, с. 26-28.
Китаев-Смык Л.А., 1976. Кратковременная память при кинетозе в условиях длительного вращения //Механизмы модуляции памяти. Л: Наука, с. 93-96.
Китаев-Смык Л.А., 1977. Вероятностное прогнозирование и индивидуальные особенности реагирования человека в экстремальных условиях //Вероятностное прогнозирование в деятельности человека. М.: Наука, с. 189-225.
Китаев-СмыкЛА., 1977. Влияние цветового климата на течение кинетоза // Проблемы функционального комфорта: Тез. докл. Всесоюз. конф. по эргономике. М., с. 33-36.
Китаев-Смык Л.А., 1977 б. Вероятностное прогнозирование и индивидуальные особенности реагирования человека в экстремальных условиях. В кн.: Вероятностное прогнозирование в деятельности человека. М.: Наука, с. 189-225.
Китаев-Смык Л А., 1978 а. О некоторых информационных аспектах этиопатогенеза / / Психология и медицина: Материалы к симпоз. М.: Медицина, с. 428-431.
Китаев-Смык Л А., 1978. О соотношении вегетативных и психических проявлений в экстремальных условиях / / Системный анализ вегетативных функций. Вопросы кибернетики. М., вып. 37, с. 68-72.
Китаев-Смык Л А., 19786. О соотношении вегетативных и психических проявлений в экстремальных условиях / / Системный анализ вегетативных функций. Вопросы кибернетики. М., вып. 37, с. 68-72.
Китаев-Смык Л А., 1979. К вопросу об адаптации к невесомости / / Психологические проблемы космических полетов. М.: Наука, с. 135-152.
Китаев-СмыкЛА., 1981. Миг свободного парения / / Знание-сила, №2, с. 19-23.
Китаев-СмыкЛА., 1983. Психология стресса. М.: Наука.
Китаев-Смык Л А., 19956. Побеждающие - побежденные: психолог на чеченской войне/ / Soldier of Fortune (Солдат удачи), №12, с. 10-15.
Китаев-СмыкЛА., 1996. Психологические исследования по обе стороны фронта / /Архетип, №2, с. 2-8.
Китаев-Смык Л А., 1997. Мирное население в начале гражданской войны / / Архетип, № 1, с. 17-21.
Китаев-СмыкЛА., 2000. Нарушение ролей мужчины и женщины (тендерный кризис) в Чечне—военные изменения «этнического гомеостаза»/ / Доклады на 18-м Международном постоянно-действующем семинаре «Гомеостатика живых, природных, технических и социальных систем». 24 июня 2000 г. М.: WOSC, с. 20-21.
Китаев-Смык Л А., 2001. Возвращенцы / / Московский комсомолец. 10 октября 1996 г.
Китаев-СмыкЛА., 2001. Стресс войны. Фронтовые наблюдения врача-психолога, М.: РИК.
Китаев-Смык Л.А., 2003. Чеченские террористки — кто они? // Огонек, № 28, с. 38-39.
Китаев-Смык Л А., 2004. Тендерный кризис после многолетней войны в Чечне / /Мужчина и женщина: Диалог или соперничество, Т. 1., М.: Изд-во ИА РАН, с. 345-362
Китаев-Смык Л А., 2006. Мусульманский «зикр», христианский «богослужебный круг» и солярные хороводы / / Международная научная конференция «Россия — Иран: диалог культур», г. Москва, 27-28 октября 2006 г. М.: ЛЕНАНД, с. 75-80.
Китаев-Смык Л А., 2007 в. Факторы напряженности творческого процесса / / Вопросы психологии, № 3, с. 69-82.
Китаев-Смык Л А., 2007. Конверсионные расстройства детей и женщин в Чечне и Ингушетии: «Эпидемия» индуцированных болезней или массовая истерия? / / Вопросы психологии экстремальных состояний, № 3, с. 2-17.
Китаев-Смык Л А., Боброва Э.С., 1988. Стресс как психологический фактор операторской деятельности / / Психологические факторы операторской деятельности. Ред. Галактионов А. И. и др. М.: Наука, с. 111-125.
Китаев-Смык Л А., Галле P.P., Гаврилова Л.Н. и др., 1972 Динамика симптомокомплекса «укачивания» в процессе адаптации к длительному вращению / / Космическая биология и авиакосмическая медицина: Материалы Всесоюз. конф. Москва, Калуга, т. 2, с. 197-199.
Китаев-Смык Л.А., Галле P.P., Клочков A.M. и др., 1969. Клинико-физиологические исследования при длительном (до трех суток) действии на организм человека ускорений малых величин / / Тр. 3-й конф. по авиац. и косм, медицине. М, т. 1, с. 286-288.
Китаев-Смык Л.А., Захарова А.В., 1981. Микроструктурный анализ стресса при речевой активности во время деятельности в экстремальных условиях / / Науч.-практ. конф. «Психологические аспекты повышения эффективности трудовой и учебно-воспитательной деятельностью (Тез. докл.). Новосибирск: Новосиб. облсовет НТО; Новосиб. отд-ние о-ва психологов СССР, с. 40-42.
Китаев-Смык Л А., Котова Э.С., Устюшин Б.В., 1969. Исследование зрительного анализатора в условиях длительного действия ускорений, возникающих при вращении стенда «Орбита» / / Материалы 3-й конференции по авиационной и космической медицине. Калуга, с. 324-326.
Китаев-Смык Л А., Крок И.С., Ощепков НА., 1974. Исследование читаемости знакосинтезирующих электролюминесцентных индикаторов при кинетозе в условиях медленного вращения / / Проблемы инженерной психологии и эргономики: IV Всесоюз. конф. Ярославль, т. 1,с. 153—156.
Китаев-Смык Л. А., Неумывакин И.П., Пономаренко В. А., 1964. К вопросу о методах оценки психологического состояния летчика при аварийной ситуации в полете / / Проблемы инженерной психологии. Тр. конф. по инж. психол. Л., с. 61-62.
Китаев-Смык Л А., Неумывакин И.П., Пономаренко В.А.. Утямышев Р.И, 1967. Некоторые особенности психофизиологической реакции у летчиков в стрессовых условиях / / Авиакосмическая медицина. Труды секции авиац. и косм, медицины. М.: Моск. физиол. общ. №1, с. 237-238.
Китаев-Смык Л А., ПинегинН.И., 1966. Исследование аккомодационных возможностей зрения при кратковременной невесомости / / Материалы пятого совещ. по физиол. оптике. М.; Л., с. 66-67.
Китаев-СмыкЛА.,ПоповВА.1 ЧурсиновВА., 1983. Особенности исследований операторской деятельности на плавучих стендах / / Психические состояния и эффективность деятельности: Вопросы кибернетики. М.: Изд. АН СССР, НСКП «Кибернетика», с. 82-99.
Китаев-Смык Л А., Хромов Л.Н., 1981. Использование микроструктуры эмоционального стресса для формирования целеполагания. В кн.: IX Всесоюз. симпоз. по кибернетике: Тез. симпоз. Сухуми, 10-15 ноября 1981. М.: Науч. совет по комплекс, пробл. «Кибернетика» при Президиуме АН СССР, т. 3, с. 72-74.
Китаев-Смык Л А., Чурсинов А.В., 1980. Пространственная ориентация человека-оператора при укачивании / / Проблемы инженерной психологии: Материалы Всесоюз. конф. по инж. психологии. Ленинград, октябрь 1979 г. Л., с. 228-230.
Китаев-Смык Л А., Чурсинов А.В., 1980. Пространственная ориентация человека-оператора при укачивании//Проблемы инженерной психологии: Материалы Всесоюз. конф. по инж. психологии. Ленинград, октябрь 1979 г., Л., с. 228-230.
Китаев-Смык Л.Л.,1995 а. Индивидуальные различия боевого стресса у российских солдат и чеченских боевиков во время военного конфликта в Чечне / / Доклады на международной конференции «Общество, стресс, здоровье: стратегии в странах радикальных социально-экономических реформ» (Москва, июнь 1995). М, с. 19-24.
Ковалевский П.И., 1995. Психиатрические эскизы из истории. Т. 1, т. 2. М.: Тера-Терра.
Ковров Г.В.,Вейн A.M.. 2004. Стресс и сон у человека. М.: Нейро-медиа.
Кокубава Р.Н., 2006. Реанимация обожженных / / Личное сообщение.
Колодзин Б., 2003. Как жить после психической травмы / / Проблемы военной психологии. Минск: Харвест.
Колпачев ВВ., 2005. Феномен творчества в контексте современного научного знания / / Материалы международного конгресса по креативности и психологии творчества. Пермь, 1-3 июня. 2005. М.: Смысл, с. 67-70.
Конфуций, 1973. Древняя китайская философия: Собр. текстов. М.: Наука, т. 1.
Конюхов ЕМ., Болоцких М.Е., Китаев-Смык Л.А. и др., 1965 Автор, свид. 187931 (СССР) Устройство для исследования влияния на человека условий длительности вращения и ускорения кориолиса Приоритет от 2 июля 1965 г.
Копанев В.И., Юганов ЕМ., 1972. Клинико-физиологическая характеристика космической формы болезни укачивания / / Космическая медицина: Тез. докл. на IV Всесоюз. конф. Москва; Калуга, т. 2, с. 207-209.
Копанев ВН.,Юганов ЕМ., 1974. Некоторые результаты медико-биологических исследований, выполненных по программе «Джемини» и «Аполлон» / / Невесомость (Медико-биол.исслед.).М.: Медицина, с. 381-428.
Коробельникова Е.А., 1997.Сновидения при невротических расстройствах у детей и подростков. Канд. дис.... мед. наук. М.
КороленкоЦ.П..Дмитриева Н.В. 2000. Социодинамическая психиатрия. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга.
Котова Э.С., Китаев-Смык Л.А., Устюшин Б.В., 1971. Исследование зрительных функций и ретинального кровообращения в условиях действия на организм человека комплексных ускорений / / Косм, биология и косм. Медицина, № 4, с. 42-47.
Кузнецов А.А., 2004. Посттравматическое стрессовое расстройство: вопросы лечения / / Психологическая реабилитация участников боевых действий и лиц, пострадавших в чрезвычайных ситуациях. М.: Гэотар-мед, с. 132-136.
Куприн А.И., 1958. Гранатовый браслет / / Собр. соч.: В 6 т., т. 4.
Лакосина Н.Д., Трунова М.М., 1994. Неврозы, невротические развития личности. М.: Медицина.
Лафи С.Г., 1996. Психологические особенности травматического стресса при ожоговой болезни. Дис.... канд. психол. наук. М.
Леонов А.А., Лебедев В.И., 1971. Психологические особенности деятельности космонавтов. М.: Наука, 1971.
Лесной Н., 2006. После войны. ГЕО, № 2, с. 104-108.
Лисицын Ю.П., Сидоров П.И., 1990. Алкоголизм: медико-социальные аспекты. М.: Медицина.
Литвинцев СВ., 1994. Клинико-организационные проблемы оказания психиатрической помощи военнослужащим в Афганистане: Автореф. дис.... д-ра мед. наук. СПб.
Лишшак К., Эндреци Э., 1967. Нейроэндокринная регуляция адаптивной деятельности. Будапешт: Изд-во Академии наук.
ЛобоваЛ.П., 1937. Роль вестибулярной системы в генезе и структуре зрительных галлюцинаций / / Неврология и психиатрия, т. 6, № 12, с. 50-60.
Ломов Б.Ф., Сурков Е.Н., 1981. Антиципация в структуре деятельности А.: Наука.
Лукомский П.Е. и др., 1953. История болезни И.В. Сталина / / Рос. гос. архив соц.-полит. истории (РГАСПИ), ф. 558, о. 11, д. 1483.
Лурия А. Р., 1975. Внимание и память. М.
Магазанник В. Д., 2007. Мода на «экстрим»// Личное сообщение
Магазанник В.Д., 2007. Человеко-компьютерное взаимодействие. М.: Университетская книга.
Магазанник В.Д., 2006. Комментарии к статье «О смелости» / / Личное сообщение.
Малкина-Пых ИТ., 2005. Экстремальные ситуации: Справочник практического психолога. М.: Эксмо.
Малкина-Пых ИТ., 2006. Психология поведения жертвы: Справочник практического психолога. М.: Эксмо.
Марьин М.И., Касперович ВТ., 2003. Психологическая служба МВД России, ее задачи и результаты деятельности / / Актуальные вопросы совершенствования психологического обеспечения деятельности сотрудников органов внутренних дел. М.: ГУК МВД РФ, с. 7-37.
Машин В.А. Психическая нагрузка, психическое напряжение и функциональное состояние операторов систем управления / / Вопросы психологии. 2007, № 6, с. 86-96.
МаслоуА., 1999. Новые рубежи человеческой природы. М.: Смысл.
Маяковский В., 1955. Облако в штанах. Поли. собр. соч. М.: Худ. лит.,т. I.e. 181. 171-196.
Маяковский В., 1958. Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви. Поли. собр. соч. М.: Худ. лит. т. 9, с. 383
Медведев В.И., 1979. Психологические реакции человека в экстремальных условиях / / Экологическая физиология человека. Адаптация человека к экстремальным условиям среды. М.: Наука, с. 625-672.
Международная классификация болезней (10-й пересмотр), 1994. Классификация психических и поведенческих расстройств. Клинические описания и указания по диагностике. СПб.: Адис.
Менделевич В.Д., 2005. Клиническая и медицинская психология. М.: МЕДпресс-информ.
Меркулов И.И.,Жаботинский И.В., 1963. Функциональное состояние зрительно-нервного анализатора при поражении ретикулярной формации //Вопр. нейроофтальмологии, т. 11 /12, с. 81-94.
Мерлин B.C., 1986. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М.: Педагогика.
Моисеев Н.Н., 1987. Алгоритмы развития. М.: Наука.
МонтеньМ. Опыты. Кн. 2. М.: Тера, 1991.
Мэй P., 2001. Смысл тревоги. М.: Класс. /
Мясищев В.И., 1960. Личность и неврозы Л.: ЛГУ, с. 24 V. Мясников В.И., 1967. Изучение особенностей в условиях, моделирующих космический полет / / Косм, биология и медицина, т. 1, № 2, с. 59-63.
Нагорная В.А., 2005. Когнитивная модель сознания в творческом мышлении человека / /Международный конгресс по креативности и психологии искусства, Пермь 1-3 июня 2005. М: Смысл, с. 71-72.
Недоступ А.В., 2003. Заключение о причинах смерти И.В. Сталина/ /Каталог выставки «1953: Между прошлым и будущим». М.: Белый город
Некрасов Н.А., 1886. Так служба! сам ты на войне... // Поли, собр. стихотв.: В 2 т. Т. 2. Приложение. СПб: Тип. Глазунова, с. 46-47.
Никитин Б.П., 1991. Система совокупного опыта индивида как объект исследования психологии познания / / Системные исследования: Ежегодник. М., с. 251-262.
Новик Н.П., 2003. Воспоминания сотрудника Управления охраны, генерал-майора в отставке Новика Н.П. / / Коллекция воспоминаний Федеральной службы охраны РФ. Цит. по: Фурсенко А.А., Афеани В.Ю., 2003. 1953. Между прошлым и будущим //Каталог выставки, М.: Белый берег, с. 19.
Норман Д., 1985. Память и научение. М.
Носенко Э.Л., 1981. Эмоциональное состояние и речь. Киев.
Носенко Э.Л., Егорова С.Н., 1997. Память и эмоциональное состояние. Днепропетровск: ДГУ. с. 96.
Обухов С.Г., 2007. Психиатрия. Александровский Ю.А. (ред.). М.: ГЭОТАР - Медиа, с. 251-253.
Овсянико-Куликовский Д.Н., 1914. Собр. соч. т. IV. СПб., с. 24-26.
Оганов Р.Г., Погосова Г.В., Шальнова С.А., Деев А.Д., 2005. Депрессивные расстройства в общемедицинской практике поданным исследования КОМПАС: взгляд кардиолога / / Кардиология, т. 45, № 8, с. 37-43.
Павлов И.П., 2001. Рефлекс свободы. СПб.: Питер.
Павлов И.П.,1932. Проба физиологического понимания симптоматологии истерии. Л.
Пенфильд В., Джаспер Г., 1958. Эпилепсия и функциональная анатомия головного мозга человека. М.:Медицина.
Петренко В.Ф., 1991. Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм репрезентации в обыденном сознании. М., 1986.
Петров Ю.П., 1969. Влияние факторов космического полета на зрительные функции // Физиология зрения в нормальных и экстремальных условиях. Л.: Медицина, с. 124-127.
Петровская И., 2005. Плоды оглупления//Известия, № 166, 16.09.2005, с. 7.
Печерникова Т.П., Шостакович Б, 2005. Синдром травмы изнасилования — частный вариант ПТСР / /Посттравматическое стрессовое расстройство. М.: ГНЦССП им. В.П. Сербского, с. 110-119.
Положий Б.С., 2005. Психотерапия в комплексном лечении ПТСР / /Посттравматическое стрессовое расстройство. М. ТНЦССП им. В.П. Сербского.
Пономарев Я.А., 1986. Психология творчества. М.: Наука.
Пономаренко В.А., 2006. Психология человеческого фактора в опасной профессии. Красноярск: НИИЦ авиац., косм, медицины и эргономики.
Пономаренко В.А., Ушаков И.В., Усов ВМ., 1999. Психологические аспекты проблемы «трудных» состояний человека применительно к современным управленческим профессиям//Прикладная психология, № 5, с. 43.
Портнов А.А., 2004. Общая психопатология. М.: Медицина.
Портнова А.А., 2005. Особенности клинических проявлений ПТСР у детей / /Посттравматическое стрессовое расстройство. М.: ГНЦССП им. В. П. Сербского, с. 144-162.
Посетители кремлевского кабинета И.В. Сталина, 1977 / / Ист. архив, № 1.
Посттравматическое стрессовое расстройство. Предисловие, 2005. М.: ГНЦССП им. В.П. Сербского, с. 3-4.
Присняков В. Ф., Приснякова Л.М., 1990. Математическое моделирование переработки информации оператором человеко-машинных систем. М.
Психозы и психоневрозы войны. М.; Л., 1934. Пушкин А.С, 1970. Воспоминание //А.С. Пушкин. Избр. произв.: В 2 т. М.: Худ. лит., т. 1, с. 145.
Пушкин А.С, 1970. Избр. произв.: В 2 т.
Пэрна Н.Я., 1925. Ритм жизни и творчества. Л.; М.: Изд-во «Петроград».
Радченко Н.А., 2007. Информационные механизмы мозга: ассоциативная память, квазиголографические свойства, ЭЭГ-активность, сон. СПб: Геликон-Плюс.
Решетников ММ., 2004. Наброски к психологическому портрету террориста / /Психология и психопатология терроризма: Гуманитарные стратегии антитеррора. СПб.:ВЕИП, с. 341-343.
Решетников ММ., 2006. Психическая травма. СПб.: ВЕИП
Риман Ф., 1998. Основные формы страха: Исследования вЬбласти глубинной психологии. М.: Алетейя.
РоллоМей. Смысл тревоги. М.: Класс, с. 98.
Романовский В.А., 2005. Невротические заболевания/ / Лекция на факультете повышения квалификации врачей-психиатров Московской области 13 октября 2005 г. (стенограмма).
Ромасенко В.А., 1967. Гипертоксическая шизофрения. М: Медицина.
Ротенберг B.C., 1982. Адаптивная функция сна: Причины и проявления ее нарушений. М.: Наука.
Ротенберг B.C., 2006. Межполушарная асимметрия мозга, ее функция и онтогенез. Тель-Авив, с. 167.
Ротенберг B.C., Аршавский В.В., 1984. Поисковая активность и адаптация. М.: Наука.
Румянцева Г.М., Степанова А.Л., Чинкина О.В., 2005 Посттравматическое стрессовое расстройство у участников ликвидации аварии на ЧАЭС //Посттравматическое стрессовое расстройство. М.: ГНЦССП им. В. П. Сербского, с. 96-109.
Русаков А.В. и др., 1953. Акт патолого-анатомического исследования тела Иосифа Виссарионовича Сталина / / Рос. гос. архив соц.-полит. истории (РГАСПИ), ф. 558, о. 11, д. 1486.
Русалова Н.М., 1979. Эмоциональные реакции. М.: Медицина.
Салливан Г.С., 1999. Интерперсональная терапия в психиатрии. М.:КСП+; СПб.:Ювента.
СантамарияД.А.,МартиноВ.,КлемонсЭ.К.,2005 Стратегияи тактика морской пехоты США в бизнесе: как использовать философию маневренных боевых действий для управления успешной организацией. М.: HIPPO, с. 60.
Свядощ A.M., 1997. Неврозы: руководство для врачей. СПб.: Питер.
Севастьянов В.И., 1979. Проявление некоторых психофизиологических особенностей человека в условиях космического полета / / Психологические проблемы космических полетов. М.: Наука, с. 29-38.
Селье Г., 1966. На уровне целого организма. М.:Наука.
Селье Г., 1979. Стресс без дистресса. М.: Прогресс.
СемичовС.Б., 1987. Предболезненные психические расстройства. М.: Медицина.
Семке В.Я., 1988. Истерические состояния. М: Медицина.
Сенявская Е.С., 1999. Психология войн в XX веке: исторический опыт России. М.: Российская политическая энциклопедия, с. 59-66.
Симонов П.В.. 1975. Высшая нервная деятельность человека: Мотивационно-эмоциональные аспекты. М.: Наука.
Симонов П.В., 1981. Эмоциональный мозг. М.: Наука.
Сколярова НА., 1979 Эндокринные синдромы при шизофрении в свете патологоанатомических исследований//Журн. невропат, и психиатр., т. 78, вып. 1, с. 86-91.
Смулевич А.Б., 2003. Депрессии при соматических и психических заболеваниях. М.: Медицина.
Смулевич А.Б., 2006. Маркеры латентного периода ПТСР// Личное сообщение.
СнедковЕ.В., 1997 Боевая и психическая травма. Автореф. дис.... д-ра мед. наук. СПб.
Современная теория сновидений, 1998. М.: ACT Рефл-бук
Сон — окно в мир бодрствования, 2003/ / Российская школа-конференция. М.
Спивак Д.Л., 1989. Язык при измененных состояниях сознания. Л.
Спильбергер Ч.Д., 1983 Концептуальные и методологические проблемы исследования тревоги / / Стресс и тревога в спорте: Международный сборник. М.: Физкультура и спорт, с. 12-23; 535;
Станиславский К.С., 1985. Работа актера над собой. М.: Искусство.
Стенько ЮМ., 1978. Новые режимы труда и отдыха рыбаков в Северо-Западной Атлантике. Рига: Звайгзне.
Стенько ЮМ., 1981. Психогигиена моряка. Л.: Медицина.
Суворов А.В., 1980. Наука побеждать. М.: Воениздат.
Судаков К.В., 1981. Системные механизмы эмоционального стресса. М.: Медицина.
Судаков К.В., 1998. Индивидуальная устойчивость к эмоциональному стрессу. М.: НИИ норм, физиол. им. П.К. Анохина, с. 82.
Тарабрина М.В., 2001. Практикум по психологии посттравматического стресса. СПб.: Питер.
Тарабрина Н.В., 2007. Теоретико-эмпирические исследования посттравматического стресса// Психологический журнал, т. 28, №4, с. 5-14.
Тарабрина Н.В., Лазебная Е.О., Зеленова М.Е., 1994,. Психологические особенности посттравматических стрессовых состояний у ликвидаторов последствий аварий на ЧАЭС/ / Психологический журнал, № 5, с. 67-77.
Терещенко А.Г., 2006. Системно-синергетический подход к проблеме социальной адаптации личности/ / Психопедагогика в правоохранительных органах, № 1 (25), с. 123-125.
Тиганов А.С, 1960. О фебрильной шизофрении // Журн. невропат, и психиатр., т. 60, вып. 4, с. 641-648.
Тиганов А.С, 1982. Фебрильная шизофрения. М.: Медицина.
Тимофеев Н.Н., 2005. Гипобиоз и криобиоз. Прошлое, настоящее, будущее. М.: Феникс.
Ткаченко В.Д., 1980. Психология в практике рыболовного промысла / / Психол. журн., т. 1, № 5, с. 140-145.
Третьяков А.Ф. и др., 1953. О болезни, смерти, увековечивании памяти Сталина И.В. / / Акт патолого-анатомического исследования тела Иосифа Виссарионовича Сталина / / Рос. гос. архив соц.-полит, истории (РГАСПИ), ф. 558, о. 11, д. 1486.
Тхостов А.Ш., Зинченко Ю.П., 2001. Патопсихологические аспекты посттравматического стрессового расстройства / / Информационно-аналитический бюллетень «Психологи о мигрантах и миграции в России», № 3, с. 10-18.
Ушаков И.Б., Бубеев Ю.А., 2005. Боевой стресс: Психофизиологические маркеры устойчивости/ / Сб. научных трудов симпозиума, посвященного 75-летию ГНИИИ ВМ. М.: Истоки, с. 12.
Файвишевский В.А., 1978. О существовании неосознаваемых негативных мотиваций и их проявление в поведении человека / / Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Тбилиси: Мецниереба, с. 433-445.
Фасмер М., 1996. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М.: Терра, т. 3.
Фасмер М.,\ 996. Этимологический словарь русского языка. СПб.: Азбука, Терра, т. 4, с. 264.
Фейгенберг ИМ., 1972. Мозг. Психика. Здоровье. М.: Наука.
Фейгенберг ИМ., 1973. Нарушения вероятностного прогнозирования при шизофрении / / Шизофрения и вероятностный прогноз. М.: Медицина, с. 5-19.
Флоренский П., 1972. Иконостас// Богословские труды. М., т. 9. с. 83-148.
Фрейд 3., 1923. Основные психологические теории в психоанализе. М.
Фрейд 3., 1990. Психология бессознательного. М.: Просвещение.
Фрейд 3., 1990. Введение в психоанализ. Лекции. М: Наука.
Фрейд 3., 1990. Ошибочные действия// Введение в психоанализ: Лекции. М.: Наука, с. 5-48.
Фрейд 3., 1992. Почему война? Письмо Альберту Эйнштейну// Психоанализ, религия, культура. М.: Ренессанс, с. 264.
Фрейд 3., 2005. Исследования истерии// Фрейд 3. Собр. соч., т. 1.СПб.:ВЕИП,с.20.
Фромм Э., 1992. Человек для себя. Минск: Коллегиум.
Фронтин С.Ю., 2003. Стратегемы: военные хитрости. М.: Белые а львы.
Фудин Н.А.Альбер ВО.. Тараканов О П., 1998. Оценка функционального состояния человека в реальных условиях производства с позиции теории функциональных систем / / Научно-техническая революция: человек - машина. М.: ММА им ИМ. Сеченова, с. 83.
фурсенко А.А., Айтеани В.Ю., 2003. 1953. Между прошлым и будущим/ /Каталог выставки, М.: Белый берег.
Хананашвилли М.М., 1978. Информационные неврозы. Л.: Медицина.
Харитонов АН., Тимченко Г.Н. ,2002. Психологическая помощь семьям профессиональных военнослужащих. М.: ВУ.
Хелл Д., 1999. Ландшафт депрессии. М.: Алетейя;
Хрунов Е.В.,ХачатурьянцЛ.С, Попов В.А,Иванов Е.А., 1974. Человек-оператор в космическом полете. М.: Машиностроение.
ЦибинА.Н., 2006. Зарево прозрения / / Личное сообщение.
Цыганков БД., 1990. Ургентная психиатрия. Фебрильная шизофрения / / Лекция на факультете повышения квалификации врачей-психиатров Московской обл. 27-02-1990. Стенограмма.
Цыганков БД., Григорьев М.Э.,2000. Клинико-психологические особенности формирования психических нарушений у ветеранов локальных войн (на примере чеченского вооруженного конфликта 1994-1996 гг.) // Психологическая реабилитация участников боевых действий и лиц, пострадавших в чрезвычайных ситуациях. М.: ГЭОТАР - МЕД с. 195-207.
Черепанова ЕМ., 1996. Психологический стресс: помоги себе и ребенку. М: ИЦ Академия.
Човдырова Г.С., 2000. Проблемы стресса, психической дезадаптации и повышения стрессоустойчивости личности в условиях социальной изоляции / / Тюремная библиотека, вып. 4.
Чуркин А.А., 2005. Распространенность посттравматических стрессовых расстройств / / Посттравматическое стрессовое расстройство. М.: ГНЦССП им. В.П. Сербского, с. 20-31.
Шанский Н.М., Боброва Т.А., 1994. Этимологический словарь русского языка. М.: Прозерпина.
Шапиро Б.И., 1965. Оптико-вегетативные связи межуточного мозга. М.; Л,: Наука.
Шилова Л.А., 2003. Опыт организации работы с личным составом, принимающим участие в проведении контртеррористической операции/ /Актуальные вопросы совершенствования психологического обеспечения деятельности сотрудников органов внутренних дел. М.: ГУК МВД РФ, с. 119-127.
ШмарьянА.С, 1940. Психопатологический синдром при поражении височных долей мозга. М.
Шмелев А.Г., 1978. Сопоставление двух моделей семантической памяти М.: Вестн. МГУ, сер. Психол, № 2, с. 37-46.
Шостакович Б.В., 2005. Основы судебной психиатрии. М.: Изд. ГУ ВШЭ.
Шостакович Б.В., Ушакова ИМ., Потапов С А., 1994.Половые преступления против детей и подростков Ростов-н/ Д: Феникс.
Шулер Д., 1965. Если бы Моцарт вел дневник... Изд. 3-е. Будапешт.
Щербатых Ю., 2002. Психология страха: популярная энциклопедия. М.: Эксмо-Пресс.
Энгвер Н.Н., 1991. Заложники неправедной войны//Радикал, № 3,24 января, с. 4.
Юдин Т.И., 1939. Смертельные формы шизофрении// Сов. психоневрол., № 4-5, с. 2-23
Юнг К., 1995. Психологические типы СПб.: Ювента
ЮнгК., 1999,с. 8. Предисловие//Нойман Э. Глубинная психология, новая этика. СПб.: Академический Проект, с. 3—15.
ГЛАВА 5
ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ СИНДРОМ СТРЕССА. ОБЩЕНИЕ ПРИ СТРЕССЕ
Индивидуальное сознание и телесная целостность человека могут создавать у него иллюзорное представление о своей полной социальной обособленности и независимости. Человек может упускать из виду, что «он, в своем индивидуальнейшем бытии, является вместе с тем общественным существом» [Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 116]. Есть множество примеров того, что, оказавшись в абсолютном одиночестве, надолго лишенным общения с другими людьми, человек интеллектуально деградирует, лишается речи и если выживает, то у него начинают преобладать атавистические, животные формы поведения. Об этом свидетельствует, в частности, история пирата Александра Селькирка — реального прототипа литературного героя — Робинзона Крузо. Селькирк был высажен за проступок на необитаемый остров. Через четыре года, приехав за ним, обнаружили, что он утратил речь и многие человеческие навыки, однако, принятый в компанию флибустьеров, он не только обрел способность говорить, но и стал капитаном корабля [Балод А., 2005-2007]. Изоляция не только от людей, но и от мира с ограничением пространства обитания противоестественна и мучительна для человека и издавна используется как наказание — одиночным тюремным заключением.
Комбинация индивидуальных различий людей — один из факторов, обеспечивающих сохранение и развитие жизнеспособности человеческой популяции, социума. Напряжение душевных сил людей, неизбежное при мобилизации их индивидуальных способностей в процессе взаимодействия может требовать и положительных и отрицательных эмоциональных переживаний. Эмоции общения оказываются ведущим фактором эмоционального стресса. Эмоциональный стресс при общении, т. е. психосоциальный субсиндром стресса, всегда привлекал внимание исследователей, руководителей, военачальников и всех людей, неравнодушных друг к другу.
Со времени издания монографии «Психология стресса» [Китаев-Смык Л.А., 1983] (ее фрагменты воспроизводятся в данной главе) опубликованы тысячи журнальных публикаций и сотни монографий и диссертаций, посвященных социально-психологическим (психосоциальным) проблемам, возникающим в экстремальных условиях существования людей. Невозможно обобщить их без потерь многих специфических достоинств.
В данной главе изложены результаты исследований психосоциального (социально-психологического) субсиндрома стресса, выполненные автором этой монографии. Описаны общие закономерности общения людей при стрессе, установленные мной на основании многолетних исследований жизнедеятельности в экстремальных условиях; приведены результаты исследований влияния пространственных (проксимических) факторов при совместном проживании людей, находившихся в стрессогенной обстановке; рассмотрен синдром «выгорания» персонала («выгорания личности»), своеобразный стресс из-за чрезмерного, вынужденного общения; проанализированы суждения о посттравматическом стрессовом синдроме; представлены исследования взаимоотношения людей (мирных жителей и военных) на чеченской войне; обращено внимание на синдромы «свободы» и «несвободы» и условия возникновения социальных революций.
Я заменил название этой главы — «социально-психологический субсиндром стресса» на «психосоциальный», т. к. выражение «социально-психологический» подразумевает приоритетным описание психологических особенностей, функций, процессов, на которые влияют социальные факторы, т. е. приоритетность свойств личности, включенной в социальные процессы. Однако в данной главе мы в основном рассматриваем особенности человеческих сообществ, групп, масс с учетом психологических изменений у людей из-за стресса.
В завершение главы помещен обзор научной литературы по данной тематике, опубликованный в моей книге «Психология стресса» в 1983 г. Он интересен как свидетельство научных взглядов, имевшихся во время ее выхода в свет.
5.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ (ОБЩИЕ) ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Отличительной чертой общения при остром стрессе является эмоциональность, которая может резко усиливать или, напротив, подавлять активность взаимодействия людей, делать его приятным, желанным или мучительным, невыносимым. Гармонично красивыми или безобразно непривлекательными могут оказаться люди, общающиеся при стрессе. Стресс может пробуждать в людях гуманное отношение друг к другу или бесчеловечность. Изменения общения при стрессе проистекают из сложнейшей интеграции влияния стрессогенных факторов и различных психических функций, таких как мышление, воля, эмоции. Эти изменения обусловливаются индивидуальными, личностными особенностями общающихся людей, а также социокультурными, национальными, этническими нормами, принятыми в обществе, к которому принадлежат общающиеся люди. Важно то, что «прочность», неформальность этих норм, глубина проникновения их в структуру личности человека при стрессе проходят испытание. Действие этих норм в экстремальных условиях и их организующее влияние на общение более эффективны, если они выработаны с учетом не только «нормальных», но и экстремальных условий существования людей.
Обшение при хроническом стрессе подчиняется ряду социокультурных, политических, национально-этнических факторов. Оно сопряжено с характерологическими и личностными особенностями общающихся. Но в ходе общения при длительном стрессе обнаруживается ряд адаптационно-защитных закономерностей, общих для многих людей и для разных стрессогенных ситуаций. Именно поэтому изменения общения в чрезвычайных ситуациях можно отнести к проявлениям собственно стресса, т. е. выделить как субсиндром стресса.
Ниже мы рассмотрим общие закономерности изменения общения в ходе развития стресса, в том числе при длительной добровольной и, вместе с тем престижной групповой изоляции. Последняя позволяет получить упрощенную и в то же время реальную модель стресса. Затем попытаемся кратко проанализировать увеличение интенсивности стресса, возможное лишь при принудительном заточении узников в тюрьмы и концлагеря.
Стрессовые изменения общения опосредованы взаимовлиянием внешней среды (физической, социальной и др.) и факторов внутренней среды индивида (психологических, физиологических, биологических и т. п.). Бесконечное многообразие таких влияний на общение придает каждому конкретному случаю неповторимые черты. Экстремальная ситуация создает адаптационную направленность, являясь катализатором, ускоряющим развитие взаимоотношений общающихся людей.
В 60-70-х гг. прошлого века в связи с подготовкой космических экспедиций, предусматривающих длительную изоляцию экипажа, возрос интерес к проблеме межличностного общения в экстремальных условиях. Это совпало с активизацией социологических исследований внутригруппового взаимодействия как фактора, существенным образом влияющего на эффективность деятельности рабочих, спортивных групп. Анализируя экспериментальный материал, полученный как в лабораторных сурдокамерных экспериментах, так и в полевых условиях во время групповых глубоководных погружений, в ходе экспедиции в полярных условиях, в плавании на папирусной лодке «Ра» через Атлантический океан, М.А. Новиков выделил три основные, обязательные, по его мнению, стадии развития общения при групповой изоляции: ознакомления, дискуссий и ролевых ориентации [Новиков М.А., 1981].
Его результаты зависели от специфики условий, в которых проходили исследования. Главная их особенность в том, что участники этих экспериментов добровольно, более того, с большим желанием стремились к тому, чтобы оказаться включенными в эти испытания. Вторая особенность — то, что в ходе экспериментов испытуемые занимались не своей обыденной деятельностью. Напротив, их жизнь протекала в условиях в определенном смысле экзотических и высоко престижных. Третья особенность — состав групп не был случайным. Он подбирался организаторами таких экспериментов.
Все это придавало определенную «искусственность» структуре общения и ее динамике в ходе длительной стрессогенной изоляции людей, налагая ограничения на проявления межличностного взаимодействия при стрессе. Надо полагать, главное из них — это ограниченность числа и выраженности проявлений общения с эмоционально- и социально-негативной окраской. Второе — это отсутствие целого ряда его стадий, фаз в динамике изменений общения, которые проявились бы в условиях изоляции принудительной, неожиданной, с затруднениями в удовлетворении физиологических потребностей и т. п.
На основании обобщения наших собственных исследований общения при групповой изоляции в условиях многосуточного вращения в квартире-центрифуге (имитаторе межпланетного корабля), во время экспедиций в труднодоступных ненаселенных местностях (тайга, высокогорье и т. п.), в ходе опроса и обследования участников многомесячных рейсов на рыбопромысловой базе «Восток», а также на основании анализа литературных данных, касающихся указанной проблемы, мной предложена [Китаев-Смык Л.А., 1983, с. 280—296] схема развития общения при стрессе. В данной монографии эта схема дополнена с учетом результатов исследований в зоне боев в Чечне и в местах принудительного заключения [Китаев-Смык Л.А., 2001, с. 20].
1.1. Общение при начавшемся умеренном стрессе
А. «Ориентировочное замирание» людей, внезапно оказавшихся в экстремальной ситуации. Первой стадией стрессогенного изменения общения, часто ускользающей
т внимания исследователей стресса из-за ее, казалось бы, обыденности, можно считать «ориентировочное замирание» людей, внезапно попавших в экстремальную ситуацию. Человек, оказавшись в стрессовой обстановке, как бы замирает, затаивается, присматриваясь к окружающим людям, оценивая их и перспективу своих контактов с ними. Эта стадия общения при стрессе может длиться от нескольких секунд, минут до нескольких часов. Она возникает и в незнакомых экстремальных условиях, и в том случае, когда человек бывал в таких условиях раньше; и когда стрессогенный фактор подействовал на человека в присутствии незнакомых ему людей, и когда вокруг хорошо знакомые люди. Для этой стадии характерно снижение активности общения. Словесное общение может полностью прекратиться, тем не менее «замерший» человек полностью не исключается из общения, т. к. продолжает следить за окружающими людьми. Некоторая заторможенность людей в этой стадии может замедлять процесс их знакомства, их совместную деятельность и их «дискуссии». Состояния тревожности, настороженности, любопытства, смущения, гнева и т. п., определяющие эмоциональную окраску общения в этой стадии, могут периодически возвращаться (ремиссировать) на протяжении нескольких первых дней и даже недель в ходе общения при развивающемся стрессе.
С первых секунд стрессогенной ситуации человек как бы впитывает информацию о новизне социального окружения или о том, как повлияли на прежнее социальное окружение экстремальные факторы. Первое, что определяется человеком, часто не вполне осознанно,— это не стало ли опасным его социальное окружение и не требует ли с его стороны мгновенных защитных действий. Второе — получение информации о перспективах развития общения в сложившихся стрессогенных условиях. Оценки, решения, психологические установки, сделанные в этой стадии общения, у одних людей забываются, даже если эти решения были верны и продуктивны; у других, напротив, могут быть стойкими и долго влиять на характер общения, будучи и верными, и ошибочными: «Он мне сразу не понравился» или «любовь с первого взгляда» и т. д. Подчас требуется много столкновений с действительностью, чтобы исправить неверную психологическую установку на партнера по общению, сложившуюся в первой стадии общения.
озданию таких неверных установок способствуют внешние признаки партнеров: непривычный облик может вызвать неприятные чувства; партнер кажется похожим на ранее встречавшегося че ловека, это влияет на отношение к новому знакомому; смущение, скрываемое партнером, бывает ошибочно принято за его развяз ность, наглость или за угрюмость, злобность. Часто на отношение к незнакомому или малознакомому партнеру по общению влияет сторонняя информация о нем: клевета, похвала и др.
Б. «Личностная экспансия» (первичная) — начало активного общения при стрессе. Вторая стадия развития общения при стрессе характеризуется увеличением его интенсивности или даже возникновением форм активного взаимодействия, несвойственных человеку вне экстремальных условий, т. е. при отсутствии у него симптомов стресса Это развитие общения мной названо стадией «личностной экспансии», подготавливающей установление своего нового ролевого статуса. Интенсификация общения, характерная для этой стадии, направлена на оптимизацию исходной социальной позиции для получения или захвата желаемой (или неосознаваемой) престижной социальной роли, наиболее адекватной новым экстремальным условиям жизни. Как правило, осознанная меркантильность при этом отсутствует. Направленность этой своеобразной экспансии, ее цель, а также частое «самовозрастание» интенсивности общения почти совершенно не осознаются субъектами. Данные опросов и наблюдений подтверждают то, что в этой стадии интенсификация общения собственного и у других людей объясняется «просто радостью, не омраченной прошлыми обидами» (из отчета испытуемого И.), тем, что «с новым человеком приятно поговорить, много нового можно узнать» (из отчета палубного матроса П.), «приятно узнать, что есть общие знакомые, что бывали в одних и тех же морских портах» (из отчета тралмастера Ж.).
Таким образом, у большинства людей собственная эмоциональ ная оживленность в начале общения совершенно не воспринима ется как попытка блеснуть своими знаниями, возможностями, чтобы предстать перед другими людьми в лучшем свете, чем это удавалось данному человеку в прежнем социальном окружении. И все же тот факт, что на данной стадии общения люди «демонстрируют» перед окружающими свои, как им кажется, лучшие качества, чего они не делали раньше, будучи в привычных условиях, говорит больше о «экспансивно-захватническом» характере активизации их общения, чем о «распрямлении» их личностного статуса, «сжатого» прежним социальным окружением.
В этой стадии взаимной личностной экспансии при равенстве эмоционального, интеллектуального и речевого потенциалов бывает бурный обмен информацией. Люди сообщают сведения часто банальные, но кажущиеся им интересными и встречающие внимание со стороны собеседника. При таком информационном «извержении» говорящий, как правило, невольно пытается не только овладеть вниманием слушающего, но и приобрести его уважение. В случае неразговорчивости человека содержанием такого информационного «извержения» у него может стать «показная» успешная деятельность. «Молчун» в этой стадии развития общения в экстремальных условиях склонен заняться деятельностью, демонстрирующей его деловитость и умелость перед взором незнакомого партнера. Подобный импульс к выказыванию положительных знаний, умений возникает и у хорошо знакомых людей, попавших в незнакомые стрессогенные условия. Такое «демонстрирующее общение» протекает, как правило, на фоне положительных эмоциональных переживаний, на фоне эй-форичной дружественности. Однако могут быть и другие формы эффективности общающихся в этой стадии.
В условиях парной изоляции после первого знакомства возникают различные эмоционально-позитивные акции, служащие как бы для пробы партнера «на зуб». Частая форма таких неосознаваемых «проб» — «навязываемое гостеприимство». Человек предлагает партнеру посмотреть на какую-либо свою вещь, книгу, испробовать запасенное лакомство и т. п. Такого рода «одаривание» дополняет речевую «экспансию» в захвате благорасположенности партнера, его уважения, признания им достоинств напарника. Такие взаимные или односторонние акции в начальной стадии общения воспринимаются скорее благосклонно, чем настороженно. Исключения могут быть в случае, если собеседник, на которого обрушено информационное «извержение», отличается неврастеничностью, повышенной утомляемостью, резко отрицательной психической установкой на всю ситуацию, в которой происходит общение, или национально-этническими нормами, отвергающими интенсивный информационный обмен.
При общении в данной стадии — «личностной экспансии», направленной на установление ролевого статуса,— иногда возникает чрезмерно аффективное поведение: ажитированное либо, напротив, скованное, с неловкостью движений и словесных выражений. В последующих стадиях общения уменьшается возможность для такого интенсивного информационного обмена, потому что со временем уменьшается установка на терпимость к партнеру, на солидарность с ним.
В. Первичная стрессовая пассивность общения. Для ряда людей характерно адаптивно-защитное снижение активности общения уже в начале напряженной (опасной) ситуации, в которой оказалась группа. Этой пассивности не предшествуют попытки активно отстаивать свой социальный статус в новой социальной среде, изменившейся из-за экстремальной ситуации. Такая стрессовая первичная пассивность общения может быть слабо выражена или даже мало заметна и может протекать в виде легкой апатичности или отмалчивания и кажущегося спокойствия. Человек, как улитка, уходит в раковину своего публичного одиночества. Ему и окружающим людям не ясно, насколько неприятен ему дискомфорт из-за замыкания в себе или же, напротив, первичная пассивность приятна ему, т. к. ограждает от навязчивости общения других членов группы, да и обязанностей перед ними.
Стрессовая пассивность способствует сохранению адаптационных резервов, но вместе с тем мешает их мобилизации и в конечном итоге расцвету личностных потенциалов.
Первичная пассивность общения переживается нередко как растерянность, застенчивость, субдепрессивность. Охваченные ею люди могут стать слегка оглушенными, либо наблюдать за экстремальным развитием событий и за другими людьми с безучастным вниманием, или даже уходят в свой внутренний мир. Их ответы на обращения к ним становятся формальными, упрощенными. В одних случаях это выхолащивает смысл и продуктивность их деятельности, делает их как бы живыми роботами и мешает выполнению заданий и приказов. В других — стрессовая пассивность общения может восприниматься окружающими людьми как спокойная деловитость.
Такая первичная стрессовая адаптивно-защитная активность свойственна психологически слабым личностям (со слабым типом нервных процессов и высокой перцептивной чувствительностью), неуверенным в себе новичкам в коллективе.
Помимо описанной стрессовой пассивности общения, в экстремальных ситуациях возможно стрессовое уменьшение активности взаимодействия людей из-за значительного ухудшения самочувствия и состояния здоровья членов группы, коллектива. Соматические (телесные) расстройства присоединяются к симптоматике дистресса (апатии, адинамии, снижению умственной и физической активности, чувству дискомфорта и т. п.), еще более снижая мотивацию и способность к общению.
Г. Стрессово-вынужденная помощь членам группы, пострадавшим в экстремальной ситуации. Если условия совместной изоляции сопряжены с действием дополнительных стрессогенных факторов, вызывающих болезненное состояние, сопровождающееся телесным недомоганием или плохим настроением, то в таких условиях часто возникает более тесное общение, связанное с заботой о партнере, с уходом за ним. При этом в значительной мере разрушается, размывается зональное дифференцирование межличностной территории людей. Происходит как бы слияние этих территорий. Мотивация, проистекающая из чувства собственной необходимости, вскрывает дополнительные (новые) адаптационные резервы организма и личности у того, кто помогает. У того, кому помогают, внутренние резервы мобилизуются благодаря чувству собственной нужности дружески настроенному партнеру. Проявление человеком заботы о соседе свидетельствует о своей «ценности» для соседа и о его «ценности» для себя.
Возникающая в такой ситуации вынужденной помощи «вну-триорганизменная» информация у каждого из общающихся об их обоюдной «социальной ценности» оказывает мощный антиди-стрессовый эффект, проявляющийся, в частности, в изменении показателей стресса. Лишение чувства собственной необходимости и мотивации, побуждающей пересиливать свое недомогание, чтобы помочь другому, ухудшает состояние и самочувствие. Взаимопомощь приводит к тому, что личные пространства партнеров перекрываются, и, таким образом, субъекты оказываются менее субъективно стесненными. При этом в сравнительно лучшем положении оказывается заботящийся партнер. Ситуация вынужденной заботы о партнере может способствовать укреплению дружественности общения на долгий срок. Даже когда заботящийся субъект вынужден скрывать (или не скрывает) то, что он тяготится обязанностью оказывать помощь, даже тогда факт помощи, как правило, способствует лучшему взаимопониманию в дальнейшем обоих индивидов.
Д. Стабилизация ролевых статусов у членов неформальных групп, возникших при стрессе. По
окончании стадии личностной «экспансии» (а если была стадия «вынужденной помощи» партнеру, то после ее окончания) ролевые функции общающихся относительно стабилизируются. Это четвертая стадия развития общения при стрессе. Стабилизация ролевого статуса может проходить эмоционально-монотонно и сопровождаться аффективными актами общения как с положительной, так и отрицательной эмоциональной окраской. При этом образуются неформальные группы. В стрессогенных условиях ядро такой группы отличается большей внутренней устойчивостью, сплоченностью, достигающейся через постоянное напряжение внутригруппового противоборства. Чем экстремальнее условия существования, тем труднее людям, склонным оставаться «непримкнувшими», сохранять нейтралитет перед лицом конфронтирующих неформальных групп.
Единению людей в экстремальных ситуациях (не чрезмерных по своей интенсивности) способствуют проявляющаяся при стрессе психологическая установка на терпимость (толерантность) к недостаткам окружающих людей и склонность поддерживать их
Измененное общение может на любой фазе стать более заметным, чем эмоциональные, вегетативные и других признаки дистресса. Иными словами, при стрессе возможно доминирование субсиндрома измененного общения, т. е. социально-психологического субсиндрома стресса. В одних условиях такое стрессовое изменение общения характеризуется увеличением активности, в других — его снижением. В ходе стрессовой активизации общения при разной интенсивности экстремальных факторов могут преобладать компоненты либо межличностного взаимодействия, ненасильственно, мягко консолидирующие группу (социально-позитивные), либо несколько, но не трагически дезорганизующие ее (социально-негативные).
Некоторые не лучшие стрессовые изменения общения (его неадекватная активность или, напротив, симптомы стрессовой пассивности), если они мимолетны и незаметны, почти не препятствуют стрессовой консолидации людей. Умеренная стрессовая гиперактивность (логорея, поиски ярких впечатлений, смена друзей, резонерство, склонность к эпатажу и пр.) или, напротив, стрессовая пассивность, проявляющаяся как растерянность, застенчивость, молчаливость, безучастная внимательность, не слишком нарушают общение.
Е. Неверное начало общения. «Ошибки общения» в стадии первичной личностной «экспансии», направленной на установление социально-ролевого статуса.
1. В этой стадии следует избегать форм общения, базирующихся на психологической установке на якобы отрицательные качества партнеров по общению. Необоснованно плохое отношение может вызвать ответную неприязнь (необоснованную). Такие отношения часто очень трудно исправить в дальнейшем. Отрицательная установка часто усиливается «опорой» субъекта на свое «силовое» подавление окружающих, на психологическую борьбу с ними, вместо того чтобы совместно с ними бороться со стрессом.
2. Следует избегать демонстративного (часто не вполне контролируемого сознанием) «инвертирования» своих положительных качеств.
«Пусть меня грязненьким полюбят, а чистеньким меня полюбит всякий!». Такой показ навыворот своих достоинств не всегда успешно оттеняет истинные достоинства человека. У партнеров может возникнуть ошибочное, но устойчивое отношение к человеку на основании ложной демонстрации им псевдонедостатков. Безудержное «фонтанирование» рассказов, словесных излияний может утомлять и раздражать слушателя, тем более не расположенного к общению с эмоциональными, экзальтированными людьми.
В начале знакомства в экстремальных, стрессогенных условиях некоторые люди склонны к интимным излияниям, невозможным при будничном общении. Чрезвычайная, критическая ситуация как бы отменяет старые, имевшиеся до нее нормы поведения, тогда как новые нормы поведения, адекватные экстремальным условиям, еще не сформированы. У эмоционально-лабильных и недалеких людей как бы снимаются социальные запреты в поведении, в высказываниях. Откровенные заявления, интимные признания при этом могут способствовать возникновению обоюдного доверия, сплоченности. Но при чрезмерности интимных излияний, тем более, когда они не соответствуют этическим правилам собеседника, могут вызвать в последующем обоюдное чувство неудобства, которое окажется питательной средой для скрытой или явной неприязни.
В данной стадии при формировании и распределении социальных ролей возможно ошибочное наделение партнера качествами своего идеала. Естественно, разочарование в дальнейшем может увеличить стрессогенную критичность взаимоотношений.
Не следует демонстрацией своих истинных достоинств разочаровывать партнера в собственных его достоинствах, относительно меньших. Следует быть скромнее! Тем более не следует вольно или невольно обнажать недостатки партнера, скрываемые им: «Не следует наступать на любимую мозоль!». Так, например, демонстративная авторитарность человека и начальственный тон могут свидетельствовать о его неудовлетворенных потребностях в лидировании. Есть или нет у него на то основания (характер, профессиональные знания, жизненный опыт), не следует сразу пресекать его первых попыток, командовать. Экстремальные условия, предъявляя повышенные требования к людям, довольно быстро обнажают их истинную сущность, их возможности. При отсутствии у такого человека способностей лидера он скоро почувствует банкротство своих претензий на командную роль.
Здесь кратко описаны конструктивная, а затем чрезмерная, активизация общения, а также «первичная» его пассивность при небольшом стрессе в условиях, создающих умеренное психосоциальное напряжение в группе, в коллективе. Этот феномен можно рассматривать как проявление социального субсиндрома стресса при стрессовом кризисе первого ранга, если придерживаться концепции о «ступенчатом» возрастании (о ранжировании) стресса
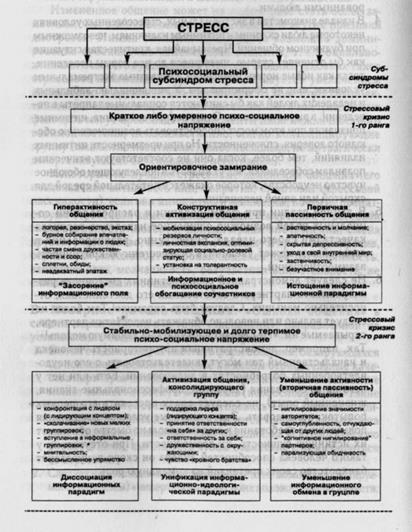
-----------------------
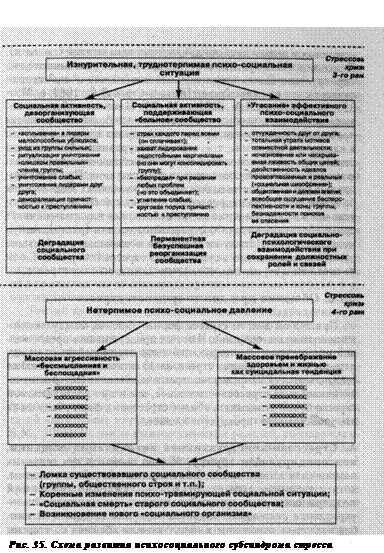 |
ри все больше и больше нарастающей интенсивности воздействия на людей стресс-образующих (стрессогенных) факторов.
Такое ранжирование отчетливее прослеживается при регистрации показателей вегетативных физиологических и эмоционально-поведенческих показателей (см. гл. 2 и 3). Менее ясно оно проявляется в нарастании стрессовых изменений когнитивных и индивидуально-личностных показателей (см. гл. 4). Психосоциальные реалии стресса еще труднее укладываются на «прокрустово ложе» предложенных мной основ общей теории стресса с его ранжированием [Китаев-Смык Л.А., 1983, с. 272-323; Китаев-Смык Л.А., 2001, с. 55-76]. И все же не будем отказываться от того, чтобы усматривать во все более интенсивных проявлениях психосоциального субсиндрома стресса того, что я назвал его «рангами», т. е. ступенями, уровнями. Однако надо отметить, что такие проявления стресса в общении часто оказываются не результатом постепенного их нарастания. При сразу возникших неблагоприятных, опасных экстремальных воздействиях большой силы, при непривычной нетерпимой бесчеловечности условий жизни изменения взаимодействия между людьми могут сразу достигать высокого стрессового уровня (ранга), минуя меньшие ранги. Потому на схеме, где обозначены все большие ранги психосоциального субсиндрома стресса (см. рис. 35), они не соединены стрелками, обозначающими динамику стресса.
5.1.2. Общение при долготерпимом стрессе
При любом долгом стрессе формы общения между людьми изменяются многообразно. И все же придерживаясь предложенной выше схемы, группирующей типы взаимодействия между людьми, переживающими стресс, на: 1) активно-конструктивное (сплачивающее), 2) чрезмерно стрессово-активное (деструктивно-активное) и 3) стрессово-пассивное, мы и при долготерпимом стрессе будем укладывать обилие стрессовых форм общения на это тройственное «прокрустово ложе».
А. Стрессово-конструктивная активизация общения, консолидирующая группу. Можно выделить три основных компонента сплачивания, объединения людей при долгом, хотя и терпимом стрессе. Первый — усиление тенденций поддерживать лидирующий концепт и его носителя. Это — укрепление склонности выделять лидера и следовать за ним, благосклонное отношение к предложениям общения со стороны окружающих. Ведь каждый зачинатель акта общения первоначально принимает на себя роль лидера. При наличии у его партнеров стрессовых социально-позитивных тенденций такое «лидирование» получает дружественный, заинтересованный отклик.
Надо полагать, с проявлением тех же тенденций, проявленных не только как поддержка, но и сохранение лидера, связаны случаи самопожертвования ради спасения жизни другого человека в экстремальных ситуациях: «Заслонить грудью командира!». Такое решение приходит импульсивно, быстро, однозначно, как правило, не оставляя места для сомнений, обусловливает действия, подчас сложные, точные, кажущиеся непроизвольными. Эти действия есть особая стрессогенная форма защитного общения, но направленного на спасение не столько себя самого, как на сохранение носителя неких ценностей, такого как лидер группы как продолжатель рода, как объект привязанности, как носитель возможности повысить социальный престиж спасителя.
Второй основной компонент активизации общения, консолидирующего группу, — усиление у отдельных субъектов склонности принять на себя роль лидера в общении, лидера группы, коллектива, т. е. носителя или генератора лидирующего концепта. Такие тенденции к лидированию при стрессе могут быть адекватными возможностям субъекта, соответствовать требованиям ситуации, но поползновения к лидированию бывают и неадекватны. В таком случае неуместные, неверные, не поддерживаемые окружающими людьми попытки руководить ими, организовывать их в коллектив могут оказывать противоположный эффект, т. е. способствовать дезорганизации и распаду группы.
Третий компонент социально-позитивной направленности общения при стрессе — производный двух первых в случае их продуктивной реализации. Это чувство общности с коллективом, «чувство локтя», дружественности, взаимной симпатии. Оно способствует установлению сплоченности членов группы, их солидарности, а при наличии общей воодушевляющей цели — проявлениям коллективного энтузиазма. В относительно изолированных малых группах возникает своеобразная общность эмоций. Механизмы такой «индукции» изучались еще В.М. Бехтеревым [Бехтерев В.М., 1921]. Из числа физиологических реакций, сопровождающих солидарную успешную деятельность в условиях групповой изоляции, заслуживают внимания факты совпадения колебаний пульса у рядом работающих людей. «Синхронизация пульсовых кривых наблюдается в большей степени при кооперативном типе межличностного взаимодействия партнеров, выполняющих парную словесную пробу, либо в тех случаях конкуренции, когда соперничество ограничивается вербальными реакциями и не влечет за собой негативных поведенческих, постуральных и интонационных реакций» [Новиков М.А., 1981, с. 194]. Но солидарность может базироваться на отрицательных, неприятных, непродуктивных эмоциях. Описан случай, когда в сурдокамерном эксперименте астенизационно-депрессивное состояние охватило всех трех испытуемых потому, что им показалось, что они отравлены угарным газом. При этом у них возникали все субъективные проявления и поведенческие признаки такого «отравления» [там же[.
Позитивные тенденции общения в группе операторов обнаруживаются при стрессе психофизическими методами задолго до того, как какие-либо изменения характера общения становятся заметными при обычном наблюдении [Носуленко В.Н., 1981 ]. Это свидетельствует в пользу того, что, в частности, активизация позитивных форм общения лежит в основе коллективной деятельности людей. Характер общения в группе влияет на эффективность и надежность деятельности людей при стрессе. Экстремальные условия могут у одних усиливать имеющееся «затрудненное» общение, у других при установившемся положительном или нейтральном общении способствовать «нахождению соответствующих характеру и содержанию совместной деятельности приемов и способов оптимизации делового общения, направленных на предупреждение или преодоление трудностей общения» [Цуканова Е.В., 1981, с. 22] в ссыле с. 148-166.
Конструктивная форма общения в группе, оказавшейся в тяжелых, но долготерпимых экстремальных условиях, возможна при наличии лидера, оправдывающего чаяния окружающих его людей. Они сплачиваются, поддерживая его. При этом формируется иерархический «слой» из членов группы, истово подчиняющихся ведущему лидеру и вместе с тем властно и инициативно подчиняющих его приказам тех, кто оказался «ниже» их, с более низким социальным статусом в стрессовой ситуации. От этого «слоя» командиров зависит успешность и целостность социального сообщества при стрессе. Таким людям, властным помощникам свойственно при стрессе принятие «на себя» ответственности за других людей и ответственности «за себя» не только перед лидером, но и перед «нижестоящими». Эти свойства при конструктивно-стрессовом общении охватывают многих членов социального сообщества. В совместных действиях у них проявляется ощущение дружественности с партнерами по работе и вообще со всеми, кто рядом. Рождается и крепнет чувство «кровного братства». Много лет спустя люди, совместно пережившие стресс в опасных условиях, встречаясь, чувствуют свое «побратимство». Бывают и так, что люди, переживающие мучительный (тем более если еще и позорный) стресс, чуждаются воспоминаний и свидетелей былых событий.
Б. Стрессовая гиперактивность общения, дезорганизующая группу. В экстремальных условиях, перенапрягающих или психотравмирующих многих людей активизируется социально-психологическая активность, отличительной особенностью которой становятся агрессивность, враждебность, обидчивость, склочность людей, если они долго совместно находятся в экстремальных условиях существования. Все это ведет к деструкции, распаду коллектива (группы) на мелкие группки (не больше 3—5 человек) и на одиночек-отщепенцев. Требуются большие, специальным образом организованные усилия, чтобы препятствовать развитию таких дезорганизующих группу тенденций. Рассмотрим общую структуру стрессовой социально-психологической активности, с преобладанием негативных компонентов общения.
В нем, как и при консолидирующем группу стрессе, можно видеть три компонента, но реализующихся противоположным образом. Первый — возникновение у людей склонности к конфронтации с лидером, с лидирующим концептом, с его носителями. Это может проявляться в активном непризнании авторитета руководителя; в нежелании подчиняться приказам; в раздражительности, грубости, вспыльчивости по отношению к людям, желающим общаться и взаимодействовать на работе; в нетерпимости к казавшимся раньше несущественными неоптимальным действиям и личностным особенностям партнеров — доминантов общения.
Второй компонент социально-негативных изменений общения при стрессе — возникновение неприязни к психологическим нагрузкам, связанным с ответственностью за других людей или перед другими людьми. Это ведет к уклонению от ответственности за общее дело, за любое дело, не рассматриваемое как личное.
Третий компонент стрессогенной социальной активности, дезорганизующей группу,— это возникновение в экстремальных условиях у ряда индивидов отчуждения от интересов группы, представления о снижении значимости общих целей и желания замкнуться в кругу личных интересов и дел. Разобщенность интересов членов группы, противопоставление индивидуальных желаний общим целям приводят к конфронтации между членами группы, к ее распаду. У людей возникает представление о большей эффективности индивидуальных, а не совместных путей выхода из экстремальной (опасной, травмирующей, губительной) ситуации.
Следует отметить характерную для стрессовой разобщенности людей застойность их собственных негативных социально-психологических установок и снижение критичности к ним. «Забываются» хорошие качества окружающих людей, затрудняется положительная переоценка сиюминутных обид. При таком течении стресса отношение окружающих людей кажется субъекту опасным для него, требующим защитных или «ответных» агрессивных действий.
Анализ общения между членами производственных бригад на рыбопромысловых базах (РПБ) в ходе многомесячных рейсов без заходов в порты показал, что социально-негативные компоненты общения становятся доминирующими во многих бригадах на пятом—седьмом месяцах плавания. Стрессовый эффект длительной групповой изоляции и скученности усугублялся на РПБ напряженным режимом труда (работа по 12 часов в сутки без освобождения от работы в субботние и воскресные дни). Исследования Ю.М. Стенько, В. Д. Ткаченко и др. показали, что при этом резко снижалась производительность труда и возрастала заболеваемость с широким спектром болезней [Стенько Ю.М.. 1978, 1981; Ткаченко В.Д., 1980 и др.].
Наши исследования людей, принимавших участие в таких рейсах, показали, что в подавляющем большинстве случаев неприязненные отношения между людьми, возникшие в ходе рейса, исчезают, как правило, через две недели после прибытия судна в порт приписки, т. е. «домой». Между тем не только сохраняются, но и часто становятся аффективно выраженными положительные, дружественные взаимоотношения, базирующиеся на воспоминаниях о «приятных», «веселых», «интересных» событиях, происходивших в рейсе. Случаи собственного социально-негативного поведения, имевшие место в рейсе, начинают казаться неуместными, достойными сожаления, неадекватными той ситуации, которая была. Взаимные обиды чаще прощаются, забываются по принципу «Кто старое зло помянет, тому глаз вон!».
В коммунистические времена в СССР было популярно выражение (из кинофильма «Волга-Волга»): «Спасайся — кто может! А кто не может?!», состоящее из двух альтернативных слоганов. Второй из них, казалось бы в шутливой форме, опорочивал первый слоган, призывающий к индивидуальному спасению. Второй слоган подводил людей к представлению об успешности только коллективного спасения. Это был в те времена основной принцип не только управления людьми, но и подавления их индивидуальности, их социально-личностных прав. В разных экстремальных (трудных, тяжелых, мучительных) условиях жизни могут оказаться полезными (спасительными) и сплочение и, напротив, развал, распыление группы. Хотя нужно признать, что в силу эволюционной сущности людей как общественных существ (общественных животных) для них оптимальна групповая сплоченность: в семье, в дружбе, в общении, в этнической диаспоре, в нации, вгосударстве и, может быть, в глобальном сообществе.
Указанные выше разные формы активизации общения в своей основе имеют адаптивное значение. Позитивные способствуют консолидации группы, противостоящей экстремальной ситуации.
Социально-негативные направлены, условно говоря, на разрушение экстремальной среды, опосредованное «ломкой» социума (группы). Адаптивная направленность активизации общения может не осознаваться людьми, у которых она возникает.
Отметим сложность противоречивых влияний на формирование межличностного взаимодействия, которое при стрессе «скатывается» к доминированию консолидирующих или деструк-турирующих группу форм общения. Экспериментально показано, что в зависимости от многих причин (корпоративных тенденций, сложившихся взаимоотношений, социальных и личных установок, конечных целей, мотиваций и т.д.) командная установка на сотрудничество при производственном стрессе в ситуации скученности может приводить к соперничеству (и наоборот) [Быстрицкая А.Ф., Новиков М.А., 1966].
Сходные результаты обнаружены при обследовании производственных групп, члены которых иногда отходят от выполнения официально предписанных типов отношений и взаимных связей [Bave-las А., 1960]. Даже в экспериментальной обстановке крайние формы «чистой» кооперации и «чистой» конкуренции тоже встречаются далеко не всегда, часто межличностные отношения обследуемых носят смешанный характер [Kelly Н. Н., Thibaut J. W. et al., 1962]. Таким образом, необходимо считаться с тем, что тип взаимодействия в группе может не соответствовать оптимальному для выполняемой группой того или иного задания (Новиков М. А., 1981].
Заметим, что используемое в социологии выражение «кооперативный характер (тип) общения» во многом совпадает с нашим понятием «консолидирующее группу общение». Противопоставляемый «кооперативному» «конкурентный характер (тип) общения» не соответствует используемому нами выражению «дезорганизующее группу общение», т. к. «конкурентное общение» может способствовать в конечном итоге консолидации группы, когда конкуренция происходит без эмоционального и делового антагонизма участников общения, стремящихся каждый на своем участке работы к завершению общего дела. И напротив, «конкурентные» взаимоотношения могут приводить к дезорганизации группы, коллектива, когда такие взаимоотношения возникают в борьбе за единоначалие и не исключают асоциальных, аморальных приемов конкурентной борьбы, ведущих к распаду группы.
Психолого-социологический анализ поведения населения (москвичей), попавшего в экстремальные ситуации (взрыв дома на ул. Гурьянова в 1999 г.; захват заложников в театральном центре на ул. Мельникова, на Дубровке, 2002), когда пострадали несколько сот людей, привел психологов-исследователей к таким выводам: «По нашим наблюдениям, — сообщил В.Б. Зотов, — в любой экстремальной ситуации прослеживается утрата характерной черты российской ментальности — утрата альтруизма (или взаимопомощи). Фактором, усиливающим сепаратизм и утрату альтруизма, является информационная напряженность. Средства массовой информации часто усиливают эту неопределенность, сея панику среди людей» [Зотов В.Б., 2005, с. 88].
Подмеченное автором этого сообщения отсутствие альтруизма обусловлено тем, что страдавшие люди не были знакомы друг с другом, и первыми их оборонительными реакциями стали: настороженность, автономность, отстранение от всего нового как потенциально опасного. Иначе говоря, это не было «утратой альтруизма», его проявления еще не сформировались. Наши личные наблюдения и исследования в тех же экстремальных ситуациях установили, что благожелательное отношение и взаимопомощь возникали у пострадавших через 0,5- 1,5 ч после начала экстремального события. Следовательно, надо различать стрессовую деструктивную пассивность общения и еще не сложившиеся конструктивные формы альтруизма в затянувшейся критической ситуации.
Мы не вскрываем здесь сложности всех психологических, социально-психологических, психолого-политических, межэтнических и межконфессиональных процессов, лежащих в основе развития социально-позитивных и социально-негативных форм стрессовой активизации общения, хотя это было бы необходимо для детального анализа методологии управления социальной активностью при стрессе.
В. Социально-деструктивная «вторичная» стрессовая пассивность общения. В группе, продолжительно находящейся в экстремальной обстановке, увеличивается число людей, уклоняющихся от общения, от полноценного, адекватного взаимодействия друг с другом. Среди них и те, кто при стрессе отличались «первичной» пассивностью, и те, кто первоначально были стрессово-активными. Такое угнетение активности общения при долгом, но все же терпимом стрессе можно рассматривать как «вторичную пассивность».
Человек при этом становится не только молчаливее, но и замыкается в себе, в своих занятиях, делах или в их имитации, а то и в безделье. Такие люди отчуждаются от остальных членов группы, не сплачиваясь в новые микрогруппы. И даже если они создают их, то эти группки «упорных молчальников» уклоняются от участия в общегрупповых делах.
Возрастающее число стрессово-пассивных членов уменьшает информационный обмен в группе (в социальном сообществе), снижает значимость социально-ценностных факторов (ответственности, традиций, морали, права и др.). Это ухудшает способность группы противостоять экстремальным факторам. И наряду с другими негативными проявлениями изнурительного дистресса ведет к деструкции группы, к ее распаду как «социального организма».
Долгая стрессовая психо-социальная пассивность может казаться свойством стрессово-травмированной личности. Однако попадая в социально-комфортные условия, такой человек как бы оживает, «расцветает как цветок», который вовремя оросили любовью и пониманием. Такому «цветению» может предшествовать период отторжения предлагаемых дружбы и любви. Но добрая их настойчивость в обычных (не стрессогенных) условиях жизни добьется восстановления нормальной активности общения и хорошего общего состояния у человека, раньше подавленного Стрессом. Возможно, понадобятся медицинские и психотерапевтические приемы и процедуры.
Склонность к общению может снижаться при стрессе и при сравнительно удовлетворительном физическом состоянии и самочувствии членов группы. Это бывает при «интериоризации» мыслительной активности индивидов при их самоуглубленности, различные формы которой характерны для хронического стресса. Интенсивность общения снижается при стрессовой самоотчужденности субъекта, когда для него, казалось бы, снижается значимость собственной персоны и отношения к себе окружающих людей. Человек пренебрегает своим внешним видом, мнением о себе других людей, гигиеной своего тела, регулярным питанием и т. д. Некоторыми исследователями подобное самоотчуждение интерпретируется как форма протеста против стрессогенного социального давления, не всегда полностью осознаваемая субъектом. Такое снижение активности общения при стрессе возможно при сохранности индивидуальной активности поведения, обособившегося субъекта.
«Стресс жизии» с постоянным социально-политическим давлением до какого-то времени может вынуждать к сдержанности (пассивности?) вербального общения. Это успешно «диагностируется» современными компьютерными методами психогерменевтики, создаваемой В.И. Батовым. Он, в частности, выявляет альтернативные тенденции: тревожность - решительность, «мягкотелость» - склонность к лидированию, мужские - женские черты характера. Эти и другие личностные свойства в экстремальной динамике жизни создают сложнейшую картину поведения и общения (Батов В.И., 2002].
Г. Феномен «когнитивного нигилирования».
Исследованиями в условиях групповой относительной изоляции мной был отмечен феномен, названный «когнитивное нигилирование партнера» [Китаев-Смык Л.А., 1983, с. 295]. «У испытуемого появлялась нарастающая неприязнь к партнеру по изоляции. Ее причиной было главным образом своего рода "переполнение", "перегрузка" субъекта информацией разного рода, исходящей от его партнера, при том, что прочая информация из внешнего мира была крайне ограничена и однообразна. Партнер становился не столько ненавистен, сколько нежелателен, избегаем вплоть до того, что испытуемые старались не встречаться взглядами и даже не смотреть друг на друга. Так, для того чтобы взять какой-либо нужный предмет, человек предпочитал не поворачиваться в сторону этого предмета, если при этом его лицо должно было оказаться обращенным к партнеру; он предпочитал достать нужный ему предмет, сделав поворот в противоположную сторону, на значительно больший угол, так, чтобы не увидеть напарника, даже в том случае, когда последний был обращен спиной к поворачивающемуся человеку» [там же].
«Нами было дифференцировано шесть степеней когнитивного нигилирования партнера. Приведем примеры вербализации испытуемыми своего отношения к соседу при разной выраженности данного феномена.
1-я степень: "Все время помню, что не надо заходить на территорию соседа". Актуализация в сознании целесообразности ограничить контакты с партнером;
2-я степень: "Предпочитаю не смотреть в сторону, где сидит сосед". Избегание визуальных контактов;
3-я степень: "Неприятно произносить слова, которые часто говорит сосед". Избегание "вербальной общности";
4-я степень: "Разговаривать с соседом — неприятно, когда приходится — произношу слова с усилием, иногда с запинкой, с заиканием". Нарушение вербального контакта;
5-я степень: "Несколько раз поймал себя на том, что забывал обычные слова, которые часто произносил сосед". Амнестические реакции на партнера по общению;
6-я степень: "Подолгу сосед для меня перестает существовать, хотя при совместной деятельности, как это ни неприятно, приходится вновь и вновь смиряться с его существованием". Возможно периодическое "когнитивное нигилирование" партнера по общению. Действовал принцип: "Глаза б мои на тебя не смотрели!". Дальнейшее развитие этой тенденции чревато возникновением склонности к агрессии как выражению побуждений к реальному нигилированию партнера» [там же, с. 295-296]. Подобный феномен был обнаружен также М. А. Новиковым в сурдокамерных экспериментах.
Д. Суицид как «уход» из стрессовой монотонии общения.
«Агрессия может быть направлена как на других, так и на себя (суицид, самоагрессия, самоубийство). Последнее — это результат стремления уничтожить общение с партнером, с объектом общения (т. е. с избыточностью однообразной монотонной информации, исходящей от партнера по общению) через уничтожение себя — субъекта общения. Такие формы болезненно измененного общения, как некритичная, не вполне контролируемая сознанием агрессивность по отношению к партнерам по общению и суицид, могут возникнуть при нескольких, казалось бы, различных, предшествовавших формах общения:
1) в результате неблагоприятного развития "когнитивного ниги-лирования" партнеров;
2) активизации общения, дезорганизующего группу, при невозможности покинуть группу или "уединиться" в ее структуре. Вероятность попыток "ломки" неприемлемой для субъекта, нетерпимой им формы общения через агрессию в адрес партнеров — участников общения наиболее высока, когда к прочим стрессогенным факторам, обрушившимся на субъекта, присоединяется надругательство над ним, физическое притеснение его со стороны кого-либо из членов группы при участии или попустительстве остальных ее членов. Возникновение в экстремальных условиях у некоторых людей садистских наклонностей рассматривают как стрессогенную патологическую реакцию, направленную на объект, 'замещающий недостижимый и неустранимый стрессор. Стрессогенная застойность концептуализации мнимого стрессора в случае садистских отношений проявляется в том, что жертва аффективной агрессии, будучи первоначально случайной, в дальнейшем как бы притягивает "мучителя" тем сильнее, чем более некритично актуализируется в сознании последнего антистрессовый эффект замещающей "мнимой борьбы" со стрессором. На основании экспериментальных исследований и анализа
литературы мной были дифференцированы следующие степени стрессогенной агрессивности или депрессивной склонности к суициду.
1-я степень: подобные тенденции полностью, отчетливо не актуализирующиеся в сознании (осознаются позднее); 2-я степень: периодические, неожиданные для себя самого мысли
о возможности агрессии; 3-я степень: постоянные, сдерживаемые мысли об агрессивных актах, воспринимаемые субъектом как несерьезные;
4-я степень: периодическая неспособность сдерживать агрессивные выпады против партнеров по общению (препирательства, ругань и т. е.);
5-я степень: намеренная подготовка осуществления не критически оцениваемых субъектом, т. е. кажущихся ему оправданными и нужными, агрессивных действий в адрес партнеров по изоляции.
Следует отметить, что при стрессе актуализация в сознании возможности или необходимости крайних форм агрессии или самоагрессии (мыслей об убийстве партнера или о самоубийстве) может возникнуть внезапно, неожиданно для субъекта. Причем субъект либо осознает абсурдность этих действий, либо ошибочно признает их необходимыми, неизбежными. Внутреннее побуждение к агрессии может внезапно возникать в состоянии аффективной конфронтации с партнером. Есть сообщения о том, что совершенное насилие снижает уровень стресса у человека, его совершившего, тем "спасая" его от психической стрессогенной травмы. Но какой ценой?» [там же, с. 296-297].
При «вторичном» стрессовом уменьшении активности общения возникает феномен когнитивного нигилирования значимости лидера группы, признаваемых авторитетов. Но нет протеста против них. может не быть и явного уклонения от их власти. Для человека со стрессовой пассивностью общения лидер как бы становится незамечаемым, невидимым, да и сам социально-пассивный человек минимизирует свою «заметность» во всех общих, групповых делах. При этом его автономная деловитость может не уменьшаться.
Когнитивное нигилирование может проявляться ко всем окружающим людям либо дифференцированно: меньше к принадлежащим «своей» группке при почти полном игнорировании всех остальных людей. Такое стрессовое уменьшение активности общения направлено на сохранение своих адаптивных ресурсов (психологических, психофизиологических, биологических), на защиту от опасных контактов со стороны других членов группы, от их претензий и агрессии. При этом, увы, отторгается их помощь и моральная поддержка.
5.1.3. Взаимодействие людей при изнурительном труднотерпимом стрессе
Выше описаны стрессовые изменения общения, изменяющие взаимодействие между людьми, когда на них начинают действовать умеренно неприятные (неблагоприятные) факторы. Это нередко случается в обыденной жизни. Далее рассмотрим долгий диет peQc, изнуряющий психику. Он возможен и в обыденности, однако более вероятен в специально созданных условиях: при длительных экспедициях по труднодоступной местности, в долгих космических полетах, во время продолжительных морских плаваний и т. п. Несмотря на экстремальность групповой изоляции в таких условиях, она, как правило, добровольная и нередко престижная.
Намного тяжелее переносятся экстремальные условия жизни, когда люди насильственно принуждены к ним (в воинской казарме, в плену, при захвате заложников), тем более когда это — наказание социальной изоляцией (в тюрьме, в концлагере и т. п.). Тюремное заключение нередко становится предельно переносимым для узников. Изменения их общения (т. е. психосоциальные проявления «тюремного стресса») многообразны. Они зависят от жестокости содержания узников, от погодных и экологических условий, от форм социально-политического давления и, что очень важно, от сохранности специфических традиций «тюремного сообщества».
Ниже мы кратко обсудим общие закономерности взаимодействия (общения) людей, оказавшихся в изнурительной, труднотерпимой психосоциальной ситуации. Автор не имеет личного опыта долгого принудительного пребывания в таких условиях (знакомство с ним ограничивается лишь кратким пребыванием как «пленника» у чеченских боевиков в селе Шатой в 1995 г.) и воспользуется публикуемыми сведениями и опытом профессионального общения с исследователями пенитенциарных учреждений.
А. Специфика тюремного стресса. Самым действенным способом наказания и принуждения в тюрьме бывают побои и пытки. Долгая, повторяемая, сильная боль обесчеловечивает. Очень мало тех, кого она не сломит морально. Однако непременным наказанием, создающим тюремный стресс, чаще становятся разного рода ограничения:
- ограничение свободы воли;
- ограниченность пространства обитания узников;
- ограничиваются связи с внешним социальным миром (с семьей, друзьями, с соседями-земляками и с незнакомыми земляками, чьи лица регулярно встречались на улицах, в городском транспорте);
~ ограничен выбор деятельности, хуже того, тюремный труд принудителен;
- ограничение сексуальных удовлетворений;
Кроме того, наказанием становится тюремное будущее, предопределенное приговором суда; еще хуже его неопределенность во время пребывания в следственном изоляторе (СИЗО). Как правило, плохие питание и санитарно-гигиенические условия создают двойственное к ним отношение, казалось бы, тюремный узник к ним привыкает, но эта «привычка» истощает, а истощение мучает его.
Исследователи тюремного стресса (более тяжелого в следственном изоляторе) обращают внимание на его причины.
- Из-за дефицита информации «мало, чем развлекаемое "интеллектуальное внимание" сосредоточивается на определенной мысли, которую находящийся в изоляторе может без помехи развивать до логического конца» [Гаврилов Л., 1991, с. 60]. Возникает инертность мышления с ущербностью логических выводов.
- «Как бы ни был обилен запас воспоминаний, при жестком однообразии он быстро расходуется и истощается» [там же].
- «Однообразие следственного изолятора, когда фотографическая точность каждого следующего дня предшествующему предопределяет необходимость бесконечной борьбы со скукой» [там же].
- Возникают беспокойство и нервозность, нарастает конфликтность общения сокамерников. «Александр Исаевич Солженицын очень точно об этом сказал: "Я заметил: в любой камере по любому мельчайшему вопросу — о мытье мисок, о подметании пола вспыхивают оттенки всех противоположных мнений"» [там же].
- И вот тут на помощь заключенным в их борьбе против информационной депривации появляются тюремные развлечения. «Все "развлечения" (или почти все) направлены на унижение слабого, попрания человеческого достоинства. При этом соблюдается определенная "воровская" этика, мораль, традиция» [там же, с. 61].
- «В итоге все это порождает непрерывную психическую напряженность ожидания, заряженность на ответную реакцию при отсутствии значимых внешних явлений» [там же]. Усиливается тотальное недоверие ко всем и ко всему.
- «Тревога за свой статус как адекватная реакция на опасность потерять его побуждает любого человека к осторожности. Однако в условиях тюрьмы эта тревога вырастает в настоящую проблему. Атмосфера страха и ожидания насилия содержит в себе серьезную угрозу повышенного реагирования и, следовательно, опасность применения силы» [там же].
— «Агрессия во всех таких случаях — элемент деформированного образа жизни... Нравы же камерной системы следственных изоляторов таковы, что требуют немедленной ответной реакции на любое оскорбление, тем более насилие» [там же, с. 63].
Есть еще тюремное несчастье, которым часто пренебрегают исследователи пенитенциарной психологии. В тюрьмы попадает немало психопатов и интеллектуально неполноценных людей (олигофренов), склонных к девиантному (отклоняющемуся от нормы) и делинквентному (преступному) поведению. Жизнь среди них нарушает психику нормального человека, а психопата делает еще более больным.
Здесь мы коснемся одного специфического фактора, влияющего на жизнь заключенных, — это воздействие феромонов, особых веществ, выделяемых живыми существами в окружающий воздух. Главное предназначение феромонов — организация той или иной атмосферы общения, социального климата в данном помещении: в своей квартире, в рабочей среде или в тюремной камере. Большинство феромонов не ощущается обонянием людей, но может выделяться вместе с запашистыми веществами. В тюремных камерах, «в общежитиях осужденных всегда стоит очень своеобразный, устойчивый запах ("зековский"), которым пронизано все. В казармах, где проживают солдаты, нет столь специфического запаха. Нельзя сказать, что осужденные следят за чистотой своего тела меньше, чем солдаты. Нечистоплотность в их среде не поощряется, и такие лица могут оказаться в числе "отверженных"» [там же, с. 77—78]. Недавно обнаружено, что феромоны не только регулируют взаимоотношения индивидов, но и могут влиять на воспроизведение и рост телесных структур организма особи.
Приведенные выше результаты многолетних психологических исследований Л. Гаврилова в исправительных учреждениях свидетельствуют о сложной многофакторности тюремного стресса.
Попытки оптимизации современной российской пенитенциарной системы мало результативны [Сочивко Д.В., Литвишко В.М., 2006].
Часто цитируется, стало хрестоматийным, экспериментальное исследование Ф.Д. Зимбардо, изучавшего невольное психологическое перевоплощение добровольцев (студентов Стенфордского университета), помещенных в подобие тюрьмы: одни — в положение «заключенных», другие — «надзирателей». Результаты этого эксперимента поразили исследователей: в первые же дни «у заключенных наблюдалась заметная тенденция к возрастанию негативизма, депрессии и склонности причинять вред другим людям. Все заключенные испытывали сильные душевные страдания. Половина из них (5 испытуемых) не смогли эффективно с ними справиться, и из-за крайней депрессии, острой тревоги или психосоматических заболеваний их пришлось освободить» [Зимбардо Ф.Д., 2000, с. 309]. На шестые сутки эксперимент пришлось прекратить из-за плохого состояния всех испытуемых. Это экспериментальное исследование, конечно, показало интенсивное влияние социальной среды— «тюрьмы понарошку». Однако несмотря на то, что у «заключенных» в ней возникали симптомы, похожие на «тюремный стресс», искусственность и кратковременность этого эксперимента делают неубедительными полученные результаты.
И все же несомненный талант и прозорливость Филиппа Зимбардо помогли ему увидеть, что главными, ведущими факторами тюремного стресса становятся следующие.
1. Власть. У подчинившихся ей людей происходит психологическая метаморфоза: нарастает пассивность, депрессия, негативизм и пр. И напротив, у наделенных властью нарастает стремление утверждать и демонстрировать ее, подавлять подвластных и, даже непостижимо для себя, радоваться праву властвовать (см. также 5.1.6).
2. Время. «Тюрьма становится машиной времени, которая играет шутки с человеческим представлением о времени. Заключение в тюрьму нарушает непрерывность жизни, отрывая узника от прошлого, отдаляя будущее и вводя в качестве главной системы отсчета времени ограниченное непосредственное настоящее... В атмосфере, где первостепенное значение приобретает выживание, будущее становится непозволительной роскошью» [там же, с. 314].
3. Обезличенность. «В тюрьмах предусмотрены специальные меры для достижения максимальной обезличенности» [там же, с. 315]. И потому «условия, которые снижают чувства собственной уникальности, порождают антисоциальное поведение, например агрессию, вандализм, воровство, мошенничество, грубость, а так же равнодушие к другим людям... В окружающей их со всех сторон обезличенной среде у заключенных возникает потребность в индивидуальности, которая вынуждает их делить свой мир на "мое" и "не мое". Поскольку у них такая маленькая личная территория, то ее приходится защищать (часто ценой своей жизни), если они вообще хотят иметь хоть какую-нибудь ситуационную идентичность» [там же] (см. подробнее в 5.3, 5.4).
4. Правила. «Правила являются главной основой всех институциональных подходов к управлению людьми... Правила налагают на межличностные отношения безличную внешнюю структуру. Они устраняют из социального взаимодействия неопределенность... В институциональной обстановке количество правил быстро растет. Они начинают жить своей собственной жизнью, их продолжают подкреплять, даже после того как они устаревают, и те, кто обеспечивает их соблюдение, уже не могут вспомнить их первоначальной цели. Принудительные правила автоматически навязывают людям властные отношения: кто-то должен обладать властью для их проведения в жизнь, а кто-то должен им подчиняться» [там же, с. 318] (см. также 2.4.7, 5.1.6).
Психологические и социологические исследования в тюрьмах заставляют продолжить этот перечень факторов тюремного стресса. Ниже мы рассмотрим его основные закономерности.
Б. Социально-психологическая активность, консолидирующая тюремное сообщество. Консолидация социального сообщества — это один из адаптивных способов существования в экстремальной ситуации. Он складывается из многих преобразований и личностных свойств (см. 4.1) и адаптивно-стрессовых изменений общения.
Психосоциальный субсиндром принудительного стресса имеет свою адаптивную специфику. Внутритюремным сообществом осуществляется жесткая социальная стратификация с жестокими процедурами установления социального статуса заключенных (с «пропиской» и др.). Интенсивная селекция личностных свойств мобилизует психологические ресурсы у адаптирующихся к тюремному стрессу. Формируется основная масса заключенных. Их характеризует:
— более или менее пассивная подчиненность правилам и традициям тюремной жизни;
- согласие на принудительный труд;
—приобщенность к малым группам («семейкам»);
—латентная невротизация;
- «упрямство духа».
Приобщение некоторых к тюремной «элите» происходит благодаря их воле, уму и тюремному опыту. «Элитарность» налагает обязанность соблюдать правила и ритуалы, имеющие адаптивное значение в тюремном міре:
~ подчинение законам и традициям тюремного (уголовного) сообщества;
- обязательное соблюдение некоторых гигиенических норм (чистый подворотничек, фарфоровая-фаянсовая легко моющаяся кружка, личные тарелка, ложка и др.);
—отказ от принудительного труда как демонстрация своей, хотя бы частичной, независимости от тюремной администрации, т. е. обретение права на свое волеизъявление;
—использование жаргона как признака своей кастовости и, в какой-то мере сокрытие истинности смысла разговора;
—пожизненное клеймение татуировками — символами статус и криминальной биографии преступника.
Долгое изнурение трудно-терпимым стрессом, истощая адаптационные возможности группы, делает ее «больным социальным организмом», состоящим из людей, способных чаще всего лишь к болезненно искаженному общению.
Их объединяет истощающий страх перед внешней опасностью. В тюремном социуме это главным образом боязнь возмездия за преступление. Единению такого сообщества способствует не только эта боязнь, но и постоянный страх каждого перед всеми из-за возможного предательства или обвинения в предательстве.
Сплачивают и пробужденные тюремным стрессом садомазохистские наклонности: садистов влечет к жертве, а жертву влечет к мучителю ее потребность пусть в жестокой, но патерналистской опеке. Зоологическая потребность во власти, даже без права на нее, отнятого тюрьмой, без способности и умения властвовать (когда нет достойного лидера) поднимает из темных глубин души при всеобщей смятенности потребность в бесчинстве, в аморальном подавлении слабых. Грубость подменяет властность, физическая сила подменяет право, и делается возможным гедонистическое (сладостное) утверждение хамства, ничем не оправданной аморальности и жестокости. Даже захват лидирования в такой группе недостойными маргиналами может ее консолидировать, т. к. долготерпимый страх влечет к хоть какой-то социальной опоре, к человеку, на которого можно «свалить» ответственность за свои собственные проступки.
В. Социально-психологическая гиперактивность, разрушающая тюремное сообщество. Лидеры не могут «простить» приспешников, лидеров не может «простить» доверившаяся им масса (хотя большинству не ясно, что же не прощать), если общий стресс тяжел и слишком долог, когда все изнурены и озлоблены. Тогда стрессовая гиперактивность взаимодействия людей (это сильные, но нерезультативные действия) ведет к группу (социальное сообщество) к деградации. Харизматические вожди гордо удалились (отстранились) или шумно свергнуты. На их места, толкаясь, лезут (если их много) временщики (ублюдки или изверги). Либо один такой — утверждается. Начинается ритуальное подавление, а потом и ликвидация «слишком правильных» людей. Главенствует своеволие и беззаконие (а в тюремной жизни — уголовный «беспредел», его уже не может сдерживать уголовная «законность», т. е. «воры в законе» утрачивают власть). Всех повязывает причастность к преступлениям и сплачивает «круговая порука». Исчезают перспективы, теряется прошлое, сверхактивность порочного «общения» в настоящем деморализует деградирующую группу («больное сообщество»). Усиливаются агрессивность и жестокость (особенно к слабым). Возникают «страстная вседозволенность», «любовь к ненависти», «гордость подлостью» — погружение в бесчеловечно-аморальный гедонизм социального распада.
Г. Стрессовое «угасание» эффективности социально-психологического взаимодействия. Всякий стресс, тем более изнуряющий, пробуждает поиски спасения в разных формах социального взаимодействия страдающих людей. Потому есть и такие, кто становятся все менее склонными к общению. Угасание способностей к социальному взаимодействию (стрессовая социальная пассивность) может охватывать почти всю группу, подавленную экстремальными условиями существования. Появляются:
—отчуждение друг от друга;
—тотальная утрата мотивов совместной деятельности;
—общественная и деловая апатия.
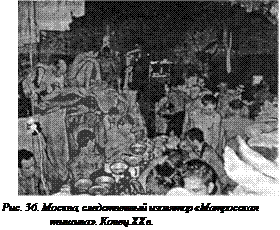 |
Общая камера. Площадь камеры — 70 м2, количество мест — 22. количество заключенных — 140. Фотография неизвестного арестанта (интернет-ресурс)
В таком угнетенном и истощенном стрессом сообществе (как правило, при социальной изоляции) изменяется социальная мен-тальность. При этом возникает деморализующая альтернативность провозглашаемых и реальных призывов и идеалов. Неприкрыта лживость декларируемых общих целей. Чем больше форм таких тенденций, тем сильнее деградация социально-психологического взаимодействия. И все меньше позитивных сил, разрушавших бесполезное сохранение бездейственно-начальствующих ролей и отживших традиций, имитирующих благополучие.
В условиях принудительного заключения ухудшается участь пассивной части тюремного сообщества — «опущенных» на социальное «дно». Им становится все более свойственны:
—адаптированность к тюремному остракизму (к отверженности);
—психопатизация;
—интеллектуальная деградация;
—«ускользание» от труда;
—пассивная гомосексуальность.
Д. Сколько стрессово-активных и стрессово-пассивных узников в российской тюрьме в конце XX в. Соотношение ставших стрессово-активными и, напротив стрессово-пассивными при изнурительном (в частности, тюремном) стрессе зависит от интенсивности экстремальных воздействий и устойчивости к ним; от способности и умения переносить стресс и дистресс. И еще, соотношение количества экстремально-активных и очень уж пассивных заключенных свидетельствует в какой-то мере о том, какие в стране тюрьмы (жестокие или не очень) и каких граждан оказывается в них больше (несгибаемых либо смиренных). На эти вопросы косвенно отвечают результаты исследования тюремного стресса, изложенные Г.С. Човдыровой: «Изучены поведенческие реакции (суициды, криминальные действия, попытки побега и другие параметры) 333 человек, которые в общей сложности находились в СИЗО в течение 3 лет, методом сплошного отбора» [Човдырова Г.С, 2000, с. 32].
В зависимости от эмоционально-поведенческих особенностей узники были разделены на пять групп. Нумерация групп мной изменена, т. к. первоначально рассмотрены стрессово-активные и лишь затем пассивные при стрессе.
В первой группе оказываются 7 % из числа обследуемых. «Для этих лиц было более характерно дисфорически-злобное поведение, пренебрежение к внутреннему распорядку в учреждении, установленным правилам поведения, запретам. Они часто наказывались за пронос запрещенных предметов, алкоголя, наркотиков.
Психическая дезадаптация усугублялась некорригируемыми асоциальными проявлениями, которые способствовали возникновению длительных конфликтов с окружающими и с администрацией учреждения, иногда эти конфликты заканчивались опасными вспышками гетероагрессии или аутоагрессии демонстративно-шантажного характера» [там же, с. 37] (гетероагрессия — нападение на других людей, драки; аутоагрессия — нанесение себе ран, ушибов, попытка самоубийства).
Итак, в эту группу вошли заключенные со стрессовой, чрезвычайной и деструктивной активизацией поведения и неадекватно-негативных эмоций. Этих людей можно назвать «деструктивными агрессорами». Их протестная стрессовая ктивность — деструктивна и лишь ухудшала их жизнь в СИЗО (в следственном изоляторе), мешала жить сокамерникам, создавала проблемы охранному персоналу. Напомню, что их было немного — 7 % из общего числа обследованных заключенных, охваченных, как пишет автор цитируемого сообщения, «методом сплошного отбора».
Во вторую группу следует отнести 12% узников. «Поведенческая реакция этих лиц на изоляцию характеризовалась стени-ческим типом реагирования на изоляцию. Психоэмоциональное остояние характеризовалось постоянной психической напряженностью, настороженностью, подозрительностью, обидчивостью, застреваемостью аффективных реакций, склонностью к их накоплению и построению паранойяльных идей. Эти лица открыто выражали свое недовольство условиями содержания, выступали в качестве организаторов и подстрекателей асоциальных высказываний и поступков, несмотря на доказанность вины, настаивали а пересмотре дела, писали бесконечные жалобы, несмотря на очевидность поражения» [там же, с. 35].
Эти узники стрессово-активные, но их напористость и агрессивность не столь деструктивны, как у «деструктивных агрессо-ов». Обнаруженные у лиц второй группы «паранойяльные идеи», возможно, диагносцировались с позиций установок и нормативов, разработанных для тюремных психиатрических служб, и могут 'ыть не проявлениями истинной паранойяльности, а отклонениями от «тюремно-медицинских» оценок и норм. «Бесконечные жалобы, несмотря на очевидность поражения», иногда бывают действенны и результативны благодаря упорству заключенных и их адвокатов. Таким образом, их активные действия, кажущиеся проявлением психической неадекватности, могут быть вполне адекватны критически измененным условиям жизни в тюрьме Учитывая социальную активность узников, включенных во вторую группу, их можно назвать «активно протестующими борцами». Некоторые из них становились идеологами и лидерами внутритюремных протестов. Сплачивали и ободряли других заключенных. Вовлечением их в борьбу разрушали моно-тонию тюремного заточения. Итак, во второй группе — люди эмоционально, поведенчески и социально активные, но на других заключенных они действовали менее деструктивно, чем те, кто включен в первую группу.
В третью группу можно включить узников, у которых не отмечалось стрессовой активности, деструктивного поведения и «признаков психической дезадаптации». Их было 60 %, т. е. большинство из числа принудительно изолированных в СИЗО. Особенности их поведения, эмоций, переживаний не описаны в цитируемой монографии Г.С. Човдыровой ввиду того, что благодаря поведенческой пассивности они не совершали правонарушений, не доставляли неприятностей охранникам и тюрьме и не регистрировались в отчетах о дисциплинарных проступках.
Их поведение, соответствующее тюремным правилам, конечно же, было результатом самоограничений и подавления протестных эмоций и поступков. Их «нормальное», спокойное поведение было далеко от того, как они спокойно вели бы себя в обыденной жизни, «на воле». Иными словами, эмоционально-поведенческие реакции таких людей на экстремальные факторы тюремного бытия надо рассматривать как вынужденную стрессовую пассивность с подавленным протестом этих «безропотно-пассивных страдальцев».
В четвертую группу могут быть включены 4 % заключенных. «Для этой группы была характерна чрезмерная тревожность, постоянное ожидание каких-то подвохов со стороны окружения и администрации, раздражительность и легкая истощаемость, астеничность, вялость, частые жалобы на неприятные физические ощущения, высокая обращаемость к врачам, ипохондричность. Склонность к образованию навязчивых страхов в конфликтных ситуациях выявляли больше таких лиц из числа повторных (рецидивистов). Эти лица часто попадали в зависимость от окружающих, их часто использовали в корыстных целях для проноса запрещенных предметов и т. д. При попадании в конфликтные ситуации, требующие принятия мер административного характера, они давали тревожно-депрессивные аутоагрессии» [там же, с. 37]. Астеничность, вялость, психологическая зависимость от окружающих и т. п. — проявление болезненной стрессовой пассивности людей этой группы. Их можно назвать «пассивными невротиками».
И наконец, пятая группа — люди с болезненно неустойчивой формой поведения, как бы невольно ищущие оптимальные формы то активного преодоления экстремальных факторов, мучительно уродующих их жизнь, то намеренного уклонения от них. Вот как описаны они в цитируемой монографии: «Клинически отмечалась амбивалентность поведенческих реакций: апатичная бездеятельность и напористость в достижении результатов, застенчивость и бестактность, грубость; подозрительность и легковерие; отгороженность и бесцеремонная навязчивость; расхождение в суждениях и поступках. Часто воспитатели обманывались в своих ожиданиях к ним и затем не доверяли этим лицам. Практически у этой группы лиц обнаруживался стенический и гипостенический тип реагирования. Дезадаптивность их поведения выражалась в том, что в конфликтных ситуациях эти лица были непредсказуемы, часто совершали неожиданные для окружающих поступки» [там же, с. 35].
Такие «искатели оптимальных путей» привлекают особое внимание. Их психика обладает широким диапазоном поиска лучших способов уменьшения тюремных мучений и неудобств. Однако смена тактики этого поиска иногда происходит неподвластно воле и расчетам этих «искателей». И все же они могут обдумывать и осуществлять разные способы противостояния и борьбы с тюремными властями. Благодаря неординарности и непредсказуемости поступков узники этой группы доставляют больше неожиданных неприятностей охранникам и администрации тюрьмы, чем другие заключенные. Потому Г.С. Човдырова прежде всего обращает внимание на заключенных, вошедших в эту группу. Она отмечает, что их поведение и реагирование на внутритюремные события всегда стеничны, т. е. энергичны и активны. И даже если нет ничего чрезвычайного, они всегда уверены в себе и деятельны. Колебания их эмоционального настроя и смена их бездеятельности и напористости — это не психическая циклоидность, не чередование депрессивности с гипоманиакальностью (хотя спады настроения у них возможны). Неординарность поступков людей такого типа пробуждается и провоцируется стрессом. Если они умны и талантливы, то в критических ситуациях способны на неординарные, успешные решения. Если не блещут талантом, то в стрессогенной обстановке все же становятся побудителями коллективных изменений форм и направленности адаптивного поведения масс.
Можно ли, учитывая процентное соотношение арестантов с активными и пассивными эмоционально-поведенческими проявлениями тюремного стресса, определить уровень экстремальности содержания узников в тюрьме, т. е. насколько там мучительно им? Для этого используем способ определения уровня критичности коллективного стресса [Китаев-Смык Л.А., 1983, с. 71—73,87-88]
Динамика признаков психологической дезадаптации подследственных в зависимости от этапов изоляции (по Г.С. Човдыровой, 2000)
| Признаки дезадаптации | 1-й год, данные в% | 2-й год, данные в% | 3-й год, данные в% |
| 1-я пол. 2-я пол.* | 1-я пол. 2-я пол. | 1-я пол. 2-я пол. | |
| Суицидальные действия | 40-8 | 4-1 | 0-33 |
| Убийства и другие уголовно наказуемые деяния | 48-12 | 6-4 | 2-44 |
| Попытки побега | 15-2 | 3-0 | 2-14 |
| Конфликты с администрацией | 39-15 | 7-5 | 7-37 |
| Употребление наркотиков и алкоголя | 40-17 | 10-7 | 12-39 |
| Психические нарушения** | 25-4 | 2-1 | 3-20 |
| Соматические нарушения | 35-7 | 6-7 | 8-47 |
| Высокий уровень ситуативной тревожности по тесту Спилбергера-Ханина | 76-23 | 10-8 | 10-78 |
Примечания:
* 1-я пол. — первая половина года. 2-я пол. — вторая половина года. ** Психические нарушения: случаи госпитализации в психиатрические стационары с изменением психического состояния.
(см. также 2.3.7). Используя «матрицу» диагностики массового стрессового напряжения в большой группе людей, можно видеть, что у заключенных, описанных в цитируемой монографии, уровень стресса приближался к предельно терпимому.
В заключение данного подраздела надо заметить, что в монографии Г.С. Човдыровой изучались «стресс и психическая дезадаптация» у определенных возрастных групп мужчин («средний возраст 47 лет ± 1,5») и женщин («средний возраст 43 года ± 1,8»), но результаты исследования не были дифференцированы по тендерным показателям. А ведь тюремный стресс не только по-разному, но и особым образом проявляется у мужчин и женщин, способных к противоправным действиям [Ткаченко А.А., Введенский Г.Е. (ред.), 2003]. Это ограничивает возможность распространения выводов из данной работы на представления о стрессе у других возрастных групп заключенных в российской тюрьме.
Е. Интенсивность стресса в начале долгого действия экстремальных факторов и перед ожидаемой их отменой. Тяжелейший дистресс начинается при возникновении чрезвычайного экстремального воздействия. Стресс усугубляется, когда он поражает сразу многих (из-за психологического индуцирования, «эмоционального заражения»). При этом значимым становится психосоциальный субсиндром стресса: нарушение общения, взаимопонимания, взаимодействия людей. Такое острое начало стресса бывает после ареста — в тюрьме. По данным, изложенным в монографии Г.С. Човдыровой, этот период длится в среднем шесть месяцев с момента поступления в СИЗО [Човдырова Г.С, 2000, с. 39] (см. табл.).
Стрессообразующим фактором может стать не только интенсивность начала тюремного заключения, но и близкое освобождение. Из таблицы, представленной здесь, видно, как возрастают проявления дистресса у заключенных в последние шесть месяцев перед освобождением.
Мы обнаруживали усиление дистресса за неделю до окончания непрерывного месячного вращения в квартире-центрифуге (см. подробнее гл. 3), за месяц до окончания полугодового рейса на рыбопромысловых базах («синдром окончания рейса»). Этот синдром возникает всегда в последние дни, недели перед завершением трудного испытания не просто как приближение исчерпания терпения и адаптивных резервов, «рассчитанных» на определенный срок. Важная причина такого усиления дистресса — конфликт между все еще экстремальным, тягостным существованием и приближающимся «счастьем» нормальной жизни, радостью наград, если экстремальное испытание престижное, радости освобождения, если оно принудительное. Психологи пенитенциарных учреждений обнаруживают, что причинами усиления стресса узников перед окончанием тюремного срока бывают еще и опасения того, что ждет его «на воле»: как примут его близкие, найдет ли он работу. У уголовных арестантов после долгого заключения возможно усиление стресса из-за боязни и нежелания возвращаться в «свободную» жизнь.
Ж. Психосоциальный феномен — «кентавр тюремного дистресса». В тюрьме, как органе наказания (и исправления?) преступников, объединены в единое человеческое сообщество заключенные и их надсмотрщики. Хотят или не хотят, и те и другие рано или поздно превращаются в единый «социальный организм». Научные исследования этой психосоциальной закономерности обнаруживают существование обоюдных страданий узников и тюремщиков, т. е. возникновение в местах лишения свободы уязвленного наказанием «кентавра тюремного дистресса». «На координационном совещании руководителей правоохранительных органов Российской Федерации в г. Москве 03.03.1997 г. было отмечено, что более 100 сотрудников уголовно-исправительной системы (УИС) в 1995-1996 гг. покончили жизнь самоубийством, 40 погибли при исполнении служебных обязанностей, уволились 40 тыс. сотрудников, 14% штатов не укомплектовано, каждый третий сотрудник работает меньше одного года» [там же, с. 31]. Эти далеко не оригинальные данные — свидетельство того, что при любом противостоянии внутри сообщества люди превращаются в целостное, хотя и многоликое «психосоциальное существо» с похожими радостями и страданиями. У тюремщиков такой феномен возникает не просто в связи с сопереживанием узникам. Происходит психологическое «слитие» людей, стоящих на альтернативных платформах, как на разных чашах, но одних и тех же весов. И тех и других поражает дистресс тюрьмы, страдания в узилище горя.
И потому цитируемый выше автор приходит к парадоксально-логичному выводу: «Мы считаем, что психопрофилактика психотравмирующего влияния изоляции на осужденных и подследственных в системе СИЗО и ИУ будет способствовать снижению стрессогенности условий функционирования сотрудников этих учреждений» [там же, с. 30]. Вот уж «воистину!», создавая комфорт для заключенных, тюремщики комфортабельнее будут работать и жить.
Проблема стресса не только у узников, но и у тюремщиков обоюдоострая во всех странах, где в пенитенциарных учреждениях реализуется принцип «карательного воздействия» на преступивших закон, т. е. используются мучения и устрашение наказаниями. В ходе одного из первых в США исследований, посвященных служащим исправительных учреждений, Ф. Шиком и М. Миллером было установлено, что, по сравнению с полицейскими, тюремные охранники чаще страдают от повышенного артериального давления, язвенной болезни желудка и кишечника, сердечных заболеваний. У сотрудников тюрем эти «болезни стресса» в два раза чаще, чем у служащих из групп «синих и белых воротничков». И еще — охранники подвержены более интенсивному стрессу, чем «простые» работники тюрем [Cheek F., Miller М., 1983]. Исследование степени удовлетворенности работой у служащих тюрем США также дало обескураживающую картину: 75 % тюремных служащих выражали желание сменить работу, если представится возможность [Toch Н., Klofas J., 1982].
Американские исследователи, как и российские, приходят к пониманию обоюдного влияния тюремного стресса на узников и охранников. Конфликты между ними усиливают дистрессо-вые расстройства у тех и других [Triplet R., Mullings J.I., Scar-boroungh K, 1996]. Напротив, участие тюремщиков в оказании помощи при решении личных проблем заключенных уменьшает стресс тюремщиков [Hepburn J., Knepper P., 1993 и др.].
Психологические и социальные процессы, лежащие в основе «кентавра тюремного дистресса» можно продуктивно анализировать еще и с позиции учения о садомазохизме, как одной из важнейших составляющих целостности живых систем, разделенных на отдельные существа, особи, индивиды, группы и т. д.
Гармоничные сочетания процессов антагонизма и симбиоза поддерживают жизнеспособность живой природы (биосферы, ноосферы) на нашей планете (см. также 3.6).
5.1.4. Психосоциальный дистресс, разрушающий сообщество («социальная смерть» группы)
Рассмотрим гипотезу о возможности запредельной формы (реализации) психосоциального субсиндрома стресса, трагически разрушающего изнуренное сообщество (семью, группу, изолированный экспедиционный или воинский отряд, государственное образование и т. п.). Такие массовые стрессовые состояния возможны и у членов небольших групп, если они сектантские, самоизолированы в обыденном обществе, и в группах людей, принудительно изолированных (в тюрьме, в казарме, захваченных как заложники).
Активные и пассивные процессы этой суперкритической фазы-формы стресса ведут к активному прорыву вовне того пространства (социального и территориального), в котором дистресс уже не терпим, либо к самоуничтожению («распылению») групповой сущности (объединенности), или даже к физическому самоуничтожения членов такой группы как «чувствилища» невыносимых общих горестей и мучений. Активный прорыв — это массовая агрессивность, бунт «бессмысленный и беспощадный» (он может быть и успешным) или бегство (массовый побег из тюрьмы, из концлагеря и т. п.).
При нетерпимом общем дистрессе возможно возникновение активной массовой протестной суицидальности (см. так же 5.1.2. Д). Или же пассивная гибельная деструкция группы реализуется как общее пассивное пренебрежение здоровьем и жизнью, как «уход» в реальные заболевания, т. е. в конечном итоге это тоже суицидальное поведение. Оно может маскироваться под гедонизм (греч. hedone — наслаждение, упоение приятным) при алкоголизации, наркотизации и при «уходе» в квазиинфантильное (как бы беспечно детское) поведение или же в истероидно-наигранную олигофренность (в глупую бездумность и безответственность).
«Революционная» роль индивидов (личностей) в этих социально-разрушительных массовых процессах целесообразно рассматривать как «личностную экспансию» (см. также 5.1.2.Б), настолько деформирующую ролевой статус участников бунтов и «эпидемий» суицидов, что это ведет к ликвидации социальных сообществ, дошедших (доживших) до сверхкризисных форм психосоциального дистресса.
Такие формы-способы ломки и уничтожения социального сообщества, т. е. смерть «старого» социума, ведут не только к замене его социальным субъектом, более жизнеспособным в сложившихся экстремальных условиях, но и к нигилированию (пропаданию) экстремальности этих условий существования. Возникает «новый социальный организм», адаптированный к новой жизни.
Стрессово-кризисные преобразования небольших групп людей (и революции в огромных массовых сообществах) многократно изучались и описаны в обширнейшей научной, исторической, политической, психолого-этнографической литературе. Наше частное исследование этой проблемы отражено на с. 293—294 монографии «Психология стресса» в 1983 г. (см. также 5.6.5).
5.1.5. О влиянии чувства свободы воли и несвободы на устойчивость перед смертью
В 60-70-х гг., когда совершенствовалась наша реактивная военная авиация, автор этих строк, как указывалось выше, работал в Летно-исследовательском институте и участвовал как испытатель (испытуемый) в экспериментах с катапультированиями, вращениями на скоростных центрифугах, с обдувом на сверхзвуковых скоростях, в барокамерных экспериментах. Мы располагали экспериментальными данными, полученными в фашистской Германии в 40-е гг. при аналогичных испытаниях, но полученных на пленных (русских, французских, английских летчиках) как испытуемых. В немецких экспериментах были определены уровни экстремальных воздействий, приводящие к смерти (убивающие) испытуемых. В наших аналогичных экспериментах все мы (испытуемые) легко претерпевали немецкие «смертельные» уровни экстремальных воздействий. Нами были установлены пределы переносимости для всех таких воздействий, еще не приводивших к травмам (телесным и иным повреждениям). И они были выше уровней, смертельных для испытуемых-узников. Итак, мы безопасно испытывали экстремальные воздействия более сильные, чем те, которые стали смертельными для узников-испытуемых в фашистской Германии.
Почему же испытуемые в фашистской Германии умирали, неспособные жить при экстремальных воздействиях, которые не становились для нас даже просто неприятными, психологчески травматическими? Причинами гибели испытуемых в Германии не были плохое здоровье и истощение пленных. Перед экспериментами они питались по высоким нормам немецких летчиков и жили в относительно комфортабельных условиях, но изолированные и под охраной.
Важными причинами низкого уровня переносимости узниками стресс-факторов, приводящих к смерти, были обуревавшие их чувства: несвободы, позорного плена, стыда и горечи из-за того, что они принуждены служить врагу против своих сотоварищей. И главное то, что они знали — в экспериментах, проводимых для установления летального уровня воздействия, они все погибнут. Обреченность на смерть (без чувства самоотверженности) лишала их воли к жизни, и они погибали при экстремальных воздействиях, которые для нас, идущих добровольно на престижные испытания, были не только не смертельными, но даже не становились неприятными, не были тяжело переносимыми.
Однако надо признать, что трудно сопоставлять престижные экстремальные ситуации с принудительными и позорными.
5.1.6. О стрессе власти (экстаз и ужас властвования)
Когда ты при царском дворе, то все, что ты слышишь, пусть в тебе и умрет, чтобы самому тебе не пришлось безвременно умереть.
Эзоп
Важнейшее свойство высокопоставленного лидера — способность непрерывно и неустанно экстраполировать, видеть, контролировать, прогнозировать все события в зоне своих интересов: действия свои и подчиненных, не теряя из виду конкурентов и противников. «Системно» мыслящий лидер как бы постоянно видит и знает, как изменяются (и перемещаются) подчиненные ему структуры и люди, прогнозирует динамику их мыслей, целей, решений, и предвидит, не зреет ли срыв его планов. Действительным лидером высокого ранга может стать и быть только человек с таким развитым «системным мышлением». Оно охватывает экстраполирующим осознанием действия и свои, и соратников, и противников в их динамике: все значимые возможности и перспективы.
«Системное мышление» актуализируется при непрерывном стрессе властвования. Оно поддерживает в лидере этот стресс как непременную сущность его бытия, как своеобразно-властительное раскрытие его интеллекта, воли, эмоций и. главное, харизматической способности зажигать души людей горением своих властительных страстей.
Высшая власть — это еще и продление своей жизни, экстаз жизнеспособности. Борьба за власть— борьба за жизнь. Потому что властвовать — постоянно доказывать самому себе (больше, чем другим), что без меня не проживут мои подвластные и потому я должен жить вечно! Стресс власти переживается фанатичными лидерами как нескончаемый сексуальный оргазм и способствует долголетию, подробнее об этом ниже (см. также 2.4.7).
«Системное мышление» необходимо командирам самостоятельно, инициативно действующих групп. И в небольшой такой группе успешным лидером становится человек, способный непрерывно, адекватно осознавать и использовать свою властность, ощущая каждого подчиненного как частицу самого себя, представляя и предвидя все преобразования, устремления, желания, надежды каждого. Если и действия противника такой лидер-командир способен предугадывать, то его маневренную группу ждет удача.
Психологическим проблемам властного лидирования посвящено множество научных и иных публикаций. Но почти во всех — лишь описание проявлений борьбы, преуспевания и краха властителей, а также анализ их взаимодействия с подвластными массами. Даже в фундаментальных монографиях Г. Ле-Бона [Ле-Бон Г., 1998], Г.Тарда[ТардГ., 1901, 1906],3. Фрейда[ФрейдЗ., 1998; Авдеев В.Б. (ред.), 2006], С. Московичи [Московичи С, 1996] и др. нет внятных объяснений, каковы же истоки и биопсихические механизмы верховной властности.
Причина «непостижимости» ее психологической сущности в том, что не будучи одним из верховных властителей, а лишь исследователем-психологом (социологом, политологом, этнографом и т. п.) невозможно ощутить, представить и понять все, что переживает, обдумывает, интуитивно постигает и решает истинный властитель, и какой стресс (эустресс или дистресс) переживает он. А сам он все об этом знает, но нет нужды ему о том разъяснять любознательным исследователям, лишенным таланта властности. Да и не выгодно ему (а то и опасно) делиться знаниями о сокровенном в самом себе.
Утрируя соотношения в обществе властителей, ученых-психологов, любителей психологии, можно сказать: «Все люди делятся на настоящих, урожденных психологов, и на непсихологов (плохих психологов). Всякий властитель (рангом не ниже замминистра, лидера крупной партии или религиозной конфессии, генерального директора большой организации или крупного финансового олигарха) — всегда настоящий, очень хороший психолог от рождения. Всех непсихологов (плохих психологов) можно разделить на две группы: одни изучают психологию, становятся профессионалами и потом обучают психологии других непсихологов».
К такому суждению автор этих строк пришел в «коридорах» Московского Кремля, куда он на протяжении десятилетий (при советской власти и после нее) регулярно приглашался как внештатный эксперт-консультант.
Не претендуя на полную внятность и убедительность, привлекая общую концепцию стресса и подходы зооантропологии, рассмотрим отдельные психологические феномены властности, наблюдаемые автором в «коридорах» Кремля, Совета Федерации и Государственной Думы России. Но сначала обратимся к некоторым закономерностям психологии животных.
А. О двух периодах в жизни животных и людей. Этологией установлено, что у большинства млекопитающих старение и смерть от старости наступают после окончания детородного периода. Однако некоторые особи как бы обретают вторую жизнь, т. е. живут почти вдвое дольше остальных. Это вожаки стай. Они могут быть мужского или женского пола. Таким образом, лидеры, т. е. наиболее способные к управлению стаей, наиболее сильные и «авторитетные» (харизматические?) сохраняются в стае вместе со своим жизненным опытом, полезным для ее выживания. Как правило, у них сохранены генеративные функции, т. е. они передают потомству не только полезный опыт и знания, но и элитные генетические качества.
Пожалуй, первым серьезно обратил внимание на то, что жизни людей состоит из двух периодов («циклов»), выдающийся исследователь и мыслитель Николай Яковлевич Пэрна [Пэрна Н.Я., 1925]. Однако, анализируя два таких периода в жизни выдающихся людей, он рассматривал исключительно творческие способности мыслителей, писателей и композиторов, т. е. духовных лидеров. Властителям (государственным, политическим лидерам) он не уделил внимания.
Несколько отступая от основной темы — стресса властителей, — познакомимся со взглядами Н.Я. Пэрна. Он заметил, что до 45—50 лет творчество обращено к повседневным проблемам, к отражению может быть и выдающихся событий, но все же реально обыденных. А вот с 45-50 лет, после перелома в творческом процессе (иногда после временного застоя) наступает период «мудрости», творческого осмысления вечных проблем, нередко с религиозным и мистическим постижением жизни. Николай Пэрна пишет, что творчество Бетховена, достигнув высших вершин в 33-38 лет, когда «он излил всю мощь своего духа, после этого немного угасло; но в 50 лет произошел новый сильный подъем, и этот подъем был совершенно другого оттенка — мистически-просветленным, словно создалась другая личность. У Гете мы тоже видим перелицовку личности в 50 лет. Гете вообще всю жизнь был свободомыслящим и ясно реалистичным, но после 45 лет у него проявилась склонность к символике и мистике. Лев Толстой на 50-м году жизни пережил знаменитый душевный перелом, изменивший все его мировоззрение и весь характер его дальнейшего творчества. Кант до 44 лет был философ-энциклопедист в обычном смысле, писал о всевозможных вопросах в обычном школьном мировоззрении. Но вот на 45-м году произошел знаменитый перелом в его мышлении. Он отрекается от прежних взглядов на реальность на пространство, время и весь мир и переходит к новому идеалистическому мировоззрению.... Можно отыскать еще и другие примеры, где после перелома жизни около 45 лет человек вступает в новую духовную сферу и начинает жить как бы "второй цикл" своей жизни, совершенно отличный от первого.
Можно бы думать, что это должно относиться вообще и ко всем людям. Прожив первый цикл жизни, каждый из нас к 50 годам должен вступить в другой, более возвышенно духовный. Мы видим это теперь только на исключительных сильных людях; на прочих же этого обычно не видим, потому что современная жизнь, судорожная погоня за материальными успехами у одних, непосильная борьба с нуждой у других, очень быстро изнашивает людей средней силы и их уже не хватает на "второй цикл".
Совершив с грехом пополам первый цикл, они, уже усталые и истрепанные, доживают вторую половину жизни в качестве так называемых "стариков". В норме этого не должно быть» [там же с. 124-125].
Н. Пэрна подчеркивает, что «в условиях нормальной, естественной жизни (например, в жизни ближе к природе) всякий человек после 50 лет почитается как мудрец, которому открыто то, что молодым не доступно» [там же].
Данные Н. Я. Пэрна о двух периодах в жизни людей были подтверждены американскими и западноевропейскими исследователями-разработчиками организации творческого труда. Не зная о книге Н.Я. Пэрна, организаторы трудовых процессов терялись в догадках о причинах двух циклов в карьере творческих работников и снижения производительности труда у промышленных рабочих после 45—50 лет, объясняя это «производственным стрессом» (occupation stress) и «стрессом жизни». Однако еще в начале XX в. Н.Я. Пэрна в своей монографии четко указал, что причиной окончания первого цикла является изменение эндокринных функций половых желез. В наших научных сообщениях в 60-х гг. прошлого века (совместно с И. А. Арша вским) было сделано сопоставление «второго цикла жизни», возможного у всех людей, с «удвоением жизни» лишь у вожаков животных стай.
Возвратимся к проблеме лидеров-вождей человеческих масс. Великий китайский мыслитель Конфуций указал, что выдающиеся люди бывают двух типов: «властители» и «мыслители». (В дословном переводе с китайского первые обозначены как «высокомудрые», т. к. Конфуций рассматривал способность к властвованию как «высшую мудрость». Мыслителей-философов, писателей и художников он называл, дословно, — «высокогуманными» [Конфуций, 1973].)
У властителей, как и у мыслителей, можно видеть два периода жизни. Однако ограничимся кратким изложением результатов наших «кремлевских» наблюдений во время властвования уже не молодых вождей Светского Союза. Обращают на себя внимание три психологических составляющих стресса высшей власти: экстатичность, оргастичность властвования и еще — страх властвующих.
Б. Экстаз власти. Ведущей эмоцией властителя становится ликующее счастье своего бытия. Особенно ярко это чувство у молодых лидеров, но оно сохраняется и у пожилых геронтократов, несмотря на усталость и болезни. Более того, экстаз власти оздоравливает и придает силы. Властительный гнев либо горькие минуты неуспеха лишь обостряют доминирующую радость собой, радость для себя. Почему? Потому что властитель обретает, как вожак стаи, право на «вторую жизнь» (в отличие от плебса, «бесправно» живущего, без права на все же проживаемую свою «вторую жизнь»). Каждая минута, каждый день властвования обещают лидеру право на продление жизни. Это создает радость, экстаз, побуждает властителя дальше и дальше властвовать и жить. Для этого власть должна укрепляться и расширяться. Властитель, став таковым, никак не может сам, добровольно вырваться из колеи властвования, т. е. из радостной жизни. Расширение власти со все большим числом подвластных (это свидетельство и доказательство того, что властитель устойчиво жив) усиливает чувство полноты жизни и, вместе с тем, стимулирует к неуклонному расширению властных амбиций. Препятствия, как угроза власти, как сигналы о конечности власти-жизни создают негативные эмоции — отблески ужаса смерти. Но страх легко и сразу превращается в злобу и решимость преодоления преград (уничтожения врагов). Страх может инвертироваться в восторг предстоящих побед, т. е. в ликование успешного властителя.
Властительный восторг собой, т. е. жизнью — это и счастье, и тяга к ней вопреки всему, с упоением властью над многими другими жизнями, с «присвоением» их, т. е. воли и судеб многих людей, с правом даже лишать их жизни, убивая, если не всех, то все же «избранных», ставших или объявленных врагами.
Конечно же, восторг власти подпитывается почестями и поклонениями возможно большего числа подвластных, как бы подтверждающих жизнеспособность и полезность «вожака стаи».
В. Сексуальный нескончаемый оргазм властителя. У многих властителей в букете их эмоций отчетливо заметна сексуальная составляющая. Тщательное, многолетнее исследование ее позволяет идентифицировать переживания властителями чувства, сходного с сексуальным оргазмом. Его особенности в том, что оно без оргастического завершения, без исчерпания сладостного возбуждения. Оргазм властителя может нарастать, мобилизуя волну энергии, мощь решений и действий; может ослабевать, но никогда не угасает. Далеко не всегда властительный оргазм усиливает обыденную, плотскую сексуальность. И все же немало описаний ее мощи у людей, наделенных высокой властью. Однако, бывает, когда напротив, оргастическое «горение властью» освобождает от обыденных сексуальных потребностей, похотей (см. 5.З.2.Г.6.).
С позиции зооантропологии сексуально-оргастические особенности лидера можно сравнивать с феноменами сексуального доминирования вожаков стай в животном мире. Будучи элитно лучшим, он «обязан» оставить возможно большему потомству свои элитарные способности.
В человеческих сообществах эта «обязанность» реализовалась благодаря созданию гаремов восточных правителей, множеству «теремных молодиц» у российской средневековой элиты, традиционному многоженству китайской элиты, существовавшему вплоть до XX в. и т. п. [Кобзев А.И., 2002].
Г. Страх властвующих. Хотя страх далеко не обязательная эмоция властителя, все же вглядимся в нее внимательно. Тем более, что исследователи психологии власти мало обращали внимание на страхи у лидеров больших масс (Г. Ле-Бон, 3. Фрейд, С. Московичи и др.). Страх властителей многолик и индивидуально различен.
Боязнь своей личной смерти, гибели себя «выдающегося, единственного, незаменимого» наиболее понятен и заметен. Ужас смерти может разрастаться у вождя до мании преследования, боязни покушения на его жизнь. Опасение заговоров провоцирует у него жестокость их разоблачений и искоренения. Тотальная жестокость властителя, трансформируясь по «замкнутому кругу», способствует паронояльному нарастанию страха перед возмездием. Творя «защитные» злодеяния, лидер все ярче (даже галюцина-торно) представляет их, адресованные ему самому. Тревоге лично за себя может компенсаторно противостоять вера властителя в свою неуязвимость, в богоизбранность. При этом страх будет инвертирован, превращаясь в безмерную отвагу в реально опасных ситуациях. Страх лично за себя свойствен определенному типу людей (см. 4.2.2 и [Китаев-Смык. 1983, с. 260-263]). Однако властитель, высоко вознесшийся над массой подданных, обуреваем чувством своей исключительной ценности. Потому эта форма страха возможна у любого значительного лидера вне зависимости от типологических предпосылок.
У властного лидера может доминировать, либо ситуационно вспыхивать страх за свой престиж, за сохранность достоинства. Эта форма страха побуждает властителя поощрять и инспирировать восхваления, почитание его, преклонение перед ним, не только, чтобы управлять подвластными, но и для компенсации страха не быть самим собой. Культ личности авторитарного лидера, создаваемый «царедворцами», челядью и СМИ, рано или поздно деформирует не только его представления о себе, но и его понимание интересов подвластных социальных страт.
Инверсией жажды преклонения подданных может стать периодическое стремление вождя к уединению (затворничеству, отшельничеству). О зооантропологических истоках этой формы страха см. 4.2.3 и [Китаев-Смык, 1983, с. 263-265].
Одной из форм властительных страхов может стать смутная или отчетливая боязнь уменьшения числа подданных (см. также 4.2.4 и [Китаев-Смык, 1983, с. 269]). Эта эмоция проявляется у лидеров скудеющих политических партий. Она легко превращается в болезненно повышенную придирчивость ко все еще верным соратникам. Еще одной формой инверсии этого страха бывает ужас перед толпами, боязнь оказаться среди множества людей. Одержимые этим страхом властители создают своих двойников для публичных «встреч» с народом. И даже множество телохранителей кажется опасным сборищем заговорщиков.
Страхи верховных властителей можно препарировать применительно к конкретным персонам, используя «инструментарии» психоанализа (Зигмунда Фрейда), понимание особенностей разных периодов жизни (Николая Пэрна или Эрика Эриксона), экзистенциальную психологию (Ролла Мэя), представления об «основных формах страха» с позиции глубинной психологии (Фрица Римана [Риман Ф., 1998]), психоанализа исторических трансформаций аффекта власти (Александра Кантора [Кантор A.M., 2004]) и др.
5.2. ВЫГОРАНИЕ ПЕРСОНАЛА. ВЫГОРАНИЕ ЛИЧНОСТИ. ВЫГОРАНИЕ ДУШИ
Только ли чрезвычайные экстремальные события и продолжительные неблагоприятные условия сосуществования меняют отношения между людьми? Нет. И при спокойной, казалось бы, благополучной жизни взаимодействие людей может катастрофически ухудшаться.
В 70-х гг. XX в. произошло удивительное научное событие: возникло новое научное направление изучения стресса. Началось с того, что стали поступать жалобы на работников службы психологической и социальной поддержки, рабочая обязанность которых — налаживать рабочие контакты и облегчать тяжелое психологическое состояние людей, попавших в беду, уменьшать их стресс, помогать советами и душевной беседой. Из-за этих жалоб и обид консультирующие организации и психотерапевтические клиники стали терпеть убытки. И вот тогда была выявлена особая форма «болезней стресса», своего рода «болезнь общения». Ее называли впечатляюще: «выгорание персонала», «выгорание личности», а потом короче — «выгорание». Предложил этот термин Фройденбергер [Freudenberger H.J., 1974]. Однако термин широко вошел в научную литературу и психотерапевтическую практику после многочисленных публикаций Кристины Маслач (Маслах) [Maslach С, 1976; Maslach С, 1978 a; Maslach С, 1978 б; Maslach С, Jackson S.E. 1981 a; Maslach С, Jackson S.E. 1982, и др.].
Независимо от американских психологов в Москве в 1976 г. Анатолием Валентиновичем Будановым (впоследствии профессором) было начато исследование психологической деформации личности сотрудников органов внутренних дел (ОВД). В отличие от американских ученых, он сразу обратил внимаение не только на психологические симптомы нарушения работы профессионалов с «клиентами» (в его случае с правонарушителями), но и на массированные изменения личности работников правоохранительных органов. Однако, если в США такие исследования стали сразу массовыми, то тогда в СССР их результаты не разглашались, потому что тоталитарно-коммунистическая пропаганда декларировала: «Личность советского человека не может быть деформирована, тем более не может выгорать личность сотрудника органов внутренних дел!» Методика диагностики «выгорания», предложенная Кристиной Маслач [Maslach С, Jackson S.E. 1981 б] была проанализирована и уточнена [Krowinski W.J. 1981]. Затем было разработано несколько опросников для определения глубины и формы «выгорания» [EmenerW.G., LuckR.S. 1980 и др.].
Главная причина «выгорания персонала» —психологическое, душевное переутомление от профессионально вынужденного общения. Особенно быстро и заметно оно наступает при чрезмерной нагрузке у людей, которые по долгу службы должны «дарить» клиентам тепло своей души. Жертвами «выгорания» в первую очередь оказываются психотерапевты (!), учителя, врачи и продавцы, т. е. профессионалы общения, призванные и обученные вежливо и душевно обслуживать других людей. «Выгорание — плата за сочувствие» — так назвала Кристина Маслач свою книгу. В ней кратко и лаконично представлены результаты обширных исследований этого печального явления [Maslach С, 1982]. Ее открытие возможности по-новому видеть проблемы стресса сучетом его влияния на способностьлюдей кобщению сразу было подхвачено множеством ученых и психологов-практиков во всех странах. Внимание к феномену «выгорание» под знаменем Кристины Маслач возрастало. Этой проблеме посвящались конференции, сборники статей [Pain W.S. (ed.), 1982; Farber В.А. (ed.), 1983; Pines A., Maslach C. (eds.), 1979; Knopf; Maslach C, Jackson S.E. 1982; Reid K.E. (ed.), 1979; Jones J.W. (ed.), 1981; Gillespie D.F. (ed.), 1986 и др.] и монографии [Maslach С, 1982; Chemiss С. 1980; Edelwich J., Brodsky A., 1980; Pines A.M., Aronson E., Kafry D. 1980; Veninga R.L., Spradley J.P., 1981; White W.L. 1979 и др.]. В 80-е гг. XX в. внимание к концепции выгорания и термин burnout потеснили термин stress со страниц сотен научных публикаций и диссертаций в англоязычных странах.
Сразу была замечена подверженность «выгоранию» администраторов BcexypoBHeft[VashC, 1980]. В последние два десятилетия «выгорание персонала» стало бичом российского бизнеса. Оказалось, что сотрудники, работающие с клиентами (менеджеры, продавцы-консультанты, банковские служащие), т. е. низшее звено организационной структуры фирм, почему-то быстро теряют способность «привлекательно» общаться с людьми, нанося этим заметный финансовый ущерб своей организации [Агапова М.В., 2004; Константинов А.Е., 2005 и др.] Но особенно опасно «выгорание личности» сотрудника правоохранительных органов, наделенного возможностью своевластно обращаться с людьми [Maslach С, Jackson S.E. 1979; Lester D., 1986; Буданов А.В., 1992 и др.]
Интересно посмотреть, как формировался термин «выгорание». Сначала писали: «staff burned-out», что-то вроде «окончание горения (воодушевления) персонала», работающего с людьми (пациентами, клиентами). Потом Кристина Маслач стала использовать новый термин: «burnout» («выгорание»), т. е. своего рода английскую аббревиатуру [Alexandr R.J., 1980]. Мной эти термины были дополнены выражениями: «выгорание личности», «выгорание души» [Китаев-Смык ЛА., 1989].
В советской психологии никак не приживался термин «выгорание личности». Согласно идеологическим установкам, господствовавшим при коммунистической власти, личность «советского человека», воодушевленная «ленинским учением» — несокрушима и не может «выгореть». Как только ни переводилось на русский язык слово *burnout»: «эмоциональная слабость», «психологическое истощение» и т. п. После моей нашумевшей публикации в 1989 г. стали использовать словосочетание «выгорание эмоций», будто не замечая, что это лишь один компонент синдрома «выгорание личности». Часто пишут: «профессиональное выгорание», подчеркивая результат — ухудшение работоспособности, упуская главное — деформацию личности профессионала.
5.2.1. Три формы-фазы «выгорания»
Многочисленные проявления «выгорания» можно свести к трем формам.
А. «Уплощение эмоций». Как произошло открытие этого нового направления учения о стрессе? Заметили, что у некоторых психотерапевтов и психологов-консультантов на фоне утомления возникает, как бы, стремление лучше работать с пациентами: душевнее беседовать, проникновеннее, даже «по-родственному» общаться с ними. Однако, это было не повышение качества их работы, а результат невольной попытки продолжать хорошо, качественно работать, вопреки утомлению.
Молодая психолог-консультант К. Маслач (в г. Пало-Альто, Калифорния, США) заметила, что:
а) именно с такого гиперэмоционального сопережива-
ния с пациентом, клиентом начинается дисквалификация персонала
б) невольно манифестированное «сверхсочувствие» вскоре сменяется приступами равнодушия к пациентам. Потом оно овладевает психотерапевтом (или другим профессионалом, работающим с людьми) каждый раз, как он входит в свой рабочий кабинет. Но при этом еще возможны эмоциональные всплески и негативные (приступы рассерженности или обиды), и позитивные (неожиданная радость, умиление);
в) и, наконец, у такого первоначально отличного профессионала, если он продолжает напряженно работать с людьми, безэмоцио-
нальность, равнодушие ко всему становится, увы, навязчиво-болезненной чертой характера, вернее, его личности. У него происходит «уплощение» эмоций, когда исчезает острота чувств и сладость переживаний. Вроде бы все нормально, но...скучно и на душе тошно. Не волнуют ни пламя заката, ни переливы птичьего щебета. Ослабли чувства к самым дорогим и близким людям. Даже любимая пища стала грубой и пресной. Но не только в этом проявляется деформация психики при «выгорании» человека, работающего с людьми.
Б. «Конфронтация с клиентом». Кристина Маслач обратила внимание на то, что некоторые психотерапевты в периоды кратковременного отдыха во время рабочего дня, беседуя с коллегами, начинают пренебрежительно, а потом и с издевкой высказываться о своих пациентах. Возбужденные или утомленные необходимостью сдерживать свой внутренний протест против душевных затрат, психотерапевты разряжали агрессию: «Сегодня такой придурок ко мне пришел, что я ...», «Эта, что у меня была, сама стерва, а хочет, чтобы все ей угождали» и т. п.
Позднее динамика этого компонента «выгорания» была систематизирована.
1 - Первоначально после вспышек усердия и желания как можно лучше обслуживать клиентов, возникает застойное переживание обиды на несправедливость —• поначалу из-за конкретного события. Потом это чувство становится постоянно гнетущим: это переживание обиженности на якобы недостаточное одобрение начальства, на неблагодарность клиентов, на то, что «за такую работу платят мало денег». «Выгорание» ведет профессионала к тому, что он игнорирует клиентов, потом уклоняется от работы с ними (частые перекуры, перерывы за чашкой кофе), потом возникают отгулы, прогулы, отсутствие «по болезни».
2. Если «выгорающий» человек вынужден все дальше работать
с людьми, то он начинает чувствовать стойкую неприязнь к клиентам (пациентам, покупателям, ученикам и др.).
3. И вот ему не удается скрыть свое раздражение и происходит взрыв: он выплескивает из себя озлобленность. Ее жертвой,
как правило, становится ни в чем не повинный человек, который ждал от профессионала помощи или хотя бы участия.
Пациенты отказываются от этой психотерапевтической клиники, она терпит убытки. Этот компонент выгорания персонала
был назван «конфронтацией с клиентом».
В. «Потеря ценностных ориентации». Третья форма симптомов «выгорания» наиболее социально и экономически опасна, хотя начало ее (как и двух других) не предвещает плохого.
а) Первоначальные симптомы «выгорания» могут проявляться в том, что при общении с клиентами и сослуживцами у человека
возникает навязчивое недоверие к их высказываниям. Оно может чередоваться или сочетаться с недовольством собой, с ощущением снижения своей компетентности в работе.
б) Далее такой человек склонен во всем новом сразу находить негативные стороны (ошибки, недолжное поведение); он сразу
обращает внимание на недостатки вещей, предвестники опасности и т. д. «Выгорающему» его навязчивая критичность
кажется достоинством, он якобы «стойкий борец за качество». Нет! Акцентируя внимание лишь на плохом, он стал «дави-
телем» хорошего, т. к. лишает людей права на ошибки, на инициативу. «Выгорающая личность» портит всем настроение
и климат в коллективе, заражает его «выгоранием».
в) Такого человека все чаще охватывает мучительное ощущение своей несостоятельности: «Я не состоялся как профессионал».
«Выгорающий» может пытаться сменить работу. Но если и там он будет работать с людьми, то «выгорание его души» лишь на
короткое время, казалось бы, прекратится, однако потом оно будет только углубляться.
Завершает нарастание этой формы «выгорания» утрата представлений о ценностях жизни, т. е. состояние, в котором человеку стало «на все наплевать». Он по привычке может сохранять и апломб, и респектабельность, но приглядитесь к нему. У него пустой взгляд и ледяное сердце. Мир для него безразличен.
* * *
Многие исследования показали, что три описанных выше формы «выгорания» протекают одновременно, но все же первоначально более заметна «сверхдушевность». На втором этапе часто доминирует конфронтация с клиентом. На завершающем этапе наиболее тягостным последствием «выгорания» всегда становится потеря ценностных ориентации.
Таким образом, «выгорание» складывается из трех форм-фаз. В реальности у людей с разными характерами с учетом множества видов профессионального обслуживания клиентов можно встречать большое разнообразие сложных сочетаний симптомов и динамики «выгорания». Давид Гилеспай по моей рекомендации исследовал различия между активной и пассивной формами выгорания [Gillespie D.F., 1981].
Многочисленные последователи Кристины Маслач находили «выгорание» у любых профессионалов, работающих с людьми: врачей, психологов, учителей, продавцов, полицейских, чиновников, работающих непосредственно с населением. В последние десятилетия «выгорание личности» диагностируется и у чиновников, работающих не с живыми людьми, а только с документами, исходящими от них. Тут уж не люди, а их фантомы истощают души обслуживающего персонала.
«Выгорание» может быть и у кого-то из родителей в многодетных семьях, у воспитателей и нянечек в яслях и детских садах. Можно л и представить что-либо трагичнее, чем беду и муку малыша, на которого обрушивается «конфронтация с клиентом» «выгоревшей» воспитательницы или, еще хуже, — матери. Но ведь и сама «выгорающая» мать тоже жертва «социального террора», деформирующего население [Harrison W.D., 1980 и др.].
Знание сложной картины «выгорания» не дает нам понимания, каковы его глубинные психологические механизмы. Что же такое «выгорание» души? К ответу на этот вопрос приближает суждение выдающегося мыслителя второй половины XX в. В.И. Володковича: «Человек живет в мире иллюзий и не может без них. Они в основе веры, надежды, любви. Выгорая душой, человек лишается иллюзий наличия веры, надежды, любви.
Сначала тает вера, и человек наполняется чувством своей безотчетной несчастности. Потом улетает надежда. У человека возникает наплевательское отношение ко всему. Последней покидает человека любовь, а вместе с нею он теряет смысл жизни. Только перебравшись в новый жизненный ареал, кардинально отличающийся от прежнего, выгоревший человек может быть спасен новыми иллюзиями» [Володкович В.И., 2007].
Г. «Выгорание» заразительно. Вы могли видеть в магазине рядом с немолодой «выгоревшей» продавщицей, злобно кричащей на покупателей, молоденькую, но столь же скандальную ее помощницу. Это не постепенно, а быстро «выгорающая личность», т. к. она «заразилась» у старшей. Заражаться «выгоранием» можно по-разному, оно возникает как:
—подражание более опытному, но выгорающему профессионалу («обезьяний эффект»);
—следование новичка традициям группы «выгорающих» работников («стадный эффект»);
—заражение «выгоранием» может быть из-за представления о пользе его симптомов («прагматический эффект»);
—«выгоревший», озлобленный на всех и на себя начальник нередко «натаскивает» помощника быть таким же, как он. Поощряемые агрессивность, грубость, чванство подчиненного в общении с клиентами как бы оправдывают эти пороки у самого начальника, даже создают у него сладострастное удовлетворение. Такой тандем особо опасен при авторитарных властителях, почти любящих и поощряющих в подчиненных отблеск своей бесчеловечности и жестокости («изуверский эффект»).
«Выгорание» может охватить почти всех сослуживцев. Они становятся сначала активными циниками, грубиянами, потом — мрачными пессимистами. И все начинают думать, что здесь собрались плохие люди. Нет! Они были хорошими, но «выгорели».
Д. Разные пути выгорания. Основательница изучения «выгорания личности» Кристина Маслач пришла к признанию того, что этот синдром может возникать не только из-за психического истощения в процессе профессионального общения с людьми. Другим важным фактором, провоцирующим «выгорание», становится длительный конфликт душевных, психических потенций человека с условиями их реализации в жизни. Эти два пути выгорания могут сочетаться, усугубляя и ускоряя деформацию личности. После нескольких десятилетий изучения этого синдрома К. Маслач обращает внимание на шесть ведущих к «выгоранию» форм несоответствия личности человека требованиям и условиям его профессиональной деятельности [Maslach К., Schaufeli W.B., Leiter М.Р., 2001 и др.].
1. Первейшей причиной такого конфликта становится несоответствие требований к работнику с его возможностями. После первых искренних и напряженных попыток делать наилучшим образом все, что требуется, понимая, что это не удается, человек работает хуже, чем мог бы. Ощущение своей неспособности и низкого качества результатов труда, угнетая, препятствует оптимальной самореализации. Возникает и прогрессирует деформация личности.
2. Возможны и противоположные обстоятельства, ведущие к «выгоранию», когда жажда самостоятельности профессионала постоянно наталкивается на ограничения условиями деятельности. Первоначальный энтузиазм сменяется ощущением угнетенности, возникает представление о своей бесполезности. Появляется оскорбленная озлобленность не только по отношению к начальству, но и к клиентам (пациентам, покупателям, ученикам и т. п.). Появляется безответственность к своим профессиональным обязанностям.
3. К. Маслач обращает внимание на то, что несоответствие вознаграждения ожиданиям работника, субъективно оценивающего свой трудовой вклад в успехи и доходы фирмы, ведет к «выгоранию» людей определенного типа.
4. Важную, часто критическую роль в прогрессировании «выгорания» играет отсутствие (утрата) положительной поддержки сослуживцами: из-за их «выгорания», или их производственной изолированности, либо же из-за их отличий (этнических, культурных, социальных, экономических).
5. Причиной «выгорания» у профессионала, работающего с людьми, может стать ущемление чувства справедливости не только к нему, но и к другим членам коллектива: непризнание заслуг, унижения, издевательства. Это ведет к «выгоранию», если человек не находит сил и права активно противостоять несправедливостям
6. Важной причиной «выгорания» в некоторых профессиях становится несоответствие между морально-этическими принципами человека и тем, что от него требуется делать во время его профессиональной деятельности. Такое несоответствие возможно у работников в «силовых» ведомствах: у полицейских, военных, спасателей, миротворцев, когда они вынуждены применять в боевой, в критической обстановке, при катастрофах приемы, методы, кажущиеся негуманными.
аморальными с позиции граждан, живущих в «мирное время», в благополучии благоустроенной жизни, незаметно охраняемой профессионалами-силовиками.
Итак, К. Маслач и другие исследователи «выгорания личности», утверждая, что оно отличается от посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР) тем, что возникает без предшествующего заметного, интенсивного стрессового эпизода, признают возможность разных путей «к выгоранию». К нему ведут, во-первых, душевное истощение при работе с людьми, во-вторых, несоответствие личности психологическим особенностям рабочей обстановки. К «выгоранию» может приближать незаметное ухудшение здоровья, а также одряхление стареющего человека. «Выгоранием» души может неблагоприятно завершиться «работа горя» после трагических невозвратимых утрат [Малкина-Пых И.Г., 2005 и др.].
Итак, несоответствие условий жизни и работы чаяниям и способностям человека создают «стресс жизни», в частности ведут к «выгоранию». Здесь все более или менее ясно. В отличие от этого «выгорание» из-за психического истощения при обслуживании клиентов в благоприятных (часто даже очень хороших!) условиях работы и жизни остается загадочным явлением. Зачем оно возникает, для чего его возможность сформирована в антропогенезе?
Пытаясь ответить на этот вопрос, надо исходить из того, что как бы ни были благоприятны условия труда по обслуживанию клиентов (пациентов, покупателей и т. п.), все же это не обыденное, не произвольное общение с людьми. Профессия обязывает «общаться», обслуживая их в соответствии с заданными нормами и, главное, «искренне» источая позитивные эмоции, даже, когда истинного повода для них нет у социального работника (врача, продавца и т. п.). И когда он печален или рассержен, и когда его личные радости никак не соотносятся с обслуживаемыми людьми.
Можно предположить, что долгое, профессионально вынужденное общение со многими людьми — противоестественно для определенного типа личностей (и их немало). Видимо, у них есть предел возможности «дарить» другим свою душевность, свое участие в чужих нуждах и невзгодах. Противоестественная интенсивность вынужденного «душевного» общения первоначально включает защитное поведение, ограничивающее (или агрессивно-ломающее) контакты с людьми. Если же из-за служебного долга приходится пренебрегать этими «тревожными сигналами», то возникает дезадаптация профессионала; в конце концов, с необратимыми «поломками» некоторых личностных функций: потеря ценностных ориентации, уплощение эмоций, утрата возможности сопереживать даже близким людям.
Противоестественность чрезмерного служебного «общения» часто усугубляется его установками: быть душевным, убедительным ради финансовых нужд фирмы. Даже если в этом «общении» нет ничего плохого, но все же оно не душевное, а вынужденное.
При массовом «выгорании» люди начинают «поедать» друг друга. Самоликвидируются добренькие, душевные личности. Устраняются человечность взаимоотношений, взаимопомощь. Массовое, тотальное «выгорание» заканчивается самоуничтожением всей группы (сообщества, социума) и заменой его в локусе обитания иными, жизнеспособными (радостными, гуманными) сообществами. Иными словами, массовое «выгорание» — это особая, специфическая форма болезни социума, ведущая его к «предсмертному» состоянию. А окончательно «умереть» ему помогут жизнеспособные конкуренты. Если это ведет к исчезновению (уходу, увольнению, заболеванию) из группы лишь «выгоревших» ее членов, то создаются условия для замены их молодыми «невы-горающими» энтузиастами, с восстановлением жизнеспособности (трудоспособности, боеспособности) коллектива. Может быть в этом смысл «выгорания» как одного из многих антропологических механизмов социального очищения и возрождения?
Этологами установлено, что в животном мире при необходимости проявляются и действуют различные врожденные аналоги «выгорания».
Е. Ошибочные подходы к пониманию «выгорания».
1. Неполноценны подходы к «выгоранию», рассматривая исключительно эмоциональную его составляющую, не обращая внимания на прочие его компоненты (так появилось выражение «эмоциональное выгорание»). Еще более бесперспективен взгляд на «выгорание» лишь с оценкой утраты профессиональных успехов человека (так называемого «профессионального выгорания»).
2. Синдром «выгорания» личности можно сравнивать с симптоматикой «стресса жизни», но не надо перемешивать их. Если это делать, то окончательно исчезает отчетливое представление о «выгорании» как о состоянии, специфическом, самостоятельном. Попытки некоторых авторов найти при все большем «выгорании» три фазы, присущие динамике стресса (описанные Гансом Селье), разрушают концепцию «выгорания личности», «выгорания персонала», провозглашенную Кристиной Маслач. и дезориентируют психотерапевтов, пытающихся помочь «выгорающим» людям.
3. Есть мнение, что «выгорание» — это механизм психологической защиты от психотравмирующих воздействий Если это «защита», то по принципу: «Брось, а то уронишь!»; есть еще более близкая к такому пониманию «выгорания» метафорическая восточная притча: «Если у тебя плохой сосед, сожги свой дом и уйди». Но при «выгорании» душа человека сгорает вместе с домом. Слишком уж трагична эта «защита» с утратой (чаще навсегда), хорошего отношения ко всем людям (а стало быть, потеря друзей), способностей переживать радости и надежды на хорошее. Человек с полностью «выгоревшей душой» — живой мертвец. На основании исследований Е.Г. Луниной показано, что негативные личностные изменения (в том числе искажение нравственных норм), возникшие в ходе профессиональной деятельности, — это не «защита», а нарушение защитных систем человеческой психики. В их основе — ослабление адаптационных возможностей организма. И главным становится не «профессиональная деформация», а «разрушение личности» [Лунина Е.Г., 1997]. Но, может быть в отдельных случаях, «выгорая» человек с «уплощенными эмоциями» все-таки становится защищенным своей бесчувственностью от смертельных «болезней стресса»: инфаркта сердца, инсульта головного мозга, прободной язвы желудка? Живя с «мертвой душой», он защищает от смерти свое тело? 4. «Выгоранием» не надо называть некоторые защитные состояния, возникающие при стрессе. У человека эмоционально-регидного, в экстремальных ситуациях может возрастать его регидность. Но не при всех людях, лишь когда рядом надоевшие, неприятные, опасные. Это не «выгорание», а психологическая защита от стресса при напряженной или даже опасной монотонии. И еще люди, склонные к интериоризации, из-за стресса еще больше «уходят в себя», и кажутся еще более безучастными к другим людям, равнодушными к работе, но при этом у них усиливается интерес к своим личным (внутренним) проблемам. Их эмоции не угасли — они не обращены к другим людям. Это тоже не «выгорание». Это «психологическая защита». После исчерпания экстремальной ситуации такие интроверты становятся, как и прежде, умеренно общительными.
Ж. О «выгорании личности» и ее деформации при посттравматическом стрессовом расстройстве. Особенно частым и глубоким «выгорание» было у американских военнослужащих, вынужденных по роду своей деятельности проводить организационные и карательные действия среди населения во время войны США во Вьетнаме. Там «работа с людьми», когда эти люди — партизаны и их приходилось допрашивать, применяя специальные методы (попросту говоря — пытать), могла настолько изнурять психику, что это приводило не только к «выгоранию души», но и к посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР) с его тяжелейшим последствием — суицидом.
Сходный феномен стал возможным у российских военных, возвращающихся с чеченских войн конца XX и начала XXI столетия. «Выгорание» и ПТСР могли быть особенно выраженными у бойцов спецподразделений, профессионально общавшихся с враждебно настроенным мирным населением и с боевиками, выдававшими себя за мирных граждан. (Подробнее об этом см. 4.5.) В экстремальных условиях (во время боевых противостояний, катастроф) возможны трагические эпизоды, условно говоря, «общения» с последующим развитием болезненных состояний, содержащих симптомы и «выгорания души», и ПТСР. «Сложность феномена профессиональной деформации не позволяет строго выдерживать исходные признаки классификации и приводит к частичному пересечению или даже отождествлению ее подмножеств» [Марьин М.И., Касперович Ю.Г., 2006.; Марьин М.И., Буданов А.В., Петров В.Е., Борисова С.Е., Такасаева К.Р., Адаев А.И., 2004, с. 6 и др.].
Психологической службой МВД России под руководством профессора М.И. Марьина были созданы эффективные программы рекреации работников МВД, служивших в «горячих точках» России [там же]. Благодаря этому было предотвращено возрастание суицидальности в боевых контингентах, возвращающихся из Чеченской Республики после «наведения конституционного порядка» [Гордиенко Ш.А., 2006]. И все же суицидальность воевавших в Чечне остается печальным показателем опасности боевых психотравм [Грачев С.Г., 2006]. Наряду с этим замечено, что самоубийственным стрессовым тенденциям «противостоит» стремление ветеранов нынешних чеченских войн воспроизводить потомство, создавать новые семьи [там же].
Для различения (дифференциации) «выгорания» и ПТСР надо установить: было ли в анамнезе (в истории жизни) пациента психотравмирующее событие (цепь событий), как причина ПТСР. Если не было отчетливой психотравмы, то не стало ли экстремальное общение настолько впечатляющим, что его надо рассматривать как причину развития ПТСР. «Выгоранием» в истинном, рафинированном смысле этого термина следует называть синдром деформации личности, в анамнезе которой не было заметных, значительных психотравм.
Можно ли называть «выгоранием души» изменение личности, не пережившей тяжелой психологической травмы (стресса) «вялотекущим посттравматическим стрессовым расстройством»? Если видеть травмирующий фактор в обилии пациентов, жаждущих помощи, когда открытость души исцеляющего их человека превращается в душевную рану, то — да. Но вряд ли надо так расширительно понимать термин «посттравматическое стрессовое расстройство».
Для понимания различий «стресса жизни», «выгорания» и ПТСР может оказаться целесообразным взгляд на них с позиции концепции о функциональных системах академиков П.К. Анохина и К.В. Судакова [Анохин П.К. 1980; Судаков К.В., 1981]. При этих во многом различных экстремальных состояниях, вероятно, формируются разные функциональные системы жизнедеятельности. Иными словами, можно сказать — под действием чрезвычайных факторов происходят «стрессовые кризисы» разного рода (и ранга), формирующие необходимые защитные функциональные системы.
5.2.2. Неизлечимость «выгоревшей души»?
Специалисты по «выгоранию» в США и Европе приходили к выводу: излечить «выгорание» нельзя [Paine W.S. (ed.), 1982; Farber В.А. (ed.), 1983 и др.]. Так ли это? Да, окончательно «выгоревшую личность» вылечить не удается. Надо измениться самой личности, стать другой, у которой «выгорания» уже нет.
Вспомним старинную рекомендацию: «Если переутомился физически — надо выспаться; если переутомлена нервная система — надо подлечиться у невропатолога и отдыхать в санатории; если переутомился душевно — надо изменить жизнь». В третьем варианте речь шла о «выгорании». Чтобы спастись от него, надо изменить свою жизнь. Это почти не возможно в нашей обыденной, занужденной действительности. Она не выпускает впрягшегося в нее человека, должного день за днем отдавать силы своей работе (часто к другой он не способен), общаясь с людьми, «выгорающими», как и он. А близкие ему люди, когда-то дорогие и любимые, теперь не понимают и с трудом терпят его «выгорание».
Чтобы излечиться от «выгорания», нужен случай или человек, которые помогут уйти, ускользнуть от обыденности; уехать «на природу», непременно с намерением навсегда остаться там; «опроститься», став сельским жителем, лесником, пчеловодом, наконец, сторожем в садовом товариществе. Труднее, но можно, напротив, «усложниться» личности человека, чтобы вытеснить новым занятием все «выгоревшее» из души: вернуться к неосуществленным мечтам, заняться искусством самому или с новыми людьми, отправиться в путешествие по когда-то манившим странам. Есть и другие пути избавления от «себя-выгоревшего». Могут стать полезными экстремальные виды спорта в природных условиях: в горах, на воде, в воздухе. Но следует остерегаться экстремальных «забав» — не надо «играть» жизнями других людей. Поначалу это уводит от причин «выгорания», потом усугубляет его. «Играя» болью и смертью других, можно растратить последние, тайные запасы своей души (глубинные резервы психики).
Таким образом, чтобы излечиться от «выгорания души» можно и надо не упустить случай и свой душевный порыв, который откроет путь к «новой» жизни. «Выгорания» удается избежать, если семья и друзья поддерживают в человеке убежденность в том, что, несмотря на трудности, он может проявить себя достойно. Но главное, конечно, регулярно отдыхать не только телом, но и душой. И еще, спасаясь от «выгорания», нужно всегда достойно решать проблему ответственности.
Но вот, еще один «проект» спасения от «выгорания». Продуктивен ли он? Учтем, что на себе это пробовать опасно. Итак, что же делать окончательно «выгорающему»? Позволить себе мечтать. Воспользуйтесь и чужими фантазиями: почитайте беллетристику (детектив, бульварный роман). Мечтания разбудят надежды, рассеют туман безразличия и мглу безразличия ко всему. И все же, учитесь полезному, спасение от выгорания, как это ни странно, на путях расширения знаний. Учеба откроет новые горизонты, поднимет над пепелище выгоревшей души, подарит вам веру в себя. Надейтесь, что в будущем вас посетит любовь. Не стесняйтесь своей доброты, доброжелательности. Даже крупицы добра, подаренные людям, тем, что рядом, умиротворят и укрепят вашу душу. Религия — один из путей спасения выгоревшей души, но опасайтесь своего фанатизма: он может быть симптомом «выгорания», агрессивной конфронтации с міром.
5.2.3. Арсенал «не выгорающей личности»
Есть ли люди «не выгорающие»? Да. Каковы их способы сохранять свои души, откуда берется их жизнеспособность?
Совместно с Колбиной Т.В. нами проведено исследование «не выгорающих» личностей. Кратко изложим результаты этой работы. «Невыгорающую личность» (НЛ) отличают: 1. Уравновешенность психических процессов. Эмоции у НЛ
выражены, но уравновешены: «она горит, не полыхая». Такая
личность «сама с собой в ладу». Этот человек, как правило.
интернал (с опорой на себя самого). Такому человеку быть одному не скучно.
2. Постоянное виденье позитивных последствий любых своих начинаний и в больших делах, и в малых: «Мою пол и представляю, каким чистым и хорошим он будет». Такую личность подпитывает радость триумфа, взятая взаймы у предстоящих побед. Такое свойство у НЛ усиливается при стрессе.
3. Любовь к работе благодаря созданию новизны в ней. «Невы-горающие» преподаватели, обследованные нами, постоянно черпали из Интернета новые данные для занятий со студентами, разрабатывали новые циклы лекций.
4. Важнейшим свойством НЛ оказалась ироничность. «Невы-горающего» преподавателя развлекала даже тупость и лень его студентов. Ни рассерженности, ни равнодушия к ним не было.
5. Удовлетворение жизнью НЛ подпитывается способностью видеть бесконечное разнообразие и изменчивость всего, даже в мелочах, прежде всего в природных явлениях.
6. Для НЛ свойствен умеренный фатализм. «Умру ли я, живу ли я — я мошкою счастливою летаю» — так поется в детской песенке. Фатализм «не выгорающего» человека способствует беспрерывному удовлетворению жизнью.
7. «Невыгорающий» человек питает теплом своей души других людей, часто сам того не замечая. И окружающие его люди этого не замечают и начинают чувствовать его незаменимость, когда он уходит навсегда.








