Объединяющая угроза: дифференциация и доступ к SDT
Как Китай потерял свою волчью стаю: распад альянса развивающихся держав в ВТО
КРИСТЕН ХОПВЕЛЛ*
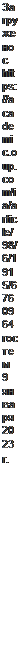 Были огромные дебаты о значении и влиянии союзов новых держав, таких как БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Новые державы стремились действовать вместе, чтобы увеличить свою переговорную позицию и влияние в глобальной политике и управлении, и многие праздновали их подъем как начало нового плюрализма в глобальном порядке и отход от доминирования Запада.[1]Тем не менее, некоторые ставят под сомнение значение их союзов, утверждая, что расходящиеся интересы и взаимное недоверие помешали новым державам действовать вместе как единый политический блок.[2]Таким образом, скептики отвергли БРИКС, например, просто как «басню» или «заблуждение».[3]
Были огромные дебаты о значении и влиянии союзов новых держав, таких как БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Новые державы стремились действовать вместе, чтобы увеличить свою переговорную позицию и влияние в глобальной политике и управлении, и многие праздновали их подъем как начало нового плюрализма в глобальном порядке и отход от доминирования Запада.[1]Тем не менее, некоторые ставят под сомнение значение их союзов, утверждая, что расходящиеся интересы и взаимное недоверие помешали новым державам действовать вместе как единый политический блок.[2]Таким образом, скептики отвергли БРИКС, например, просто как «басню» или «заблуждение».[3]
Однако в случае с многосторонней торговой системой влияние союзов новых держав, несомненно, было огромным.[4]Альянс между Бразилией, Индией и Китаем («БИК») привел к значительному изменению власти во Всемирной торговой организации (ВТО).[5]Эти три страны объединились, чтобы уравновесить Соединенные Штаты и другие авторитетные державы, и их союз оказался удивительно устойчивым и весьма значимым. Альянс BIC преобразовал структуру власти ВТО, положив конец давнему господству Соединенных Штатов и других развитых промышленно развитых стран и продвигая новые державы во внутренний круг власти. В результате произошло столкновение между
*Это исследование было поддержано Советом по исследованиям в области социальных и гуманитарных наук и программой Канадских исследовательских кафедр.
старые и новые полномочия привели к срыву Дохинского раунда торговых переговоров и повторному параличу последующих переговоров.[6]Такое сотрудничество не ограничивалось исключительно торговым режимом. Исследования в других областях глобального управления, таких как финансы и развитие, выявили аналогичные примеры сотрудничества и совместных действий среди развивающихся держав.[7]
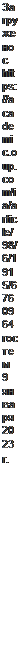 Эта статья способствует продолжающимся дебатам о способности развивающихся держав действовать в качестве единой и последовательной силы в глобальном экономическом управлении путем анализа меняющейся политики альянсов в ВТО.[8]Являясь основной опорой глобального экономического управления, ВТО была ключевым местом глобальной борьбы за власть, что делает ее важным примером для оценки современных отношений между развивающимися державами. Как показало предыдущее исследование, стратегическое сотрудничество и политическая согласованность между Китаем, Индией и Бразилией были необходимы для уравновешивания сложившейся власти и свержения преобладающей иерархии власти в ВТО. Однако в этой статье я показываю, что союз развивающихся держав, существовавший почти два десятилетия в контексте ВТО, теперь распался. Ключевым вопросом, который исторически объединял развивающиеся державы и служил основой для их союза, был «особый и дифференцированный режим» (SDT) для развивающихся стран, которые развивающиеся державы успешно использовали, чтобы противостоять давлению со стороны Соединенных Штатов и других авторитетных держав с целью открыть и либерализовать свои рынки. SDT стал центральным предметом спора на переговорах в ВТО, ответственным за неоднократный срыв Дохинского раунда, а также последующих переговоров. Но теперь и Бразилия, и Индия вышли из альянса BIC, отказавшись от Китая. Бразилия первой дезертировала, перешла на другую сторону и объединилась с Соединенными Штатами. Вскоре после этого Индия также покинула Китай. В случае с Бразилией изменение ее союзнических расчетов отражало смещение экономических целей и фундаментальную переориентацию ее внешнеполитической стратегии в сторону от прежнего «третьего мира». Для Индии союз с Китаем, когда-то являвшийся важным источником силы, стал обузой.
Эта статья способствует продолжающимся дебатам о способности развивающихся держав действовать в качестве единой и последовательной силы в глобальном экономическом управлении путем анализа меняющейся политики альянсов в ВТО.[8]Являясь основной опорой глобального экономического управления, ВТО была ключевым местом глобальной борьбы за власть, что делает ее важным примером для оценки современных отношений между развивающимися державами. Как показало предыдущее исследование, стратегическое сотрудничество и политическая согласованность между Китаем, Индией и Бразилией были необходимы для уравновешивания сложившейся власти и свержения преобладающей иерархии власти в ВТО. Однако в этой статье я показываю, что союз развивающихся держав, существовавший почти два десятилетия в контексте ВТО, теперь распался. Ключевым вопросом, который исторически объединял развивающиеся державы и служил основой для их союза, был «особый и дифференцированный режим» (SDT) для развивающихся стран, которые развивающиеся державы успешно использовали, чтобы противостоять давлению со стороны Соединенных Штатов и других авторитетных держав с целью открыть и либерализовать свои рынки. SDT стал центральным предметом спора на переговорах в ВТО, ответственным за неоднократный срыв Дохинского раунда, а также последующих переговоров. Но теперь и Бразилия, и Индия вышли из альянса BIC, отказавшись от Китая. Бразилия первой дезертировала, перешла на другую сторону и объединилась с Соединенными Штатами. Вскоре после этого Индия также покинула Китай. В случае с Бразилией изменение ее союзнических расчетов отражало смещение экономических целей и фундаментальную переориентацию ее внешнеполитической стратегии в сторону от прежнего «третьего мира». Для Индии союз с Китаем, когда-то являвшийся важным источником силы, стал обузой.
Альянс растущих сил в ВТО
Существующие исследования подчеркивают важную роль альянсов новых держав в недавних изменениях власти в ВТО.[9]В течение почти полувека в системе многосторонней торговли доминировали США, ЕС и горстка других богатых стран, в то время как развивающиеся страны были исключены из процесса принятия решений, а их интересы были маргинализированы10. однако, начиная с 2001 г., Бразилия, Индия и Китай объединились друг с другом, чтобы усилить свою переговорную позицию, успешно преодолевая различные торговые интересы и другие источники соперничества, чтобы сотрудничать и координировать свои усилия на переговорах.11 Их политическая ориентация послужила основой для высокоэффективных переговорных коалиций, таких как «Группа 20» (G20T)12 и «Группа 33» (G33), которые превратили переговоры в Дохе в битву между Севером и Югом.13 Более того, помимо их формальных переговорных коалиций,поскольку основная ось конфликта сосредоточилась на столкновении между Соединенными Штатами и новыми державами, их неформальный союз имел решающее значение, позволив BIC уравновесить мощь США.
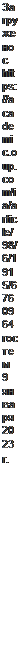 Новые державы — даже Китай — остро осознавали опасность изоляции. Опасаясь, что Соединенные Штаты станут мишенью для него, Китай решил сосредоточиться на «единстве» и «солидарности» с другими развивающимися странами. и не один. Соединенные Штаты по-прежнему остаются сверхдержавой — крупнейшей экономикой мира. В условиях один на один США почти всегда побеждают». 15 Благодаря союзу с Индией и Бразилией, продолжил он, «это уже не один на один, а США против группы стран. США — большой слон, но теперь у нас есть группа волков — тогда у нас есть шанс». Таким образом, для Китая и других развивающихся держав их союз был мотивирован осознанием того, что, как выразился один посол, «в изоляции мы — легкая добыча»16.
Новые державы — даже Китай — остро осознавали опасность изоляции. Опасаясь, что Соединенные Штаты станут мишенью для него, Китай решил сосредоточиться на «единстве» и «солидарности» с другими развивающимися странами. и не один. Соединенные Штаты по-прежнему остаются сверхдержавой — крупнейшей экономикой мира. В условиях один на один США почти всегда побеждают». 15 Благодаря союзу с Индией и Бразилией, продолжил он, «это уже не один на один, а США против группы стран. США — большой слон, но теперь у нас есть группа волков — тогда у нас есть шанс». Таким образом, для Китая и других развивающихся держав их союз был мотивирован осознанием того, что, как выразился один посол, «в изоляции мы — легкая добыча»16.
Альянс BIC оказался чрезвычайно успешным. Объединившись, Китай, Индия и Бразилия оказали значительное влияние на переговоры в Дохе и предполагаемое соглашение, о чем свидетельствует их успех в блокировании предложений со стороны существующих держав и в продвижении собственных инициатив17. Самое главное, они смогли обеспечить существенное ОДР для развивающихся стран практически по всем аспектам предложенного Дохинского соглашения, включая сокращение обязательств по либерализации, большую гибкость и исключения, а также более длительные периоды реализации. Таким образом, стратегическое сотрудничество между новыми державами было необходимо для свержения преобладающей иерархии власти в ВТО.

«Понимание «институционального кризиса» либерального торгового порядка в ВТО», International Affairs 97: 5, 2021, стр. 1521–40.
10 Музака и Бишоп, «тупиковая ситуация в Дохе».
11 BIC представляет собой неформальный альянс, а не официальную коалицию для переговоров, но сочетает в себе элементы как коалиций, основанных на идентичности, так и на основе интересов.
12 Обозначается как G20T, чтобы избежать путаницы с группой G20 стран с развитой экономикой и стран с формирующимся рынком.
13 Эндрю Харрелл и Амрита Нарликар, «Новая политика конфронтации: Бразилия и Индия в многосторонних торговых переговорах», Глобальное общество 20: 4, 2006 г., стр. 415–33; Синха, «Понимание «кризиса института»»; Шаффер, Новые державы.
14 Интервью с китайскими переговорщиками, Женева, май 2009 г.
15 Интервью с китайским переговорщиком, Женева, май 2009 г.
16 Интервью с послом, Женева, май 2009 г.
17 Хоупвелл, «БРИКС»; Музака и Бишоп, «тупиковая ситуация в Дохе»; Нарликар, «Новые силы в клубе».
Объединяющая угроза: дифференциация и доступ к SDT
Фундаментальной проблемой, объединяющей новые державы в ВТО, была угроза «дифференциации» между развивающимися странами, которая ограничила бы их доступ к SDT. Основной принцип многосторонней торговой системы заключается в том, что развивающимся странам должно быть предоставлено SDT, что позволит им более широко использовать тарифы, субсидии и другие инструменты торговой политики для содействия экономическому развитию. Но на фоне изменений в мировой экономической мощи SDT стал одним из самых спорных вопросов в торговой системе. SDT основан на убеждении, что развивающиеся страны не должны соответствовать тем же стандартам и ожиданиям, что и развитые страны, а вместо этого им должна быть предоставлена большая свобода использования торговых мер, чем это было бы разрешено правилами ВТО. Без установленных критериев для определения того, что представляет собой «развивающаяся страна» в ВТО,
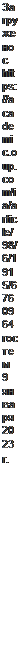 В ходе Дохинского раунда США и другие развитые промышленно развитые государства стали все больше недовольны перспективой распространения ОДР на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, утверждая, что «размер и траектории роста развивающихся экономик в сочетании с тем фактом, что некоторые из них теперь ведущие производители и экспортеры в ключевых секторах ... отличают их от других развивающихся стран.[10]Соединенные Штаты и другие страны стремились ограничить доступ развивающихся держав к SDT, утверждая, что они «вышли» из статуса развивающейся страны. Однако развивающиеся державы «категорически выступают против любых разговоров [о] дифференциации», настаивая на том, что «SDT должны применяться в равной степени ко всем развивающимся странам».[11]Угроза дифференциации и принуждение к большей либерализации послужили мощным стимулом для новых держав объединиться, несмотря на их в остальном несопоставимые интересы.
В ходе Дохинского раунда США и другие развитые промышленно развитые государства стали все больше недовольны перспективой распространения ОДР на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, утверждая, что «размер и траектории роста развивающихся экономик в сочетании с тем фактом, что некоторые из них теперь ведущие производители и экспортеры в ключевых секторах ... отличают их от других развивающихся стран.[10]Соединенные Штаты и другие страны стремились ограничить доступ развивающихся держав к SDT, утверждая, что они «вышли» из статуса развивающейся страны. Однако развивающиеся державы «категорически выступают против любых разговоров [о] дифференциации», настаивая на том, что «SDT должны применяться в равной степени ко всем развивающимся странам».[11]Угроза дифференциации и принуждение к большей либерализации послужили мощным стимулом для новых держав объединиться, несмотря на их в остальном несопоставимые интересы.
Вопрос о дифференциации и о том, должны ли новые державы иметь право на SDT, в конечном итоге стал основой краха Дохи. Как заявил один из участников, «вопрос о дифференциации стал центральным камнем преткновения на Дохинском раунде практически по всем направлениям переговоров».[12]К министерскому совещанию 2008 года, которое должно было завершить раунд, предполагаемое Дохинское соглашение, которое включало существенные положения SDT для развивающихся стран, включая развивающиеся державы, стало неприемлемым для Соединенных Штатов. Соответственно, США стремились «сбалансировать» сделку, потребовав большего открытия рынка от развивающихся держав. Но они отказались, заявив, что требования Соединенных Штатов — взять на себя обязательство не использовать определенные гибкие возможности SDT в сельском хозяйстве и согласиться участвовать в агрессивной либерализации в конкретных производственных секторах — были необоснованными и несоразмерными уступкам, которые сами Соединенные Штаты сделали. готовы сделать, особенно в сельском хозяйстве. Поскольку развивающиеся державы тесно объединились, Соединенные Штаты не смогли одолеть Китай, Индию и Бразилию.
Когда в 2011 году Дохинский раунд переговоров был объявлен зашедшим в тупик, акцент сместился на попытки заключить отдельные соглашения по более узким вопросам, таким как сельское хозяйство и рыболовство. Тем не менее SDT оставался основным источником конфликта, и стратегическое согласование между новыми державами продолжалось и в эпоху переговоров после Дохи.[13]Как подытожил один переговорщик:
У нас есть две основные общие проблемы — разработка и SDT. Когда дело доходит до SDT, мы по-прежнему едины в том, что не нарушаем этот основной принцип. Всякий раз, когда происходит нападение на компонент развития раунда, возникает сильное чувство солидарности, реакция сплочения.[14]
Новые державы прекрасно осознавали, что их союз имеет решающее значение для укрепления их позиций на переговорах и их способности защищать свои интересы — как выразился один из их переговорщиков, «наша сила — в группе».[15]Даже после развала в Дохе Китай, Индия и Бразилия оставались главными мишенями Соединенных Штатов, и угроза дифференциации и отказа в доступе к SDT продолжала связывать их вместе. Как выразился один представитель, BIC «по-прежнему старался, насколько это возможно, оставаться единым целым».[16]Развивающиеся державы продолжали настаивать на том, что как развивающиеся страны они должны иметь доступ к SDT и право на те же исключения, что и другие развивающиеся страны. BIC настаивал на том, чтобы принципы SDT «должны быть полностью сохранены и для всех членов», и определил это как «красную черту», на которой они не желали сдвинуться с места.[17]Таким образом, стратегическое согласование между новыми державами, характерное для раунда переговоров в Дохе, оказалось прочным и устойчивым даже после провала раунда переговоров.
Распад BIC
Для Китая формирование союзов — «группы волков», как выразился упомянутый выше переговорщик, — было центральным элементом его стратегии в ВТО. Как во время, так и после Дохинского раунда прочный союз, заключенный с Бразилией и Индией, имел решающее значение для защиты своих интересов от давления со стороны существующих держав. В основе этого союза, объединяющего нарождающиеся державы, лежал вопрос об СДТ. Но, несмотря на то, что он продлился почти два десятилетия, по мере эскалации напряженности в торговом режиме и эскалации борьбы за SDT, формирующийся силовой альянс в конечном итоге распался. Один за другим ключевые союзники Китая отказались от него — сначала Бразилия в 2019 году, за ней быстро последовала Индия в 2020 году. Выйдя из альянса BIC, Бразилия и Индия оставили Китай в покое и изолировали его в центральном вопросе SDT.
Эскалация борьбы за SDT
Конфликт вокруг SDT значительно обострился при администрации Трампа на фоне торговой войны между США и Китаем. Стремясь ограничить SDT для всех крупных стран с развивающейся экономикой, США в первую очередь беспокоятся о Китае. Будучи крупнейшим в мире торговцем и второй по величине экономикой, Китай в настоящее время обеспечивает 16 % мирового ВВП (по сравнению с Индией и Бразилией, которые составляют всего 3 % и 2 % соответственно) и 12 % от общего объема торговли товарами (по сравнению с Индией и Индией). Бразилия на 2 процента и 1 процент).[18]Эти различия резко возросли с момента образования альянса BIC в 2003 году (рис. 1). В дополнение к большому и растущему экономическому разрыву между Китаем и его партнерами по альянсу, Китай рассматривается как главная угроза американской гегемонии — «стратегический соперник», угрожающий мощи, влиянию и интересам США, [и] пытающийся подорвать американскую безопасность и процветание'.[19]Таким образом, как резюмировал один американский переговорщик: «Наша проблема в значительной степени сосредоточена на одной стране — Китае».[20]Таким образом, в битве за SDT Соединенные Штаты больше всего беспокоятся о Китае.








