3. Директивность воздействий на ребенка.
4. Не поощряется эмоциональная зависимость.
5. Не поощряется инфантильное поведение.
Результаты
Главная задача, поставленная Бомринд, состояла в том, чтобы определить паттерны родительского поведения, которые позволили бы надежно предсказывать итоговые характеристики поведения ребенка. Бомринд начала с трех паттернов родительства, которые она определила в своем предыдущем исследовании (авторитарный, авторитетный и либеральный стили); однако следует учесть, что эти паттерны определялись на основании анализа детского поведения. Поэтому важно задать вопрос о том, основывается или нет стиль родительства с определенным названием на реальном родительском поведении именно такого типа. Оказывается, что в основном именно так и происходит, но существует несколько разновидностей стиля родительского воспитания, которые в более ранних исследованиях обнаружены не были. Мы рассмотрим и сами стили, и их разновидности. Однако позвольте вас предупредить. Эти стили были выделены благодаря использованию сложных процедур количественной оценки. Я не жду, что вы запомните определения каждого стиля и разновидностей, но все же представлю их здесь, чтобы вы могли осознать всю сложность проделанной Бомринд работы. Те три родительских стиля, о которых, как правило, помнят психологи, — главные из всех обнаруженных ею.
Стили родительства
Двторитарные родители. Цель авторитарного родителя —
обеспечить абсолютное послушание ребенка. Такая мать, например! устанавливает жесткую дисциплину и наказание для ребенка, когда желание ребенка противоречит ее собственному желанию. Она никогда не стремится к обмену мнениями и считает, что решающее слово всегда должно оставаться за ней. Бомринд указывает, что существуют две разновидности авторитарного стиля воспитания: авторитарный — неотвергающий стиль и авторитарный — отвергающий/пренебрегающий стиль.
Авторитарный и неотвергающий стиль воспитания характеризует семью, когда: 1) оба родителя отличаются высокой требовательностью (выше среднего уровня этого показателя), 2) у обоих родителей по шкале поощрения независимости и индивидуальности отмечаются значения ниже среднего, 3) и отец, и мать показывают результаты ниже среднего по шкале пассивного принятия ребенка и 4) у отца значения показателя нонконформизма — в нижней трети диапазона шкалы, или же значения показателя авторитарности — в верхней ее трети. То есть если отвлечься от языка специальных терминов, эти родители очень строго следят за соблюдением правил, они не поощряют независимость и индивидуальность детей, они не скрывают свой гнев и фрустрацию, а отец требует конформизма. Десять семей придерживались такого стиля воспитания.
Авторитарный — отвергающий/пренебрегающий стиль воспитания описывается с помощью всех уже названных характеристик, и добавляются следующие: 1) оба родителя демонстрировали значения выше среднего по показателю отвержения и 2) у обоих родителей отмечались значения ниже среднего по показателю стремления обеспечить ребенку обогащенную среду. Итак, эти родители не только были авторитарными, как и представители первой подгруппы, но вдобавок они отвергали своих детей и предпринимали весьма незначительные попытки стимулировать развитие детского ума. Такого стиля придерживались в шестнадцати семьях.
Авторитетные родители. Главная цель авторитетного родителя — личностный рост его ребенка. Такие матери, например, устанавливают строгие правила, но охотно меняют их по договоренности с ребенком. Они ценят индивидуальность и точку зрения своего ребенка. Они также уверены, что когда сообщают о правиле, то это необходимо сопровождать разъяснением, причем таким, чтобы ребенок мог полностью понять требование.
Бомринд также обнаружила две разновидности этого стиля родительства: авторитетный — не поощряющий нонконформизм и авторитетный — нонконформистский.
Стиль авторитетного — не поощряющего нонконформизм воспитания, отвлекаясь от его неуклюжего названия, в двух отношениях сходен с авторитарным стилем родительства. Этот стиль характеризовался: 1) наличием у обоих родителей значений выше среднего по признаку требовательности, или же у одного из родителей — значений в верхней трети диапазона шкалы и
2) наличием у обоих родителей значений ниже среднего по показателю пассивного принятия. Кроме того, при данном стиле:
3) у обоих родителей значения по поощрению независимости и индивидуальности — выше среднего уровня. Другими словами, эти родители строго придерживаются правил, они открыто выражают гнев и фрустрацию, когда испытывают их, но вместе с тем они придают большое значение эмоциональному росту своих детей как самостоятельных и независимых людей. Такой стиль был принят в 19 семьях.
Стиль авторитетного и нонконформистского воспитания был подобен предыдущему, но отличался тем, что: 1) у одного из родителей значения по показателю требовательности были в верхней трети диапазона шкалы, а у другого родителя по тому же показателю — ниже среднего, 2) у отца значения по показателям отвержения и авторитарности были ниже среднего и 3) у отца значения по показателю стремления к развитию у детей нонконформизма располагались в верхней трети диапазона шкалы. Другими словами, такие родители были, в целом, сходны по своим установкам с авторитетными и не поощряющими нонконформизм родителями, за исключением того, что отец в этой группе был очень отзывчивым и поощрял ребенка подвергать сомнению авторитеты.
Либеральные родители. Главная цель либеральных родителей — обеспечить детей всем необходимым и удовлетворять их желания. Такая мать, например, не стремится наказывать, полностью принимает ребенка и всегда позитивно относится к проявляемому им своеволию. Такая мать не требует от ребенка помогать по дому или вести себя социально приемлемо, она считает, что ребенок сам должен регулировать свое поведение. В своей классификации разновидностей либерального воспитания Бомринд указывает, что нет таких людей, которые бы полностью соответствовали стереотипу абсолютно либерального родителя. Напротив, такие родители в той или иной степени не соответ
сТВуют нашим представлениям о том, что есть нормальный, поистине либеральный родитель.
Так, нонконформистский (не либеральный и не авторитетный) родительский стиль обладает многими характеристиками своего прототипа — либерального родителя. Этот стиль можно определить следующим образом: 1) по крайней мере у одного из родителей результаты ниже среднего по шкале требовательности, 2) по крайней мере у одного из родителей значения по показателю поощрения независимости и индивидуальности — выше среднего, 3) у отца результаты ниже среднего по показателю отвержения, 4) у обоих родителей значения по показателю поощрения независимости и индивидуальности находятся в верхней трети диапазона шкалы, или же у отца значения в верхней трети диапазона по шкале поощрения нонконформизма и 5) у отца значения по показателю авторитарности ниже среднего. То есть это означает, что хотя родители не принуждали детей жестко соблюдать какие-то семейные правила, они, по крайней мере, поощряли независимость у детей, и хотя бы один из родителей старался не отвергать ребенка. А если оба родителя не поощряли независимость, то отец пытался развивать нонконформизм у детей и поощрял детей сомневаться в авторитетах. Этот стиль характерен для родителей 15 детей.
В рамках либерального (не нонконформистского) стиля формируется по-настоящему снисходительный стиль воспитания. Для такого стиля воспитания характерно то, что: 1) у обоих родителей результаты ниже среднего по требовательности, 2) по крайней мере один из родителей по признаку пассивного принятия ребенка имел значения в верхней трети диапазона шкалы и 3) по крайней мере один из родителей по отвержению имел значения в нижней трети диапазона шкалы. Кроме того, семьи с таким стилем воспитания отвечали двум из следующих трех критериев: а) по крайней мере у одного из родителей отмечались значения ниже среднего по шкале ожидания участия ребенка в выполнении семейных обязанностей, б) по крайней мере у одного из родителей были значения ниже среднего по шкале ди-рективности и в) по крайней мере у одного из родителей показатели в нижней трети диапазона по шкале неодобрения инфантильного поведения. Иначе говоря, такие родители не требовали от ребенка строгого выполнения правил и не ожидали, что дети будут принимать участие в выполнении домашних обязанностей. Более того, такие родители полностью принимали детей и даже терпеливо относились к ним, когда их четырехлетние малыши
вели себя как совсем маленькие младенцы. Теперь, надеюсь, вам ясна картина? Четырнадцать семей придерживались такого стиля воспитания.
Отвержение — пренебрежение. Наконец, есть еще группа родителей, стиль воспитания которых вызывает тревогу у психологов. Бомринд использовала обозначение «отвержение — пренебрежение», когда хотела описать привычные формы поведения родителей, у которых: 1) значения по шкале поощрения независимости и индивидуальности ниже среднего, 2) результаты по шкале отвержения выше среднего. Если у обоих родителей значения по показателю отвержения не выше среднего, то эти родители могут быть все-таки отнесены к представителям рассматриваемого стиля, если: а) у одного из родителей значения по показателю отвержения относились к верхней трети диапазона шкалы или б) у обоих родителей значения по показателю обогащения среды ребенка относились к нижней трети шкалы, а значения по показателю неодобрения эмоциональной зависимости относились к верхней трети диапазона шкалы. Другими словами, эти родители не только не предоставляли детям жесткую структуру правил, но и фактически полностью отвергали детей, не стараясь научить их быть независимыми. 11 пар родителей придерживались именно такого стиля воспитания.
Взаимосвязь между стилем воспитания и поведением детей
После того как Бомринд установила, что можно выделить различные стили родительского воспитания на основании поведения родителей, она исследовала вопрос о том, приведут ли эти стили к формированию желательных или нежелательных качеств у детей, или нет. Вспомните, желательное качество — это такое, которое помогало бы ребенку адаптироваться в обществе людей. Несмотря на то что изначально Бомринд определила семь общих характеристик поведения ребенка, она объединила все эти характеристики и выделила из них две общие черты, которые наиболее точно определяли социальную адаптацию ребенка. Первую такую характеристику автор обозначила термином социальной ответственности; вторую характеристику она назвала независимостью. Социальная ответственность высоко ценится в большинстве культур (если даже не во всех культурах); она в большей или меньшей степени определяет то, насколько дети уважают благополучие других людей и переживают за них. Показатель социальной ответственности Бомринд разработала,
объединив значения по трем из семи показателей, характеризующих поведение детей. Это показатели враждебности — дружелюбия, склонности к сопротивлению — ориентации на сотрудничество, ориентации на достижение — отсутствия ориентации на достижение. Дети с высокими показателями социальной ответственности чаще всего оценивались как дружелюбные, ориентированные на сотрудничество и успех. И, конечно, дети с самыми низкими показателями социальной ответственности оценивались как враждебные, сопротивляющиеся и не ориентированные на достижения. Деловая независимость также высоко оценивается во многих культурах, особенно в западной культуре. Итак, Бомринд сделала вывод о том, что дети с высоким уровнем независимости будут хорошо подготовлены к включению в западную культуру. Автор оценивала независимость на основании сочетания четырех из семи первоначально выделенных характеристик поведения: несговорчивость — сговорчивость, стремление оказывать влияние — покорность, целеустремленное поведение — бесцельное поведение, независимость — внушаемость. Дети с высоким уровнем независимости показывают более высокие результаты по сговорчивости, стремлению оказывать влияние, целеустремленности и, естественно, независимости, а дети с низким уровнем независимости показывают более высокие результаты по несговорчивости, покорности, бесцельности поведения и внушаемости. Давайте рассмотрим, какими вырастают дети, в зависимости от стиля воспитания, который практикуют их родители. Мы используем гипотезы Бомринд.
Гипотеза 1: Бомринд считала, что детям авторитарных родителей, в отличие от остальных детей, чаще недостает независимости, но они социально ответственны. Бомринд ожидала, что дети авторитарных родителей не менее социально ответственны, чем остальные дети. Исследователь обнаружила, что дочери авторитарных родителей были значимо менее независимыми, чем дочери родителей, использующих силу собственного авторитета. Сыновья авторитарных родителей также были менее независимыми, чем сыновья родителей, использующих собственный авторитет, но не в такой степени, как девочки. Сыновья авторитарных родителей также были менее социально ответственны, чем сыновья родителей, действующих силой своего авторитета, но не в связи с тем, что у мальчиков авторитарных родителей были особенно низкие показатели социальной ответственности, а потому, что мальчики из семей с авторитетными родителями имели особенно высокие значения по названному
показателю. Кроме того, Бомринд обнаружила, что дочери авторитарных родителей реже ориентировались на достижения, чем дочери тех родителей, которые воспитывали детей на основе собственного авторитета.
Гипотеза 2: Бомринд ожидала, что дети авторитетных родителей, в сравнении с детьми всех других родителей, кроме авторитарных, будут более социально ответственными. В то же время в отличие от детей всех остальных родителей, кроме нонконформистских, такие дети будут независимыми. Как оказалось, сыновья родителей, которые использовали влияние авторитета, были значимо более социально ответственными, чем сыновья авторитарных или либеральных родителей. Эти дети были гораздо дружелюбнее сыновей нонконформистских родителей. Дочери авторитетных родителей были несколько более ориентированы на достижение, чем дочери авторитарных родителей. Но не все родители, использующие авторитет, воспитывали детей с желательным поведением. Дети авторитетных — нонконформистских родителей чаще вели себя враждебно по отношению к друзьям и неуважительно относились к авторитету взрослых!
Гипотеза 3: Бомринд предположила, что детям либеральных родителей, в отличие от детей авторитарных и авторитетных родителей, будет не хватать социальной ответственности. Правда, это не касалось детей нонконформистских родителей. Ожидалось также, что у детей либеральных родителей не будет высоких показателей независимости. Как и предсказывала Бомринд, обнаружилось, что у сыновей либеральных родителей показатели социальной ответственности были ниже, чем у мальчиков из семей с другими стилями родительства. Особенно велика у мальчиков из «либеральных» семей была разница в значениях по социальной ответственности, сравнительно с мальчиками из «авторитетных» семей. Однако по сравнению с сыновьями авторитарных родителей, их показатели социальной ответственности не были ниже. Дочери либеральных родителей не демонстрировали недостатка социальной ответственности. Однако девочки из этих семей реже оказывались независимыми, сравнительно с дочерьми авторитетных родителей. Дочери либеральных родителей не демонстрировали более низких значений по показателю независимости, чем дочери авторитарных родителей. Наконец, сыновья либеральных родителей были несколько менее целеустремленными (то есть менее заинтересованы в достижении цели), чем сыновья родителей, использую
щих авторитет. Кроме того, они были гораздо менее независимыми, чем сыновья ориентированных на нонконформизм родителей.
Гипотеза 4: Бомринд считала, что детям нонконформистских родителей будет недоставать социальной ответственности, сравнительно с детьми авторитарных и авторитетных родителей, но не с детьми либеральных родителей. Кроме того, она предположила, что по сравнению с детьми авторитарных и либеральных родителей (но не с детьми авторитетных родителей), дети нонконформистских родителей будут более независимыми.
Вопреки ожиданиям, у детей нонконформистских родителей чувство социальной ответственности было ничуть не ниже, чем у детей из семей с любым другим стилем воспитания. Более того, сыновья нонконформистских родителей чаще старались достичь успеха и были более независимыми, чем сыновья либеральных родителей. Дочери же родителей-нонконформистов были менее независимыми, чем дочери авторитетных родителей.
Обсуждение
Как вы видите, все эти данные не поддаются простой интерпретации. Ситуация осложняется и тем, что различные стили воспитания порой по-разному влияют на мальчиков и девочек. Мы приводим несколько общих выводов, которые сделала Бомринд о различной практике социализации мальчиков и девочек, и о том, как эта практика может повлиять на два разных типа социально приемлемого поведения.
Социальная ответственность
Если вы хотите, чтобы ваши дети были социально ответственными, тогда вам лучше сделать ставку на собственный авторитет в воспитании. До исследования Бомринд специалисты в области воспитания считали, что строгий стиль воспитания почти автоматически приводит к агрессивному и делинквентному поведению у детей. Однако это вовсе не факт. Те родители, которые в исследовании Бомринд были строгими, чаще всего воспитывали социально ответственных детей, причем именно в том случае, когда строгость сочеталась с принятием и одобрением своих детей и стремлением объяснять детям правила. Важно отметить, что если вы будете придерживаться авторитетного стиля родительского воспитания, избегайте нонконформистского
уклона. Представители авторитетного — нонконформистского субстиля воспитывали недостаточно социально ответственных детей.
Независимость
Если вы хотите, чтобы ваши дети, когда выросли, стали независимыми, то вам тоже лучше всего в воспитании опираться на собственный авторитет. До исследования Бомринд специалисты по воспитанию детей считали, что строгий стиль родительства ведет к пассивности и зависимости детей. Однако Бомринд обнаружила совершенно противоположное. Она писала: «По-видимому, родителям не так-то легко запугать детей». Родители, использующие собственный авторитет, как правило, обладают рядом характеристик, которые чаще всего приводят к формированию независимости у ребенка. Во-первых, такие родители создают окружающую среду, которая стимулирует детей. Стимулирующая окружающая среда вызывает интерес у детей, они стремятся ее исследовать. Это, конечно, необходимая составляющая такой черты, как независимость. Родители, использующие силу авторитета, также вознаграждали индивидуальность и самовыражение у детей даже тогда, когда дети проявляли то, что мы называем «упрямством», если это поведение детей не причиняло вреда. Авторитарные родители, с другой стороны, чаще наказывают упрямых детей, независимо от того, причиняет ли вред это детское своеволие или нет. С точки зрения авторитарных родителей, неподчинение любого типа недопустимо. Либеральные родители совершенно не были склонны реагировать на капризы детей избирательно, учитывая то, допустимо это своеволие или нет. Как считает Бомринд, «снисходительные родители скорее будут уступать требованиям ребенка, пока их терпение не исчерпается, а потом иногда очень сурово наказывают ребенка».
Суть в том, что строгость сама по себе не так уж и плоха, все дело в том, как именно отец или мать выражают свое строгое отношение к ребенку. Если строгость родителей обоснованна, и ребенку ясны ее причины, тогда результаты будут хорошими. Дети поймут, зачем нужны правила, и они поймут, когда можно нарушать правило. Соответственно, авторитетные родители поймут, почему дети нарушают правила, и они терпимо отнесутся к нарушению правил. А потом, когда дети заметят, что их родители принимают нарушения правил, если на это есть веская причина, родители послужат хорошей моделью для самих детей, когда те сами вырастут и станут родителями.
Выводы
Бомринд сделала поистине революционное открытие в детской психологии, показав, что можно выделить несколько стилей воспитания, и что различные стили могут оказать положительное или отрицательное влияние на ребенка. Она также показала, что социализация по-разному протекает у мальчиков и девочек. Вероятно, самый главный вывод этой научной работы состоит в том, что наилучшие результаты дает авторитетный стиль воспитания. Поэтому неудивительно, что как только работа была опубликована и ее стали читать детские психологи, многие родители в стране начали применять воспитательные техники, которые, как им казалось, были основаны на их авторитете. И почему бы им этого не сделать? Разве не все хотят иметь компетентных, приспособленных, счастливых детей?
Я все же повторю надоевшую вам фразу, что схема воспитания, предложенная Бомринд, основана исключительно на выборке семей белых, с высоким показателем коэффициента умственного развития, представителей среднего и высшего класса из Беркли, штат Калифорния. Хотя полученные Бомринд данные подтверждаются на протяжении нескольких десятилетий для образованных семей среднего и высшего класса в других частях США, ряд исследователей подвергли сомнению ценность авторитетного стиля воспитания для других культурных групп. Как уже отмечалось раньше, проблема состоит в том, что в разных культурах «хорошее» и адаптивное поведение не совпадают. В США, например, мы очень высоко ценим независимость. Мы все стремимся быть «самыми лучшими». Нас поощряют сомневаться в авторитетах и думать самим. В классах начальной школы дети, которые знают правильный ответ и произносят его вслух (если они первыми поднимают руку), получают похвалу и одобрение. Однако в других культурах такое поощрение независимости не оказывает положительного влияния на социализацию. Так, во многих азиатских классах у детей будут неприятности, если они сделают что-то, чтобы выделиться и показать, что они лучше сверстников. В этих азиатских культурах сотрудничество и поддержка считаются «лучше», чем независимость. Соответственно, один и тот же стиль воспитания с использованием авторитета, который поощряет независимость у многих американских детей-европеоидов, по той же причине не подходит многим детям азиатского происхождения и детям азиато-американцев. Родители из различных культур ставят перед собой в воспита-
Двадцать великих открытий и детской психологии
нии неодинаковые цели. Цель азиатского воспитания — вырастить таких детей, которые внесут вклад в совместный труд сообщества, а не таких, которые будут стремиться к личной выгоде.
Даже в США встречаются такие дома и семьи, где дети практически не получают никакой пользы от воспитания в духе подчинения авторитету родителей. Приведем пример семей, которые проживают по-соседству с асоциальными семьями или в районах со сложной криминогенной обстановкой. Дети, сталкивающиеся с такими условиями, вряд ли смогут к ним адаптироваться, если будут сердечными и послушными. Напротив, стиль воспитания, который делает ребенка жестким и агрессивным, может оказаться намного более адаптивным. Таким образом, здесь может быть полезен стиль воспитания, обладающий многими чертами авторитарного стиля.
После того как появилась первая научная работа Бомринд, психологи стали дальше развивать базовые концепции стиля воспитания. Многое было разработано и самой Бомринд. В наше время исследователи указывают на два параметра воспитания, которые особенно важны для идентификации четырех базовых стилей воспитания. Один из параметров — это отзывчивость. Отзывчивые родители осознают, признают и пытаются удовлетворить потребности своих детей. Второй параметр — это требовательность. Требовательные родители ждут, что дети будут вести себя рассудительно, ответственно и будут следовать семейным правилам и заботиться о себе. Если вы используете сочетания этих двух характеристик, то получите четыре стиля воспитания, у которых много общего с делением на стили воспитания, по Бомринд. Можно представить эти стили в форме таблицы.
| Высокая требовательность | Низкая требовательность | |
| Высокая | Авторитетный стиль | Либерально-потворствующий |
| отзывчивость | стиль | |
| Низкая | Авторитарный стиль | Либерально-безразличный |
| отзывчивость | стиль |
В недавней работе Бомринд рассматривается, как сказывается стиль воспитания на поведении детей в подростковом возрасте и позже. Теперь, когда дети из первоначальной выборки Бомринд подросли, можно было провести исследование влияния стиля воспитания с течением времени. Так, например, в исследовании 1991 года Бомринд обнаружила, что «авторитетные ро
дители, отличающиеся высокой степенью отзывчивости и требовательности, успешно защищали своих детей от проблем с наркотиками и способствовали социальной компетентности детей».
Мы мало рассказали о том, как авторитарные родители воспитывают своих детей, но учитывая высокую требовательность и низкую степень отзывчивости, неудивительно, что их дисциплинарная тактика в значительной степени опирается на такие техники утверждения власти, как шлепки. Авторитарные родители уже по определению заставляют своих детей слушаться, при этом, если необходимо, они демонстрируют свою абсолютную власть. Теперь из исследования Бомринд мы знаем, что вовсе не обязательно причинять боль вашим детям, чтобы ввести их в социум! Если не считать адаптивных преимуществ, которые авторитарное воспитание предоставляет некоторым детям в отдельных культурах, в основной американской культуре авторитарное воспитание, в целом, противоречит успешному взрослению детей. Авторитетные родители редко прибегают к шлепкам как методу воспитания, и их дети вырастают более счастливыми, открытыми, успешными, независимыми и социально ответственными. И ведь родители, использующие авторитет, точно такие же требовательные, как и авторитарные родители. Если в этой истории нужна мораль, то можно сказать следующее: «Чтобы с детьми в жизни все было в порядке, вовсе не обязательно их шлепать». А своему дюжему студенту, который сказал, что вырос нормальным, хотя его и шлепали, я бы хотел задать вопрос о том, каким бы он мог вырасти, если бы его не шлепали вообще.
Библиография
Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of Early Adolescence, 11,56-95.
Bradley, C. R. (1998). Child rearing practices in African American families: A study of the disciplinary practices of African American parents./ottrwa/ of Multicultural Counseling and Development, 26, 273-281.
Вопросы для обсуждения
1. Многих исследователей, занимающихся стилями родительства, волнует тема стиля воспитания в различных культурах. Известно, что нельзя сделать однозначных выводов о том, что тот или иной стиль воспитания, приемлемый для одной группы, культу
ры или этноса, будет подходить для другой группы, культуры или этноса. Может быть, есть какие-то стили поведения родителей или приемы воспитания, которые подойдут для всех людей?
2. Как вы думаете, применимы ли данные Бомринд, полученные 30 лет назад, к сегодняшним семьям? Если нет, то почему?
3. Выберите из телесериалов три ваши любимые семьи, подумайте, можете ли вы отнести родителей в этих семьях к практикующим определенный стиль воспитания в соответствии с классификацией Бомринд. Как вы думаете, правдиво ли представлены образы детей в этих семьях, учитывая стиль воспитания, практикуемый родителями?
4. Будет ли эффективность стиля воспитания отличаться в семье с одним родителем или с обоими?
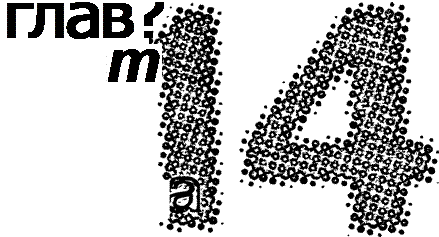 |
Обезьяна видит, обезьяна делает
БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: TRANSMISSION OF AGGRESSION THROUGH IMITATION OF AGGRESSIVE MODELS.
Bandura, A., Ross, D., & Ross, S. (1961). Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 575-582.

Ветреный ноябрьский вечер был в разгаре. Летнее тепло давно ушло, и звонок на ужин так же уверенно сигнализировал о наступлении сумерек, как и о времени последнего в этот день приема пищи. Моя жена, как обычно, работала с обеда до позднего вечера в качестве одного из немногих клинических психологов в городке, и должна была появиться дома только через три часа.
Моя двухлетняя дочь Рейчел бегала по всему дому, что входило в ее обычный ежевечерний распорядок, останавливаясь ровно настолько, чтобы обозначить свое присутствие на каждой из многочисленных игровых станций, устроенных нами для нее. А что до меня — я входил в свою новую роль вечернего домра-ботника и папы на полную занятость.
У вас не так много возможностей развлечься в маленьком поселке на Среднем Западе, особенно тогда, когда холодно и темно по-зимнему. И если у вас есть дочь, у которой энергии больше, чем у зайца Energizer, то маловероятно, что она случайно задремлет. Так что нечего и думать о том, как доделать офисную работу, взятую на дом. Вот почему тем вечером я решил сделать то, что сделал бы любой рациональный отец в тех же обстоятельствах. Я вытащил свою игровую приставку Sega Genesis и возобновил карьеру претендента на звание чемпиона Всемирной ассоциации бокса в тяжелом весе.
Я делал успехи в игре, постепенно завоевывая места — 10-е, 9-е, 8-е. «Схватки» становились все жарче, но у меня в виртуальном мире складывалась репутация короля нокаутов.
Затем это произошло. Прямо в середине чемпионата из десяти раундов, уловив момент, когда я был совершенно беззащитен, моя дочь нанесла мне в левое ухо сильный хук справа! Несмотря на боль, я покатился со смеха. Это было так забавно! Но откуда у нее взялась такая идея? Я никогда не учил ее боксировать. Мы никогда не посещали матчи по боксу (виртуальный — это единственный вид бокса, которому я потворствую). И на улице она не могла этому научиться, потому что мы никогда не позволяли ей самой выходить на улицу. Единственным возможным объяснением было то, что ее побудили на такое действие два мультипликационных боксера, двигающиеся на экране телевизора. В этом сила видео!
Вопрос, откуда происходит человеческая агрессия, тысячи лет занимал умы величайших мыслителей мира. Распространено мнение, что она либо заложена в наших генах, либо приобретается из нашей культуры. Но — послушайте! — разве есть другая возможность? Эти же ответы предлагались и двумя тысячами лет ранее. К счастью, за последние полвека ученые действительно добились некоторого прогресса в понимании истоков агрессии человека благодаря привлечению всего арсенала научных средств для прояснения этого вопроса.
Альберт Бандура находился в авангарде научных рядов, прилагающих усилия для объяснения истоков агрессии. В сущности, именно его статья, написанная в 1961 году с соавторами До
0отеей Росс и Шейлой Росс, была в основном ответственна за все это. Чтобы почувствовать революционный характер этого исследования, получившего девятое место, вам на самом деле надо получить представление о социально-научных странностях, против которых выступал Бандура, когда он приступил к поискам истоков агрессии.
На момент публикации исследования в американской психологии главенствовали бихевиористы, которые твердо отрицали значение, а иногда — и существование внутренних когнитивных процессов. Проще говоря, бихевиористы думали, что мышление не имеет отношения к психологии. Смешно, не правда ли? Хотя многие американские психологи слышали о Пиаже, массовое принятие теории когнитивного развития Пиаже в Соединенных Штатах произошло, по крайней мере, только через десятилетие. Доминирующая точка зрения состояла в том, что научение происходит не в результате психического конструирования когнитивных схем, как предполагал Пиаже, а в результате подкрепления или наказания определенных видов поведения. Идея в том, что если вы осуществили действие, которое было подкреплено чем-то или кем-то, то увеличивается вероятность того, что вы осуществите это же действие в будущем. Если же вы осуществили действие, которое было наказано чем-то или кем-то, то вероятность того, что вы произведете это же действие в будущем, уменьшается. Не имеет значения, что вы думали о своем действии или как его чувствовали. В атмосфере бихевиоризма нет места мыслям или чувствам. Короче, человеческая активность, как и психология, изучающая ее, становится не более чем сочетанием действий и формирующих их подкреплений и наказаний. В отношении вопроса, интересующего нас, бихевиористский взгляд на агрессию состоит в том, что агрессивные люди становятся агрессивными потому, что их агрессивные действия получали подкрепление. И точка.
И тут появляется Бандура. Бандура завоевал славу революционера в области детской психологии благодаря своей работе по моделированию агрессии. Вероятно, Бандуру лучше всего описывать как работавшего на стыке наук, потому что он был социальным психологом, вмешивающимся в дела психологии детского развития. Но именно его интерес к социализации детей сделал его бихевиористское присутствие полезным для детских психологов.
Хотя людям со стороны Бандура мог казаться бихевиористом, сам он сражался с принципами бихевиоризма, особенно с идеей, что все виды поведения приобретаются или уничтожаются
исключительно через подкрепление или наказание. «Позволим ли мы подростку учиться управлять автомобилем методом проб и ошибок? — спрашивал он. — Доверим ли мы новичку-полицейскому пользоваться огнестрельным оружием, пока он не пройдет длительную подготовку Конечно, нет. Подросток и новичок-полицейский должны пройти обучение — через инструктаж и демонстрацию.
Бандура пришел к заключению, что должно быть что-то еще, помимо научения через подкрепление и наказание, и что моделирование прекрасно подходит для заполнения этой бреши. При моделировании научающийся таким образом регулирует собственное поведение, чтобы копировать или имитировать поведение учителя. Моделирование является потенциально значительно более эффективным, чем системы подкрепления/наказания, для научения сложным видам поведения. Как вы, вероятно, знаете, большинство секций и кружков в сфере физической деятельности использует моделирование как основное средство обучения. Преподаватель балета моделирует пируэт, сэнсей моделирует удар наотмашь, а тренер бейсбольной команды моделирует техники перемещения по полю. Это не значит, что подкрепление и наказание не оказывают влияния на наше научение, просто у научения есть и другие средства, на которые следует обратить внимание. И некоторые из этих средств могут быть чрезвычайно мощными.
Введение
В своем исследовании Бандура, Росс и Росс были намерены проверить гипотезу, что агрессия является одним из типов поведения, научение которому может происходить через моделирование. Они сосредоточились на детях, приняв допущение, что весьма значительная часть личности взрослого формируется переживаниями детства. Другое их исследование в 50-х и 60-х годах успешно продемонстрировало эффект моделирования у детей, но в этой работе не проверялось, будут ли дети переносить моделируемые виды поведения в новые ситуации. И те виды поведения, научение которым происходило в упомянутом исследовании, не имели большого сходства с агрессией.
Итак, Бандура, Росс и Росс решили узнать, будут ли дети, наблюдавшие агрессию в одной ситуации, вести себя затем агрессивно в другой ситуации, даже если агрессивная модель уже не будет присутствовать в ней. Почему этот эффект переноса был
важен, позднее станет очевидным. Но их ожидания были ясны: «В соответствии с прогнозом, субъекты, которым будут предъявлены агрессивные модели, станут воспроизводить агрессивные действия, схожие с действиями своих моделей, и будут в этом отношении отличаться как от субъектов, которым были предъявлены неагрессивные модели, так и от субъектов, которым никакие модели заранее не были предъявлены».
Бандура, Росс и Росс также ввели переменные, связанные с полом. Даже тогда, в 50-х годах, исследование уже показывало, что родители были склонны подкреплять «соответствующее полу» поведение своих детей. Поэтому Бандура, Росс и Росс предположили, что поскольку агрессия является маскулинным поведением, мальчики будут более склонны имитировать агрессивную модель, чем девочки. Более того, они предположили, что детей, вероятно, вознаграждали за имитацию поведения родителей одного с ними пола и наказывали за имитацию поведения родителей противоположного пола. Соответственно, по мнению авторов, дети должны быть более склонны имитировать поведение, демонстрируемое человеком того же пола, что и они. Поэтому они включили в эксперимент как мужскую, так и женскую модель. Прогноз был прост: мальчики должны быть более склонными имитировать агрессивность, если она будет моделироваться мужчиной, а девочки должны быть более склонными имитировать агрессивность, если она будет моделироваться женщиной.
Метод
Участники
Тридцать шесть мальчиков и 36 девочек принимали участие в эксперименте. Они распределялись по возрасту от 37 до 69 месяцев, и средний возраст составлял 52 месяца (около 4 лет 4 месяцев).
Двое взрослых исполняли роль модели: один мужчина и одна женщина. Одни и те же два человека исполняли роль модели для всех 72 детей. (Роль мужской модели играл сам Бандура.)
Материалы
Материалы, используемые в первой части эксперимента, состояли из картофелин, бумажных наклеек, набора «Tinkertoy», деревянного молотка и пятифутовой (около полутора метров высотой) надувной куклы Бобо. Некоторые из этих предметов могут потребовать более полного разъяснения. Картофелины
использовались для создания печатных штампов. Если вы разрежете картофелину пополам, то можете вырезать небольшие узоры в мякоти ее половинок, удаляя излишки картофельного материала. Если затем вы окунете поверхность с узорами в чернила, то сможете отпечатать на бумаге целый ряд копий только что созданного вами узора. Так что картофель использовался тут в качестве художественного материала. Наборы «Tinkertoy» не так популярны, как могли бы быть. В прежние времена они состояли из маленьких деревянных палочек, кубиков, колес и тому подобного и использовались для того, чтобы строить различные вещи. (Теперь эти наборы делают из пластмассы.) Наконец, кукла Бобо. Кукла Бобо играла такую важную роль в экспериментах Бандуры, что в наши дни их обычно называют «исследования с куклой Бобо». Кукла Бобо была просто надувной пластиковой куклой, имевшей внешность Клоуна Бобо, отпечатанную на ее поверхности. У нее, кроме того, было заполненное песком отделение в основании, благодаря чему она стояла вертикально; так что даже если бы вы ее толкнули, она бы снова поднялась. Полутораметровая, она выглядела грознее, чем большинство детей в исследовании.
Процедура
Сорок восемь детей были помещены в «экспериментальные условия», причем либо в «агрессивные», либо в «неагрессивные» условия. Дети в агрессивных условиях наблюдали человека, ведущего себя агрессивно; этот человек был назван «агрессивной моделью». Дети в неагрессивных условиях наблюдали «неагрессивную модель». Половину детей в каждой группе составляли мальчики, а половину — девочки. Наконец, половина детей каждой подгруппы наблюдала женскую модель, а половина — мужскую. Всего получилось восемь возможных групп.
• Девочки, которые наблюдали агрессивную женскую модель.
• Девочки, которые наблюдали агрессивную мужскую модель.
• Девочки, которые наблюдали неагрессивную женскую модель.
• Девочки, которые наблюдали неагрессивную мужскую модель.
• Мальчики, которые наблюдали агрессивную женскую модель.
• Мальчики, которые наблюдали агрессивную мужскую модель.
• Мальчики, которые наблюдали неагрессивную женскую модель.
• Мальчики, которые наблюдали неагрессивную мужскую модель.
Была также дополнительная группа из 24 детей, которых поместили в «контрольные условия». Эти дети не видели никакой модели, но в остальном с ними обращались в точности так же, как и с детьми, которые наблюдали модели. Эти «контрольные дети» служили группой для сравнения, и благодаря им Бандура, Росс и Росс могли определить, что сделали бы дети, если бы не видели никакой модели.
Экспериментальные условия
Каждый из 48 детей экспериментальной группы помещался — по отдельности — экспериментатором в экспериментальную комнату. Когда ребенок и экспериментатор шли в комнату, в коридоре рядом с ней оказывался незнакомец. Экспериментатор приглашала незнакомца в комнату — «зайти и присоединиться к игре». Затем ребенка усаживали за маленький столик в одном углу комнаты и показывали, как играть с картофельными штампами и с наклейками. Потом экспериментатор отводила незнакомца за другой маленький столик в противоположном углу комнаты. Там были набор «Tinkertoy», деревянный молоток и кукла Бобо. Экспериментатор говорила незнакомцу, что эти игрушки для него, и выходила из комнаты.
Неагрессивные условия. В неагрессивных условиях незнакомец занимался набором «Tinkertoy» «довольно тихо, абсолютно игнорируя куклу Бобо». Тут мы все же можем назвать незнакомца «моделью», поскольку он моделировал поведение для пользы ребенка.
Агрессивные условия. Напротив, модель в агрессивных условиях играла с набором «Tinkertoy» не более минуты, а затем начинала бить куклу Бобо. Описание процедуры избиения в оригинале настолько забавно, что стоит его процитировать целиком. «Модель укладывала Бобо на бок, усаживалась на него и несколько раз била кулаком по носу. Затем модель поднимала куклу Бобо, брала молоток и ударяла им куклу по голове. Вслед за агрессией, выраженной этим ударом, модель агрессивно подбрасывала куклу вверх и пинками гоняла ее по всей комнате». Последовательность избиения повторялась три раза и перемежалась вербально — агрессивными фразами, такими как: «Влеплю ему по носу», «Свалю его с ног», «Броцгу его вверх», «Пну его» и «Бум». Кроме того, делались два неагрессивных замечания: «Он все время хочет, чтобы ему добавили» и «Он и в самом деле стойкий малый».
Через 10 минут экспериментатор возвращалась в экспериментальную комнату, прощалась с моделью/незнакомцем и сообщала ребенку, что отправляется в другую комнату с игрушками. Другая комната располагалась в отдельном здании. Именно там у детей измеряли уровень агрессии.
Возбуждение агрессии
Бандура, Росс и Росс хотели протестировать детей на агрессивное поведение в таких условиях, которые позволили бы им выразить агрессию. Бандура понимал, что дети, оказавшиеся среди незнакомых, официально выглядящих взрослых, склонны демонстрировать свое наилучшее поведение. Но это могло бы стать проблемой, потому что стараясь вести себя как можно лучше, дети в стремлении быть вежливыми могли заглушить всю агрессивность, таящуюся в них, и исследование было бы сорвано. Поэтому Бандура, Росс и Росс придумали искусственную ситуацию, которая в той или иной степени вызывала агрессию у детей.
Они делали кое-что такое, что, как они знали, выведет детей из равновесия. Вот что это было.
Пока дети шли вслед за экспериментатором во вторую экспериментальную комнату, им надо было пройти через комнату несколько меньших размеров, называемую прихожей. В прихожей находилось множество очень привлекательных игрушек, в том числе игрушечный истребитель, вагон канатной дороги, яркий волчок и кукла с гардеробом, каретой и детской кроваткой. Отметьте, что там были представлены игрушки как для девочек, так и для мальчиков. Экспериментатор разрешала детям остановиться и поиграть с этими игрушками, что дети и делали. Но через две минуты, как раз тогда, когда дети действительно увлекались игрушками, экспериментатор замечала, что это ее «самые лучшие игрушки, и что она не позволяет всем подряд играть с ними, и что она решила сохранить эти игрушки для других детей». Другими словами, детей отвергали. Экспериментатор объясняла, что хотя им не позволяется играть с игрушками в прихожей, они могут играть с чем угодно в основной комнате, куда они и проходили.
Гест на отсроченную имитацию
В экспериментальной комнате дети обнаруживали множество игрушек. Некоторые из игрушек были похожи на те, которыми занималась агрессивная модель: трехфутовая кукла Бобо (около 90 сантиметров) и деревянный молоток. Другие игрушки
не использовались агрессивной моделью, но их можно было использовать с целью агрессии: два ружья, стреляющих дротиками, и груша, подвешенная к потолку, с нарисованным на ней лицом. Остальные игрушки были такими, которые обычно не используют в целях агрессии: чайный набор, пастельные мелки и цветная бумага, мячик, две куклы, три медвежонка, машинки и грузовики, пластиковые животные с фермы. Игровой материал был одинаково распределен по комнате для каждого входящего ребенка.
Измерение реакции
Бандура, Росс и Росс измеряли агрессивное поведение несколькими способами. По моему подсчету, они использовали семь различных параметров, включая: (1) количество актов имитированной физической агрессии, (2) количество актов имитированной вербальной агрессии и (3) количество имитированных неагрессивных замечаний. В процессе измерения агрессии авторы осознали, что некоторые из видов имитированного поведения имитировались лишь частично, но они решили все равно учитывать их. Наиболее распространенными частично имитированными видами поведения были: (4) усаживание на куклу Бобо безо всякой дополнительной агрессии и (5) использование деревянного молотка для ударов по другим предметам в комнате, кроме куклы Бобо. И, наконец, были моменты агрессивного поведения детей, но без имитации какого бы то ни было поведения модели. Этими видами поведения являлись: (6) использование вербальных и физических угроз, изобретенных самими детьми (фразы «Стреляй в Бобо», «Режь его», или «Тупая кукла», или удары по груше) и (7) стрельба из ружья по реальным или воображаемым предметам.
Результаты
Какими же были результаты исследования? Прежде всего дети, наблюдавшие агрессивную модель, в имитировании агрессивного поведения своих моделей намного превзошли тех детей, которые никакую модель не наблюдали, и тех, которые наблюдали неагрессивную модель. Они также чаще били молотком по предметам в комнате, чем дети, наблюдавшие неагрессивную модель.
Но, что важно, эти дети не были всестороннее агрессивны. Например, они бегали, стреляя по вещам из ружей нисколько не более, чем другие дети. Итак, что касается агрессивности детей, наблюдавших агрессивную модель, то их агрессия проявлялась
по большей части именно в том виде, в каком они наблюдали ее у модели.
Что касается половых различий, то мальчики с большей готовностью прибегали к физической агрессии, чем девочки; но по количеству вербальной агрессии они были наравне. Кроме того, мальчики значительно больше девочек были склонны имитировать мужскую модель; но обратное не являлось справедливым для женских моделей.
Одним интересным явлением было то, что дети, которые наблюдали мужскую неагрессивную модель, оказались значительно менее агрессивными, чем дети в контрольной группе (не видевшие никакой модели). Как описывали это авторы: «Сравнительно с контрольной группой, испытуемые, которым была предъявлена неагрессивная мужская модель, демонстрировали значительно меньшую имитативную физическую агрессию, меньшую имитативную вербальную агрессию, меньшую агрессию с использованием молотка, меньшую неимитативную физическую и вербальную агрессию, а также были менее склонны бить куклу Бобо». Так что не только агрессивная модель вызывала проявление детьми большей агрессии, чем у детей в контрольной группе, но и неагрессивная модель вызывала проявление детьми меньшей агрессии, чем у детей в контрольной группе.
Обсуждение
Наиболее революционным результатом исследования Бандуры являлось обнаружение того, что дети были способны на использование моделей, как средств приобретения новых видов поведения, которые в противном случае у них не возникли бы. Для научного сообщества того времени, в котором доминировал бихевиоризм, это было неслыханно. Конечно, люди, к психологам не относящиеся, были знакомы с могуществом имитации, свидетельством чему является популярность фразы «обезьяна видит, обезьяна делает». Но научное сообщество старой школы не рассматривало моделирование как нечто значимое. Теоретики старой школы верили, что дети лишь по воле случая производят новые виды поведения; и лишь в случае подкрепления эти виды поведения у них зафиксируются. С этой точки зрения важным было то, что ребенок производит поведение сам по себе и получает за это прямое подкрепление. И тут появляется Бандура, который утверждает, что дети могут перенять поведение практически магическим образом, всего лишь наблюдая за другими
людьми. И это еще не все: они демонстрируют эти виды поведения, не получая подкрепления за свои действия!
Социально-политическое значение этого открытия было ОГРОМНЫМ! Стало очевидным не только то, что дети могут перенять агрессивное поведение, всего лишь наблюдая действия кого-то другого, но они применяли эти новоприобретенные виды поведения в новых ситуациях при отсутствии других агрессивных людей. Очевидно, что наблюдение выражения другим человеком агрессии было достаточным для возникновения ее у ребенка в более поздний момент времени. В исследовании Бандуры «более поздний момент времени» наступал в тот же день. Но это открытие поднимало чрезвычайно важный вопрос: как долго продержатся агрессивные тенденции? День? Неделю? Значение этого очевидно. Если ребенок видит, как Баге Банни грабит Элмера Фудда в субботнем утреннем мультфильме, сохранит ли он эту агрессию до вечера понедельника? Открытие, что дети могут откладывать имитацию агрессии, на самом деле имеет большое значение для широкого круга областей.
Но по какой-то причине все вышесказанное зависело от принадлежности агрессивной модели к мужскому полу. Более пристальное рассмотрение результатов выявило, что женская модель не особо успешно подталкивала детей к имитации ее агрессивного поведения. Почему так могло получиться? Одним из возможных объяснений большей успешности мужской модели агрессии по сравнению с женской моделью агрессии является то, что мужчина моделировал те виды поведения, которые рассматривались как соответствующие его полу. Наличие агрессивности у женщин не предполагается. На самом деле, когда женщина моделировала агрессию, дети выглядели шокированными. Они комментировали это так: «Вам стоило посмотреть, что она там делала. Она действовала, как мужчина. Я никогда раньше не видел, чтобы женщина так поступала. Она дралась и боролась, но не ругалась». Комментарии относительно мужской модели в значительно меньшей степени фокусировались на неуместности агрессии, чем на том, насколько хорошо изливалась эта агрессия. Одна девочка сказала: «Этот мужчина сильный борец, он бил снова и снова, и он мог стукнуть Бобо так, что тот падал на пол, и если Бобо поднимался, он говорил "Разбей нос". Он хороший борец, как папа».
Конечно, все это внимание к моделированию агрессии игнорирует другую сторону медали. Дети, которые наблюдали спокойную модель, были тише других детей и менее агрессивны. Ясно, когда моделируется спокойствие, моделируемым поведе
нием и является спокойствие. Бандура, Росс и Росс сделали вывод, что «столкновение с моделями, демонстрирующими сдержанное поведение, не только понижает вероятность возникновения агрессивного поведения, но в большинстве случаев также и ограничивает поле поведения, производимого испытуемыми».
Выводы
Последующая работа
До того как я продолжу раскрывать значение исследования Бандуры для остального мира (в самом деле, его основные открытия являются причиной жарких дебатов вплоть до сегодняшнего дня), мне хотелось бы познакомить вас с последующим экспериментом, результаты которого были опубликованы Бандурой в 1965 году. Ранее я упоминал о возможности имитирования детьми агрессии, моделируемой в мультфильме. Но это предположение, возможно, было несколько преждевременным, так как первое исследование Бандуры не было направлено на выяснение того, будут ли дети имитировать телевизионные агрессивные модели. Однако он исправил это упущение экспериментом 1965 года, в котором дети наблюдали телевизионную модель, демонстрирующую агрессивное поведение. Кроме того, автор хотел узнать, что произойдет, если ребенок увидит, к каким последствиям для модели приведут ее агрессивные действия. Итак, у Бандуры дети наблюдали агрессивную модель по телевидению в одном из трех следующих условий: модель либо наказывают за избиение куклы Бобо, либо вознаграждают, либо ни к каким последствиям для модели избиение куклы Бобо не приводит. Результаты показали, что дети, наблюдавшие телевизионную модель, которую вознаграждали за агрессивное поведение, сами были склонны вести себя агрессивно. Значение этого исследования заключается в том, что телевидение может служить мощным средством передачи агрессивных действий пассивно наблюдающим детям.
Телевидение, видеоигры и песни о насилии
Как я уже заметил, результаты Бандуры были потрясающими. Я полагаю, что, с одной стороны, они всего лишь показали, что люди будут копировать поведение других людей. Но, более того, они показали, что агрессивное поведение может быть скопировано, и что маленькие дети будут копировать его. В стенах лаборатории Бандуры эти результаты могут быть относительно
безвредными. Но за пределами лаборатории не говорится о том, как далеко могут зайти дети в выполнении имитированного аг-оессивного поведения; не говорится о широком круге средств кассовой информации, которые могут подвигнуть детей на агрессивное поведение; и не говорится о множестве видов агрессивного поведения, на которые могут реагировать дети.
Исследование Бандуры открыло ящик Пандоры, полный возможностей.
Что ужасно — в наши дни средства массовой информации бомбардируют детей такими образами, подобных которым мир не видел ранее. И это было бы не так уж плохо, если бы образы были положительными, скажем, когда Бэмби рискует своей жизнью, чтобы спасти Тампера от лесного пожара. Но обычно эти образы не являются положительными. Они наполнены насилием, агрессией и кровопролитием; и это — всего лишь мультфильмы! Исследование Бандуры демонстрирует весьма реальную возможность, что эти образы могут прокладывать себе дорогу в повседневную жизнь наших детей. Агрессивным моделям даже не нужно быть важными фигурами в жизни детей; они могут быть совершенно незнакомыми им. Представьте себе влияние, оказываемое моделями, которых дети уважают, такими как герои мультфильмов и известные спортсмены, личности WWF (спортивной борьбы) или кумиры поп-музыки. Обратите внимание на эти недавние истории, процитированные из популярных источников массовой информации.
• Бостон Глоуб (The Boston Globe), 10 декабря 2000: Недавнее исследование Клиники Майо показывает, что частота случаев анорексии возрастала на 36% каждые пять лет, начиная с 50-х годов. На сегодняшний день около 8 миллионов человек — по большинству женщины, но все чаще среди них встречаются и мужчины — страдают невротической анорексией (отказом от пищи) и невротической булимией, родственным расстройством, характеризующимся обжорством и стремлением избавиться от съеденной пищи. Однако менее очевидным для нас является то, каким образом переплетаются популярная культура и пищевые расстройства. Например, высоко популярный телевизионный сериал «Друзья» возвел изящные формы, как следствие анорексии, на новые высоты, разместив на рекламном щите в Южной Дакоте рекламу с текстом «Миловидные анорексические элегантности» и изображением трех очень тонких девушек — звезд шоу. Исследования показывают, что 80% женщин не удовлетворены своим телом. Даже девочки девяти-десяти лет садятся на диету, хотя имеют нормальный вес.
• Ньюсвик (Newsweek), 4 декабря 2000 года: В 1995 году Элис Пэхлер лежала на родительской кровати и смотрела телевизор когда зазвонил телефон. Пятнадцатилетняя девушка была при-! глашена в близлежащую эвкалиптовую рощу прогуляться с дру. зьями. Но когда она пришла туда, ее трое знакомых обмотали ремень вокруг шеи Пэхлер и задушили девушку. Что двигало подростками, совершающими убийство? Убийцы, поклонники группы «хэви-металл» Слэйера, верили, что должны «принести жертву Сатане», чтобы их гаражная группа «Хэтред» обрела «безумие», необходимое для «профессионализма».
• Денвер пост (Denver Post), 10 июня 2001 года: Когда 13-летний мальчик из Коннектикута в прошлом феврале улегся поперек решетки барбекю и получил тяжелые ожоги, его неудачная попытка приготовить из себя жаркое вызвала волну негодования в высших слоях общества. Но эта волна была нацелена не на самого мальчика, знание которого о риске, связанном с укладыванием на горячую решетку барбекю, спорно. По всей стране она была направлена на MTV и его шоу «Джекез».
• Чикаго сан-тайме (Chicago Sun-Times), 10 марта 2001 года: Игнорируя множество просьб о снисхождении, судья окружного суда Бровадского (Broward) округа Джоэл Лазарус приговорил 14-летнего Лайонела Тэйта к тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение за убийство девочки — товарища по играм во время якобы демонстрации на ней приемов профессиональной борьбы. «Действия Лайонела Тэйта не были действиями незрелого человека, — сказал Лазарус. — Действия Лайонела Тэйта были холодными, бессердечными и неописуемо жестокими». Жертва Тэйта, 6-летняя Тиффани Ев-ник, была обнаружена забитой до смерти 28 июня 1999 года. Ее убийца, Тэйт, в то время был в два раза старше своей жертвы и, имея вес около 63 килограммов, более чем в три раза тяжелее ее. Вскрытие показало, что у Тиффани был проломлен череп, имелись разрыв печени, перелом ребра, внутреннее кровотечение и многочисленные порезы и ушибы. По ней топтались, ее швыряли о стену и какое-то время били о стол.
• Денвер пост (Denver Post), 22 апреля 1999 года: Новости о произошедшей во вторник резне и о причастности убийц к «Тренч коут» мафии средней школы Коломбины породили вопросы о том, каким образом подростковый преступный мир нигилизма и ярости мог возникнуть на консервативном, спокойном юге округа Джефферсон. Вооруженные преступники в масках, Эрик Харрис, 18 лет, и Дилан Клеборд, 17 лет, по слухам,
пинадлежали к так называемой мафии — небольшой самозваной группировке, практикующей сатанические «варварские» сюжеты и неофашистский парамилитаризм. По словам одноклассников, Клеборд и Харрис — по-видимому, убившие друг друга, — носили свастики и почитали Адольфа Гитлера. Некоторые говорят, что члены их группировки возили катафалки, испытывали крепость дружбы, нанося друг другу удары ножами, проводили бесконечные часы в мрачном чате в Интернете и наслаждались фантастической игрой «Doom» на своих компьютерах.
В каждом из этих случаев образы, распространяемые средствами массовой информации, были привлечены как ставшие причиной ненормальных паттернов поведения у описанных индивидуумов. Конечно, нельзя сказать, действительно ли эти образы из средств массовой информации повинны в случившемся; чтобы знать это, вы были бы должны обладать всевидящим оком. Но, основываясь на научных экспериментах, разработанных Бандурой, а с тех пор — и дюжиной других ученых, мы знаем, по крайней мере, что дети обладают сильной склонностью имитировать виды поведения, моделируемые другими людьми. Хотя никто иной, как дети, совершают эти действия, возможно, средствам массовой информации следует взять большую часть вины на себя.
«Удар» по масс-медиа
Вопрос о том, кто должен нести ответственность, когда дети совершают преступные действия, взятые от моделей в средствах массовой информации, порождает горячие споры и имеет эмоциональную нагрузку. Большинство социологов, знакомых с этим исследованием по моделированию, склонны возлагать большую часть вины на средства массовой информации. На самом деле в 1999 году Американская академия педиатров издала рекомендацию родителям ограждать своих детей от любых телевизионных программ до достижения детьми двух лет (хотя я часто удивлялся, как они определили, что именно два года — это некий магический возраст).
С другой стороны, я уже могу услышать контраргументы. «Эй, а как же свобода воли? Люди сами решают имитировать то, что видят в телевизионных шоу, видеоиграх или на рекламных Щитах. Миллионы подростков играют в "Doom", слушают группу Слэйера и при этом не режут своих одноклассников!» (Это наиболее распространенная точка зрения, высказываемая моими студентами). Вы могли бы доказывать, что такие преступни
ки, как Тэйт, Харрис и Клеборд — всего лишь негодяи, выбрав, шие путь зла, что, в первую очередь, нечто не в порядке с ними самими. Как вы можете представить себе, это очень распространенный подход. Компании средств массовой информации тоже твердо придерживаются этой позиции. Они рискуют потерять много денег, если одна из наиболее привлекательных особенностей их продукта, его начинка насилием, будет изъята.
Но тут возникает пара других вопросов. Во-первых, вина не является неделимой субстанцией; ее не всегда можно возложить на кого-то одного. Человеческие существа — это высокоиндиви-дуализированные создания, значительно отличающиеся друг от друга (что вы уже знаете из своего личного опыта). Так откуда возникают предположения, что каждый должен реагировать на изображаемое в средствах массовой информации насилие одним и тем же образом? То, что вы ранее играли в «Doom», однако не вышли на улицу и не убили кого-нибудь, еще не означает, что игра не оказала никакого воздействия на ваше поведение. Может быть, вы однажды, поиграв в нее, пнули собаку или были несколько бесцеремонны со своими родителями. И тысячи детей по стране ежедневно отрабатывают причудливые и опасные приемы борьбы на своих маленьких братьях и сестрах, при этом не убивая и не калеча их. Когда я только переехал в дом, где живу сейчас, я заметил, что у одного из подростков по соседству на заднем дворе устроен полноразмерный ринг для борьбы! Он и его друзья постоянно швыряли друг друга на маты, бросали на веревки. Очевидно, никто из них ни разу не получил серьезных повреждений, так как мне не приходилось видеть ни одну карету скорой помощи, мчащуюся вниз по улице. Но я сомневаюсь, чтобы у него вообще был ринг для рестлинга, не окажи WWF на него такое мощное влияние.
Так почему общественные науки настолько расходятся с массовыми убеждениями? Для начала, не каждый знает об исследованиях с куклой Бобо. Но если бы они даже и знали, многие люди, вероятно, стали бы отрицать валидность этих исследований. Я думаю, это проистекает во многом от неправильного понимания массами того, как работают общественные науки. Общественные науки описывают поведение больших групп людей. Тут нельзя обойтись без исключений из правил. Даже в исследовании Бандуры, где с уверенностью можно сказать, что агрессивность детей была усилена агрессивной моделью, не все дети продемонстрировали одинаковый уровень агрессии. Некоторые дети были агрессивнее других. Возможно даже, что был один ребенок, оказавшийся агрессивнее всех. Можем ли мы прийти к
заключению, что агрессивная модель не оказала никакого влияния на бблыную часть детей только потому, что большая часть детей вела себя не так агрессивно, как самый агрессивный ребенок? Конечно, нет. По этой причине я склонен не принимать аргумент о «негодяях». Имитативное поведение может быть чрезвычайным, а большинство детей не ведут себя чрезвычайно агрессивно, но это не значит, что большинство детей не попало под влияние насильственных образов в средствах массовой информации. Просто не на всех эти образы воздействуют в равной степени.
Нравится нам это или нет, тяжесть доказательств перемещает большую часть вины на средства массовой информации. Но позвольте пояснить: я не собираюсь утверждать, что средства массовой информации со своими фантазиями о насилии намеренно вносят насилие в общество. В большинстве своем средства массовой информации существуют ради денег — а насилие, к сожалению, в цене. И будьте уверены: средства массовой информации немногое выиграли бы, поощряя общество насилия, если бы именно по этой причине со временем у них стало бы меньше потребителей. Средства массовой информации, кроме того, находятся под пристальным вниманием науки, и наука может сказать не так уж много хорошего о распространяемых ими образах. К сожалению, средства массовой информации часто были глухи к беспокойству ученых.
Обдумайте следующее. Обратимся к 70-м годам XX века. Руководитель здравоохранения Вильям Стюарт (William Н. Stewart) получил указание сформировать консультативный совет для проверки исследований, касающихся влияния телевидения на детей. Он хотел, чтобы совет состоял из представителей научного общества, индустрии телевещания и потребителей. Чтобы собрать группу ученых, он послал запрос о выдвижении кандидатов в общественно-научные организации, такие как Американская социологическая ассоциация, Американская психиатрическая ассоциация и Американская психологическая ассоциация. Ими было представлено на рассмотрение около 200 имен выдающихся ученых. Руководитель здравоохранения сократил список до 40 имен и направил его президентам Национальной ассоциации работников телевидения (National Association of Broadcasters), Американской компании телевещания (American Broadcasting Company, ABC), Национальной компании телевещания (National Broadcasting Company, NBC) и Системы телевещания Колумбии (Columbia Broadcasting System, CBS). Президентам было предложено указать, какие ученые, если такие
имеются в списке, будут «неуместны для беспристрастного научного исследования данного направления». Президенты (за исключением президента CBS) отвергли 7 ученых. Посмотрите кто оказался в «черном» списке. Альберт Бандура! Бандура, наиболее известный специалист по потенциально негативному влиянию телевидения, был исключен самими телевизионщиками из наиболее уважаемого президентского консультативного совета, занимающегося данным вопросом. Чего они так боялись?
Немного о хорошем
Если средства массовой информации стали причиной проблемы, то они могут и решить ее. Обычно, обвиняя прессу и телевидение, забывают, что их существование не ставится под вопрос. Мы не можем жить без них. Что вызывает обеспокоенность — так это их содержание. Именно его имитируют дети. Неоднократно было показано, что дети, встретившиеся с позитивной информацией, склонны демонстрировать просоциальные виды поведения. По этой причине сенатор Джо Либерман (Joe Lieber-man) и бывшая «первая леди порока» (Vice First Lady Tipper Gore) оказались в первых рядах движения за увеличение количества позитивных программ в средствах массовой информации. Те немногие просоциальные программы, которые есть у нас, детские шоу, такие как «Барни», «Улица Сезам» и «Мистер Роджерс», творили чудеса, демонстрируя детям позитивные в поведенческом плане повседневные дела. Вот всего лишь один пример. В монографии, выпущенной Обществом изучения развития ребенка в 2001 году, указывается, что дети, смотревшие «Улицу Сезам», имели более высокую успеваемость, читали больше книг в часы досуга, чаще занимались в кружках и демонстрировали более низкий уровень агрессии, чем дети, которые не смотрели «Улицу Сезам». Можно лишь надеяться, что в этом нашем капиталистическом обществе владельцы средств массовой информации могут найти привлекательный, обеспечивающий выгоду мотив, чтобы обеспечить детей более позитивными образами через свои каналы.
Последний комментарий
Бандура революционизировал детскую психологию, поскольку занялся этой областью как человек со стороны. Его интересовал очень общий вопрос: каким образом люди усваивают те виды поведения, за которые их никогда не вознаграждали, и применяют их в новых ситуациях. Но тот факт, что Бандура сосредоточился на агрессивном поведении детей, сделало его исследо-
пе еще более важным для научного сообщества и для широких масс. Его основное открытие, что дети будут имитировать те виды поведения, которые моделировали у них на глазах другие люди, было элементарным. Однако в то же время, поскольку дети посредством имитации перенимали агрессивное поведение, открытие Бандуры имело серьезное социополитическое значение. До сегодняшнего дня ученые и индустрия средств массовой информации не устают биться, выясняя, чья в вина в ожидаемом беспрецедентном подъеме социальной негативности и апатии. Исход еще нельзя предвидеть, потому что поле битвы расширяется с каждым предстающим перед нами техническим новшеством в средствах массовой информации. С чем все согласны — так это с тем, что эта битва важна, ибо, возможно, является битвой за душевное здоровье нынешних детей. А теперь я возвращаюсь к своей карьере боксера в тяжелом весе.
Библиография
Anderson, D. R., Huston, А. С, Schmitt, К. L., Linebarger, D. L., & Wright, J. С. (2001). Early childhood television viewing and adolescent behavior. Monographs of the Society for Research in Child Development, 66 (Serial No. 264).
Bandura, A. (1965). Influence of models' reinforcement contingencies on the acquisition of imitative responses. Journal of Personality & Social Psychology, 1,589-595.
Grusec, J. E. (1992). Social learning theory and developmental psychology: The legacies of Robert Sears and Albert Bandura. Developmental Psychology, 28, 776-786.
Liebert, R. M., & SprafkinJ. (1988). The early window. New York: Pergamon Press.
Вопросы для обсуждения
1. Несут ли средства массовой информации какую-либо ответственность перед обществом в изображении позитивных образов? А как насчет звезд музыки или киногероев?
2. Является ли новым явлением научение агрессии через имитацию? Или возможно такое, что дети во все времена имитировали агрессивные модели? Можете ли вы привести несколько примеров в доказательство последнего?
3. Существуют ли, по-вашему, возрастные различия в восприимчивости к агрессивным моделям у детей и взрослых? Как вы считаете, в каком возрасте дети наиболее подвержены воздействию изображаемой агрессии? В каком возрасте дети наиболее восприимчивы к давлению сверстников? Считаете ли вы, что взрослые были бы невосприимчивы к моделям агрессии?
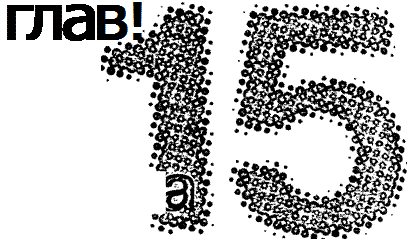 |
Этика заботы: это путь женщины
БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: IN A DIFFERENT VOICE: PSYCHOLOGICAL
THEORY AND WOMEN'S DEVELOPMENT.
Gilligan, C. (1982). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Можно ли вас назвать нравственным водителем? Я имею в виду, когда вы принимаете решения о том, что вы делаете, находясь за рулем машины, каковы ваши истинные мотивы? Лоуренс Кол-берг выделил шесть уровней морального развития, которые могут пролить свет на то, на каком уровне этого развития мы находимся, сидя за рулем. Заимствуя и расширяя теорию когнитивного развития Пиаже, Колберг пришел к выводу, что наши нравственные действия служат отражением наших ментальных
способностей к вынесению суждений. Когда мы рассуждаем на низком уровне нравственного развития, это происходит потому, что мы не являемся слишком утонченными мыслителями. А когда мы рассуждаем с точки зрения наивысших уровней нравственного развития, мы делаем это потому, что обладаем способностью к высокоуровневому, обоснованному, абстрактному мышлению. При нормальном развитии, по мере взросления и обретения йнтеллектуальной зрелости, мы проходим по очереди одну за другой все шесть стадий. Сначала мы рассуждаем на уровне стадии 1, затем стадии 2 и так далее, вплоть до стадии 6 (при условии, что мы когда-нибудь станем достаточно умны). Конечно же, не все люди, достигнув взрослости, мыслят утонченно, соответственно, нет никаких гарантий того, что любой, у кого есть водительские права, руководствуется нравственными принципами высокого уровня.
Колберг создал свою теорию морального развития на основе изучения ответов мальчиков и мужчин по поводу довольно известной ныне «дилеммы Гейнца». Дилемма Гейнца — это вымышленная история про человека по имени Гейнц, чья жена умирала от рака. В городе, где жил Гейнц, был лекарь, создавший лекарство, которое могло вылечить эту женщину, но лекарь назначил цену в 2 ООО долларов за одну-единственную дозу. К несчастью, Гейнцу удалось собрать лишь половину требуемой суммы. Тем, кто принимал участие в исследовании Колберга, были заданы следующие вопросы: 1) Должен ли Гейнц украсть лекарство? 2) Почему?
Колберг проанализировал ответы мальчиков и мужчин на данные вопросы и обнаружил, что в принципе, не имеет большого значения, говорили ли они, что Гейнц должен или не должен украсть лекарство. Наиважнейшим, скорее, было то, какие причины они называли, объясняя, почему Гейнц должен или не должен совершить это. Исходя из того, какие логические обоснования давали респонденты, их относили к одному из шести уровней вынесения моральных суждений.
Согласно Колбергу, обнаруживается, что на ранних стадиях развития морали, которые мы обычно проходим, учась в начальной школе, наши действия мотивированы, преимущественно, наказаниями и наградами. Если мы делаем что-либо, чтобы избежать проблем, то, по Колбергу, мы находимся на стадии 1. Если мы делаем что-либо, чтобы получить некоторую награду, значит, мы находимся на стадии 2. На этих самых примитивных стадиях морального развития наше мышление привязано напрямую к плохим последствиям, которые могут иметь место, если чего
то не сделать, или к конкретным наградам, которые можно по. лучить, что-то сделав. Колберг назвал моральные суждения, от~ носимые к стадиям 1 и 2, «предконвенциональным» уровнем морального развития.
Суждения более высокого уровня, выносимые на стадиях 3 и 4, находят свое отражение в действиях, которые мы делаем потому, что нам положено их делать. Люди ожидают их от нас. На данных стадиях наша нравственность привязана к мыслям в отношении того, какие мысли возникнут у других людей по поводу выбранного нами плана действия (стадия 3), или к мыслям, которые у нас возникают в отношении выполнения своих обязанностей или следования набору конвенциональных правил (стадия 4). На этих стадиях нас уже больше не заботят непосредственно происходящие с нами события, главным образом, нас волнует то, как «не потерять лицо», как не разочаровать других и как «не нарушить равновесие». Согласно Колбергу, две дан-k ные стадии представляют собой «конвенциональный» уровень морального развития.
Когда наши умственные способности становятся развитыми до такой степени, что мы можем мыслить абстрактно, когда мы можем прикидывать, каким образом наши действия повлияют на общество или даже на все человечество, это значит, что мы находимся на самых усложненных уровнях морального развития. На данных стадиях высшего порядка мы делаем нравственный выбор, уже не исходя из того, что произойдет непосредственно с нами, не исходя из того, что случится с нашими родственниками или друзьями, и не исходя из того, нарушаем ли мы какие-либо правила или законы. Вместо этого мы основываем свои решения на том, будет ли что-то «правильным» — тем самым, что следует сделать при сложившихся обстоятельствах (стадия 5), или на том, будут ли наши действия совместимы с некоторым набором сформированных нами «универсальных этических принципов» (стадия 6). Стадия 6 морального развития припасена лишь для редчайших, умнейших, самых добродетельных среди нас. К их числу относятся люди наподобие преподобного Мартина Лютера Кинга и Махатмы Ганди. К сожалению, стадии 6 достигает слишком мало людей, поэтому Колберг, в конечном счете, отказался от нее и исключил из своего списка. Но в любом случае стадии 5 и 6 представляют собой «постконвенциональный» уровень морального развития.
Я полагаю, что большинство людей предпочтет видеть в себе созданий, обладающих высоконравственным характером. Нам хотелось бы верить, что мы поступили бы правильно, если бы
оседи или друзья обратились к нам за помощью. Конечно, мы помогли бы упавшему пожилому человеку или попытались рас-cNieIIIHTb плачущего ребенка. Но почему же тогда вся наша нравственная мудрость улетучивается, когда мы оказываемся за рулем? Давайте обратимся к рассмотрению того, что происходит с вашей нравственностью, когда вы сидите за рулем машины. Давайте, к примеру, рассмотрим то, почему вы превышаете скорость.
Что ж, начнем. Скорость превышают все. Ну ладно, возможно, не все. Из научных исследований нам известно о том, что с возрастом мы обнаруживаем склонность к замедлению — главным образом, по причине компенсации ставших более медленными рефлексов. Но каковы причины, побуждающие всех остальных превышать скорость? Превышаете ли вы скорость, потому что хотите быстрее добраться до нужного вам места? Получаете ли вы удовольствие от того, что вам удается быстро добраться до нужного места? Если так, то, по Колбергу, вы находитесь на стадии 2. Это та стадия, на которой мы делаем что-то, поскольку извлекаем из этого для себя прямую выгоду. Вспомните о том, что стадия 2 является откровенно примитивным уровнем моральных суждений.
Но, быть может, вы превышаете скорость из-за того, что боитесь опоздать на работу или в школу, и из-за того, что начальник или преподаватель может вас отругать. Если это применимо к вам, то, значит, вы выносите суждения, исходя из даже еще более низкого уровня морального развития, нежели ранее. Согласно Колбергу, данная стадия является стадией 1 морального рассуждения. На стадии 1 ваши действия подконтрольны стремлению к избежанию наказания. Если вы превышаете скорость, чтобы избежать проблем, значит, вы действуете на уровне нравственного развития ребенка, посещающего детсад.
Однако вы можете превышать скорость, исходя из более высоких уровней моральных оправданий. Если, допустим, вы встречаетесь с родственниками своей жены в ресторане, но припаздываете, то можете превысить скорость, чтобы избежать ситуации, в которой ваша супруга испытывала бы замешательство по причине вашего отсутствия (стадия 3). Или вы могли бы превысить скорость, чтобы вовремя приехать на занятия, поскольку ваш наставник считает, что опоздание непростительно, и, в конце концов, поскольку «правило есть правило» (стадия 4). Практически единственный вариант ситуации, в которой вы можете превысить скорость, исходя из высших уровней нравственного развития, — это ситуации, аналогичные той, когда в больницу
необходимо вовремя доставить беременную женщину, чтобы она могла родить. В данном примере ваше обоснование состояло бы в том, что правила дорожного движения не создавались в расчете на ситуации экстренной необходимости транспортировки и поэтому иногда вполне возможно нарушить закон. Подобное рассуждение обнаруживает принадлежность к стадии 5.
Но даже если вы всегда придерживаетесь скоростных ограничений, это еще не говорит о вашем нравственном величии и могуществе. Ваш уровень нравственности в следовании букве закона, также как и в случае с нарушением закона, зависит от выносимых вами суждений. Если вы подчиняетесь закону, поскольку не хотите быть оштрафованным, то вы находитесь на стадии 1: избежание наказания. Если вы ездите со скоростью 88 км/ч, поскольку таков закон, то вы находитесь на стадии 4: ориентация на закон-и-порядок. Вы находились бы на наивысших уровнях морального развития, если бы не превышали уста-4 новленную правилами скорость, исходя из своей веры в то, что правила дорожного движения были установлены обществом по вполне благоразумным причинам. Например, идея установки скоростных ограничений до 40 км/ч в спальных районах города всегда казалась мне привлекательной. На такой скорости у вас есть все возможности вовремя остановиться, увидев выкатившийся на проезжую часть баскетбольный мяч, так как известно, что вслед за ним на проезжую часть может выскочить ребенок.
Конечно же, моя цель не состоит в том, чтобы менять уровень вашего нравственного развития, которого вы придерживаетесь, сидя за рулем. Это то, к чему вы должны будете прийти самостоятельно. Моя цель заключается в том, чтобы просто проиллюстрировать теорию морального развития Колберга применительно к повседневной жизни, с которой вы знакомы. В отношении теории Колберга следует не забывать о двух следующих ключевых моментах: 1) Колберг соотносит моральное развитие напрямую с мыслительными способностями; и 2) вследствие наличия связи с мыслительными способностями, моральное развитие со временем «улучшается».
* * *
Возможно, сейчас вы думаете над тем, зачем я потратил несколько последних абзацев на разговор о каком-то парне по имени Колберг и о его теории морального развития, в то время как, предположительно, данная глава должна была быть посвящена некоей Кэрол Гиллиган и женской психологии! Ответ состоит в том, что невозможно на самом деле понять теорию Гиллиган,
е зная определенных вещей о теории Колберга. Хотя Гиллиган и являлась студенткой Колберга, она столь яростно выступала против его теории морального развития, что все закончилось созданием ею собственной теории. Поэтому для того чтобы попять, от чего отталкивалась Гиллиган, сначала вам необходимЪ понять ту интеллектуальную обстановку, против которой она подняла мятеж. Именно против этой обстановки, в частности, й против сообщества детских психологов, в целом, она подняла революцию, опубликовав в 1982 году свою книгу «С другой точки зрения» (In a Different Voice) (занявшую 10 место в списке самых революционных работ).
Больше всего в теории Колберга Гиллиган раздражало то, что в ней, как и, преимущественно, во всей традиционной психологии, ведущее положение занимали исследования, проводимые исключительно на мальчиках и мужчинах. Это как если бы мальчики и мужчины были стандартом, планкой, на которую необходимо равняться, и любое отклонение считалось исключением. По мнению Гиллиган, результатом игнорирования девочек и женщин явилось то, что в основе большинства теорий о человеческой природе лежали взгляды мужчин. Данная жалоба применима к таким популярным теориям, как теория Пиаже, и таким старым, как теория Зигмунда Фрейда. Если вы помните, то главное утверждение Фрейда сводилось к тому, что личностное развитие основано, главным образом, на признании мальчиком того, что 1) у него есть пенис; 2) и что он хочет его использовать. В теории Фрейда девочки по определению были ущербными, поскольку у них отсутствовал пенис. На самом деле, как он считал, девочки проводят свою жизнь в попытках заполучить отсутствующий пенис. Такую мотивацию он назвал «завистью к пенису». Очевидно, что если «нормальное» личностное развитие основано на открытии и целенаправленном использовании собственного пениса, то тогда половина человечества просто обязана иметь серьезное личностное расстройство! Не кажется ли вам это предубеждением?
Первые главы своей книги Гиллиган посвятила краткому обзору истории психологии, чтобы показать, как психология систематически не обращала внимания на взгляды и мнения женщин. Гиллиган предлагает действительно убедительные примеры. Среди прочих она называет имена Фрейда и Пиаже. Но большая часть ее критики обращена на теорию Колберга. На протяжении оставшихся глав она оперирует данными, как мечом, при помощи которого высекает альтернативу традиционному мужскому взгляду на сферу морали.
Хотя, возможно, вы поддались бы искушению и подумали что альтернативой мужскому взгляду является женский взгляд но Гиллиган тут же замечает, что подобное сверхобобщение был0 бы преждевременным. Описываемый ею альтернативный взгляд может быть, несомненно, типичным для женщин способом получения знаний об окружающем мире, но мужчины также способны пользоваться им. Таким образом, вместо того чтобы фокусировать внимание на отдельных нравственных качествах мужчин и женщин, она предлагает подумать о двух подходах, один из которых формулируется в терминах этики заботы, а другой — этики справедливости. Этика справедливости была описана в теории Колберга, это та ее разновидность, которая применима, главным образом, к мальчикам и мужчинам. Но, по мнению Гиллиган, этика заботы столь же важна и обоснованна, как и этика справедливости. К сожалению, никем так и не была разработана теория развития, уточняющая, каким образом нравственность могла бы основываться на этике заботы. Поэтому целью книги Гиллиган была обрисовка лишь общего контура.
Введение
Гиллиган начинает свою книгу со следующих строк: «Вот уже более десяти лет я выслушиваю людей, говорящих о нравственности и о себе. Где-то посередине этого пути я начала улавливать различие в их голосах, заметила существование двух способов рассказа о проблемах нравственности, двух способов описания взаимоотношений между собой и другими людьми... На общем фоне психологических описаний обретения самоидентичности и морального развития, о которых я читала и которые изучала на протяжении ряда лет, стали выделяться женские голоса, звучавшие по-иному. Именно тогда я начала подмечать повторяющиеся проблемы в интерпретации женского развития и связывать эти проблемы с неоднократным исключением женщин из критического анализа теоретических построений в области психологических исследований».
Данные для построения собственной теории Гиллиган получила из трех разных исследований. В «исследовании студентов колледжа» приняло участие 25 студентов и студенток-второкурсниц, отобранных в случайном порядке среди тех, кто записался на курс, посвященный проблеме нравственного и политического выбора. Этих студентов проинтервьюировали дважды: первый раз, когда они были выпускниками, а второй — по прошествии
й лет после выпуска. Однако Гиллиган обратила внимание ^аК#се и на то, что среди 20 студентов, начавших, но бросивших анный курс, 16 были женщинами. Такое диспропорциональное геНдерное различие столь сильно бросалось в глаза, что Гиллиган вступила в контакт и проинтервьюировала и этих женщин.
«Исследование решения об аборте» было основано на результатах интервью с участием 29 женщин в возрасте от 15 до 33 лет. Все женщины были беременны и подумывали об аборте, к Гиллиган они были направлены службами при женских консультациях и абортариях. Гиллиган собрала в ходе интервью полную информацию по 24 из 29 женщин, 21 женщина была проинтервьюирована еще раз по прошествии года после того, как выбор был сделан.
И, наконец, «исследование прав и обязанностей» состояло из интервью, взятых у людей обоего пола, входящих в 9 возрастных групп: 6-9, И, 15, 19, 22, 25-27, 35, 45 и 60 лет. В каждой возрастной группе было по 8 мужчин и по 8 женщин, соответственно, общее количество участников равнялось 144. По два человека того и другого пола из каждой возрастной группы участвовали также в более интенсивном процессе интервьюирования. Хочу пояснить, что Гиллиган не интервьюировала одних и тех же людей по мере достижения ими определенного возраста. На это понадобилось бы более пятидесяти лет! Вместо этого Гиллиган проинтервьюировала разных людей, входящих в вышеуказанные возрастные группы. Такой подход носит название попе-речно-срезового.
Отличительной особенностью всех трех исследований было то, что Гиллиган использовала методику интервью для сбора данных. Процедура исследования была построена так, что сначала автор предлагала всем участникам интервью один и тот же стандартизованный набор вопросов. Однако в ходе интервью Гиллиган на месте придумывала и задавала дополнительные вопросы, которые могли бы помочь подобраться к какому-либо интересному явлению, вскрывшемуся после ответа участника на ранее заданный вопрос. Общая цель, с которой задавались вопросы, состояла в изучении понимания людьми самих себя и собственной нравственности. Дополнительные вопросы задавались из-за необходимости глубже вникнуть в линию рассуждений и логику каждого отдельного человека для того, чтобы определить их отношение к самим себе и собственной нравственности.
Хотя в основе книги Гиллиган лежат результаты трех проведенных ею исследований, но все они описаны очень неподробно. Чтобы у вас сформировалось представление о том, какие
методики она использовала в своей работе, я сфокусирую виц. мание на описании исследования, считающегося самым известным из трех — ее исследования решения об аборте. Однако чтобы мое изложение было подробным, мне необходимо выйти за рамки опубликованной Гиллиган в 1982 году книги и обратиться к более ранней главе, содержащей данные по исследованию решения об аборте. Эта глава была опубликована в 1980 году в соавторстве с Мэри Филд Бэленки (Mary Field Belenky).
Метод
Одним из самых серьезных ограничений теории Колберга, кроме того, что она была основана на ответах лишь мальчиков и мужчин, было то, что она была построена на реакциях на гипотетическую ситуацию. То есть никто из мальчиков и мужчин не оказывался в действительности в ситуации, когда им нужно было украсть лекарство, чтобы спасти жизнь жене. Поэтому то, что они сказали в отношении того, как следует поступить Гейнцу, может отражать, а может и не отражать то, как они поступили бы в действительности, оказавшись в аналогичной ситуации. Чтобы обойти проблему, связанную с необходимостью полагаться на реакции в гипотетической ситуации, Гиллиган решила остановиться на выборке женщин, в реальной жизни столкнувшихся с моральной дилеммой. Гиллиган рассудила, что люди, переживающие внутреннюю эмоциональную борьбу, находятся в большем контакте с собственными нравственными ценностями, и поэтому могут предложить более реалистичную информацию о своей личной системе моральных убеждений.
Участники
Как уже говорилось, участниками исследования были 24 беременные женщины в возрасте от 15 до 33 лет, на исследование они были направлены службами при женских консультациях и абортариях. Несколько участниц получили направления от врачей частной практики и от университетской службы здравоохранения. Чтобы женщина могла принять участие в исследовании, она, в соответствии с требованиями Гиллиган и Бэленки, должна была находиться на первом триместре беременности и по той или иной причине подумывать об аборте.
В исследовании приняли участие женщины, имеющие самое разное социальное, расовое и культурное происхождение. Кто
т0 из них был замужем, кто-то нет. Несколько женщин делали ранее аборты. У троих уже были дети. Гиллиган и Бэленки отобрали женщин со столь разнообразным происхождением, чтобы иметь возможность исследовать также разнообразные когнитивные и нравственные особенности, присутствовавшие у этих женщин. Это было важно, поскольку позволяло увеличить возможность обобщения открытий Гиллиган. Если вы помните, то в главе о Бомринд (глава 13) мы говорили, что недостатком ее исследования было то, что в нем приняли участие лишь благополучные, с высоким коэффициентом интеллекта и с белым цветом кожи люди. По крайней мере, к исследованию Гиллиган подобная критика неприменима.
Материалы и процедура обследования
У женщин брали интервью дважды. Первое интервью проводилось примерно между 8-й и 12-й неделями беременности. Второе проводилось год спустя после того, как принималось окончательное решение об аборте. По прошествии года второе интервью удалось взять у 21 из 24 женщин, входивших в первоначальную выборку.
Вопросы для первоначального интервью составлялись с целью изучения понимания женщинами: 1) проблем, сопряженных с беременностью; 2) решений, с которыми они столкнулись; 3) различных альтернатив, о которых они подумывали; и 4) того, что они думают по поводу каждой из альтернатив. Отправным вопросом был следующий: «Как вы забеременели, и что вы до сих пор об этом думали?» В зависимости от ответа женщин на данный вопрос, интервьюер задавал им последующие вопросы, составленные таким образом, чтобы вскрыть мыслительные процессы, задействованные женщинами в их ответах. После прояснения данной темы женщинам задавались дополнительные вопросы с целью выяснения их ощущений в отношении самих себя («Как бы вы описали себя себе?») и их моральных суждений («Существует ли разница между тем, что вы хотите сделать, и тем, что, по вашему мнению, следует сделать?» «Есть ли у данной ситуации правильное решение?» «Является ли оно правильным только для вас, или оно правильно для всех?»). Вопросы для второго, проводимого год спустя интервью были практически теми же, что и для первого интервью, за исключением того, что жейщин спрашивали также об их переживаниях после принятия решения об аборте («Если обратиться сейчас к тому решению, которое вы приняли год назад, вспомните, какие мысли у вас возникали тогда в отношении того, что делать?»).
Для того чтобы провести сравнение с исследованием Колбер. га, женщинам было предложено также решить стандартную ди. лемму Гейнца. Их ответы на дилемму Гейнца были оценены посредством использования двух разных руководств. Одно ру. ководство к оценке было изначально разработано Колбергом. Другое руководство было разработано Мэри Филд Бэленки и представляло собой адаптированный вариант руководства Колберга, лучше подходящий для оценки реакций женщин на нравственную дилемму.
Различия в оценках. Поскольку у Гиллиган и Бэленки имелась информация о реакциях женщин, как на реальную, так и на гипотетическую моральную дилемму, соответственно, у них была возможность сравнить реакции женщин на обе эти ситуации. Кроме того, поскольку у Гиллиган и Бэленки были также данные интервью, проведенных до и после принятия решения об аборте, им удалось разработать шкалу, измеряющую изменения в условиях жизни, которые имели место между двумя интервью. Эта шкала измеряла наличие или отсутствие изменений в период между Временем 1 и Временем 2 в таких сферах, как любовь и работа, а также впечатление о жизни в целом. Если происходили какие-либо изменения, то они оценивались в соответствии с критериями «лучше, хуже или то же самое». Гиллиган и Бэленки приводят пример студентки, которая во время беременности не посещала занятия, но стала это делать после принятия решения об аборте. Эта женщина «сообщила, что ее жизнь изменилась к лучшему, она завела более хороших друзей, отношения с родителями стали более удовлетворительными». Такой тип изменений был оценен в соответствии с критерием «лучше». Изменения, произошедшие с другой женщиной, которая «ко Времени 2 ушла с работы, была прикована к постели, одинока и полна сомнений», были оценены в соответствии с критерием «хуже». Количество разных «лучше», «хуже» и «то же самое» было взвешено, и были выведены средние показатели, позволившие создать Оценку Жизненного Исхода (Life Outcome Score).
Результаты
В настоящее время разговор о результатах исследования решений об аборте представляется затруднительным, поскольку в оригинальной записи результатов, сделанной в 1980 году, Гиллиган и Бэленки не слишком много внимания уделили тому, чем
отличается этика заботы женщин от этики справедливости мужчин в плане влияния на их нравственность. Вместо этого они сфокусировали свое внимание на том, как нравственность женщин изменилась за время, прошедшее между двумя интервью. Тендерные различия в вынесении моральных суждений описаны в опубликованной в 1982 году книге Гиллиган. Поэтому приводимые ниже результаты заимствованы не из главы, опубликованной в 1980 году, а из выпущенной в 1982 году книги. Кроме того, важно отметить, что описанные Гиллиган результаты не являются «сошедшими с конвейера», обычными экспериментальными результатами. Например, она не основывалась на цифрах, средних показателях или корреляциях. Вместо этого в описании обнаруженных ею сведений она основывалась на повествовательном исследовательском плане, делая особый акцент на собственных мнениях женщин, иллюстрирующих их идеологию этики заботы.
Самым важным открытием, сделанным в ходе исследования решения об аборте, было то, что женщины зачастую выражали свое нравственное понимание в терминах своих взаимоотношений с другими людьми. Они фокусировали внимание на взаимоотношениях с растущими внутри них детьми, с родителями, с сексуальными партнерами и с друзьями. И когда они говорили о своих взаимоотношениях, то чаще всего они говорили о заботе и ответственности. Дайана, возраст которой приближался к третьему десятку, описала свою концепцию нравственности следующим образом:
Такое ощущение, что я пытаюсь отыскать правильный путь в жизни, но я всегда помню о том, что мир полон реальных и осознаваемых проблем, и в каком-то смысле все мы обречены на смерть, и возникает вопрос, а правильно ли приводить в этот мир детей, когда для нас актуальна проблема перенаселения, и правильно ли тратить деньги на обувь, когда одна пара обуви у меня уже есть, а другие люди вообще ходят босиком? Является ли это частью самокритичного взгляда, частью вопроса «На что я трачу свое время, и какой смысл в моей работе?» Я думаю, что во мне есть настоящая потребность, настоящий материнский инстинкт заботиться о других — заботиться о своей матери, заботиться о детях, заботиться о чужих детях, заботиться о собственных детях, заботиться о мире в целом. Когда я сталкиваюсь с вопросами нравственности, я постоянно задаю себе примерно такой вопрос: «Заботишься ли ты обо всех вещах, которые кажутся тебе важными, и как ты растрачиваешь себя и пропускаешь мимо себя эти вопросы?»
В итоге Гиллиган обнаружила, что то, как женщины выносят нравственные суждения, — напоминает изделие, сотканное из взаимоотношений, заботы и ответственности.
Хотя женщины имели отличные от мужских нравственные взгляды, но, вместе с тем, они отличались и друг от друга по уровню морального рассуждения. Гиллиган писала «Умозаключения женщин, в частности, в отношении дилеммы об аборте обнаруживают существование особого морального языка, чья эволюция отображает последовательность развития. Это язык эгоизма и ответственности, определяющий нравственную проблему как одну из обязанностей заботиться о других и избегать боли. Причинение боли считается эгоистичным и безнравственным в своем порицании безответственности, а выражение заботы — реализацией моральной ответственности. Неоднократное употребление женщинами в разговоре о нравственном конфликте слов эгоистичный и ответственный, учитывая ту базовую моральную направленность, которую данный язык отражает, помещает женщин отдельно от мужчин, которых изучал Колберг, и свидетельствует о существовании другого понимания нравственного развития». Далее Гиллиган описывает последовательность из трех уровней развития морального мышления в рамках женской этики заботы, которые приблизительно соответствуют трем уровням (предконвенциональному, конвенциональному и постконвенциональному) развития морального мышления в рамках мужской этики справедливости по Колбергу.
Первый уровень:
ориентация на индивидуальное выживание
Вспомните, что в теории Колберга на предконвенциональном уровне мальчики и мужчины выносили моральные суждения, исходя из стремления избежать наказаний и получить награды. В данном случае основным стремлением, стоящим за нравственным поступком, было стремление извлечь для себя пользу. Схожим образом, самый примитивный уровень развития женского морального мышления основан на заботе о самой себе с целью обеспечения собственного выживания. Женщинам в исследовании Гиллиган нужно было что-то сделать с ситуацией нежелательной беременности и с возможностью, что их жизненные цели могут быть никогда не осуществлены. Поняв это и чувствуя себя отчужденными от окружающего мира, многие женщины испытывали злость и «сбегали» от ситуации, в которой они были бы не способны осуществить множество запланированных вещей. И все их зарождающиеся нравственные действия были основаны
на решениях, целью которых была защита себя. Девятнадцатилетняя Бетти, бывшая приемным ребенком в семье и имевшая за своей спиной уже несколько абортов, нарушений общественного порядка и учебу в исправительном заведении, предложила такой ответ на дилемму Гейнца:
Лекарь его «кидает», и его жена умирает, поэтому лекарь заслуживает того, чтобы его тоже «кинули». (Можно ли назвать этот поступок правильным?) Вероятно. Я думаю, что выживание является одной из наиважнейших вещей в жизни, тем, ради чего люди борются. Я думаю, что это самое важное, еще более важное, чем кража. Кража может быть неправильным поступком, но если для того, чтобы выжить, вам нужно украсть или даже кого-то убить, то это то, что следует сделать. (Почему это так?) Я думаю, что самосохранение является самым важным; в жизни нет ничего важнее. Многие говорят, что для большинства людей самым важным является секс, но мне кажется, что для людей самым важным является самосохранение.
Второй уровень:
добродетель в форме жертвенности
Согласно Колбергу, на конвенциональном уровне у мужчин происходит смещение фокуса внимания на исполнение собственного долга. У Гиллиган женщины также начинали считать, что им необходимо исполнять свой долг. Но в отличие от мужчин Колберга, женщины Гиллиган приравнивали понятие «долга» к понятию «забота о других». Они начинали полагать, что их прежняя фокусировка внимания на себе была эгоистичной. По мере более полного осмысления собственного положения, некоторые женщины начинали понимать, что их основная роль сводится к заботе о будущем ребенке. Такой подход, в свою очередь, служил мотивацией к принятию более общей ориентации на ответственность, когда женщины связывали свои человеческие ценности с усилиями, направленными на заботу о других людях. На данном уровне «делать добро» сводилось к «делать что-то для других». Но проблема заключалась в том, что женщины в своей заботе о других часто переступали через определенную грань и начинали пренебрегать заботой о самих себе. Забота — это то, что вы делаете для других людей, а не то, что вы делаете для себя. Сандра, 29-летняя католичка, медсестра, в реальности столкнулась с данной проблемой. Размышляя над своим решением сделать аборт, она обнаружила, что ей было очень сложно услышать, что ей хотел сказать собственный голос. Вот ее слова:
Как мне казалось, я сделала это не столько для себя, сколько для моих родителей. Я сделала это, потому что мой врач сказал мне это сделать, но внутри себя я никогда не допускала, что сделала это для себя. Но затем мне пришлось сесть и признаться себе: «Нет, на самом деле я не хочу сейчас становиться матерью. Я честно не испытываю желания становиться матерью». В конце концов, не так уж плохо было произнести эти слова. Но мои чувства были иными до тех пор, пока я ни поговорила (со своим консультантом). Было просто ужасно иметь такие чувства, поэтому я просто не собиралась это чувствовать, и я заблокировала выход своих чувств наружу.
Третий уровень: нравственность ненасилия
Согласно Колбергу, на постконвенциональном уровне цель мужчин сводилась к тому, чтобы делать то, что правильно, даже если за это приходится дорого платить или это приводит к нарушению долга. Для мужчин в исследовании Колберга это зачастую означало действовать согласно интернализованным принципам высокой морали, основанным на стремлении сделать как можно больше добра для как можно большего количества людей. Хотя главным была забота о людях, «люди» были абстрактным понятием, не имевшим, в действительности, никакого отношения к какому-либо конкретному человеку. Даже война могла расцениваться в качестве абсолютно легитимного ответа на широкомасштабное нарушение личных свобод, несмотря на то, что в итоге могли погибнуть сотни тысяч людей.
У Гиллиган же было несколько иное видение наивысшего уровня. Когда женщины в исследовании Гиллиган достигали своего третьего уровня, они приходили к пониманию того, что пренебрегали собой и даже в некотором смысле утратили себя, играя роль тех, кто оберегает и защищает других. Размышляя дальше, они начинали понимать, что в своей жизни они тесно связаны с другими людьми, и что, пренебрегая собой, они причиняют вред не только себе, но и другим. При достижении третьего уровня у них формировалось новое понимание взаимосвязей, существующих между ними и важными в их жизни людьми. Фокус внимания смещался с заботы лишь о себе или лишь о других на заботу об отношениях. Но во всех случаях приоритетными оставались отношения со значимыми другими. Абстрактные принципы справедливости были намного менее значимыми. Ответ студентки колледжа (не принимавшей участие в исследовании
решения об аборте) служит иллюстрацией данного положения. На вопрос «Зачем быть нравственным?» она ответила:
Мой основной принцип состоит в том, чтобы не причинять вреда другим людям, покуда вы не выступаете против собственной совести и покуда остаетесь верны себе... Существует так много нравственных дилемм, таких как аборт, убийство, воровство, моногамия. Если возникают спорные вопросы наподобие только что упомянутых, я всегда говорю, что решение должно быть принято самим человеком. Именно он должен принять решение и затем поступить по совести. Нравственных абсолютов не существует. Законы — это прагматичные инструменты, но они не являются абсолютами. Жизнеспособное общество не может все время делать исключения, но вот лично я.... Боюсь, что в один прекрасный день в отношениях со своим парнем я стану инициатором большого кризиса, и кому-то будет больно, причем ему будет больнее, чем мне. Я чувствую, что обязана не причинять ему боль, но, кроме того, обязана также не лгать. Я не знаю, возможно ли одновременно не лгать и не причинять боль.
Обсуждение
Гиллиган подытоживает различия между женской моралью, которая чаще всего базируется на этике заботы, и мужской, которая чаще всего базируется на этике справедливости, следующим образом: «Моральный императив, постоянно всплывающий в интервью с женщинами, — это обязанность заботиться, обязанность распознавать и смягчать "реальные и осознаваемые проблемы" нашего мира. Для мужчин же нравственный императив проявляется скорее в качестве обязанности уважать права других людей и, таким образом, оберегать от нарушений право на жизнь и самореализацию. Женское стремление к заботе имеет отношение скорее к самокритике, нежели к самозащите, в то время как мужчины изначально воспринимают долг перед другими людьми негативно в терминах невмешательства... При развитии постконвенционального понимания женщины начинают считать, что насилие неотъемлемо от неравенства, в то время как мужчины начинают думать, что ограничения понятия справедливости плохо различимы по причине отличий в человеческой жизни».
Уф! Кое-что требуется разжевать. Позвольте мне упростить одну из этих идей. Речь здесь идет о такой мысли Гиллиган:
по-видимому, у мужчин конечной нравственной целью является защита определенных фундаментальных прав. Под фундаментальными правами понимается то, что идет в ногу с правами на жизнь, свободу и поиски счастья. То, что оказывается на пути реализации данных прав, носит название «несправедливости». Мужчины с высокими уровнями морали так ценят эти принципы, что могут даже отдать им приоритет перед отношениями с родителями, с женами или с собственными детьми. Женщины же, напротив, считают, что значимые и глубокие личные отношения имеют большую ценность, нежели абстрактные, индивидуалистические принципы. Для женщин несправедливость обретает форму чего-то, что угрожает святости отношений. В отличие от мужчин, чья озабоченность этими абстрактными принципами может иметь, а может и не иметь какую-либо связь с конкретной жизненной ситуацией, женщины практически всегда сосредоточены исключительно на ситуациях реальной жизни. В то время как женщины заняты тем, что пытаются смягчить перенесенные человеком травмы и насилие, имевшие место в условиях реальной жизни, мужчины более склонны к тому, чтобы, прежде всего, начать осуждать тот принцип или правило, которое привело к травме и насилию.
И пока я пишу эти слова, Америку все еще потряхивает после серии ужасных террористических актов, произошедших 11 сентября. С тех пор страна стала постоянным свидетелем транслируемых через СМИ изображений разрушений, возникших в результате угона четырех пассажирских самолетов и намеренного нацеливания их на Пентагон и два здания Центра Мировой Торговли. Более 2 ООО человек, находившихся внутри этих зданий, погибли. Тогда я предложил студентам отвести предназначенное для занятия время на разговор о том, что вообще они думают по поводу произошедших терактов. Тендерные различия, обнаруженные в обсуждении, были просто поразительны! Практически все без исключения мужчины хотели отправиться в Афганистан и «разбомбить» его. А практически все без исключения женщины полагали, что бомбить все подряд бессмысленно, и что это только лишь ухудшило бы положение дел.
Мужчины приводили аргументы, исходя из принципа справедливости. Теракты, обрушившиеся на добропорядочных граждан США, были расценены ими как абсолютное нарушение наших прав на жизнь, свободу и поиски счастья. Мужчин мало заботило то, сколько жизней могло бы быть потеряно в результате любой контратаки, предпринятой Соединенными Штатами. Многие мужчины выразили даже заинтересованность в том, чтобы присоединиться к военным и участвовать в акте возмездия.
Женщины, присутствовавшие на занятии, выразили абсолютно ДРУгое настроение. Они определили трагедию не как нарушение абстрактных принципов и прав, а как нарушение святости человеческих отношений. Они выступили против какой бы то нн было контратаки со стороны Америки, атаки, которая, на их взгляд, привела бы лишь к еще большему числу смертей, причинила бы еще больший эмоциональный вред, но, очевидно, не была бы концом всей истории. Женщины также были крайне взволнованы возможностью потерять своих друзей, ушедших воевать, но не только потому, что их друзья могли бы умереть на войне, а по более общей причине: потому что их друзьям нужно было бы уезжать.
Мораль истории такова: то, как нравственные суждения выносятся женщинами, и то, как они выносятся мужчинами, имеет свои отличительные особенности. В то время как мужчины обнаруживают склонность верить в то, что абстрактные моральные принципы превосходят специфику любой ситуации, женщины фокусируют внимание на специфике отношений в тех ситуациях, о которых они размышляют. Но помните о том, что Гиллиган не говорила, будто женские представления о нравственности лучше или хуже мужских. Они просто различны. Но, по-видимому, о схеме Колберга нельзя сказать то же самое. Создавая свою первоначальную систему классификации морального развития, он опирался на ответы мужчин на гипотетические дилеммы. Создается впечатление, что ни ему, ни, возможно, кому-либо другому из множества ученых, занимавшихся доработкой его теории, не пришла в голову мысль: то, что применимо к мужчинам, может быть неприменимо в равной степени к женщинам. На самом деле, Гиллиган на страницах своей книги не раз отмечала, что многие участницы исследования, выносившие суждения, исходя из высоких уровней морального развития с использованием этики заботы, в рамках этики справедливости были бы определены на более низкий уровень, соответствующий стадии 3 по схеме Колберга. Таким образом, складывается впечатление, что шкала Колберга недооценивает способности женщин к моральному рассуждению. Поэтому если бы Гиллиган поставила этику заботы на первое место, а этику справедливости — на второе, ее нельзя было бы винить в том, что Колберг неправильно расставил акценты, заставив ее, вследствие этого, столь сильно вспылить. Тут все дело в том, что у вас могут появиться проблемы, если вы будете пытаться оценивать нравственность одного пола глазами (или шкалой измерений) другого. Просто эти вещи нельзя ни смешивать, ни противопоставлять друг другу.
Выводы
Гиллиган произвела революцию в детской психологии, поскольку она открыла нам глаза на то, что женщины могут не следовать тому же самому пути развития морали, что и мужчины. Еще более важным является то, что ее работа вынудила нас заметить актуальность проблемы существования гендерно-деформиро-ванных выборок в психологических исследованиях. Теории развития, построенные на основе выборок, состоящих из мужчин, обрисовывают лишь половину картины. Предложив собственную теорию, созданную на основе историй из жизни, рассказанных женщинами, Гиллиган помогла увидеть всю картину целиком. Она подарила детской психологии новое видение и новое понимание пути нравственного развития женщин.
Важно и то, что влияние Гиллиган вышло за пределы области морального развития. Ее работа послужила большим вкладом в изучение роли тендерных различий в нравственном становлении. Последовав за волной, поднятой Гиллиган, Мэри Филд Бэленки с соавторами опубликовала в 1986 году книгу, в которой представлены данные, свидетельствующие, что мышление девочек и женщин имеет свой путь развития, отличный от пути развития мышления мальчиков и мужчин. В этой книге «Женские пути познания:развитие своего "я", собственного мнения и разума» («Women's Waysof Knowing: The Development of Self, Voice and Mind»), написанной в стиле Гиллиган, приведены сведения о ряде переходных моментов в развитии мышления, через которые проходят девочки-подростки по мере того, как они знакомятся с окружающим миром и превращаются во взрослых женщин. Как и в случае с работой Гиллиган, книга «Женские пути познания» была написана в качестве ответа, в данном случае — на теорию Уильяма Перри (William Perry) о позднеподростко-вом когнитивном развитии, созданную автором на основе изучения, преимущественно, мальчиков.
Критические замечания о теории Гиллиган
Хотя Гиллиган сыграла важную роль в том, что касается рисования новой картины американского психологического ландшафта, но ее работа спровоцировала также и бурю споров. Споры возникают на двух уровнях. С точки зрения более общего уровня, многие ученые отнеслись с подозрением к научной обоснованности громких заявлений, сделанных исключительно на базе данных интервью. Одна из самых явных проблем использования любой процедуры интервью заключается в том, что данные интервью легко поддаются искажению при интерпретации.
дриводится следующий аргумент: если вы ожидаете что-то найти, неважно даже, что именно, то вы можете это найти, обратившись к использованию процедуры интервью. Но даже если техники интервью были применены Гиллиган без каких-либо искажений, ее теорию все равно бы критиковали за то, что она построена на основе столь маленькой выборки. Например, в отношении исследования решения об аборте Гиллиган критиковали за то, что она делала широкомасштабные обобщения о моральных особенностях всех женщин, исходя из данных, полученных лишь на выборке из 24 женщин; даже несмотря на то, что это были женщины, оказавшиеся в весьма необычной ситуации, в которой им требовалось решить, делать им аборт или нет.
Но в свою защиту Гиллиган провела ряд других исследований с участием женщин, которые не были беременны, и, соответственно, не подумывали об аборте. И в защиту своих маленьких выборок она пишет: «Чтобы показать, что существует мнение, отличное от мнений, представленных психологами, мне нужен лишь один пример (дополнительный курсив) — одно мнение, не вписывающееся в рамки существующих схем интерпретации. Чтобы показать, что общие темы пронизывают представления женщин о самих себе и о нравственности, мне нужна серия примеров. Противопоставляя представления женщин о самих себе и о морали тем представлениям, которые содержатся в психологических теориях, я допускаю, что психологическая литература наполнена мнениями мужчин, иллюстрирующими мужской опыт. Поэтому, выслушивая женщин, я стремилась отделить описания их опыта от стандартных форм психологической интерпретации и основываться на глубоком текстуальном анализе языка и логики для того, чтобы определить параметры женского мышления».
Кроме того, критика была порождена также тем, что в ходе ряда исследований не удалось обнаружить половых различий в отношении вынесения моральных суждений. Например, в ходе одного исследования авторы (Friedman, Robinson & Friedman) серьезно подорвали основы теории Гиллиган. Они пришли к следующему выводу: «(Наши) результаты показали, что ни тендерные, ни поло-дифференцированные личностные свойства не имеют достоверной связи с тем, моральные суждения какого типа выносятся человеком. Маловероятно, что составляющие, основанные на двух параметрах, выведенных из теории Гиллиган, различаются между собой больше, чем если бы это было обусловлено чем-то помимо влияния, оказываемого полом. Лишь несколько из 48 индивидуальных вопросов (использованных для измерения моральных суждений) обнаружили суще-

ствование половых различий, причем большинство этих различий проходило в направлении, противоречащем теории. Кроме того, мужчины и женщины продемонстрировали крайне схожие паттерны при оценке важности индивидуальных вопросов по каждой дилемме (типа дилеммы Гейнца). Если рассматривать эти находки в совокупности с результатами ранее проведенных исследований с использованием техники Колберга... то можно видеть, что они накладывают тень сомнения на обоснованность заявлений Гиллиган».
Но и против такой критики у Гиллиган есть защита. Она говорит, что проблема с исследованиями наподобие этого кроется в том, что исследователи слишком полагаются на гипотетические нравственные дилеммы типа дилеммы Гейнца. Гиллиган сама провела несколько исследований, в ходе которых она не обнаружила тендерных различий в рассуждениях о Гейнце. Дилемма Гейнца придумана с целью выявления рассуждений, основанных на понятии справедливости, — как у мужчин, так и у женщин, — потому что она была придумана мужчиной, верившим в то, что нравственность начинается с понятия справедливости. И хотя представители разных полов способны прибегать в дилемме Гейнца к рассуждениям, основанным на понятии справедливости, но Гиллиган считает, что представители разных полов не станут с одинаковой степенью вероятности оформлять нравственную дилемму подобным образом. Использование дилеммы Гейнца ограничивает возможность женщин оформить моральный конфликт предпочитаемым способом, в терминах этики заботы. Женщины не стали бы оформлять нравственную дилемму согласно универсальным правовым принципам. Вопрос, на который Гиллиган хотела найти ответ, состоял, прежде всего, в том, как женщины оформляют нравственные конфликты, вот почему она выбрала для исследования метод интервью. Посредством использования в ходе интервью относительно неструктурированных, открытых-закрытых вопросов, исследователь мог избежать преждевременного оформления моральной проблемы. Респондент мог оформить нравственную ситуацию по собственному выбору. Обратите внимание на то, как Рут стремится переформулировать дилемму Гейнца таким образом, чтобы в ней для нее было больше смысла:
Я даже не могла подумать, что стану когда-нибудь употреблять слова правильно и неправильно, и я знаю, что не употребляю слово нравственный, поскольку не уверена в том, что знаю его значение. Мы говорим о несправедливом обществе, мы говорим о целой куче вещей, которые неправильны, действительно
неправильны, — употребляя при этом слово, которое я не слишком часто употребляю, — и над этим у меня нет контроля. Если бы я могла это изменить, я бы, безусловно, так и поступила, но у меня есть лишь возможность изо дня в день делать свой скромный вклад, и если я сознательно не причиняю никому боли, то это и есть мой вклад в развитие более здорового общества. Мой вклад состоит также и в том, чтобы не осуждать других людей, в особенности тогда, когда я не знаю, какие обстоятельства вынудили их совершить тот или иной поступок.
Я хотел бы закончить главу напоминанием о том, что после того, как все сказано и сделано, после того, как весь разговор об этике заботы женщин и этике справедливости мужчин изложен на бумаге, нет ничего такого, что неизбежно побуждало бы женщин рассуждать о нравственности отлично от мужчин. Да, по-видимому, они все-таки рассуждают по-иному, но они не обязаны это делать. Несомненно, многие женщины могут рассуждать в соответствии с этикой справедливости, а многие мужчины аналогичным образом могут рассуждать в соответствии с этикой заботы. По этой причине Гиллиган предпочитает считать, что два данных подхода являются отражением разных «тем» в моральном рассуждении. Суть здесь в том, что игнорируя на протяжении всей своей истории голоса женщин, психология сослужила сама себе плохую службу, не сумев открыть существования альтернативных путей нравственного развития. И для любой науки, стремящейся отыскать правду о положении человека, было бы большой ошибкой не прислушиваться ко всем звучащим голосам.
Библиография
Belenky, М. Е, Clinchy, В. М., Goldberger, N. R., & Tarule,J. М. (1986). Women's ways of knowing: The development of self, voice, and mind. New York: Basic Books.
Friedman, W. J., Robinson, А. В., & Friedman, B. L. (1987). Sex differences in moral judgments? A test of Gilligan's theory. Psychology of Women Quarterly, 11,37-46.
Gilligan, C, & Belenky, M. F (1980). A naturalistic study of abortion decisions.
In R. Selman & R. Yando (Eds.), Clinical-Developmental Psychology: New
Directions for Child Development, 7, San Franciso:Jossey-Bass. Kohlberg, L. (1969). Stage and sequence: The cognitive-developmental approach
to socialization. In D. A. Goslin (Ed.), Handbook of socialization theory and
research. Chicago: Rand McNally.
Larrabee, M.J. (1993). Anethicof care: Feminist and interdisciplinary perspectives'. New York: Routledge.
Puka, B. (1994). Caring voices and women's moral frames: Gilligan's view. New York: Garland Publishing.
Вопросы для обсуждения
1. Если исходить из находок Гиллиган, то какие изменения произошли бы с постом Президента США, если бы президентом стала женщина? Как бы это могло повлиять на внешнюю политику? Как бы это могло повлиять на внутреннюю политику?
2. Заслуга Гиллиган состоит в том, что привлеченное ею внимание к проблеме исследования тендерных различий в нравственном развитии может быть также распространено на существование тендерных различий в прочих областях. На самом деле, возможно, что вся наука в целом отражает мужские предубеждения, поскольку наука, как таковая, была придумана мужчинами. Как бы могла выглядеть наука, если бы она была придумана женщинами?
3. Можете ли вы привести примеры либо из личных романтических отношений, либо из романтических отношений ваших друзей, когда у мужчины была бы своя точка зрения, отличная от точки зрения женщины? Соответствуют ли эти точки зрения предложенным Гиллиган понятиям этики заботы и этики справедливости! Как вам кажется, от кого — от ваших друзей-мужчин или от друзей-женщин — можно было бы скорее услышать что-то наподобие: «Но ведь имеет значение сам принцип»?
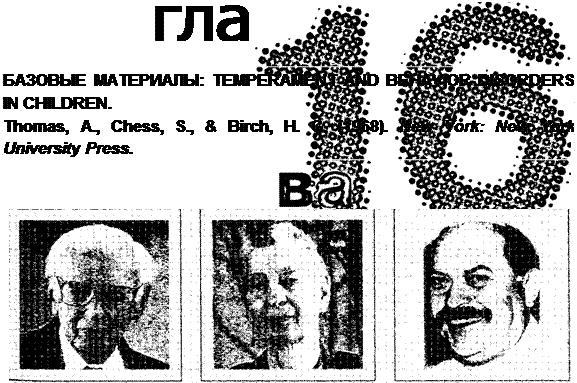
«Если бы ты родилась первой, то мне бы уже хватило»
В прошлом году на праздновании второго дня рождения моей племянницы я нечаянно услышал, как давняя подруга нашей, семьи отметила, что если бы ее третий ребенок, Кристи, родилась первой, она, вероятно, не решилась бы родить второго ребенка! Кристи на самом деле была довольно-таки несносной для
своей матери. Предполагаю, двум другим детям повезло, что она родилась третьей. Однако хотя ее мама считала ее трудным ребенком, Кристи пользовалась своей «трудностью» с большим успехом. Ей сейчас за тридцать, она ведет успешную жизнь, продолжает свою профессиональную карьеру и имеет внушительных размеров дом. Насколько я могу сказать, она кажется вполне нормальным взрослым человеком, хотя, по моему мнению иногда она бывает немного эксцентричной. Я хорошо знаю ее потому что она вышла замуж за моего брата, и на дне рождения именно ее дочери я был в тот вечер.
Тот факт, что братья и сестры могут быть так непохожи друг на друга, действительно является удивительным. Как они могут быть такими разными, когда растут под одной и той же крышей, с одними и теми же правилами и повседневными обязанностями, особенно при том, что унаследовали гены от одних и тех же родителей? Бихевиористы сказали бы без тени сомнения, что индивидуальность братьев и сестер — это результат влияния различных паттернов подкрепления и наказания. Но это объяснение не очень помогает родителям понять, почему подкрепление так хорошо воздействует на одного ребенка и совершенно нерезультативно для следующего. Психологи, исследующие формирование поведения с позиций генетики, напомнили бы нам о том, что единокровные братья и сестры, несмотря на свою генетическую схожесть, еще не являются генетически идентичными.
Александр Томас (Alexander Thomas), Стелла Чесе (Stella Chess) и Герберт Берч (Herbert Birch) заслужили свой статус революционеров тем, что поместили индивидуальность ребенка на предметное стеклышко своего микроскопа. Их книга, занявшая шестое место, была, пожалуй, радикальным отклонением от основного направления детской психологии, потому что статусом-кво в то время было следование номотетическому подходу. То, что детские психологи придерживались номотетического подхода, — это лишь затейливый способ сказать, что они большую часть времени проводили, документально подтверждая универсальные законы развития, которые можно было бы применить ко всем детям.
Пиаже применил номотетический подход в своем исследовании когнитивного развития, Боулби применил номотетический подход в своем исследовании привязанности, и Бандура применил номотетический подход в своем исследовании моделирования. Изучение всеобщих законов — это всего лишь то, что вы, являясь ученым, обучены делать.
Однако, как и многие другие упомянутые нами революционеры, Томас, Чесе и Берч были неприятно разочарованы стандартным номотетическим подходом. Они были еще более разочарованы тем, что все блюда меню исчерпывались бихевиористским пирогом, которым психологов развития закармливали годами, и не теряющим популярности фрейдистски-психоаналитическим фламбе (flambe). Томас, Чесе и Берч нашли оба научных течения неудобоваримыми и сочли, что после них остается сильный горький привкус. Поэтому они, подобно хорошему маленькому кружку революционеров, организовали свой собственный теоретический банкет. Им тоже было, что поставить на карту. Как детские психиатры, они в основном были заинтересованы в понимании и преодолении многочисленных причудливых неадекватных паттернов поведения, которые часто встречались у их детей-пациентов. Так что авторам требовалось не только найти научное объяснение индивидуальности детей, но и отыскать научно обоснованные способы для решения поведенческих проблем, возникающих на крайних отрезках диапазона.
Введение
Целью их книги, вышедшей в 1968 году, было представить результаты гигантского лонгитюдного исследования индивидуальности детей, к которому они приступали двенадцатью годами ранее. Лонгитюдным называется исследование одной и той же группы людей на определенном отрезке времени. Кратковременное лонгитюдное исследование может основываться на данных группы детей в возрасте, скажем, от 4 до 5 лет, с целью наблюдения того, что происходит при поступлении в детский сад. При более длительном лонгитюдном исследовании можно изучать группу детей, предположим, от 13 до 18 лет, с целью анализа процессов, происходящих при переходе детей от подросткового возраста к взрослости. Но исследование Томаса, Чесе и Берча началось в 1956 году и окончательно завершилось в 1988 году, спустя 20 лет после опубликования их книги! Это исследование стало теперь настолько знаменитым, что даже получило собственное название — «Нью-Йоркский лонгитюд».
Как я сказал, основной задачей исследования было документировать сведения об индивидуальности детей от раннего младенчества на протяжении детства. Авторы сосредоточились не только на влияниях среды, но и на воздействии внутренних фак
торов. Эти внутренние факторы в своей совокупности были названы характерными чертами*.
Авторы считали, что для достижения обоснованного объяснения индивидуальности детей требуется знать не только коренящуюся в их характерных чертах отправную точку, но и то, как на эту отправную точку реагировал остальной мир. Но на этом не следует останавливаться: нужно знать и то, как менялись характерные черты детей в результате реакции мира на их отправную точку. Нельзя останавливаться и на этом: затем надо узнать, как реагировал мир на изменившиеся черты, которые и претерпели свои изменения в результате реакции мира на коренящуюся в этих характерных чертах отправную точку. И так далее, и тому подобное. Я думаю, вы получили представление об этом. Это похоже на детскую песенку о том, как старая леди проглотила муху. Авторы доказывали, что индивидуальность ребенка в любой момент времени будет следствием запутанной истории циклического взаимодействия характерных черт и отклика окружающей среды на эти черты.
| * В авторском тексте здесь использовано слово ^temperament*, которое в русском языке может иметь значения «темперамент», «характер», «натура», «индивидуальность». Из контекста становится ясным, что авторы имели в виду индивидуальное своеобразие поведения и переживаний, истоки которого заложены от природы, но видоизменяются под воздействием опыта человека и социальных влияний. Поэтому мы сочли наиболее подходящим использовать словосочетание «характерные черты». Ведь назвав то, что, по авторскому определению, есть «внутренние факторы в своей совокупности» и «отправная точка», характером, мы слишком сузим принятое в отечественной психологии содержание термина «характер». Приняв же это определение как «темперамент*, мы погрешим против авторской концепции постоянных, циклических изменений рассматриваемого феномена вследствие «реакций остального мира». — Прим.ред. |
Прежде чем приступить к описанию роли характерных черт в формировании индивидуальности ребенка, Томасу, Чесе и Верчу следовало выработать рабочее определение характерных черт. Так как они шли непроторенной дорогой, им надо было быть уверенными в том, что их определение раскрывает сущность того, что они описывали. Но им надо было быть уверенными еще и в том, что это определение окажется достаточно приемлемым для других ученых, работающих в данной области. Так как большинство других детских психологов в 1956 году имело устойчивую бихевиористскую направленность, Томас, Чесе и Берч кропотливо и старательно описали характерные черты в терминах реального физического поведения детей. В противном случае ученое сообщество могло не принять их. Более того, авторов
интересовало скорее не то, что делали дети или почему они это делали, а то, как это делалось. Они описали это как стиль.
Представьте себе трех разных мальчиков в бейсбольной команде, собирающихся бить битой по мячу. Самое начало игры, никто еще не вышел. Подающий (питчер — pitcher) другой команды известен тем, что подает много мячей подряд, и плохие удары у него очень редки. Один за другим, по очереди, мальчики трусцой приближаются, отбивают четыре немыслимых удара и отбегают. Мальчик 1, судя по всему, наслаждается пробежкой. Он бросает биту на землю и с восторгом бежит на первую базу, улыбаясь тренеру до ушей. Мальчику 2, видимо, не очень нравится пробежка. Он осторожно кладет биту, бросает мимолетный взгляд на болельщиков и невозмутимо направляется к первой базе, по пути приглаживая волосы. Мальчик 3, в свою очередь, приходит в ярость. Он с размаху кидает биту, демонстрирует противникам несколько откровенных жестов, плюет в питчера и вызывающе трусит к первой базе. Три мальчика, три пробежки, три очень разных поведенческих стиля. В этом сущность их характерных черт.
Как вы можете себе представить, когда авторы приступили к своей работе, характерные черты считались не самой стоящей темой для психологического исследования. Изучать это считалось ниже достоинства ученого. Главенствующие бихевиори-стические теории того времени строго придерживались убеждения, что поведение детей целиком является продуктом их окружения. Плохое поведение объясняется всего лишь плохим воспитанием. Но Томас, Чесе и Берч были убеждены, что характерные черты важны по трем причинам. Во-первых, редко обнаруживалось точное соответствие между условиями окружения и поведением ребёнка и его поведением в будущем. Во-вторых, по наблюдениям, дети обладают разной восприимчивостью к стрессорам окружающей среды. И, в-третьих, о чем говорилось в самом начале, дети из одной и той же семьи могут коренным образом различаться в реакциях на сходные родительские действия.
Итак, Томас, Чесе и Берч начали свое исследование. В уме у них были определены три ясные задачи. Во-первых, они хотели понять, каким образом лучше всего изучать характерные черты человека. Вспомните, эти авторы были первопроходцами, так что в поиске способов изучения характерных черт человека они были предоставлены самим себе. Во-вторых, они хотели разработать классификацию этих черт для выявления детей, у которых наиболее вероятно формирование поведенческих расстройств.
В этом сказывается специализация авторов в области детской психиатрии. И, в-третьих, они намеревались тщательно регистрировать условия окружающей среды, в которых воспитываются участники их исследования. Чтобы выполнить эту последнюю задачу, они должны были старательно фиксировать, как воспитываются эти дети, а также с какого рода стрессами окружающей среды сталкиваются они в своей повседневной жизни.
Метод
Так как Томас, Чесе и Берч имели дело с таким запутанным предметом, как индивидуальность детей, они сочли хорошей идеей понизить «уровень шума» с самого начала, посредством использования в своем исследовании относительно гомогенной выборки. Поэтому они выбрали семьи из классов среднего и выше среднего по уровню доходов, все из города Нью-Йорк и нескольких его пригородов. Эта стратегия должна была помочь уменьшить число факторов окружающей среды, которые придется учитывать. Например, впоследствии не надо было беспокоиться о том, как объяснить индивидуальность детей из небольших городков, поскольку все дети в их исследовании жили в большом городе (в очень большом городе). Авторы начали включать семьи в исследование в 1956 году (как я уже говорил) и продолжали набор, пока у них под наблюдением не оказалось 85 семей. Как только семья вступала в исследование, все новые дети, родившиеся в ней, наблюдались с того момента, как появлялись на свет.
Участники
Всего в исследовании приняли участие 136 детей. Пять детей в ходе работы были «потеряны», поскольку они переехали жить в другое место. В 45 семьях было по одному ребенку, в 31 — по двое детей, в 7 — по три ребенка и в двух семьях было по четыре ребенка. К 1966 году, спустя десять лет после начала исследования, в нем было сорок 10-летних, двадцать пять 9-летних, восемнадцать 8-летних, шестнадцать 7-летних, пятнадцать 6-летних, десять 5-летних и двенадцать 4-летних детей. Примерно половину детей составляли мальчики (69) и половину — девочки (67). 78% детей росли в иудейских семьях, 15% — в протестантских и 7% — в католических. В начале исследования матерям было от 20 лет до 41 года, отцам — от 25 до 54 лет.
Подмножество всей выборки составляла «клиническая выборка». В нее входили 42 ребенка, которые имели симптомы,
волновавшие их родителей или школу, и которые в результате клинической психиатрической экспертизы были признаны имеющими «значительную степень поведенческих нарушений». Примерами поведенческих нарушений были: (1) значительная задержка в таких областях развития, как речь, восприятие или двигательное развитие; (2) вредоносные или опасные для собственного здоровья виды поведения; (3) значительная невосприимчивость к воздействиям окружающей среды; (4) яркое неподчинение социальным нормам поведения, как, например, мастурбация в общественных местах; (5) значительная изоляция от друзей; (6) многократные случаи хулиганства или (7) школьная неуспеваемость при сохранности интеллекта. Хотя то, что дети имеют поведенческие нарушения, и печально, но для этого исследования было чрезвычайно важно, чтобы у некоторых детей были поведенческие проблемы, поскольку одной из задач было проследить, связаны ли характерные черты с расстройствами поведения. Томас, Чесе и Берч не преуспели бы в решении этой задачи, если бы все их участники были нормальными.
Материалы
Так как их исследование было столь обширным, Томас, Чесе и Берч использовали множество различных методик для измерения психологических характеристик детей и их родителей. Для начала всем детям предлагались стандартные тесты на когнитивное функционирование (другими словами, тесты IQ) в 3 года и в 6 лет. Кроме того, когда детям исполнялось 3 года, родители проходили тестирование на установки в воспитании, и им задавались вопросы о том, как они на самом деле воспитывают детей.
Детям в клинической выборке иногда требовалось дополнительное тестирование, что зависело от их специфических поведенческих проблем. Дополнительное тестирование проводилось в форме, например, психиатрических игровых интервью или же в форме неврологических исследований. Результаты этого дополнительного тестирования были также включены в работу.
Возможно, для нашего внимания наиболее интересен тот инструмент измерения, который Томас, Чесе и Берч использовали для измерения характерных черт детей. Вспомните, во времена проведения исследования не существовало средств измерения таких особенностей, так что авторам пришлось изобретать свое средство. Для этого они разработали серии интервью для родителей и учителей, содержащие придирчиво отобранные вопросы, которые касались очень специфических видов детского поведения, имевших место в очень конкретных обстоятельствах.
Эти интервью были сосредоточены на тех видах поведения, которые возникали по поводу типичных, общепринятых ежедневных дел, таких как кормление, сон, одевание, игра и так далее. Например, родителей могли спросить о том, как реагировал их ребенок на изменения в обычном режиме приема пищи или отхода ко сну. Или учителей могли спросить, насколько легко реагировал ребенок, когда дошкольный дневной сон сменился школьной большой переменой. По ходу интервью уделяли особое внимание реакциям детей на новых людей, новые вещи и ситуации. Кроме того, учитывались лишь примеры действительно имевших место видов поведения. Если родители или учителя давали интерпретации поведения детей, как, например: «Ребенок ненавидит овсянку» или «Этот ребенок всегда злится, если ему не удается добиться своего», прилагались особые усилия, чтобы выяснить у родителей, что именно сделал ребенок, отчего они пришли к такому заключению.
Помимо интервью, проводились наблюдения за каждым ребенком в школе, во время одночасового эпизода свободной игры. В это время наблюдатель «ненавязчиво сидел в углу комнаты». Согласно авторам: «Наблюдатель отмечал общие и специфические атрибуты окружения и все доступные наблюдению вербальные, моторные и жестовые взаимодействия ребенка с материалами, другими детьми и взрослыми. Все заметки о поведении производились в конкретных описательных терминах. Умозаключения, например, о значении поведения ребенка, избегались».
Процедура
К сожалению, Томас, Чесе и Берч предоставили нам, по крайней мере, в рассматриваемой книге, не так много деталей о точных процедурах, которым они следовали. Но мы знаем, что они придерживались достаточно твердой системы в проведении интервью с родителями и учителями. В первый раз родители проходили интервью как можно быстрее после того, как семья была включена в исследование. Затем интервью проводились с трехмесячными интервалами, пока ребенку не исполнится полтора года; с полугодовыми интервалами, пока ребенок не достигнет пяти лет; и один раз в год после этого возраста.
89% детей посещали детский сад, так что в отношении большинства детей было возможно опрашивать их воспитателей детского сада. Первое интервью с воспитателями производилось во время «первоначальной адаптации к ситуации детского сада, а второе происходило в период завершения учебного года». После этого интервью проводились ежегодно: на втором году посе
меняя детского сада (если ребенок не покидал его), во время подготовки к школе и в первом классе. Из описаний авторов не совсем ясно, продолжалось ли интервьюирование учителей после обучения детей в первом классе, но, судя по всему, оно продолжалось.
результаты
Определение характерных черт
Как было замечено выше, одной из первоочередных задач Томаса, Чесе и Берча было нахождение способа измерения характерных черт. Основываясь на своих интервью и наблюдениях в классах, авторы выделили девять составляющих этого понятия. Вот так! Другими словами, по их мнению, характерные черты у детей должны определяться на основании целой серии оценок, произведенных по девяти различным характеристикам поведения. Этими девятью направлениями анализа являются: (1) уровень активности, (2) ритмичность, (3) приближение или удаление, (4) адаптабельность, (5) интенсивность реагирования, (6) порог возникновения реакции (7) качество настроения, (8) возможность переключения и (9) продолжительность и помехоустойчивость внимания. Все это довольно тяжело проглотить за один прием, так что давайте рассмотрим факторы по одному и более детально. Разбираясь с каждым из них, вы можете попробовать предположить, какую оценку получили бы вы (если бы были ребенком), поэтому для каждого фактора мной будут сформулированы вопросы, рассчитанные на студентов колледжа, и ваши ответы на эти вопросы могут показать выраженность конкретной характеристики у вас.
Уровень активности. Показатель уровня активности измеряет, как быстро и как часто ребенок запускает какие-либо виды поведения, и в этот фактор всегда входит измерение движений. Дети, которые расплескивают половину воды при купании в ванне, ползают по всему дому, бегают по всей игровой площадке, или которых трудно удержать, оцениваются высоко по фактору активности. Дети, тихо сидящие в ванне, не сходящие с одного места дома или в парке, или которых легко поймать и удержать, прлучают низкую оценку по этому фактору. (Вопросы для студентов колледжа: Покачиваете ли вы ногой или постукиваете ли ею об пол, когда вам надо просто посидеть на стуле? Что вы предпочтете: медленный темп жизни в небольшом городке или же суету и суматоху большого города?)
Ритмичность. Ритмичность, в основном, относится к регулярности соматических процессов. Дети, которые ложатся спать поднимаются, чувствуют голод и устают примерно в одно и то же время каждый день, получают высокие оценки по ритмичности. Дети, которые ложатся спать, поднимаются, чувствуют голод и устают в разное время каждый день, получают низкие оценки по этому фактору. (Вопрос для студентов колледжа: Вы ложитесь спать, поднимаетесь, чувствуете голод и устаете при-близителъно в одно и то же время каждый день, или нет?)
Приближение или удаление. Центром внимания для фактора приближения / удаления является то, как дети обращаются с новым. Новыми могут быть люди, места, игрушки или режим. Дети, данные которых близки к тому концу шкалы, который соответствует приближению, как правило, улыбаются при виде новых людей, и им нравится играть с новыми игрушками. Дети, данные которых располагаются на конце шкалы, соответствующем удалению, делают прямо противоположное. Они имеют тенденцию беспокоиться в присутствии незнакомцев, они пятятся от новых игрушек и могут плакать, когда впервые идут к врачу. (Вопросы для студентов колледжа: Нравится ли вам идея поужинать в экзотическом иностранном ресторане? Предпочтете ли вы скорее отдать свой зуб, чем отправиться в такой зарубежный город, как Токио?)
Адаптабельность. Показатель адаптабельности частично перекрывает характеристику приближения / удаления. Но если приближение / удаление относится к первоначальной реакции ребенка, адаптабельность отражает то, насколько быстро первоначальная реакция может быть изменена или сглажена в направлении, желаемом родителями. Вот примеры высокой адаптабельности, полученные по ходу интервью с родителями: «Он сначала выплевывал овсянку, когда я давала ее ему, но теперь он охотно ест ее», «Теперь, когда мы идем к врачу, он не плачет, пока его не начинают раздевать, и даже прекращает плакать, если ему дают игрушку». Дети с низкой адаптабельностыо никогда не адаптируются полностью к ситуации в направлении, желаемом родителями. Например: «Каждый раз, когда он видит ножницы, он начинает вопить и отдергивает руку, так что теперь я подрезаю ему ногти, когда он спит» или «Он не любит яйца и делает гримасу и отворачивает голову, независимо от того, как я готовлю их». (Вопросы для студентов колледжа: Если вы с группой друзей идете смотреть фильм, который вам действительно хотелось увидеть, и тут ваши друзья решают, что они лучше погуляют
по городу, насколько легко будет вам согласиться с их решением? Способны ли вы без колебаний выбросить надоевшие вам вещи?)
Интенсивность реагирования. Показатель интенсивности ре-аГйрования касается того, как много энергии вкладывает ребенок в свой ответ, реагируя на что-либо. Не имеет значения, является эта реакция позитивной или негативной. Дети с высокой интенсивностью реакции имеют тенденцию реагировать чрезмерно, или реагировать выше принятого нормального уровня, ребенок, увидевший воздушные шары в кафе, может завопить от восторга. Другой ребенок может расплакаться на полчаса, если в его глаза на миг попал солнечный лучик. Дети с низкой интенсивностью реакции вообще едва реагируют на вещи, они лишь слабой реакцией показывают, что заметили их. Они могут ненадолго перевести взгляд на воздушный шар или прищуриться от яркого солнца. (Вопрос для студентов колледжа: Выходите ли вы из себя, когда что-то вас раздражает? Или вам все — «как с гуся вода»?)
Порог возникновения реакции. Данный показатель фиксирует, насколько интенсивным должно быть что-либо, чтобы ребенок отметил это. Дети с высоким порогом возникновения реакции могут не реагировать на самые громкие из сирен или на ярчайший свет, даже если все их органы чувств работают исправно. Когда дети постарше играют в парке пригорода, может показаться, что они даже не заметили завывания щ - носящейся мимо пожарной машины. Дети с высоким порогом могут часами лежать в мокрых пеленках. Напротив, дети с низким порогом возникновения реакции будут оглядываться, услышав самый тихий из звуков или почуяв самый слабый из запахов. Когда эти дети играют в городском парке, они не только заметят пожарную машину, но и уловят за шумом транспорта чириканье воробья и болтовню бурундуков. Малыши с низким порогом возникновения реакции начинают плакать, как только они намочили пеленки. (Вопрос для студентов колледжа: Когда вы сдаете экзамен, беспокоит ли вас, когда кто-то постукивает карандашом или кто-то, подхвативший насморк, шмыгает носом? Возвращаясь с пляжа или из бассейна, чувствуете ли вы себя некомфортно, если на вас все еще влажный костюм для купания?)
Качество настроения. Тут важно, какими имеют тенденцию быть реакции: позитивными или негативными. Малыши с позитивным качеством настроения большую часть дня радуются. Они много улыбаются и смеются, они часто испытывают удовлетво-
рение и кажется, что ничто особенно не беспокоит их. Один р0. дитель сказал о своем позитивном ребенке: «Он любит смотреть в окно. Он прыгает около него и смеется». У детей же с негативным качеством настроения возникает напряжение от множества вещей, с которыми они сталкиваются в течение дня, и другие люди могут обнаружить, что с этим довольно-таки тяжело мириться. Например: «Я старалась научить его не сбивать с ног маленьких девочек на игровой площадке и не браниться на них, а теперь он сбивает с ног малышек, но не ругается». (Вопрос для студентов колледжа: Ваши друзья и родственники могли бы описать вас как Счастливого Кемпе (a Happy Camper)? Или более вероятно, что они назовут вас Сварливым Ту сом (a Grumpy Gus)?)
Возможность переключения. Дети с высокой возможностью переключения легко отрываются от своего занятия. Это качество удобно, когда ребенок слегка поранился, потому что родители легко могут заставить его забыть о своем порезе, направив его внимание на милый желтенький цветочек в саду или на певчую птичку в небе. Дети с низкой возможностью переключения, наоборот, будут упорно продолжать плакать, несмотря на все старания родителей перенаправить их внимание. (Вопросы для студентов колледжа: Не называли ли когда-нибудь вас ваши друзья «сумасшедшим» или «разбрасывающимся» за вашей спиной [или перед вашей спиной, коли на то пошло]? Можете ли вы так увлечься хорошей книгой, что потеряете кучу времени?)
Продолжительность и помехоустойчивость внимания. Этот показатель, в сущности, состоит из двух особенностей, объединенных вместе. Продолжительность внимания связана с тем, как долго ребенок в состоянии заниматься определенной задачей, когда ему практически ничего не мешает. Помехоустойчивость более соответствует тому, как долго ребенок будет заниматься одним делом, несмотря на отвлекающие факторы. Ребенок с высокой продолжительностью внимания может, например, «играть в куклы» часами. Если у этой девочки развита еще и помехоустойчивость внимания, она будет продолжать играть в куклы даже тогда, когда ее старший брат раз за разом заходит в комнату и выхватывает их у нее. Ребенок с низкой продолжительностью внимания не очень долго занимается одним и тем же и вскоре может перейти от игры в куклы к игре в переодевание или к просмотру мультфильма по телевизору. Ребёнок с низкой помехоустойчивостью оторвется от игры в куклы, если что-то прервет поток его действий, например, если в комнату зайдет собака и лизнет языком по щеке. (Вопросы для студентов кол
леджо>' Раздражаетесь ли вы, если смотрите телевизор с кем-то, кто любит переключать каналы? Получаете ли вы удовольствие, отвечая на телефонные звонки в тот период, когда вы готовитесь к экзамену или пишете домашнее сочинение?)
Характерные черты
и тяжелые нарушения поведения
Если вы помните, одной из задач Томаса, Чесе и Берча было определение, связаны ли характерные черты детей с возникновением тяжелых нарушений поведения. Так что они провели второе исследование, чтобы определить, отличаются ли дети в клинической выборке от остальных детей в отношении каждого из девяти выделенных показателей. Они приступили к этому, разбив клиническую выборку на две основные группы: дети с активными нарушениями поведения и дети с пассивными нарушениями поведения. Эти две группы детей находились на более или менее противоположных полюсах в отношении расстройств поведения. Группа с активными нарушениями поведения проявляла то, что мы сейчас назвали бы поведенческой «демонстрацией», или экстернализованное расстройство. Это были дети, для которых, в основном, проблему составлял контроль над поведением. Они могли задирать других детей или демонстративно не слушаться учителя. Группу с пассивными нарушениями поведения, вам, вероятно, будет легче всего представить как детей, необычайно застенчивых. Они не участвовали в коллективной деятельности, когда их просили об этом, но и не проявляли никаких внешних признаков тревоги или страха. Они были «сидящими в углу». Подобное поведение характерно для того, что мы сегодня называем интернализованными расстройствами.
Томас, Чесе и Берч обнаружили, что многие из выделенных показателей прогнозировали, разовьется у ребенка нарушение поведения, или нет. Это не значит, что характерные черты детей обеспечивали им проблемы с поведением. Эти черты играли лишь роль предсказателя. Можете думать о них как об индикаторе риска. Не у всех детей из клинической выборки были отклонения от нормы по характерным чертам. И не у всех детей с отклоняющимися характерными чертами развились нарушения поведения. Мы просто говорим о групповых тенденциях. Вот краткое изложение, как каждая из двух групп с нарушениями поведения отличалась от «нормальной» по различным показателям. Я также укажу, как различные характерные черты изменялись с течением времени в обеих клинических группах. Мы начнем с группы с активными нарушениями поведения.
Профиль характерных черт у детей с активными нарушу ниями поведения. Неудивительно, что дети в группе с активными нарушениями поведения получили более высокие оценки по уровню активности и по интенсивности их реагирования на окружающий мир. Вы можете представить себе такого ребенка из собственного школьного опыта, как человека, который никогда не сидит спокойно, который постоянно отпускает громкие, невежливые комментарии в отношении учителя и учащихся. Кроме того, эти дети были менее адаптабельными и обладали большей помехоустойчивостью внимания, чем нормальные. Это означает, что их было сложно успокоить, если они начали крутиться, и поскольку они были помехоустойчивыми, то, начав крутиться, они так и продолжали делать это. По нескольким показателям дети с активными нарушениями поведения были сначала неотличимы от нормальных детей. Лишь когда они стали старше, их профили характерных черт стали отличаться от нормальных. Одним из подобных показателей был порог возникновения реакции. Дети с активным поведением с рождения были не более чувствительны к видимому и слышимому ими вокруг себя, чем нормальные дети, но с возрастом они становились все более и более чувствительны. Подобным образом, в раннем детстве эти дети имели не более выраженную возможность переключения, чем нормальные, но по мере того как они становились старше, эта возможность увеличивалась.
Профиль характерных черт у детей с пассивными нарушениями поведения. Как правило, профили у детей в группе с пассивными нарушениями поведения были куда более сложными и значительно изменялись с возрастом. Было не так много отличий, применимых ко всем случаям. Конкретно, как вы могли ожидать, дети с пассивными нарушениями поведения имели намного более низкий уровень активности, чем нормальные дети. Кроме того, качество их настроения было куда более негативным. Другими словами, они были малоподвижными, несчастными маленькими детьми. Но по остальным показателям характерные черты этих детей значительно менялись в зависимости от их возраста. В отношении ритмичности пассивные дети первоначально отличались куда большей регулярностью и предсказуемостью поведенческих актов и иных процессов, чем нормальные дети, но со временем они становились в той же степени непредсказуемыми, как и нормальные. Что касается пяти других характерных черт — приближения / удаления, порога возникновения реакций, интенсивности реагирования, возможно
стй переключения и помехоустойчивости внимания, то пассивные Дети изначально показывали особенности, характерные для одного полюса диапазона шкалы нормальных детей, но затем, рЫрастая, перемещались на противоположный конец шкалы. Например, с рождения пассивные дети намного больше, чем, в среднем, нормальные, интересовались новыми вещами, но позднее были куда более склонны сторониться и пугаться нового. Сначала их реакции были значительно менее интенсивными сравнительно с нормой, но, в конце концов, они становились значительно более интенсивными. Кроме того, их внимание сначала было значительно менее помехоустойчивым, но,' в конечном итоге, становилось намного более устойчивым, чем у нормальных детей. И, наконец, сначала они имели намного большую возможность переключения, а впоследствии ее уровень стал ниже, чем у нормальных детей. Конечно, эти изменения, связанные с возрастом, чрезвычайно сложны, и мы не можем здесь уделить им много времени. Суть в том, что характерные черты в раннем возрасте позволяли прогнозировать вероятность формирования у детей нарушения поведения.
Кластеры характерных черт
Если выбирать какой-то один наиболее интересный момент в работе Томаса, Чесе и Берча, то это будет определение кластеров, которое позволило им описать три основных типа детей. Используя большое количество высокоспецифичных методов статистического анализа, авторы обнаружили, что некоторые из характерных черт имели тенденцию сочетаться. Например, было обнаружено, что детям, у которых имелась тенденция к высоким оценкам по показателю удаления (избегания нового), были свойственны, как правило, и биологическая нерегулярность, негативное настроение, низкая адаптабельность и высокая интенсивность реагирования. Они назвали детей с этим кластером характерных черт трудными детьми. Иметь дело с детьми с этим профилем было действительно тяжело, и на профессиональных встречах их иногда в шутку называли «матереубийцами». С другой стороны, находились дети, активно интересующиеся новыми вещами (высокие оценки по показателю приближения), которым были свойственны биологическая регулярность, позитивное настроение, высокая адаптабельность и склонность к низкой интенсивности реагирования. Они получили название легкие Дети. Дети с этим профилем были такими, какими родители представляли себе своих детей до их рождения. Томас, Чесе и Берч также обнаружили третий кластер характерных черт,

который, по их мнению, описывал медленно приспосабливаю, щегося ребенка. Медленно приспосабливающийся ребенок из^ начально склонен к удалению и медленно адаптируется, но его негативные реакции имеют низкую интенсивность. Во многих аспектах реакции медленно приспосабливающегося ребенка сродни реакциям трудного ребенка, но отличаются тем, что он в конечном счете, меняется к лучшему и очень неплохо справляется с новыми ситуациями.
Обсуждение
Качество соответствия
Выявив девять характерных черт индивидуальности у детей, вкупе с тремя основными кластерами, Томас, Чесе и Берч в общих чертах создали так называемую «динамическую теорию психиатрии и развития детей». Конечно же, неотъемлемой частью их новой теории были характерные черты детей. Теперь, будучи основными разработчиками этой новомодной теории, они поддались искушению поместить характерные черты в самое ядро своей концепции. Но они осознавали, что если дадут характерным чертам первую роль, то их теория будет иметь не более существенные перспективы, чем «статичные» теории того времени — бихевиоризм и фрейдистский психоанализ, — против которых они восстали.
Статичными эти теории делало допущение, что направление воздействия — это улица с односторонним движением, что сами дети не оказывают особого влияния на формирование собственной индивидуальности. Например, статичной особенностью бихевиористских теорий было то, что они придавали практически исключительное значение в создании индивидуальности детей наказаниям и подкреплениям, обеспечиваемым окружающей средой. Статичной особенностью теорий фрейдистского типа являлось то, что они ставили слишком сильный акцент на бессознательных побудительных силах. Томас, Чесе и Берч не имели желания попасть в ту же ловушку, взвалив в своей теории всю ответственность за развитие на характерные черты. Нет, они считали, что реалистическое объяснение развития детской индивидуальности должно быть намного более динамичным.
Они думали, что «сложная динамика», которой лучше объяснять развитие индивидуальности детей, должна быть примерно такой: дети с определенными профилями характерных черт будут вызывать типичные реакции окружающей среды, и эти ти
печные реакции окружающей среды рикошетом отразятся на сГ1ецифических характерных особенностях детей. Изменившиеся характерные особенности детей окажут последующее влияние на окружающую среду, что снова вызовет ее реакцию и последующее влияние на характерные черты детей. Цикл характерные черты —> окружающая среда —> характерные черты -» оКружающая среда может быть бесконечным. Это далеко не всегда плохо, особенно если ребенок уравновешен и психически здоров. Но если цикл приводит к формированию нарушений поведения, он должен быть разорван либо посредством психотерапии, либо через улучшение родительских навыков воспитания. Дети, которые много плачут и ноют, например, могут способствовать нарастанию фрустрации и нетерпения у своих родителей. По мере увеличения уровня раздражения, оказываемого непрерывным плачем и нытьем детей на родителей, последние будут склонны злиться на своих детей, и возникнет угроза прибегнуть к излишнему наказанию. Родительское наказание, в свою очередь, увеличит количество плача и нытья у детей. Этот цикл можно сломать единственным способом — если родители научатся быть более терпеливыми в отношении своих детей. Собственно, роль психотерапии заключается не в чем ином, как в предложении родителям альтернативных стратегий обращения со своими плачущими, ноющими детьми.
| * Степени согласованности, пригодности. — Прим. ред. |
Соответственно, Томас, Чесе и Берч ввели понятие качество соответствия. Идея качества соответствия* отражает степень приспособления окружающей ребенка среды к его уникальному профилю характерных черт. Высокая степень согласия между особенностями детей и их окружением имеет тенденцию производить психически здоровых, уравновешенных детей. Низкая степень согласия между характерными чертами детей и их окружением имеет тенденцию производить детей с нарушениями поведения. Таким образом, хотя с детьми, обладающими сложными особенностями, тяжело иметь дело, при наличии понимающих родителей у них не обязательно сформируются нарушения поведения, потому что окружающая детей среда может приспособиться к сложности их характерных черт. С другой стороны, хотя в общении с легкими детьми не возникает больших проблем, у них могут развиться нарушения поведения, если окружающая их среда имеет низкое качество соответствия. Например, родители, всегда находящиеся в движении, могут стать нетерпимыми к ребенку, не разделяющему их энтузиазма.
Выводы
Томас, Чесе и Берч революционизировали детскую психологию благодаря тому, что разработали совершенно новую, основанную на характерных особенностях человека, теорию, которая вызвала волны исследований по поводу влияния индивидуальности детей на их развитие. Ранние исследования, сосредоточенные на изучении роли характерных черт в формировании нарушений поведения, в сущности, следовали по тропе, проложенной авторами. Но позднее исследователи стали прилагать характерные черты ко всем возможным областям развития. Многие из них, например, изучали вероятное влияние этих черт на развитие интеллекта детей. Как вы могли заметить, несколько характерных черт, определяемых по Томасу, Чесе и Берчу, тесно связаны с измерениями когнитивного функционирования. Например, продолжительность внимания часто привлекалась в качестве одного из параметров для измерения интеллекта. В стандартных тестах интеллекта, таких как WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) Векслера, продолжительность внимания оценивается в плановом порядке.
Результаты ряда исследований выявили некоторые очень интересные факты, которые открывают увлекательные возможности. К примеру, в двух работах было обнаружено, что трудные дети имеют, на самом деле, высокий уровень когнитивного развития! По этой причине нам следует задуматься, прежде чем делать слишком негативные обобщения относительно детей, сложных по совокупности их характерных черт. Но почему трудные дети будут когнитивно развиты? Хорошо, если вы отбросите поверхностные суждения — это имеет смысла. Одним из того, что делает некоторых детей более интеллектуальными, чем других, является тот факт, что первые знают множество вещей и способны к быстрому решению проблем. Если они знают множество вещей и быстро решают проблемы, разумным оказывается то, что во многих обстоятельствах они начинают скучать раньше, чем менее интеллектуальные дети. И если они начинают скучать раньше, чем менее интеллектуальные дети, то понятно, почему они быстрее менее интеллектуальных детей начинают раздражаться и чувствовать недовольство. Переживание раздражения и недовольства — это одна из особенностей трудных детей. Так что обладать «трудным характером» не всегда плохо. Он может быть показателем лучшего интеллектуального функционирования!
С другой стороны, «трудность» была ассоциирована с более медленным развитием речи. Это тоже имеет смысл. Развитие речи протекает наиболее стремительно, когда у детей есть с кем общаться; если же ребенок обладает «трудным характером», он может оказаться не самым приятным партнером по общению, у таких детей просто может не быть большого количества возможностей участвовать в длительных, пространных беседах с другими людьми. Дети с «легким характером», напротив, представляют собой замечательных партнеров по общению.
Исследователи также интересовались биологическими обоснованиями характерных черт. Задача Томаса, Чесе и Берча следовать строгим бихевиористским дефинициям достойна похвалы, особенно после того, как они пожелали удостовериться, что родители и учителя немногое понимают в поведении детей. Однако поведение должно откуда-то браться, и наиболее вероятным кандидатом может быть скрытая активность мозга. В наши дни современные исследователи характерных черт стремились обнаружить, какие части мозга могут нести ответственность за поведение, связанное с этими особенностями. В недавней очень основательной обзорной статье Мэри Ротбат (Mary Rothbart) и Джон Бейтс (John Bates) осветили некоторое количество неврологических факторов, которые могут быть ответственны за продуцирование множества характерных особенностей. (Если вам это интересно знать, большинство их расположены в лим-бической системе мозга.) Если будут определены части мозга, отвечающие за ярко неадекватные особенности, в конечном счете, вероятно, можно будет разработать фармакологические средства для их лечения.
Вопросы измерения
Томас, Чесе и Берч заслужили неодобрение критиков в связи с тем, что основывали измерение характерных черт детей на интервью с родителями и учителями. Поэтому многие исследователи разрабатывали альтернативные способы измерения. Было изобретено, по крайней мере, полдюжины различных опросников, но они, как правило, все равно зависели от родительского восприятия того, как их нужно заполнять. Были созданы другие техники для непосредственного измерения характерных черт посредством лабораторных наблюдений. Слабая сторона лабораторных наблюдений заключается в том, что они отражают поведение детей в одной-единственной ситуации. Поскольку характерные особенности считаются нитью, проходящей сквозь весь жизненный опыт ребенка, лабораторные наблюдения дол-
жны были дополняться наблюдениями во множестве альтернативных внешних условий. Должны ли мы принимать в расчет характерные особенности ребенка, как их видят родители, или лее нам следует основываться на лабораторных наблюдениях — это на самом деле, источник горячих споров в наши дни. Но не стоит забывать, что революционерам свойственно, проходя по тропе, поднимать за собой пыль.
Как и в случае с любой другой научной темой, дополнительное уточнение, что такое характерные особенности, что это означает и как измеряется, будет происходить со скоростью лишь одно исследование за раз. И еще дольше оно может не приниматься в расчет. В настоящее время исследователи индивидуальности производят научные изыскания со скоростью более 130 работ в год! Мы можем только надеяться на то, что неослабевающее внимание к индивидуальности ребенка будет продолжать обострять наше понимание психологического развития и благополучия наших детей. Стоит понятию характерных черт потерять свою эффективность, мы приготовимся к другой революции.
Библиография
Dixon, W. Е., Jr., & Smith, P. Н. (2000). Links between early temperament and language acquisition. Merrill-Palmer Quarterly, 46,417-440.
Rothbart, M. K., & Bates, J. (1998). Temperament. In W. Damon & N. Eisenberg (Eds.), Handbook of child psychology, vol. 3, social, emotional, and personality development. New York: Wiley.
Вопросы для обсуждения
1. Хотя детей с «трудным характером» непросто воспитывать, возможно ли, что такая сложность даст кому-то из детей преимущество в адаптации? Почему? Кто получает больше внимания от родителей, трудные или легкие дети? Как это может влиять на последующее развитие ребенка?
2. Какие виды стратегий родительского воспитания будут наилучшими для легких детей в отличие от детей трудных?
3. Исследователи характерных черт показали, что матери и отцы демонстрируют лишь умеренную согласованность суждений о характерных особенностях их собственных детей. Почему матери и отцы могут по-разному оценивать особенности своих детей? Приведите некоторые конкретные примеры того, как могут различаться оценки индивидуальности ребенка по восприятию матери и по восприятию отца.

Броненосцы — не единственные млекопитающие, у которых есть панцирь
БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: JOURNEYS FROM CHILDHOOD ТО MIDLIFE: RISK, RESILIENCE, AND RECOVERY.
Werner, E. E., & Smith, R. S. (2001). Ithaca, NY: Cornell University Press.
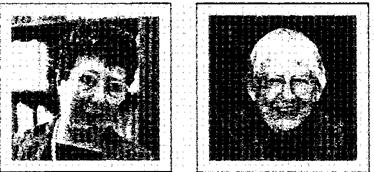
Как возникает надежда
«Когда я принялась размышлять о событиях, имевших для меня особое значение, то придумала целый список. Первым в списке стоял следующий фактор: на острове Кауаи, где я росла, я считалась чужой. Моя мать была уроженкой Гавайских остро-
bob, она родилась и выросла на Кауаи, а отец —- родом из Нью-Джерси. Я росла в так называемом Гавайском Доме; это похоже на резервацию североамериканских индейцев... Чтобы там жить, надо было быть гавайцем. Все это происходило в самом начале шестидесятых годов. Хотя сейчас Гавайские острова — кипящий котел, в котором перемешиваются многие культуры и национальности, в то время они не смешивались. Во-вторых, наша семья была смешанной. У моей матери было трое детей от первого брака, а у отца — шестеро. Поженившись, они произвели на свет еще четверых. Я родилась первой... В-третьих, мы были бедны. Иногда в доме вообще не было еды. У нас ни когда-ни когда не бывало новой одежды, вообще никогда... У нас не было обуви. Хорошо, что на Гавайских островах можно ходить босиком, там достаточно тепло. Ходить босиком приятно; так мы и жили...
В-четвертых, мой отец был алкоголиком. Когда он не работал, он был пьян. А когда он был пьян, мама злилась. К счастью для нас, сама она не пила... Моя мать была в ярости, когда папа напивался. Помню, я однажды вошла в кухню, а она там расколотила все его бутылки и бегала за ним. Вся кухня была в крови, и она тоже была в крови. В детстве не задерживаешься, чтобы посмотреть, как родители дерутся, а стараешься улепетнуть... Помню, я видела, как мать гналась за отцом на машине. Он был пьян, а она разозлилась, рванулась за ним, протаранила машиной ограду пастбища и сбила отца с ног. Не знаю, как ему удалось умереть естественной смертью, но это так. Я помню, что была во втором классе, когда мою мать забрали в больницу с нервным срывом. Мне было очень трудно, так как начальная школа располагалась на узкой улочке, а больница стояла прямо напротив. Так что я сидела в классе на подоконнике, смотрела в окно и знала, что мама где-то там. Я никак не могла понять, почему она должна находиться там, вместе со всеми этими смешными людьми, и почему она не может пойти домой...
Думаю, первой важной вещью для меня стало то, что от нас, детей, ожидалось, что мы будем работать, и работать на совесть. Если мы не работали, то получали хорошую взбучку. Нас колотили, вот и все... Мы вручную обстирывали девять человек. Если нет еды, нет и стиральной машины. Если нет еды, нет и косилки, чтобы подстричь газон во дворе. Мы наводили порядок во дворе сами, при помощи серпов, мотыг и ножей для рубки тростника...
Во-вторых, — и это, наверное, самое главное, — всю мою жизнь мне везло на заботливых, любящих людей. В первую очередь, бабушка — чудесная тихая гавайская женщина. Вот несколько
моментов, о которых вам надо знать. Во-первых, мы все носили прозвище «эти дети». Знаете, что это значит? Если у вас самих есть дети, то вы им скажете: «Я не хочу, чтобы вы играли с "этими детьми". Я не хочу, чтобы вы ходили в гости к "этим людям"». Вот мы и были "этими детьми", с которыми никто не хотел общаться. А бабушка Кахунаэле (Kahunaele) никогда не обращалась со мной, как с одной из "этих детей". Бабушка Кахунаэле единственная из всех, кого я помню, меня причесывала. Помню, я один раз пришла в школу, и учительница сказала мне: "Тебе вообще кто-нибудь причесывает волосы? Тебя вообще кто-нибудь умывает?" Наверное, я была грязная. Только бабушка Кахунаэле меня причесывала...
Третьим важным моментом... в моей жизни стало образование. Когда мне исполнилось двенадцать, я уехала с Кауаи на большой остров Оаху (Oahu), чтобы пойти в школу — и все на деньги короля Камеамеа... (Kamehameha) Лично я не отправила бы своего ребенка в двенадцать лет так далеко от дома. В этом возрасте в жизни человека и так много всего происходит. Но это было, пожалуй, лучшим из всего, что сделали для нас наши родители.
В шестнадцать лет, когда я перешла в среднюю школу, я забеременела. В то время в Камеамеа придерживались простой политики: если ты забеременела, тебя исключали из школы. Меня вызвали в кабинет декана, ее звали Вайнона Рейбен (Reuben)... Она сказала только: "Знаете, мне очень жаль, но вам придется уехать". Она посадила меня на самолет до Кауаи, чтобы я вернулась к родителям.
Мы должны были принять какое-то решение. И тогда мы решили, что я должна выйти замуж. Так что в шестнадцать лет я вышла замуж, а в семнадцать родила первого ребенка... Мы снова обратились к Вайноне Рейбен. Я не знаю, как так случилось, но меня приняли обратно в школу, несмотря на то, что я была замужем и беременна. В этом заведении никогда раньше такого не случалось. Несколько лет назад я все-таки захотела выяснить, что произошло, и позвонила своему воспитателю, который все еще работал в школе. Я спросила: "Том, как это они приняли меня обратно?" Он сказал, что Вайнона Рейбен обратилась в отдел воспитания — они тогда как раз разбирались с проблемой беременности несовершеннолетних учениц — и сказала: "Мы сейчас говорим о программе помощи несовершеннолетним матерям. Я хочу, чтобы вы ее разработали, и чтобы эта ученица была первой, которой мы поможем. Она хорошая ученица, она просто оступилась".
Мой отъезд в Камеамеа оказался для меня решающим еще вот в чем — он здорово расширил мой кругозор. Я смогла принять
несколько очень важных решений, хотя до того даже не подозревала о возможностях выбора. На Кауаи все, с чем я сталкивалась в повседневной жизни, ограничивалось алкоголизмом и жестокостью. Дядя Сонни, который жил напротив, день-деньской сидел на террасе с бутылкой пива. Дядя Генри, другой сосед, был полицейским, но когда сердился, избивал своих детей. Помню, однажды его младший сынишка выбежал из дома с ожогом от утюга на спине, потому что папаша на него рассердился. И это все, что я видела вокруг... Когда я уехала, я поняла, что так жить нельзя. Я встретила людей, чьи отцы не пили. Я поняла, что могу принимать решения. А четвертый важный момент — если не говорить о бабушке Кахунаэле... о Вайноне Рейбен и многих-многих других, кто проявил ко мне доброту и участие, — заключался в том, что кто-то невидимый и неизвестный нашептывал мне: "Есть кто-то выше нас, и он любит тебя". Это моя вера и моя надежда. Можете назвать ее как хотите — верой в Бога, в религию, стремлением к цели, мечтой, стремлением найти в чем-то опору. Став взрослыми, мы должны давать молодым людям надежду и возможность найти эту опору».
В этой главе мы обратимся к потрясающему исследованию Эмми Вернер и ее коллеги Рут Смит, которые в течение всей жизни пытались найти объяснение жизнестойкости и эластичности психики детей. В своем крупном лонгитюдинальном исследовании, которое занимает семнадцатое место по нашей шкале наиболее революционных работ, Вернер и Смит прослеживали развитие целой группы детей, рожденных и выросших на Кауаи (остров, расположенный на северо-западной оконечности Гавайского архипелага), начиная с 1955 года по сегодняшний день. Их книга, появившаяся в 2001 году, является, по сути, самым последним выпуском из целой серии работ, посвященных развитию этих детей, и, следовательно, представляет собой кульминационный момент замечательного лонгитюда. Приведенный выше отрывок является цитатой из этой книги.
Дети с острова Кауаи являлись идеальными кандидатурами для изучения эластичности психики, поскольку население острова за время исследования столкнулось с серьезными переменами. Исследование началось еще до того, как Гавайским островам был присвоен статус пятидесятого штата, и продолжалось в период резкого экономического, культурного и социального переворота, в результате которого Гавайские острова с головокружительной скоростью превратились из сельскохозяйственного общества в промышленное, а затем в общество, ориентирован
яое на туристический бизнес. Но как будто всего этого было недостаточно, остров Кауаи в 1982 и 1992 годах был опустошен ураганами Айва (Iwa) и Иники (Iniki). Особенно пагубным для туристического бизнеса оказался ураган Иники, уничтоживший 85% площади для заселения.
Вернер и Смит хотели понять, могут ли дети справиться со стрессом, если он обрушивается на них в ходе общего культурного и социального переворота. Как писали сами авторы, основной целью их работы было «документировать с исторической точностью все беременности и все рождения детей в масштабах всего острова, проследить жизнь родившихся детей от рождения до сорока лет, и определить все возможные последствия дородовых и родовых травм, бедности, психопатологии родителей и неблагоприятных условий развития, повлиявших на приспособленность этих людей к жизни». Хотя изначально они не ставили задачу исследовать именно эластичность психики, удивительные истории успешной жизни многих детей с острова Кауаи побудили Вернер и Смит подробно исследовать развитие этой психической гибкости.
Введение
Во вступительных главах Вернер и Смит говорят о ряде особенностей их лонгитюдного исследования, которые отличали его от других многолетних исследований, проводившихся в то время. Возможно, основная особенность их работы заключалась в том, что ее участниками были привыкшие к сельской жизни деревенские жители различных национальностей, тогда как большинство других исследований касалось белых людей, которые жили в городах и являлись представителями среднего класса. Из главы, посвященной Бомринд (глава 13), мы знаем, что под ход, справедливый д ля доминирующей культуры, может дать сбой в отношении культурных меньшинств. Вернер и Смит охарактеризовали население Кауаи следующим образом: «Это калейдоскоп этнических групп: японцы, филиппинцы, чистокровные гавайцы и полукровки, португальцы, пуэрториканцы, китайцы, корейцы и маленькая диаспора белых англичан». Дети, принявшие участие в исследовании, были в основном из семей иммигрантов, перебравшихся на острова для работы на фермах, где выращивали сахарный тростник и ананасы, что составляло львиную долю сельскохозяйственной промышленности.
Другие лонгитюдные исследования, проводившиеся в то же время, что и работа Вернер, выявили, что многие дети могут чув
ствовать себя вполне сносно, несмотря на ряд неудобств физического характера и на неблагоприятную обстановку. Психику таких детей часто называли эластичной. Термин эластичность психики означает, что на этих детей неблагоприятные обстоятельства жизни не оказывают сколько-нибудь заметного воздействия. Таких детей можно было уподобить куклам-неваляшкам, — как известно, такую куклу можно ударить и наклонить к земле, но она сумеет выпрямиться снова. Такие дети, несмотря на жизнь в ужасающих условиях и в проблемных семьях, выросли совершенно нормальными. Однако в ходе тех исследований не было выявлено, почему же все-таки у таких детей проявилась эластичность психики. Поэтому Вернер и Смит начали с детей, которые продемонстрировали наибольшую эластичность психики, и стали искать истоки этой эластичности. Они принимали во внимание биологические и психологические особенности детей, а также условия, в которых дети росли. Вернер и Смит надеялись выявить ряд особенностей, которые помогали детям, обладающим эластичностью психики, выстоять против неблагоприятных условий. Выявление подобных амортизирующих факторов может быть важным, поскольку они способны помочь будущим поколениям детей, которые также могут оказаться в неблагоприятных условиях или жить в бедности.
Вернер и Смит следили за жизнью целого поколения детей на Кауаи на протяжении четырех десятилетий. В 1954 году они составили список всех жителей Кауаи, обращая особенное внимание на женщин детородного возраста (от 12 лет и старше). Этих женщин просили сразу же сообщить, если они забеременеют. Затем Вернер и Смит стали собирать данные обо всех детях, родившихся в следующем году. Таким образом, контрольную группу составили дети, родившиеся в 1955 году. Исследователи проверяли, не страдали ли эти дети какими-либо дородовыми или родовыми травмами (осложнениями, произошедшими в ходе беременности или непосредственно родов). Они опрашивали матерей сразу после рождения детей и через год. На второй год жизни детей, когда они достигали возраста около 20 месяцев, проводились медицинские исследования. Дальнейшие этапы работы с использованием целой батареи методик проверки и оценки осуществлялись, когда испытуемым, исполнялось десять лет, восемнадцать лет, тридцать два года и, наконец, сорок лет. Представьте себе, что значило для авторов посвятить сорок пять лет жизни одному-единственному научному исследованию! Вот это стойкость! Однако их усилия не прошли незамеченными для правительства Гавайских островов, которое предоставило иссле
дователям помощь со стороны социальных служб, стремясь помочь будущим поколениям гавайских детей избежать факторов риска. Труд Вернер и Смит не остался незамеченным и другими специалистами по детской психологии, которые в один голос советовали мне включить это исследование в мою книгу. А теперь — к деталям.
Методика исследования
Вне всякого сомнения, одной из наиболее важных особенностей исследования Вернер и Смит является подробное изучение жизни детей Кауаи с младенчества до зрелого возраста. Возможно, именно потому, что их исследования были настолько полными, авторы сумели так хорошо выявить те аспекты жизни этих детей, которые способствовали развитию эластичности психики у большинства из них.
Участники
Первичная когорта испытуемых на Кауаи состояла из 698 детей, родившихся на этом острове в 1955 году. Если делить их по расам, 217 из них были японцами, 147 — чистокровными гавайцами и полукровками, 115 — филиппинцами, 42 — португальцами, и 17 — белыми англичанами. Остальные дети происходили из семей людей других этнических групп, в том числе корейцев, китайцев и пуэрториканцев. Подавляющее большинство детей происходило из бедных семей, хотя немало было и из семей, принадлежавших к среднему классу. Очень мало было детей из зажиточных семей, хотя встречались и такие.
Материалы и процедуры
Как уже было отмечено, детей изучали до рождения, во время рождения, сразу после рождения, в возрасте около года, потом — около двух лет, потом в десять лет, в восемнадцать, в тридцать два и, наконец, в возрасте сорока лет. Методика исследований, конечно, различалась в зависимости от возраста детей.
Дородовые и родовые осложнения. Каждого ребенка осматривал врач-педиатр, который определял, произошли ли в до- и послеродовой период какие-либо осложнения или события, чреватые опасными последствиями. Список осложнений состоял приблизительно из шестидесяти вариантов. Если таковые действительно происходили, врач оценивал степень их серьезности. Конечно, я не могу перечислить все шестьдесят вариантов, но вот несколько примеров. Что касается дородового развития,
педиатр отмечал такие источники возможных осложнений, как вагинальное кровотечение у матери, явление placenta previa (когда плацента перекрывает выход из матки во влагалище, мешая нормальному появлению ребенка на свет), излишне сильное или недостаточное сердцебиение плода, неправильное положение плода в матке и врожденный сифилис (когда сифилис обнаружен непосредственно у плода). К родовым осложнениям относились, к примеру, неправильный выход плода (когда первыми появляются ножки или ягодицы), задержка дыхания, родовые травмы, недостаточность роста и веса или рефлексы, отклоняющиеся от нормы.
Наблюдения на первом году жизни. В первый год жизни ребенка работники социальной сферы и сферы здравоохранения навещали матерей и проводили опрос. Матерей просили оценить характерные черты у детей, степень их активности, взаимодействие с окружающими людьми, общительность. Их также спрашивали, нет ли у детей вредных привычек, например привычки биться головой, частых приступов гнева, нарушений сна или режима кормления.
Медицинский и психологический осмотр на втором году жизни. Когда участникам исследования исполнялось около 20 месяцев, два детских врача производили медицинский осмотр, наблюдая, нормально ли функционирует организм, и не проявились ли у детей последствия родовых и послеродовых травм. Врачи проверяли, как работает система пищеварения, как реие-нок спит и принимает пищу, следили за развитием речевых и социальных навыков и двигательного аппарата. Наконец, врачи оценивали общий физический и интеллектуальный уровень ребенка по шкале «опережение», «средний уровень», «ниже среднего» или «отставание». Два специалиста-психолога оценивали уровень интеллекта ребенка по Шкале интеллекта Кэттелла (Cattell Infant Intelligence Scale) и Шкале социальной зрелости (Vineland Social Maturity Scale). Они также наблюдали за социальным поведением детей в ходе медицинских исследований и расспрашивали их матерей, не произошли ли за минувший год какие-либо события, способные вызвать стресс.
Семья на втором году жизни ребенка. Жизнь семьи оценивалась по социальному статусу и положению отца, уровню образованности матери, образу жизни, который вела семья, состоянию жилища и степени его перенаселенности. Стабильность семьи оценивалась также по тому, жил ли ребенок с двумя
родителями или только с одним, часто ли происходили ссоры между супругами, и по тому, страдал ли кто-либо из родителей здкоголизмом.
Способности ребенка в возрасте десяти лет. Когда участникам исследования исполнилось десять лет, исследователи постарались как можно более точно определить уровень их социального и интеллектуального развития. Главной целью было выяснить, не возникли ли у этих детей серьезные нарушения физических данных, интеллекта, поведения или душевного равновесия, которые мешали бы их обучению в школе. Исследователи также проверяли уровень умственных способностей детей, используя такие средства, как Bender—Gestalt Test и Primary Mental Abilities Test, которые помогали оценить умение детей рассуждать, их речевые способности, а также навык счета, способность ориентироваться в пространстве и перцептивно-двигательные умения.
Семья на десятом году жизни ребенка. Врачи и работники социальной сферы посещали семьи десятилетних детей, чтобы снова прояснить обстоятельства их жизни. Как и в предыдущем исследовании, решающими факторами были характер работы отца и состояние жилища. Кроме того, исследователи выясняли, насколько обстановка в семье способствовала получению ребенком образования, а клинический психолог оценивал, насколько она способствовала его душевному равновесию.
Восемнадцать лет. На восемнадцатом году исследования Вернер и Смит, в первую очередь, стремились узнать, насколько успешно дети приспосабливаются к взрослой жизни. Используя разнообразные открытые источники информации, они смогли выяснить, как часто у подростков были столкновения с законом, сколько из них страдали нарушениями психического здоровья, требовавшими медицинского лечения, и сколько девочек забеременели. Вернер и Смит также добились разрешения ознакомиться с результатами Теста на проверку способностей школьников и студентов колледжей (School and College Ability Test) и Теста на проверку результатов обучения (Sequential Tests of Educational Progress). Оба эти теста регулярно проводились в школах, и результаты более или менее точно отражали уровень успехов подростков на ниве образования. Некоторые из участников исследования получили отдельные тесты. Их спрашивали о том, как они относятся к школе, как видят свою будущую карьеру, довольны ли они своей работой и жизнью в обществе, а также расспрашивали о друзьях и отношениях с родителями,
о том, хорошо ли они чувствуют себя в семье, и хотят ли быть похожими на своих родителей.
Тридцать два года. На этом этапе основной вопрос заключался в том, насколько гладко протекала жизнь выросших участников исследования. Поэтому когда они достигли тридцати лет Вернер и Смит стали собирать информацию о том, насколько они удовлетворены работой, насколько счастливы были в браке, и как складывались отношения уже с их собственными детьми. Участникам также раздали Списки жизненных событий (Life Events Checklist), чтобы выяснить, сколько стрессовых событий произошло с ними в течение жизни, а также Шкалу локуса контроля Роттера (Rotter Locus of Control Scale), чтобы они могли оценить, насколько, на их взгляд, они сами определяли свою собственную жизнь. Наконец, Вернер и Смит снова прибегли к открытым источникам, чтобы выяснить, как часто у участников исследований случались столкновения с законом и как часто они прибегали к врачебной помощи из-за психического и физического нездоровья. Благодаря этим же источникам Вернер и Смит смогли узнать о количестве преступлений, разводов и судебных процессов, о выплате пособий малолетним правонарушителям, о случаях насилия над детьми и супругами, о распоряжениях задержать правонарушителей и о том, насколько часто жители острова Кауаи посещают больницы.
Сорок лет. Дополнительные исследования на сороковом году лонгитюда снова должны были предоставить информацию об условиях жизни участников. Принимались во внимание такие факторы, как работа, брак, а также количество детей и наличие серьезных проблем со здоровьем у самих участников эксперимента или членов их семей. Поскольку участники группы за три года до этого как раз пережили ураган Иники, Вернер и Смит также стремились узнать, столкнулись ли участники с какими-либо трудностями после урагана. Исследователи снова расспрашивали участников о том, как у них складываются отношения с родителями, супругами, детьми и друзьями, а также интересовались, каковы планы исследуемых на будущее, и насколько они довольны различными эпизодами своей жизни. Участникам снова вручили Списки жизненных событий, а также дополнительно произвели оценку их «психологического благополучия» по специальному тесту (Scales of Psychological Well-Being test). Наконец, исследователи обработали данные, полученные из полиции, судов и больниц, чтобы выяснить, сколько раз участники сталкивались с законом, судебной системой и системой здравоохранения.
результаты
Поразительно, но к сорока годам в исследовании все еще принимали участие 489 из 698 людей, родившихся в 1955 году. Это составляет 70% — неслыханно высокий результат! Хотя Вернер и Смит предоставили огромный объем информации о жизни участников обследуемой группы от рождения до сорока лет, я хочу в основном уделить внимание тем людям, которые считались «группой риска», поскольку на протяжении жизни сталкивались с большим количеством трудностей, но которые успешно преодолели все эти трудности. Количество этих участников к сороковому году исследования составляло более 80%.
Разумеется, одним из главных вопросов, возникших в ходе исследования, был вопрос, насколько выросшие испытуемые приспособились к условиям взрослой жизни. Чтобы определить уровень жизни взрослых участников, Вернер и Смит разработали специальную Шкалу адаптации (Adult Adaptation scale), которая включала в себя шесть аспектов жизни, или аспектов успеха. К этим областям относились следующие.
Работа. Участники, добившиеся успеха, имели работу или были зачислены на обучение, а также были довольны своей работой или учебными успехами.
Отношения с супругом или партнером. Участники, добившиеся успеха, были женаты (замужем) или состояли в постоянных отношениях, были довольны своими партнерами, с которыми почти или совсем не ссорились, а также не состояли в разводе и не были замечены в измене или в насилии над партнером.
Отношения с детьми. Участники, добившиеся успеха, были очень высокого мнения о своих детях, были довольны своей ролью родителей, а также не были замечены в насилии над детьми и не получали пособий, положенных семьям малолетних правонарушителей.
Отношения с родителями, братьями и сестрами. Участники, добившиеся успеха, положительно воспринимали мать, отца, братьев и сестер, а также почти или совсем с ними не ссорились.
Отношения с друзьями. У каждого из участников, добившихся успеха, было несколько близких друзей, которые оказывали поддержку в случае необходимости, причем участники были очень довольны отношениями с друзьями, а также не были замечены в попытках нанести им оскорбление, избить или изнасиловать их или совершить в отношении них какое-либо другое преступление.
Самооценка. Участники, добившиеся успеха, в основном чувствовали себя счастливыми и довольными жизнью, не были ни алкоголиками, ни наркоманами, а также не страдали никакими психосоматическими и психическими заболеваниями.
Как ни удивительно, целых 47% участников исследования в соответствии с критериями Вернер и Смит, к сорока годам хорошо чувствовали себя во взрослой жизни; еще треть участников, по оценке исследователей, чувствовала себя вполне адекватно. К сожалению, около 16% исследуемых оказались плохо приспособлены к жизни. Больше половины этой группы составляли мужчины.
Истоки эластичности психики
Исследование Вернер и Смит, вне всякого сомнения, войдет в историю, как одно из наиболее глубоких многолетних исследований развития человеческой жизни от рождения до зрелых лет. Однако, возможно, наиболее важный его вклад в психологию заключается в том, что исследователи сумели определить факторы, которые обусловили эластичность психики многих участников испытания. Приблизительно 30% испытуемых столкнулись в своей жизни с разнообразными потенциальными факторами риска как биологического, так и психологического характера. Вернер и Смит охарактеризовали их так: «Эти люди перенесли дородовой стресс, росли в страшной бедности, под присмотром родителей, не получивших приличного образования, в обстановке постоянного беспорядка, родительского алкоголизма или психических болезней».
Большинство детей, столкнувшихся в течение первых двух лет жизни хотя бы с четырьмя факторами риска из перечисленных, к десяти годам, будучи школьниками, имели серьезные проблемы с успеваемостью и поведением, а к восемнадцати годам имели столкновения с законом, страдали психическими заболеваниями или беременели. Однако — и это самое главное — треть подростков, столкнувшихся с этими трудностями, все равно добивалась успеха во взрослой жизни! Таких людей Вернер и Смит назвали «уязвимыми, но непобедимыми». Очевидно, в характере этих людей было что-то, что во взрослой жизни помогло им добиться здоровья и счастья, несмотря на все преграды на пути к этому. По словам исследователей, «эти дети, когда выросли, превратились в серьезных, уверенных и заботливых людей, изо всех сил стремившихся ухватиться за любую возможность для самосовершенствования».
Тот факт, что семьдесят два человека оказались «непобедимыми», несмотря на неприятности и преграды, а также тот факт,
что Вернер и Смит следили за их жизнью с момента рождения, предоставили исследователям прекрасную возможность определить факторы, обусловившие эластичность психики. Все, что надо было сделать, — это проследить, какие поступки такие «непобедимые» люди совершали сами по себе, и что происходило с ними из того, что не происходило с менее удачливыми людьми.
Предпосылки эластичности психики у ребенка. Одним из раньше всего проявлявшихся факторов, отличавших детей с эластичной психикой от других, не столь везучих, были их характерные черты (чтобы больше узнать об этих особенностях, см. главу о Томасе, Чесе и Берче (глава 16)). Если говорить более подробно, характерные черты таких детей вызывали положительную реакцию со стороны окружающих. Дети с эластичной психикой были очень активными, любящими и приятными в общении. Их поведение во время сна и кормления причиняло меньше беспокойства родителям. К двум годам такие дети были более любознательными, независимыми и дружелюбными, чем дети с не столь эластичной психикой; они более уверенно чувствовали себя в процессе общения и более ловко доставали нужные им вещи без помощи окружающих. В школе дети с эластичной психикой лучше ладили с одноклассниками и, как правило, лучше справлялись с поставленными перед ними задачами, хотя и не всегда были одареннее других. Интересно, что дети с эластичной психикой не так уж безоговорочно следовали стереотипам поведения, свойственным определенному полу, а это означало, что они более гибко строили взаимоотношения с окружающими, чем дети с не столь эластичной психикой. Например, мальчики с эластичной психикой могли с одинаковым удовольствием играть и в куклы и в машинки, тогда как мальчики с не столь эластичной психикой, если бы им пришлось играть в куклы, испытывали бы сильное неудобство.
У детей с эластичной психикой, как правило, было не больше четырех братьев и сестер, причем разница в возрасте между ними и их братьями и сестрами составляла около двух лет. Они редко разлучались с близкими людьми надолго и, как правило, по крайней мере, с одним из этих людей у них возникала глубокая душевная связь. Это не обязательно были отец или мать — часто дедушка или бабушка, брат или сестра, или другой человек, сыгравший в их жизни заметную роль. Кроме того, такие дети достаточно тесно общались с другими людьми, не из круга семьи. Их часто связывали близкие отношения с друзьями или руководителями молодежных групп при церкви; иногда они приходили и в гражданские организации, такие как YMCA/YWCA
(Ассоциация Молодых Христиан (Христианок)) или 4-Н («Орга~ низация полезных умений»). Тот факт, что эмоциональная близость с другим человеком оказалась столь существенной для раз. вития эластичности психики, особенно важен в свете исследований Джона Боулби (Bowlby) (см. главу 11) относительно роли личной привязанности.
Предпосылки эластичности психики в юношеском возрасте.
Когда участвовавшим в исследовании детям исполнилось по во-семнадцать-девятнадцать лет — возраст, который мы называем «юношеским», — к факторам, обусловливающим эластичность психики, добавился ряд новых. Главным было то, что юноши и девушки, обладавшие эластичной психикой, достаточно положительно воспринимали самих себя, и верили, что сами определяют свою судьбу. Дети с эластичной психикой вообще, как правило, серьезно собирались добиться успеха в жизни. А девушки, обладавшие эластичной психикой, были особенно уверены в себе и независимы.
Предпосылки эластичности психики в зрелом возрасте. Достигнув зрелого возраста, то есть тридцати двух и сорока лет, люди, обладающие эластичной психикой, по-прежнему во многом отличались от своих не столь везучих сверстников. Во-первых, люди с эластичной психикой чаще стремились продолжить обучение и получить работу. Очень немногие из них нигде не работали. Вдобавок, несмотря на то что их отцы зачастую занимались грубым, низкооплачиваемым трудом, сами они нередко занимали посты, требующие умения и организационных навыков.
Что касается семьи, то у мужчин и женщин, обладавших эластичной психикой, как правило, было меньше детей, чем у людей с не столь эластичной психикой, причем своей ролью родителей они обычно бывали довольны. Особо следует отметить то, как мужчины с эластичной психикой воспринимали факт своего отцовства. Им не просто нравилось заботиться о своих детях — они считали, что воспитание детей является важным, в первую очередь, для их собственного самосовершенствования. Их сверстники с не столь эластичной психикой обычно воспринимали детей как помеху их собственной жизни.
Очень любопытно также проследить, насколько по-разному взрослые люди с эластичной психикой и их «проблемные» сверстники общались с собственными родителями. И у тех, и у других были сложные отношения с родителями, — либо из-за родительского алкоголизма и психических заболеваний, либо из-за напряженных отношений в семье, — однако дети с эластичной психикой, вырастая, зачастую просто «отключались» от роди
тельских проблем. Это означало, что в эмоциональном плане родительские проблемы их больше не задевали. С другой стороны, дети из группы риска, вырастая, по-прежнему чувствовали себя причастными к беспорядочной жизни родителей. Это любопытное наблюдение, поскольку в большинстве случаев считается, что эмоциональный «отрыв» детей от родителей — это не очень хорошо. Разрыв подобной эмоциональной связи может восприниматься как патология. Однако людям с эластичной психикой способность отрешиться от беспорядочной жизни родителей, очевидно, помогла сохранить их собственное психическое здоровье.
Наконец, одно из главных различий между людьми с эластичной психикой и их «проблемными» сверстниками заключалось в целях, которые они ставили перед собой. Как отметили Вернер и Смит: «Успешная карьера и хорошая работа стояли на первом месте в списке приоритетов мужчин и женщин с эластичной психикой, и на последнем месте — в списке приоритетов их сверстников, столкнувшихся с серьезными проблемами в подростковом возрасте».
Обсуждение
Поскольку я в этой статье рассматриваю только эластичность психики, у меня нет возможности воздать должное огромному количеству другой важнейшей и ценной информации, полученной Вернер и Смит в ходе их гавайского исследования и касающейся другого аспекта проблемы — что значит быть психологически уязвимым. Могу только добавить, что в их книгу вошел целый ряд дополнительных глав, посвященных возможным вариантам судеб, с документальными подтверждениями. Есть, например, главы о последствиях ранней беременности, о трудностях с учебой и о влиянии подростковой преступности на дальнейшее развитие человека. Если ваше любопытство выходит за рамки рассказанного мной, рекомендую обратиться непосредственно к этим главам.
Подытоживая все вышесказанное, можно отметить, что как уникальные характеристики человека, так и уникальные особенности его окружения в равной степени обусловливают его жизненный успех и благополучие. В частности, Вернер и Смит выделили пять особенностей индивидуальности человека и пять особенностей его окружения, которые в наибольшей степени способствуют развитию эластичности психики. К личностным факторам относятся: (1) независимость и социальная зрелость, (2) хорошее образование, (3) уверенность в себе, (4) темпера
ментные особенности и (5) состояние здоровья. Если рассматривать совокупность этих качеств, то лучше всего противостоят житейским невзгодам люди, обладающие социальной зрелостью и хорошо успевающие в учебе. Люди с эластичной психикой верят в собственные способности, в общении ориентированы на окружающих людей (то есть являются экстравертами) и менее подвержены болезням и несчастным случаям. К важнейшим факторам окружения относятся (1) забота матери, (2) источники эмоциональной поддержки в детстве, (3) источники эмоциональной поддержки в подростковом возрасте, (4) источники эмоциональной поддержки в зрелом возрасте и (5) количество пережитых событий, способных вызвать стресс. Что касается совокупности наиболее важных факторов, то сильнее всего способствует жизненному успеху эмоциональная поддержка, снова эмоциональная поддержка и опять-таки эмоциональная поддержка! Хотя на бумаге легко разграничить личностные факторы и факторы окружения, в действительности, как нетрудно себе представить, особенности индивидуального склада человека соединяются с особенностями его окружения, обеспечивая необходимую жизненную поддержку. Можно предположить, что ребенок, готовый к жизни в окружающем мире и открытый для этого мира, больше преуспеет в укреплении дружеских связей, поскольку людям будет приятно общаться с ним, и они будут к этому стремиться. Однако, вне зависимости от того, как именно возникло окружение человека, обеспечивающее его эмоциональной поддержкой, теплые отношения с окружающими людьми помогают уберечь ранимых детей от суеты и враждебности жизни.
Теперь мы знаем о том, что человеческая психика способна быть эластичной, а также о том, что ряд моментов может способствовать развитию этой эластичности. Но что же со всем этим делать? Вернер и Смит отмечают, что в Соединенных Штатах люди удивительно неохотно принимают какие-либо решения относительно факторов, обусловливающих жизненные трудности. Несмотря на наши знания о том, что «качество взаимодействия "мать—ребенок", разница в возрасте между детьми, состояние здоровья малыша, навыки чтения и успехи в учебе в начальной школе [являются] важными факторами, позволяющими справиться с возможными неблагоприятными прогнозами, как в процессе формирования личности, так и в зрелые годы... [мы все еще живем в стране], где большинство матерей считаются "рабочей силой", и где примерно половина учащихся четвертых классов и больше четверти учащихся восьмых классов даже читает с трудом, где нет определенной политики относительно
алиментов, нет общих программ по обеспечению безопасности детей, нет хорошего дошкольного образования, нет программы по здравоохранению и страхованию детей, и нет общих стандартов обучения чтению в школах... Мы тратим гораздо больше денет на то, чтобы "справиться" с важными проблемами, чем на то, чтобы их предотвратить!»
В заключение Вернер и Смит предполагают, что помощь легко уязвимым детям, в первую очередь, должна зависеть от усилий местных и государственных органов власти, а также от усилий отдельных людей. Они приводят ряд примеров, когда относительно незначительные программы в значительной степени способствовали благополучию таких детей. Например, фирма «Дела общие и частные» в ходе одного исследования рассмотрела роль организации «Большие Братья / Большие Сестры» в ликвидации негативных последствий развития психики у детей из группы риска. В этом исследовании принимали участие около тысячи детей, в основном из бедных городских семей. 40% детей происходили из семей, где практиковалось жестокое обращение, а 30% — из семей, где происходило откровенное насилие. Самое удивительное заключалось в том, что присутствие Большого Брата или Сестры намного повышало способность уязвимого ребенка сопротивляться неприятностям. У детей, у которых уже были Большие Братья или Сестры, употребление наркотиков снизилось до 46%, прогулы в школе — до 52%, а вспышки ярости — до 33% по сравнению с детьми, еще только стоящими на очереди. Эти показатели были справедливы для всех, вне зависимости от национальности и пола.
Выводы
Исследование Вернер и Смит оказалось революционным, поскольку авторы проделали титанический труд, проследив и документально подтвердив развитие эластичности психики у группы людей с высоким показателем уязвимости, а также, что, возможно, еще более важно, выделили те факторы, которые обусловили эту эластичность. Этот подвиг удался им потому, что они проводили проспективное исследование, то есть исследование, изучающее факторы, которые, проявившись в раннем детстве, обусловили успех дальнейшей жизни человека. Другие исследования такого рода либо принимали во внимание эластичность психики только на определенном отрезке времени, и, таким образом, исследовали ее лишь ретроспективно, либо не исследовали ее вообще.
Возможно, один из самых важных результатов исследования Вернер и Смит заключается в том, что оно заставляет нас хотя бы ненадолго задуматься о стереотипах, при помощи которых мы воспринимаем детей из бедных семей. Часто считается, что дети, выросшие в ужасных условиях и в тяжелых обстоятельствах, обречены на неудачу. Следовательно, если мы придерживаемся таких стереотипов, нам может показаться, что все попытки протянуть таким детям руку помощи также будут обречены на неудачу. Однако полагать, что всякое вмешательство бессмысленно, нет никаких оснований. Некоторые дети — те, которые обладают эластичной психикой, — могут вырасти совершенно нормальными, несмотря ни на какие неприятности. Теперь же, когда Вернер и Смит объяснили нам, как это происходит, мы вполне можем использовать эту информацию, чтобы помочь другим детям из бедных семей, которые тоже могут получить пользу от мер, помогающих детям с эластичной психикой. На самом деле Вернер и Смит настолько сильно в это верят, что доходы от продажи своей книги они передают в помощь новому поколению психологически уязвимых детей Кауаи! А законодательные власти штата Гавайи выделяют средства на работу групп психического здоровья, предоставляющих помощь «трудным» детям и подросткам, в частности, на базе монументального исследования Вернер и Смит.
Вам может показаться, что научные исследования, доказывающие, что дети с уязвимой психикой способны преодолеть бесчисленные жизненные трудности, доставляют удовольствие и радость большинству людей. Вам также может показаться, что члены правительства, равно как и обычные люди, будут прыгать от радости, узнав, что дети, пострадавшие от жестокого обращения, могут пережить это и вновь противостоять ударам судьбы. В самом деле, на Гавайских островах все так и получилось. Однако я чувствую себя обязанным сообщить вам: знание о том, что дети с уязвимой психикой могут преодолевать жизненные трудности, не всегда вызывает ликование. У этого факта есть и отрицательная сторона. Вероятно, утверждение о том, что дети из неблагополучных семей и трудные подростки могут избежать мрачного влияния прошлого, рискованно и с политической точки зрения. В чем заключается этот риск? Вот вам для сравнения история о событии, которое, возможно, станет самой черной страницей в анналах современной социологии. Это история об еще одном социологическом исследовании, цель которого также заключалась в изучении эластичности психики молодых людей.
История началась в июле 1998 года, когда Брюс Райнд (Rind), Филипп Тромович (Tromovitch) и Роберт Баузерман (Bauser
man) опубликовали свое исследование, посвященное последствиям растления детей и влиянию этого события на их дальнейшую жизнь. В ходе исследования они изучили и проанализировали результаты 59 предыдущих исследований, касавшихся возможных проблем с душевным здоровьем у студентов, подвергшихся в детстве насилию. Свою работу исследователи опубликовали в журнале Psychological Bulletin, одном из наиболее серьезных периодических изданий, посвященных психологии. Составив статистику данных предыдущих 59 исследований, рассмотрев около 37 ООО эпизодов, жертвами которых были как девочки, так и мальчики, Райнд и его коллеги выяснили, что сексуальное насилие, перенесенное в детстве, не влекло за собой непременных психологических и эмоциональных проблем в зрелом возрасте. Как вы думаете, это хорошая новость? Как вы полагаете, будут ли люди выбегать на улицу и кричать «Ура», прославляя эластичность психики и силу духа, проявленную малолетними жертвами насилия?
Результат оказался прямо противоположным. Исследование не только не признали публично, но, по сути дела, публично запретили! В июле 1999 года, как раз через год после публикации, Конгресс США практически единогласно проголосовал за то, чтобы запретить исследование! Какое невежество и неуважение к научным достижениям со стороны выбранного народом правительства! Отчего же конгрессмены пришли в такую ярость? Отчего не обрадовались, узнав, что, оказывается, малолетние жертвы насилия могут вырасти совершенно полноценными людьми? Да потому, что решили, будто результаты этого исследования спровоцируют педофилов на новые попытки совращения малолетних, вот почему. Разумеется, Райнд и его коллеги вовсе не стремились к подобному результату. Они-просто установили, что перенесенное в детстве насилие впоследствии вовсе не обязательно ведет к проблемам с душевным здоровьем. Однако Конгресс, вместо того чтобы вместе с ними ликовать по поводу эластичности человеческой психики, проголосовал за то, чтобы прикрыть исследование. Вместо выделения дополнительных средств на исследование того, как жертвы насилия смогли пережить эти страшные события, конгрессмены предпочли отрицать, что это вообще возможно. Как отметила психолог и писательница Кэрол Тэврис (Tavris), Конгресс не смог переварить известие, поэтому предпочел застрелить вестника. Можно только надеяться, что в будущем возобладает более сдержанный и научно грамотный подход.
Надеюсь, что из этой главы вы почерпнули три полезные идеи. Во-первых, даже наиболее уязвимые дети не обязательно
должны вырасти неполноценными, особенно если они получают необходимую физическую и социальную поддержку со стороны окружающих. Во-вторых, лучшей профилактикой, которая помогла детям с эластичной психикой благополучно вырасти, оказалась социальная и эмоциональная поддержка со стороны людей, сыгравших в их жизни важную роль. Наконец, я полагаю вы помните, что исследователи были так преданы своему делу, что потратили сорок пять лет, чтобы выяснить, как развивается эластичность психики. Теперь, когда Вернер уже за семьдесят, читатели и почитатели многотомной эпопеи о жизни детей на Кауаи интересуются, что же будет дальше. Продолжат ли ученики Вернер ее работу? Дойдет ли история до логического завершения? Я сам не раз имел удовольствие вести живые и энергичные беседы лично с доктором Вернер, и поэтому могу предположить, что она сама будет руководить дальнейшими исследованиями, до тех пор, пока дети Кауаи не состарятся.
Библиография
Rind, В., Tromovitch, Р., & Bauserman, R. (1998). A meta-analytic examination of assumed properties of child sexual abuse using college samples. Psychological Bulletin, 124,22-53.
Tavris, C. (1999, July 19). Headline: Commentary; Perspective on Psychology; Uproar Over Sexual Abuse Study Muddies the Waters; Suppressing Credible but Unpopular Scientific Findings Won't Reduce the Number of Incidents. Los Angeles Times. Times Mirror Company.
Вопросы для обсуждения
1. Одним из факторов, влиявших на эластичность психики, было количество братьев и сестер у испытуемого. У уязвимых детей, у которых братьев и сестер было меньше четырех, психика оказывалась более эластичной, чем у уязвимых детей, у которых братьев и сестер было больше четырех. Имеет ли смысл на основании этих данных утверждать, что родителям из группы риска следует иметь меньше детей? Почему?
2. Можете ли вы вспомнить кого-нибудь из известных личностей, преодолевших трагические события?
3. Вернер и Смит обнаружили, что эмоциональная поддержка со стороны окружающих являлась одним из наиболее существенных факторов, помогавших уязвимым детям и подросткам перенести драматические события. Знаете ли вы кого-нибудь, кому живется так же несладко, и кому вы могли бы оказать эмоциональную поддержку?
4. Обязаны ли органы власти опираться на результаты психологических исследований при приеме новых законов, которые должны оказать людям помощь? Имеют ли власти право запрещать обнародование научных результатов, если последние не соответствуют принятым властью убеждениям?
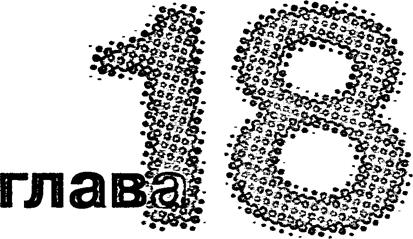
Как вместе с водой не выплеснуть ребенка
БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: REPRODUCTIVE RISK AND THE CONTINUUM OF CARETAKING CASUALTY.
Sameroff, A. J., & Chandler M. J. (1975). In R D. Horowitz (Ed.), Review of Child Development Research. Vol. 4. Chicago: University of Chicago Press.

Возможно, я нахожусь во власти предубеждения, однако я уверен, что из всех областей психологии самой популярной является детская психология. Меня убеждают в этом два фактора. Во-первых, когда я разрабатывал концепцию этой книги, все издатели говорили мне, что на рынке количество работ по детской психологии уступает только доле работ по введению в психоло
гию. А, во-вторых, стоит только присмотреться, становится ясно что специалисты практически в любой области психологии давно интересуются, как эта область соприкасается с детской психологией. В социальной психологии значительное внимание уделяется социальному развитию детей. Основная цель когнитивной психологии заключается в том, чтобы проследить развитие мышления человека с самого раннего возраста. А клиническая психология, которой занимаются большинство специалистов-психологов, следит за тем, чтобы умственное и эмоциональное развитие детей не отклонялось от нормы. Вне всякого сомнения, все это образует чрезвычайно интересную и важную область исследования. Однако здесь есть и другая сторона — идти в ногу со всеми тенденциями детской психологии просто невозможно. Ускоренный поиск в базе данных PsycINFO по ключевым терминам «дети», «несовершеннолетние» и «подростки» позволяет выяснить, что только с 1966 года на эти темы было опубликовано с четверть миллиона работ!
Чтобы справиться с ошеломляющим научным прогрессом в области детской психологии, исследователи время от времени публикуют так называемые «обзоры». В таких обзорах подытоживаются все важные научные открытия, произошедшие в определенной области за определенный период времени. Эти обзоры чрезвычайно полезны для ученых — не только потому, что их авторы сводят воедино множество важных моментов, но и потому, что они обычно указывают на недостатки уже вышедших работ и обозначают реальное или возможное направление дальнейших исследований. Словом, нет необходимости говорить, что авторы этих обзоров оказывают жизненно необходимую услугу другим представителям научного мира. Такая обзорная статья, написанная в 1975 году Арнольдом Самероффом и Майклом Чандлером, оказалась настолько важной для области детской психологии, что даже была названа революционным исследованием (и получила 12 место из 20).
Самерофф и Чандлер интересовались исследованиями, посвященными результатам развития детей. Конечно, этими итогами интересуются все специалисты в области детской психологии, однако не все уделяют такое же внимание соотношению нормальных результатов и отклонений от нормы. Во многих областях детской психологии специалисты изучают нормальное развитие детей, то есть пытаются определить, какие факторы необходимы для того, чтобы ребенок развивался нормально. Однако в ряде других областей детской психологии, особенно в клинической детской психологии, особое внимание уделяется
именно факторам, нарушающим нормальное развитие детей. Считается, что если мы сумеем определить эти факторы, мы как-нибудь сможем и избавиться от них. Самерофф и Чандлер в своем обзоре проанализировали 156 разнообразных статей, авторы которых рассматривали факторы, от которых, как считается, зависят нарушения развития детей.
Как и следовало ожидать, эти факторы делятся на две основные категории: биологические факторы и факторы окружения. В конце концов, что еще можно придумать? Соответственно, статьи, проанализированные Самероффом и Чандлером, были посвящены этим двум основным источникам возможных проблем. К наиболее изученным биологическим факторам относились генетические отклонения и осложнения при беременности и родах. Самерофф и Чандлер предложили отнести биологические проблемы к «континууму репродуктивных нарушений». Из факторов риска, зависящих от окружения, наиболее подробно были исследованы среда и проблемы воспитания. Самерофф и Чандлер отнесли их к «континууму нарушений воспитания». Если совместить эти два термина, станет понятным название их статьи — «Репродуктивные факторы риска и континуум нарушений воспитания».
Далее я привожу краткое содержание основных тем статей, проанализированных Самероффом и Чандлером, а также значение основных открытий, как их воспринимают эти исследователи. Они разделили обзор на несколько частей, в зависимости от основных результатов исследования, которое анализируется. Я пойду тем же путем и буду использовать те же подзаголовки, что и они.
Введение
В начале обзора Самерофф и Чандлер отметили, что специалисты достигли значительных успехов в попытках защитить детей от традиционных проблем, возникающих в процессе созревания и развития. В самом деле, медицина свидетельствует, что в каждом новом поколении уровень детской и подростковой смертности снижается. Однако несмотря на все научные достижения, каждый год миллионы детей все еще умирают от болезней или нарушений функций организма, которые можно бы было предотвратить. Разумеется, лучший способ защитить детей от основных бед — от смерти, болезни, нарушений деятельности организма — это как можно раньше выявить все факторы риска, связанные с каждым опасным моментом. Однако большинство
исследователей, стремящихся выявить эти факторы, до сих по добились лишь незначительных успехов.
Самерофф и Чанд лер заметили, что основной недостаток таких превентивных исследований заключается в том, что исследователи чересчур полагаются нгретроспективный подход, роспективное исследование начинается с выявления заболевших детей, а потом специалисты изучают их жизнь до болезни, пытаясь выделить потенциальные факторы риска, которые обусловили ее возникновение. Боулби (Bowlby) в главе 11, впрочем утверждал, что в такой методике есть один серьезный недостаток, и Самерофф и Чандлер с ним согласились. По их мнению, «попытки восстановить ход событий, обусловивших возникновение болезни, путем изучения людей, уже болеющих этой болезнью, могут создать впечатление того, что заболевание неизбежно». Иными словами, если ребенок, страдающий какой-либо болезнью или расстройством функций организма, пережил рань- * ше какое-то событие, это не значит, что другие дети, пережившие то же самое, непременно должны заболеть. Чтобы еще ярче увидеть ошибочность ретроспективного подхода, предположим, что мы изучаем детскую депрессию и обнаруживаем, что все дети, страдающие депрессией, пережили одно и то же событие — собственное рождение. Можем ли мы утверждать, что все дети, родившиеся на свет, впоследствии обязательно будут страдать депрессией? Разумеется, нет. Поэтому многие исследователи, разочаровавшись в ретроспективном подходе, все чаще пытаются изучать факторы риска, используя проспективный подход. Этот подход предполагает, что психологи начинают заниматься детьми как можно раньше, иногда еще до их появления на свет, а затем следят за их жизнью, пока есть такая возможность. Если ретроспективные исследования вполне успешно могут определить возможные факторы риска, то проспективные исследования необходимы, чтобы установить, насколько эти факторы реальны. Боулби (глава 11), Бомринд (глава 13), Томас, Чесе и Берч (глава 16), а также Вернер и Смит (глава 17) полностью разделяли мнение Самероффа и Чанддера о необходимости проведения проспективных исследований.
Континуум репродуктивных нарушений
Итак, Самерофф и Чандлер приступили к своему обширному обзору литературы, и первую остановку сделали на материалах, посвященных биологическим проблемам, возникающим при беременности и родах. Сначала авторы привели сенсационные данные, полученные в результате самого первого исследования
1971 года. Согласно этим данным, из 5—10 миллионов ежегодных случаев беременности 2-3 миллиона заканчивались самопроизвольными абортами (выкидышами), обусловленными генетическими дефектами или ядовитыми веществами, попавшими в организм матери, а еще 1 миллион — намеренными абортами. Что касается недоношенных детей, родившихся спустя 20 недель после зачатия, то 50 ООО родились уже мертвыми, еще 50 ООО умерли в течение месяца, 50 000 страдали серьезными пороками развития, а еще 300 000 — нарушениями мозговой деятельности, колебавшимися от незначительных отклонений до серьезной умственной отсталости.
Специалистов по детской психологии больше всего интересовала именно умственная отсталость. Как правило, ее причиной считались какие-либо нарушения мозговой деятельности, даже если никаких нарушений и не удавалось зарегистрировать. По сути, то, что мы сегодня называем синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, или СДВГ (ADHD — attention deficit with hyperactivity disorder), тридцать лет назад могло называться «минимальной мозговой недостаточностью» или «органической дисфункцией мозга». Во всяком случае, термин Самероффа и Чандлера «континуум репродуктивных нарушений* относится к «ряду незначительных отклонений в области моторных, перцептивных, интеллектуальных функций, а также обучения и поведения» у детей; отклонений, которые могли возникнуть вследствие нарушения естественного хода беременности или родов. Далее приведены рассмотренные Самероффом и Чандлером некоторые биологические факторы риска, которые, как считалось, наиболее часто приводят к возникновению психологических отклонений.
Аноксия. «Аноксия» означает «недостаток кислорода». В процессе рождения нередко отчего-либо прекращается подача кислорода в мозг ребенка. Иногда происходит защемление пуповины в родовых путях, так что ребенка невозможно извлечь, не перехватив пуповину и не остановив подачу крови. Иногда пуповина обматывается вокруг шеи ребенка, как аркан, не позволяя его извлечь. Даже если рождение проходит нормально, дети порой переживают несколько неприятных минут, пока не начинают дышать самостоятельно. Проблема заключается в том, что чем дольше кислород не поступает в мозг, тем больше вероятность необратимого ущерба.
Детских психологов, разумеется, особенно интересует, приводят ли случаи слабой аноксии к незначительным психическим отклонениям. Один из способов выяснить это — проверить,
насколько зависят от родовой аноксии результаты позднейщи проверок уровня интеллекта. Когда в литературе, изученной Самероффом и Чандлером, речь заходила об уровне интеллекта, становилось ясно, что как раз неясно, приводит ли аноксия к дальнейшей умственной отсталости. Результаты четырех исследований, рассмотренных Самероффом и Чандлером, свидетельствовали о том, что аноксия коррелировала с низкими оценками интеллекта в школьном возрасте, однако гораздо большее количество исследований не выявило никакой связи между анокси-ей в родах и последующими значениями IQ.
Тогда исследователи предположили, что показатель IQ, возможно, был слишком расплывчатым критерием для измерения психической деятельности. Результаты тестов на уровень интеллекта зависят от нормальной деятельности целого ряда психологических функций. Возможно, недостаток деятельности некоторых из них компенсировался нормальной работой других. * Возможно, последствия аноксии стали бы понятнее, если бы исследователи изучали не общий уровень интеллекта, а реализацию основных психологических функций, например, функции восприятия или моторики. Исследования, посвященные этим аспектам, выявили такой факт: несмотря на то что между детьми, пережившими аноксию, и нормальными детьми сразу после рождения наблюдались некоторые различия, они постепенно исчезали по мере того, как дети росли.
Фактически один из экспериментов был полностью посвящен исследованию разницы в развитии обычных семилетних детей и семилетних детей, переживших аноксию. Выяснилось, что дети, пережившие при рождении аноксию, отличались от нормальных детей только по двум из 21-го возможных различных когнитивных и перцептивных показателей!
Хорошо, допустим, что аноксия не влияет на когнитивные и перцептивные способности. Может быть, она воздействует, главным образом, на личность ребенка. Но при исследовании такой вероятности выяснилось, что хотя свойства личности детей и различались в раннем периоде жизни, уже к трем годам этих отличительных особенностей оставалось совсем немного. Если подытожить все вышесказанное, то как бы ни обстояли дела с аноксией, она серьезно влияет на ребенка только в первые месяцы жизни. Когда дети вырастают, негативное влияние постепенно исчезает.
Недоношенность. Предполагается, что еще одним фактором риска, обусловливающим возникновение проблем психического функционирования, является преждевременное появление
ебенка на свет. Нормальным считается, если дети остаются 3 утробе матери в течение 38-40 недель. Однако иногда они рождаются раньше. Таких детей мы называем недоношенными. Преждевременное рождение влечет за собой целый набор проблем, не последней из которых является недостаточное развитие дыхательной системы. Дыхательная система развивается на последних стадиях беременности, поэтому детям, родившимся недоношенными, для дыхания иногда требуются искусственные системы. Недоношенные дети обычно очень маленькие, это означает, что у них относительно немного жировых клеток, обеспечивающих тепло и защищающих от воздействия извне. Значит ли это, что у недоношенных детей есть риск впоследствии столкнуться с особыми психологическими проблемами?
Очевидно, некоторый риск действительно есть. Самерофф и Чандлер цитируют исследование, которое показало, что, согласно результатам школьных тестов, показатель IQ у недоношенных детей немного ниже оценок IQ нормальных детей. Однако в связи с этим возникает вопрос: почему недоношенные дети вошли в группу риска, а дети, перенесшие недостаток кислорода, не вошли? По мнению Самероффа и Чандлера, одно из возможных объяснений заключается в том, что недоношенных детей родители часто воспринимают как неполноценных и, соответственно, могут обращаться с ними не так, как с обычными детьми. И наоборот, детей, перенесших аноксию, выявить не так легко, и родители часто даже не знают об этом. Видите, к чему клонят Самерофф и Чандлер? Они выдвинули любопытное предположение: то, как родители воспринимают состояние здоровья своих детей, может повлиять на благополучие психологического развития детей гораздо больше, чем их действительное состояние здоровья.
Влияние социально-экономических факторов. До этого мы рассматривали два более или менее подпадающих под определение биологических фактора риска, которые, как считалось, приводили к отрицательным психологическим последствиям. Однако, как мы выяснили, ни аноксия, ни недоношенность не оказывали особенно разрушительного эффекта на дальнейшее развитие психики ребенка. Однако говоря об этих биологических факторах риска, мы не принимали во внимание еще один момент, теоретически способный значительно смягчить ущерб: социально-экономический статус. Социально-экономический статус — это универсальный показатель, позволяющий получить исчерпывающую информацию об окружении, в котором живет ребенок. В статусе выделяются две части: социальная и эконо-
мическая. Социальный аспект обычно отражает, насколько точки зрения общества, престижна работа, которую выполняет тот или иной человек. Так, например, чистить мусорные бачки -~ профессия, не слишком уважаемая. Более престижными считаются профессии доктора, адвоката или даже (как ни странно) преподавателя в колледже. Экономический аспект касается того сколько зарабатывает представитель той или иной профессии Доктора, адвокаты и большинство рабочих хорошо зарабатывают; о преподавателях в колледжах, увы, этого сказать нельзя Социально-экономический статус отражает как престижность работы, так и размер ее оплаты. Доктора и адвокаты обладают престижной профессией и зарабатывают много денег, поэтому считается, что их социально-экономический статус очень высок. Рабочие, несмотря на то что их труд хорошо оплачивается, редко занимают престижные места, поэтому уровень их социально-экономического статуса считается средним (о социально-экономическом статусе преподавателей я предпочитаю вообще не задумываться). Люди, чей статус считается низким, занимаются непрестижной и малооплачиваемой работой. Возможное влияние социально-экономического статуса родителей на развитие психики ребенка заключается в том, что люди с более высоким статусом могут выделить больше средств на воспитание детей, тогда как люди с низким статусом этого не могут.
В источниках, проанализированных Самероффом и Чандлером, выявляются поразительные психологические различия между детьми из семей с высоким социально-экономическим статусом и детьми из семей с низким статусом. Обычно у детей из менее благополучных семей было больше шансов столкнуться с серьезными трудностями в развитии. Собственно говоря, социально-экономический статус оказался самым важным отдельно взятым фактором, на основании которого можно было судить о проблемах в развитии, тогда как на основании аноксии, недоношенности или каких-то других отдельных событий, произошедших в период беременности, родов или первых месяцев жизни, такие предположения было сделать гораздо труднее. Подытоживая все, сказанное в этой литературе, Самерофф и Чандлер писали: «В преуспевающих семьях дети, столкнувшиеся с какими-либо сложностями [при рождении], обычно не выказывали в дальнейшем каких-либо значительных или незначительных отклонений. Многие дети из неблагополучных семей, столкнувшиеся с такими же сложностями, впоследствии страдали серьезными нарушениями различных функций организма. Очевидно, социальный и экономический статус гораздо силь
нее влияет на дальнейшее развитие ребенка [чем осложнения пРи родах].
Две гипотезы. Проанализировав полученные результаты, Самерофф и Чандлер выдвинули две гипотезы относительно развития психологических проблем у детей. Во-первых, авторы предположили, что если дети, появившиеся на свет в условиях осложненных родов, впоследствии страдали какими-либо психологическими отклонениями, то эти отклонения были обусловлены не непосредственно осложнениями, а какой-то третьей переменной величиной, связанной как с осложнениями, так и с отклонениями. Этой третьей величиной, по их мнению, являлся как раз социально-экономический статус. Люди с низким статусом имели больше возможностей столкнуться с осложнениями при родах, а также более выраженную вероятность вырастить детей, страдающих задержкой развития. Повторим еще раз: родовые осложнения не являлись причиной психологических отклонений. Дело, скорее, заключалось в том, что небогатые люди чаще сталкивались с возможностью осложнений в ходе беременности (к примеру, если они не могли позволить себе дорогостоящее лечение), а также чаще жили в условиях, ведущих к возможным психологическим отклонениям (например, если они не могли позволить себе купить обучающие игрушки и книги).
Самерофф и Чандлер также предположили, что влияние родовых осложнений на психологические отклонения в значительной степени зависело от отношения окружающих. Иными словами, неважно, сталкивались ли дети с возможными трудностями при рождении — важно, как реагировали на это их родители. У родителей, которые считали, что их дети предрасположены к возможным проблемам, дети чаще вырастали действительно к ним предрасположенными. Таким образом, ключевой момент обеих гипотез заключался в предположении, что в жизни детей происходили определенные события, которые создавали воображаемую связь между проблемами на ранней стадии развития и дальнейшими отклонениями. В первом случае речь шла о социально-экономическом статусе, во втором — об отношении родителей.
Репродуктивная функция и стресс
Стресс и генетические отклонения. Если отношение родителей играет такую важную роль в развитии возможных психологических отклонений у детей, то логичным будет предположить, что душевное здоровье родителей также оказывает воздей-
ствие на'возможные сложности в ходе беременности. В связи с этим предположением Самерофф и Чандлер проанализировали несколько исследований, посвященных взаимосвязи эмоционального состояния родителей и возможных родовых осложнений. Любопытно, что, как выяснилось, стресс, пережитый матерью ребенка, особенно часто приводил к родовым осложнениям. Например, результаты одного исследования показали, что жительницы Англии и Германии, рожавшие во время Второй мировой войны, в значительной степени рисковали родить детей с врожденными отклонениями. Очевидно, стресс, испытанный во время войны, в совокупности с неполноценностью питания, очень часто негативно влиял на беременность. В ходе другого исследования тот же самый ученый установил, что матери детей с синдромом Дауна, в отличие от матерей полноценных детей, во время беременности испытывали продолжительный стресс.
Разумеется, известно, что многие врожденные отклонения могут быть обусловлены отклонениями на генетическом уровне или уровне хромосом. Так, известно, что синдром Дауна зависит от отклонений в 21 паре хромосом. Если для нормального развития необходимы две хромосомы в этой паре, то у детей с синдромом Дауна их три. Однако если врожденные отклонения зависят от генов, имеет ли стресс, пережитый матерью, к ним какое-либо отношение? Согласно одному предположению, чрезвычайно сильный стресс, испытанный матерями во время войны и матерями детей с синдромом Дауна, каким-то образом повлиял на естественную абортивную функцию их организмов. Что такое «естественная абортивная функция»? Если женщина беременна, ее организм порой может распознать, что развитие эмбриона пошло по какому-то неправильному пути, и тогда, если это необходимо, беременность прервется естественным путем — в результате выкидыша. Но если женщина испытывает сильный эмоциональный стресс, ее организм может стать менее чувствительным к неправильному функционированию эмбриона и не будет стремиться прервать беременность.
Эмоции матери и родовые осложнения. Затем Самерофф и Чандлер проанализировали несколько исследований, выявивших, что существует сильная взаимосвязь между эмоциональным состоянием матери и возможными родовыми осложнениями. Самый страшный из всех возможных вариантов — это когда мать испытывает такой сильный эмоциональный стресс, что он приводит к смерти плода. К сожалению, несколько исследований подтвердили такую вероятность. В ходе одного исследова
ния выяснилось, что 427 женщин, по описанию страдавших «регулярными выкидышами», «были психически неуравновешенными и не желали детей». Вполне вероятно, что эмоциональное состояние этих женщин обусловливало их многочисленные выкидыши. В ходе другого" исследования проводилось сравнение женщин, страдавших регулярными выкидышами, и женщин, не перенесших ни одного, и снова выяснилось, что первые «хуже контролировали свои эмоции и были более зависимы». Третье исследование показало, что женщины, эмоционально неуравновешенные, чаще рождали недоношенных детей. Наконец, еще семь исследований продемонстрировали, что беспокойство, испытываемое матерью, часто являлось причиной родовых осложнений. Очевидно, можно сделать вывод, что такое беспокойство тоже являлось важным фактором риска.
Курение или курильщик? Всем известно, что дети матерей, которые курят, даже будучи доношенными, рождаются очень маленькими, как недоношенные. Интересно, что хотя маленькие дети умирают приблизительно в 20 раз чаще детей, нормальных по величине, дети курящих матерей умирают не чаще, чем обычные дети. Следовательно, вопрос заключается в следующем: почему дети курящих матерей рождаются такими маленькими, хотя в остальном они вполне здоровы? Зависит ли это от ядовитых веществ, поступающих в организм матерей при курении, или дело в самих курящих женщинах? Самерофф и Чандлер рассмотрели одно исследование, посвященное этим двум предположениям. Автор исследования обнаружил, что у женщин, не куривших во время беременности, но начавших курить после, дети часто рождались такими же маленькими, как и у женщин, куривших во время беременности. Это позволило ему заключить, что дело было не в курении, а в самой матери.
Психические заболевания. Если стресс, волнение или предрасположенность к курению настолько сильно влияют на беременность и роды, логично предположить, что более серьезные психические отклонения также повлияют на них отрицательно. Из этого вытекает вопрос, являются ли серьезные психические отклонения у детей результатом неблагоприятных событий, имевших место во время беременности и родов. В связи с этим Самерофф и Чандлер рассмотрели целый ряд исследований, посвященных данному вопросу. Как и предполагалось, женщины, страдавшие такими психическими заболеваниями, как шизофрения или депрессивный психоз, гораздо чаще страдали родовыми осложнениями, чем здоровые женщины. Более того, чем
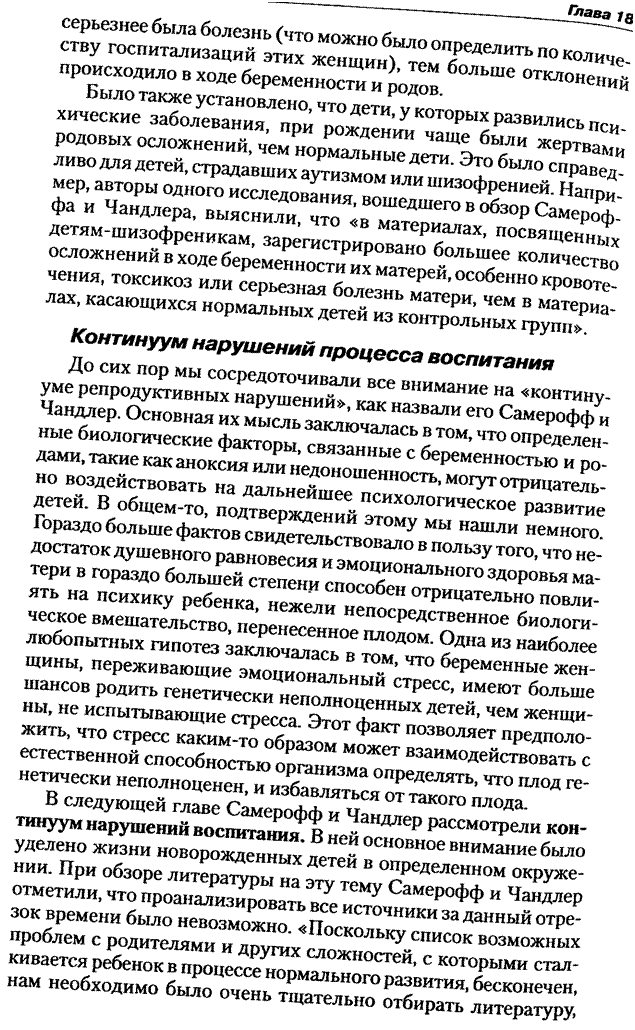
посвященную этим темам. Так как в обзор должно было войти все, начиная от стандартов питания и заканчивая способами воспитания дисциплинированности, требовались какие-нибудь произвольные ограничения материала». Следовательно, авторы сконцентрировались на наиболее «кричащих» отклонениях от нормы воспитания, когда «ущерб, причиненный ребенку, является очевидным и вопиющим». Особенно подробно они рассматривали случаи насилия над детьми и их заброшенности родителями.
Переход из материнской утробы во внешний мир всегда является болезненным для детей. Матку можно назвать настоящим шедевром, сконструированным миллионами лет эволюции, чтобы защитить развивающийся плод от всех неблагоприятных воздействий извне. Но как только ребенок покидает утробу, он или она попадает во внешний мир, полный неопределенности, а иногда и враждебности по отношению к нему или к ней. Нет никакой гарантии, что родители будут знать, как именно необходимо заботиться о ребенке. И хотя эволюция на протяжении миллионов лет трудилась и над родительским инстинктом, все еще появляются родители, способные причинить своему новорожденному ребенку вред, если этого пожелают.
Ребенок, которого истязают. Изобретательности родителей, причиняющих боль своим детям, нет предела. Родители могут бить детей, обжигать их, резать ножом, травить или насиловать. То, что такие увечья влекут за собой тяжелые последствия, очевидно всем. Однако ответить на вопрос, является ли физическое истязание фактором риска, можно, только если в течение долгого времени наблюдать за пострадавшими детьми. В1975 году было опубликовано несколько работ, посвященных многолетним исследованиям психологии истязаемых детей. В одной из двух таких работ, попавших в поле зрения Самероффа и Чандлера, указано, что наблюдения за двадцатью детьми, подвергавшимися истязаниям на протяжении более чем 13 лет, выявляют не особенно утешительные результаты. «На момент выхода работы у 90% испытуемых все еще наблюдалась остаточная ущербность психики. Больше половины детей, принявших участие в испытании, были охарактеризованы как умственно отсталые, и больше половины оказались неуравновешенными эмоционально. Задержки в росте, нарушения речи и другие проявления неполноценного развития присутствовали практически у всех, так что, по мнению исследователей, только два ребенка на момент проведения работы были совершенно нормальными».
Как родители могут быть настолько жестокими по отношению к собственным детям? Очевидно, можно найти два варианта объяснения. Во-первых, выяснилось, что психология жестоких родителей отличается от психологии нормальных родителей по целому ряду факторов. В ходе одного исследования обнаружилось, что жестокие родители — люди «не особенно умные, а также более агрессивные, вспыльчивые, незрелые, возбудимые и эгоцентричные, по сравнению с нормальными родителями». Но еще более важен тот факт, что жестокие родители — это те люди, с которыми в детстве тоже плохо обращались. А если с родителями ребенка в их детстве плохо обращались, это значит, что они никогда не сталкивались с нормальным родительским поведением. Когда у них появляются дети, они могут предъявлять им совершенно необоснованные требования. А почему бы и не предъявлять, если их собственные родители делали в отношении них то же самое?
Когда в жестокости родителей виноваты дети. Самерофф и Чандлер отметили, что отношения родителей и детей обычно бывают двусторонними. Вслед за Томасом, Чесе и Берчем (глава 16) и за Ричардом Белл ом (глава 20), Самерофф и Чандлер напоминают, что поведение самих детей тоже может до определенной степени обусловить родительскую жестокость. Только не надо считать, что дети намеренно делают что-то плохое, чтобы родители их истязали. Самерофф и Чандлер, скорее, имели в виду, что какие-то отклонения в развитии детей могут обусловить желание родителей их наказать.
Одной из причин может быть недоношенность. Недоношенные дети — тяжелый крест для родителей в эмоциональном, физическом и финансовом плане. Мать, которая при обычных условиях не истязала бы своего ребенка или была бы склонна к этому, но удержалась, может переступить грань, когда столкнется с особенностями своего недоношенного сына или дочери.
Это предположение подтверждают научные работы, проанализированные Самероффом и Чандлером. Согласно им, истязанию часто подвергались именно те дети, которым часто требовался какой-то особенный уход. В ходе одного общегосударственного исследования выяснилось, что истязаемые дети отставали от нормальных детей в социальном, физическом, интеллектуальном и поведенческом отношении. Конечно, когда речь идет о таких взаимозависимых моментах, как истязание и неполноценность, невозможно с уверенностью сказать, что от чего зависит. Однако многие родители признавались, что их жесто
кое обращение с детьми было обусловлено именно необычным поведением последних. В заключение Самерофф и Чандлер отметили: «На основании предварительных данных исследований, посвященных истязаемым детям, можно предположить, что и жертвы наказаний, и их истязатели страдают достаточно сильными отклонениями в социальном, психическом и физическом отношении, и останавливаться на каком-то из этих факторов в ущерб другим значит не понимать взаимозависимость отношений родителей и истязаемых ими детей».
Синдром невозможности вырасти. Формулировка «синдром невозможности вырасти» применяется в отношении тех детей, которые по какой-либо причине отстают в росте от сверстников. Основная задача ребенка в первые месяцы его жизни — расти и набирать вес. Но дети, которые почему-либо не растут, как раз не набирают необходимый вес и даже могут похудеть (не следует путать это с естественной потерей веса, которой иногда страдают новорожденные после того, как начинают самостоятельно принимать пищу). «Синдром невозможности вырасти» часто зависит от проблем со здоровьем, например, от болезни или от нарушения гормонального баланса, однако нас интересует та разновидность синдрома, которая зависит от небрежности родителей.
Вне всякого сомнения, небрежность — тоже разновидность истязания детей, но она отличается от других вариантов, поскольку в отличие от того, чтобы причинять ребенку вред, родители просто ничего не делают. Однако с научной точки зрения последствия небрежности во многом такие же, как и последствия истязания: дети, страдающие от небрежности родителей, впоследствии имеют психологические проблемы, характер их родителей по ряду параметров отличается от нормы, да и сами дети по характеру отличаются от сверстников, не сталкивавшихся с небрежностью. В ходе одного исследования выяснилось, что дети, страдающие от небрежности окружающих, по мнению их родителей, «привередливы в еде, плохо едят и часто отрыгивают пищу», а также часто страдают хронической диареей или аллергией на еду. Представьте себе, как эти особенности могли повлиять на родителей, которые еще не выказывали небрежности по отношению к детям, но были склонны к ней. Каждый раз, когда они кормили своих детей, испытывавших сложности с питанием и пищеварением, эти дети отрыгивали пищу или пачкали пеленки. Разумеется, для родителей процесс кормления оказывался сущим наказанием. С другой стороны, если они не корми-
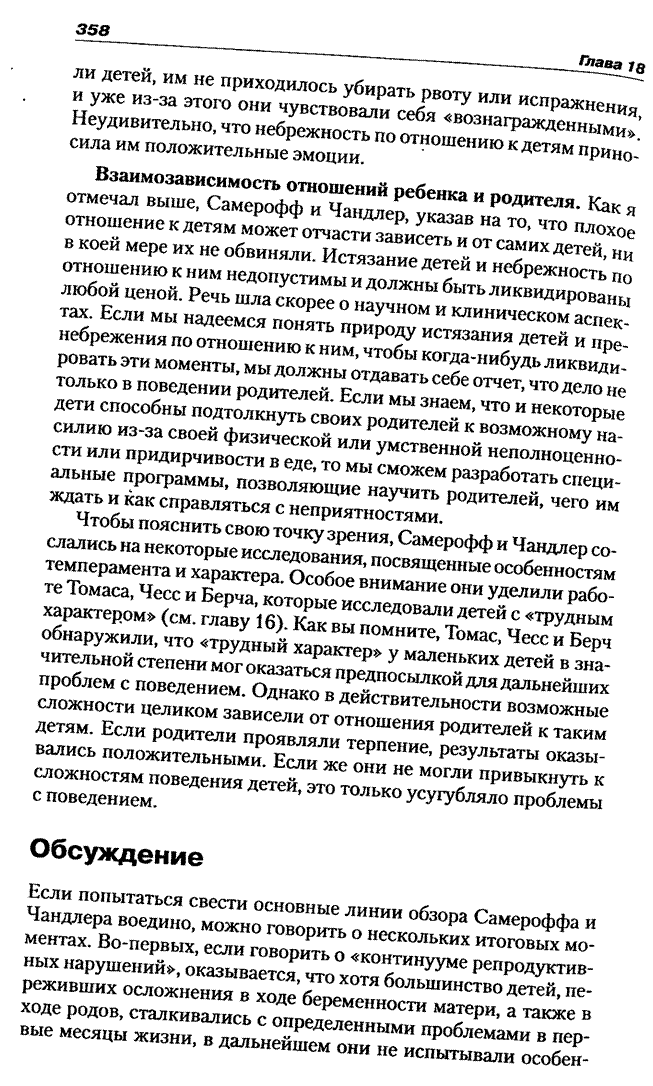
ных трудностей. Во-вторых, если говорить о «континууме нарушений воспитания», оказывается, что родители детей, подвергающихся истязаниям или страдающих от небрежности окружающих, сами обладают определенными свойствами характера, обусловливающими их поведение. Однако Самерофф и Чандлер установили, что не все родители, обладающие такими свойствами характера, истязают своих детей. В-третьих, лучший способ прогнозировать психологические особенности поведения детей в их дальнейшей жизни заключается в том, чтобы рассматривать репродуктивные факторы риска в совокупности с континуумом нарушений воспитания. Специалисты по детской психологии должны иметь в виду, что успех или неудача в развитии психического здоровья детей в равной степени зависит и от детей, и от родителей.
В завершение обзора Самерофф и Чандлер предложили всем принять так называемую трансакционную модель развития ребенка. Такая модель принимает во внимание как способность окружения детей изменяться, так и вклад самих детей в их собственное психологическое развитие. Согласно выводам Вернер и Смит (см. главу 17), детям, очевидно, свойственны врожденные тенденции к «самоисправлению», которые помогают им пережить почти все биологические травмы, испытанные еще в утробе матери или в процессе рождения. Однако эти тенденции необходимо лелеять и поддерживать правильным воспитанием и необходимым уходом. По мнению Самероффа и Чандлера, «риск [в процессе рождения и воспитания] не должен рассматриваться отдельно, будучи тесно взаимосвязанным с положительными или отрицательными аспектами развития. Если уязвимость ребенка повышена из-за серьезной или повторной травмы, только забота и поддержка со стороны окружающих может обеспечить полное восстановление нормального процесса развития. В качестве примера одной крайности можно говорить о ребенке с серьезной мозговой травмой, нуждающемся во врачебной помощи и надлежащем уходе. Другая крайность заключается в том, что самые крепкие дети, не получая надлежащего ухода, могут страдать от нарушений процесса воспитания».
Выводы
Революционный вклад Самероффа и Чандлера в детскую психологию заключался в том, что они оспаривали традиционные взгляды на причины возникновения отклонений развития. Они
предупреждали специалистов по детской психологии о необходимости не полагаться на мнение, что сложности, возникшие в ходе беременности и родов, и недостаток заботы со стороны родителей неминуемо приведут к негативным психологическим последствиям. Степень вероятности того, что какой-то из этих факторов обусловит негативные последствия, в значительной степени зависит от роли другого фактора. В связи с этим Самерофф и Чандлер предположили, что репродуктивный риск и фактор заботы окружающих нельзя воспринимать как абсолютные данные, противостояние черного и белого, хорошего и плохого. Стоит, скорее, воспринимать каждый фактор как некий континуум, объединивший в себе ряд возможностей.
Из анализа других революционных исследований, приведенных в этой книге, можно увидеть, что специалистам по детской психологии не всегда легко претворить в жизнь свои принципы. Так, сегодня очень немногие специалисты будут отрицать, что результаты психологического развития детей проистекают из сложной взаимосвязи между особенностями ребенка и особенностями'людей, его окружающих. И все-таки иногда мы допускаем ошибку и объясняем эти результаты только одним из факторов. Из свежих примеров такой однобокости, хорошо освещенных в печати, можно назвать истерию, которой сопровождалось открытие так называемого феномена «детей крэка» в начале 1990-х годов.
«Дети крэка» получили свое прозвище из-за того, что их матери во время беременности употребляли крэк — вещество, представляющее собой рафинированную кристаллическую форму героина. С самого начала врачи и широкая публика предполагали самое худшее — по их мнению, «дети крэка» были обречены влачить самое жалкое существование. В то время такое предположение казалось вполне обоснованным. В конце концов, отрицательный эффект кокаина на здоровье взрослых наркоманов был давно доказан. После этого оставалось только сделать логический вывод, что если уж у взрослых людей, принимавших кокаин, начинались проблемы со здоровьем, то на зародыши, находящиеся еще в процессе развития, наркотик просто обязан был повлиять негативно. Массовая истерия подогревалась тем, что СМИ все время муссировали образы маленьких, недоношенных, трогательных созданий, которые лежали под вентиляторами и, казалось, изо всех сил боролись за каждый самостоятельный вздох. Прогнозы были самыми мрачными. Некоторые исследования вроде бы подтверждали самые страшные предположения.
Действительно, зачастую «дети крэка» на протяжении ряда лет страдали психической неполноценностью.
Затем в марте 2001 года Дебора Фрэнк (Deborah Frank) специалист из Бостонского университета, опубликовала в журнале Journal of the American Medical Association статью, в которой осуждала всеобщую истерию относительно «детей крэка». В своей работе она проанализировала результаты 36 других исследований, посвященных крэку, проведенных начиная с 1984 года. Вывод, полученный ею, ниспровергал основы: прием кокаина беременной женщиной не оказывал сколько-нибудь серьезного влияния на возможные отрицательные аспекты развития ее будущего ребенка. Автор отмечала, что общим недостатком предыдущих работ было то, что исследователи не обратили внимания, не принимали ли матери детей других веществ, таких как табак, алкоголь, марихуана. Кроме того, большинство матерей, использующих крэк, происходили из низших социально-экономических слоев. По мнению Фрэнк, списывать недостатки развития детей на крэк значило совершать грубейшую ошибку. Прежде всего дети матерей, употребляющих крэк, появляясь на свет, сразу оказывались в неблагоприятных условиях, поэтому нет ничего удивительного в том, что впоследствии они страдали от задержек в развитии. Если пользоваться терминологией Самероффа и Чандлера, «дети крэка», появляясь на свет, оказываются прямиком в континууме нарушений воспитания. Но полагать, что такие дети изначально приговорены к возможным задержкам развития, совершенно нет оснований. Если им повезет родиться в нормальном окружении, они вырастают совершенно нормальными.
Исследования, посвященные психологическому развитию детей, процветали и на протяжении тридцати лет после публикации революционного обзора Самероффа и Чандлера. Тогда только количество опубликованных исследований превышало объем того, с чем они могли управиться. Теперь же увеличился и сам объем научных знаний. Однако несмотря на это и сегодня теория современной детской психологии все еще в значительной степени основывается на ключевых рекомендациях Самероффа и Чандлера относительно понимания психологического развития детей. Можно только надеяться, что и будущие поколения исследователей, столкнувшись с непростой задачей — необходимостью избавиться от факторов риска в процессе рождения и воспитания, будут помнить о сложных отношениях между ребенком и его окружением.
Библиография
Frank, D. A., Augustyn, М., Grant Knight, W., Pell, Т., and Zuckerman, B. (2001). Growth, development, and behavior in early childhood following prenatal cocaine exposure. Journal of the American Medical Association, 285, 16131625.
Вопросы для обсуждения
1. Один из главных выводов Самероффа и Чандлера заключается в следующем: для того чтобы понять причины нарушения психологического развития ребенка, необходимо учитывать его собственный вклад в его развитие. Как вы полагаете, это правильная мысль? Можно ли на основании ее сделать вывод, что для того чтобы понять преступление, необходимо учитывать и вклад в него его жертвы?
2. Известно, что, в целом, имеются расовые отличия в результатах выполнения стандартизированных тестов, таких как SAT или ACT. Насколько соотносимы выводы Самероффа и Чандлера с этой статистикой?
3. Можете ли вы рассказать на основании собственного опыта, каким образом люди из вашего окружения в процессе вашего воспитания оберегали и защищали вас от болезней или неприятностей? Приведите несколько примеров.
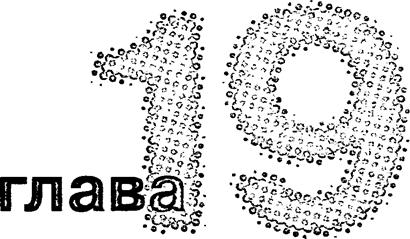
Хореография танца природа — воспитание
БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: HEREDITY, ENVIRONMENT AND THE QUESTION «HOW?».
Anastasi, A. (1958). Psychological Review, 65,197-208.

На мой взгляд, большинство преподавателей психологии обзавелись некоей милой толстокожестью, проявляющейся, когда им ставится в упрек то, что психология — это не «настоящая» наука. Возможно, вы этого не знаете, но многие люди придерживаются невысокого мнения о психологии. Нас, психологов, «затыкают» как простые обыватели, так и коллеги из других областей науки. Если у вас есть друзья, специализирующиеся в так называемых науках естественного цикла, наподобие физики или
химии, спросите у них, что они думают о психологии. Вы поймете, что я имею в виду. Конечно же, значительная часть критики, обращенной на психологию, является, на самом деле, просто некомпетентностью. Многие люди просто не понимают, что такое психология. К счастью, хотя бы и небольшое пополнение образования позволяет обычно избавиться от невежества.
Но по-настоящему задевает ситуация, когда люди знают, что такое психология, и все равно ставят под сомнение ее целостность. Если и существует правомерная критика, которой люди со стороны могут подвергнуть психологию, то такая критика заключается в том, что психологии не хватает единой направляющей темы или фокуса. Можете ли вы назвать хотя бы одну общую нить, проходящую через всю психологию? Нельзя сказать, что все психологи изучают поведение человека, поскольку некоторые из них изучают поведение не человека, а животных. Ситуация не изменится, если переформулировать предложение и сказать, что психологи изучают поведение животных разных видов, поскольку некоторые психологи изучают работу мозга, которая, может, связана каким-то образом с поведением, а может, и нет. В любом случае огромное множество тем, которыми занимаются психологи, является также ахиллесовой пятой всей дисциплины в целом, поскольку из-за этого психология кажется фрагментарной и разобщенной.
Поэтому когда вы напрямую с этим сталкиваетесь, непросто выделить какую-либо одну объединяющую тему, проходящую сквозь всю психологию и связывающую все со всем. Но в 1958 году Анна Анастази забила гвоздь по самую шляпку, когда выделила проблему «природа — воспитание» в качестве центральной проблемы всей психологии. Уверен, что вы слышали о проблеме «природа — воспитание». Это одна из основных тем, обсуждавшихся нами в первой главе. Обычно она оформляется как вопрос гены / среда. «Сколько в нашем интеллекте наследуемого?» «Насколько наш страх перед математикой проистекает из того, как мы воспитаны?»
Анастази не была первым человеком, поднявшим данный вопрос. На протяжении нескольких тысяч лет проблема «природа — воспитание» была центральным вопросом философии. И в зависимости от того, у кого спрашивали, можно было получить ответ, что личность человека полностью, частично или вовсе не обусловлена нашими генами (или средой). Различия во мнениях по проблеме «природа — воспитание» можно проследить по всему пути, доходящему до великих греческих философов. Платон твердо верил в то, что главную роль играет приро
да, то есть гены (хотя в то время о существовании генов не было известно). Но его ученик Аристотель позволил себе занять другую позицию. Он верил в то, что среда играет решающую роль в определении состояния человека. И с тех пор философы и психологи ходили взад-вперед, туда и сюда, отрицая и соглашаясь, что гены или среда играют самую важную роль в объяснении развития человека. Но в своей статье, оцененной сообществом исследователей в области детской психологии четырнадцатой по значимости, Анастази прокричала: «Все, люди, хватит! Давайте займемся делом!»
Личная история Анны Анастази сама по себе представляет интерес. Анастази была продуктом времени, когда психология только начинала развиваться, и когда женщин редко допускали до аспирантских программ, и если им удавалось все же туда попасть, то предполагалось, что психология будет для них лишь прикладной дисциплиной. Было редкостью, чтобы женщины-психологи проводили первичные, фундаментальные, экспериментальные исследования. И Анастази во многом согласилась с подобной тенденцией. Но тот факт, что Анастази удалось закончить аспирантуру, сам по себе экстраординарен. Подобно Пиаже и Выготскому до нее, она была одним из тех гениальных детей, которых просто невозможно остановить. Большую часть своего детства, проведенного в Нью-Йорке, она находилась на домашнем обучении, и когда, наконец, в 1917 году (в возрасте девяти лет) ее отдали в начальную школу, она быстро догнала свой класс. Но вскоре она оттуда ушла, потому что ей приходилось сидеть в конце переполненного учениками класса, а работа казалась ей чересчур неупорядоченной. Предприняв на следующий год еще одну попытку и поступив в государственную школу, она перепрыгнула еще через два класса и, в конце концов, завершила начальное образование, став первой ученицей в классе. Она попробовала поучиться в средней школе, но снова классы показались ей переполненными, и поэтому она ушла из школы еще раз. Чтобы не изощряться, она решила просто перепрыгнуть через среднюю щколу. Сдав несколько Министерских Вступительных Экзаменов, она поступила в Бэрнердский Колледж (Barnard College) в возрасте 15 лет.
Хотя учебу в колледже Анастази начала, интересуясь математикой, она была также очарована парой курсов по психологии, прослушанных ею в Бэрнерде. Вскоре она обнаружила, что, двигается в двух направлениях — в направлении математики, которую она любила, и в направлении психологии, которая ее пленила. К счастью, Анастази нашла свое призвание в области,
сочетающей ее интерес как к математике, так и к психологии: речь идет о психологическом тестировании, области, питавшей ее мысль на протяжении всей оставшейся жизни. В 1928 году в возрасте 19 лет она окончила Бэрнерд и в том же году опубликовала свою первую профессиональную журнальную статью. Степень доктора философских наук она получила в 1930 году, окончив аспирантскую программу в Колумбийском университете, когда ей был лишь 21 год. Я уверен, вы понимаете, что большинство студентов колледжей в этом возрасте находятся лишь на предпоследнем курсе!
Анастази сделала весьма примечательную, и, возможно, даже выгодную карьеру в области психологического тестирования. Ее учебники по психологическому тестированию на протяжении нескольких десятилетий были фундаментом данного направления, и тысячи психологов овладели своей специальностью, учась у нее. Но для наших целей самым важным является то, что благодаря опыту занятий тестированием она оказалась в самом центре дискуссий по проблеме «природа — воспитание». Здесь вот в чем дело. Когда некто выполняет психологический тест, вполне вероятно, что набранный им балл будет отличен от балла, набранного кем-то другим, также выполнившим этот тест. Иногда происходит так, что группы людей выполняют какой-то отдельно взятый тест, и баллы одной группы отличаются от баллов другой. В обоих случаях возникает вопрос: «Почему баллы различаются?» Можно себе представить, сколь разнообразен круг возможных ответов. Если две группы имеют разное расовое или этническое происхождение, возьмем, к примеру, группу белокожих американцев и группу азиатов, то вы могли бы сделать вывод, что различия в баллах обусловлены различиями в генетической организации. Конечно же, многие психологи приходили именно к этому выводу. Но если обе группы характеризует одинаковое этническое или расовое происхождение, возьмем, к примеру, группу бедных белокожих американцев и группу богатых белокожих американцев, то тогда вы могли бы связать различия в баллах с различиями в условиях воспитания. Но значимость что одного, что другого вывода ненамного превышает значимость безосновательного рассуждения. Проблема заключается в том, что люди, имеющие разное расовое или этническое происхождение, отличаются не только своей генетической организацией, но и условиями воспитания.
В своей статье, опубликованной в 1958 году, Анастази призвала положить конец подобным непродуктивным рассуждениям. Она высказала мнение о том, что вместо того чтобы спорить,
на чем лежит ответственность — на природе или на воспитании, или насколько здесь ответственна природа или воспитание, психологии следует сосредоточиться на вопросе о том, каким образом оба эти фактора оказываются ответственными. Другими словами, ясно и понятно, что на психологическое функционирование влияет как природа, так и воспитание, поэтому какие-либо дальнейшие споры по данному вопросу бессмысленны. Вместо этого, по мнению Анастази, следовало бы заняться более важными вещами, например, выяснением того, как уникальный набор генов человека взаимодействовал с его уникальной средой, результатом чего стало формирование уникальной личности, коей является этот человек.
Статья Анастази не была «исследованием» в обычном смысле слова. Скорее, это был научная работа, эссе, выражающее определенную позицию. Автор критиковала старые взгляды на проблему «природа — воспитание» и предлагала набросок того, что, по ее мнению, являлось новым, более продуктивным подходом. Она внесла также несколько предложений по плану проведения конкретных изысканий, которого должны придерживаться исследователи, занимающиеся проблемой «природа — воспитание». Очевидно, что данная работа оказала свое влияние на психологию, поскольку даже сегодня, по прошествии сорока лет со времени публикации, она считается водоразделом всей дисциплины и относится к числу двадцати самых революционных вкладов в детскую психологию.
Введение
Свою статью Анастази начала с указания на то, что вопрос о вкладе генов или среды в какое-либо поведение, особенность или психологическую черту — вопрос бессмысленный. Поскольку значение имеют оба фактора, вряд ли можно что-то к этому добавить. На самом деле, нет большого смысла говорить о том, что значение имеют оба фактора, поскольку в действительности нам это ни о чем не говорит. Она также указала на то, что некоторые исследователи пытались заниматься оценкой того, в какой пропорции гены и среда обусловливают определенное поведение, особенность или психологическую черту. Исходя из такой позиции, исследователь мог бы попытаться определить, обусловлена ли способность к катанию на велосипеде на 10% генетическими факторами и на 90% — факторами среды, или, возможно, соотношение равно 25% к 75%. Но Анастази указала на то, что и такой подход неправомочен, поскольку он допускал существо
вание того, что она называла аддитивным свойством взаимоотношений между генами и средой. Все дело в том, что совместная работа генов и среды не происходит аддитивно, по принципу дополнительности. Разве есть смысл в словах, что, например, нечто, столь же сложное, как интеллект, является результатом прибавления двух частей генов к трем частям среды? Чтобы узнать что-то полезное, нам необходимо узнать, как две части генов работают совместно с тремя частями среды, производя интеллект.
Анастази считала, что намного лучше рассматривать совместный вклад генов и среды, исходя из того, что они находятся во взаимодействии друг с другом. Определение взаимодействия сводится к тому, что влияние одной вещи зависит от качества другой. В рамках нашего вопроса о «природе — воспитании», мы бы сказали, что влияние среды зависит от типа генов, или что влияние генов зависит от типа среды.
Ладно, у меня возникло ощущение, что сейчас мы оперируем пространными абстракциями, поэтому давайте обратимся к более удобному примеру из реальной жизни. Подумайте о влиянии теплой, любящей, заботящейся семейной среды на социальное развитие ребенка, усыновленного при рождении. Приемный ребенок, выросший в подобной среде, вполне может стать теплым, любящим и заботящимся. В данном случае, разве мы не сможем с уверенностью сказать, что среда оказала позитивное влияние на социальное развитие ребенка? Мог ли ребенок вырасти другим? Конечно же, ведь у ребенка мог быть аутизм. Один из первичных симптомов людей с аутизмом состоит в том, что они кажутся незаинтересованными в социализации. Дети с аутизмом редко устанавливают контакт глазами, они редко реагируют на вербализации и редко интересуются проявлением привязанности. Поэтому теплая, любящая, заботящаяся семейная среда могла не оказать большого влияния на ребенка с аутизмом. Это пример того, как влияние среды зависит от качества генов, как среда и гены могут взаимодействовать. И это именно то, что имела в виду Анастази, когда призывала психологов заняться вопросом «Как?». Психологам следует сфокусировать внимание на том, как взаимодействуют гены и среда.
Типы взаимодействий
Признание необходимости понимать взаимодействие между генами и средой является лишь первым шагом. Существует множество путей, посредством которых взаимодействия могут происходить, и для изучения каждого из этих путей может требо
ваться свой собственный набор методов. В своей статье Анастази перечислила несколько типов взаимодействий, которые могут иметь место между генами и средой. Она начала с рассмотрения ряда врожденных генетических условий, которые, как можно предположить, будут ограничивать влияние среды на людей.
Факторы наследственности
Существует ряд условий, которые могут наследоваться через гены, они различаются по степени подверженности влиянию среды. Например, синдром Дауна — это врожденное условие, которое всегда приводит к умственной отсталости. Другими словами, никакие внешние интервенции не могут избавить от этого состояния; никакое обучение, никакие лекарства, никакая терапия не устранит интеллектуальных недостатков, присущих человеку с синдромом Дауна.
С другой стороны, врожденная глухота может привести, а может и не привести к умственной отсталости, все зависит от того, какие разновидности возможностей среды сделаны доступными. Анастази замечает: «Можно сказать, что... степень интеллектуальной отсталости глухого человека связана с состоянием развития специальных способностей к обучению. По мере улучшения (специальных способностей к обучению) интеллектуальная отсталость, связанная с глухотой, соответственно редуцируется». Конечно же, в наши дни неправомерно описывать глухого человека как человека интеллектуально отсталого, но это стало возможным благодаря тому прогрессу, который мы сделали в плане помощи глухим людям в адаптации к обществу. В прошлые времена глухим людям могли не уделять никакого специального внимания или не предлагать никакого специального обучения, и в результате путь их интеллектуального развития мог отличаться от пути, по которому шли их слышащие сверстники.
Третий пример — это ситуация, когда ребенок наследует восприимчивость к определенным заболеваниям. Это означает, что в действительности он не наследует заболевание, но он наследует вероятность развития заболевания. Заболевание может начать развиваться, а может и не начать, что полностью зависит от условий существования ребенка, его среды. И то, развивается или не развивается заболевание, влияет, в свою очередь, на то, что происходит в дальнейшем. Если ребенок не заболевает, то он может, например, погрузиться в мир спорта и стать известным
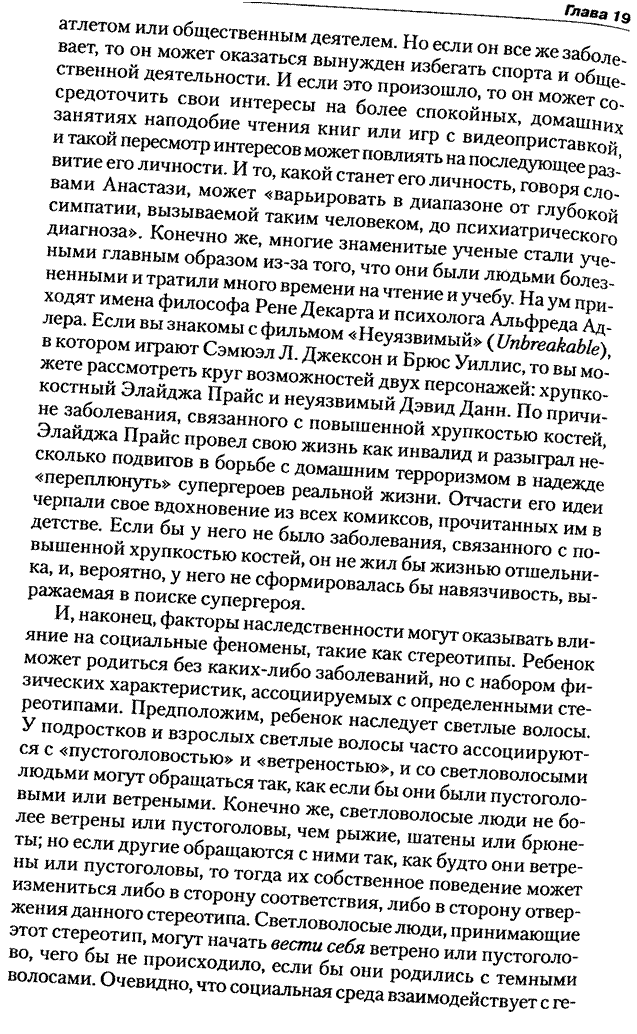
нами, ответственными за цвет волос, результатом чего является ветреное, пустоголовое поведение.
Во всех этих примерах присутствует определенное влияние среды, зависящее от типа генов, которые были унаследованы. Анастази указывает на то, что влияние факторов наследственности во всех этих случаях варьирует в зависимости от степени их косвенности. В случае с синдромом Дауна влияние наследственности на психологическое функционирование имеет весьма прямой характер. Гены напрямую отвечают за болезнь. Но в остальных случаях влияния наследственности носят все более и более косвенный характер. В случае со светлыми волосами, ассоциируемыми с ветреностью, гены не отвечают напрямую за ветреность, но зато они отвечают за наличие светлых волос, а светлые волосы отвечают за запуск социальных стереотипов, которые, в свою очередь, могут актуализировать у человека со светлыми волосами ветреное поведение. В конечном счете, появление ветреного поведения вызывается генами, правда, весьма косвенным образом.
Факторы среды: биологические
Когда речь идет о биологических факторах среды, возможно, это воспринимается как оксюморон, сочетание противоположных по значению слов, но идея здесь такова, что после рождения ребенка его организм может пострадать от ряда средовых воздействий, которые могут оказать влияние на психологическое функционирование, снова средовые воздействия могут влиять на психологический профиль человека в рамках континуума косвенности. Среда оказывает достаточно прямое влияние на психологическое развитие в том случае, если какое-то биологическое повреждение происходит во время родов. Если ребенок рождается, например, с пуповиной, обмотанной вокруг шеи, то пуповина может затянуться и перекрыть доступ крови к мозгу ребенка. Если негативное воздействие достаточно серьезно, то может возникнуть перманентное повреждение мозга, результатом которого будет пожизненная умственная отсталость. Очевидно, что тут имеет место биологическая проблема, но она не была результатом каких-либо унаследованных состояний.
Пример менее прямого влияния биологического фактора среды — это если бы одна из конечностей ребенка была серьезно инфицирована. Допустим, инфекция развилась до такой степени, что привела к печальной необходимости операции по удалению конечности. В данном случае ампутация могла бы привести к тому же самому социальному отчуждению, которое мы опи
сали выше, говоря об унаследованном заболевании. Перенесший ампутацию мог бы все время сидеть, много читать и стать ученым с мировым именем. Или он мог бы все больше и больще замыкаться в себе и развить у себя какое-нибудь личностное нарушение.
Еще менее прямое влияние биологического фактора может быть продемонстрировано, вновь исходя из идеи о связи между цветом волос и социальными стереотипами. Анастази описала это следующим образом: «Предположим, что молодая женщина с волосами мышиного цвета превратилась при помощи внешних техник, доступных в настоящее время в нашей культуре, в ослепительную блондинку. Велика вероятность того, что эта метаморфоза изменит не только реакции коллег на эту даму, но и ее собственную я-концепцию и последующее поведение. При этом диапазон изменений может варьировать от подъема по социальной лестнице до того, чтобы впасть в занудную канцелярскую тщательность!»
Факторы среды: поведенческие
Только что мы видели, как факторы среды могут проявлять себя посредством влияния на биологическую организацию человека. Но факторы среды могут также впрямую влиять на поведение человека. Анастази отмечала, что, по определению, эти типы средовых влияний всегда оказывают прямое воздействие на то, чем человек занимается. Возьмем, к примеру, принадлежность к определенному социальному классу. У человека, принадлежащего к высокому социальному классу, круг возможностей будет гораздо шире, чем у человека, принадлежащего к низкому социальному классу. Человек, имеющий высокий социальный статус, будет иметь доступ к большему числу книг, у него будет больше денег, которые можно потратить на реализацию образовательных возможностей, и у него будет больше денег, которые можно потратить на не связанные с учебой занятия, наподобие верховой езды, биатлона и игры в поло. Анастази описывает социальный класс как нечто, оказывающее очень широкое средо-вое влияние.
Намного более ограниченное влияние среды, описанное Анастази, сводилось к возможности, что некоторые дети могут научиться отвечать на определенные вопросы теста на IQ. В данном случае ребенок мог бы получить высокий балл по IQ-тесту не потому, что у него особенно хороший интеллект, а потому, что кто-то, знакомый с содержанием теста, обеспечил ему подготовку. Или, подобным образом, у детей с определенным культур
ным происхождением может быть больше шансов на успешное решение задач, типично используемых в тесте на IQ. Например, головоломки могут пользоваться большой популярностью среди детей из одной культуры и быть менее популярными среди детей из другой. Поскольку в самых известных тестах на IQ используются головоломки того или иного вида, преимущество будет на стороне детей, в культуре которых принято играть в головоломки. В другом варианте сама процедура проведения теста на IQ может показаться некоторым детям странной. При индивидуальном проведении теста на IQ ребенок сидит за столом напротив экзаменатора, и экзаменатор дает ребенку задачу за задачей и наблюдает, удается ли ребенку успешно справиться с каждой из них. Но если ребенок происходит из культуры, в которой сидение за столом считается непривычным занятием, или в которой взрослые не занимаются с детьми один на один, или в которой не поощряется быстрое выполнение заданий, то такой ребенок при выполнении теста оказывается в крайне невыгодном положении.
Методологические подходы
Указав несколько путей, посредством которых может осуществляться взаимодействие между наследственностью и средой, оказывающее влияние на психологическое развитие, Анастази перешла к внесению ряда предложений относительно того, как планировать исследование, чтобы лучше отвечать на «вопрос "Как?"» Другими словами, она не пронесла ложку с медом мимо рта. Она описала семь методологических инноваций, которые, вероятно, принесут свои плоды в плане решения вопроса «природа — воспитание» в рамках ее революционно нового подхода к пониманию этого вопроса. Ниже я предлагаю описание четырех из них.
Селекция
К числу легких и самых очевидных способов определения того, как происходит взаимодействие между генами и средой, относится селекция. Постойте, я не имею в виду селекцию людей в той ее форме, которую пропагандировал Гитлер. Я имею в виду лишь селекцию маленьких, покрытых мехом грызунов типа мышей и крыс. Когда вы избирательно скрещиваете всех этих маленьких ребят на протяжении нескольких поколений, вы получаете возможность воспроизвести потомство, обладающее особо развитым талантом или способностью.
Например, в одном классическом исследовании способность к научению прохождения лабиринта выводилась на протяжении нескольких поколений. Это работает следующим образом: вы берете для начала большую группу крыс и пропускаете их через лабиринт. Одни крысы проходят лабиринт быстро, в то время как другие проходят его с большей медлительностью. Затем вы берете крыс, самых быстрых проходчиков лабиринта, и скрещиваете их между собой. Затем вы пропускаете потомство через лабиринт точно так же, как вы делали это с их родителями и затем скрещиваете между собой самых быстрых проходчиков лабиринта из второго поколения. Конечно, вы можете продолжать подобное скрещивание до бесконечности, но в конце селективного цикла у вас остается на руках группа ужасно милых крыс, быстро проходящих лабиринт! Давайте назовем их «лабиринтными умницами». Также вы могли бы вывести наимедлен-нейших из медленных крыс посредством селективного скрещивания потомства из нескольких поколений и получить группу крыс — «лабиринтных тупиц». Последним шагом было бы сравнение двух групп крыс — «лабиринтных тупиц» и «лабиринтных умниц», направленное на выявление прочих психологических факторов, сопряженных со способностью к быстрому (или медленному) прохождению лабиринта. Согласно Анастази, «лабиринтные умницы» не только хорошо проходят через лабиринты, но и когда вы сравниваете их с крысами — «лабиринтными тупицами», то выясняется, что «лабиринтные умницы» отличаются от «лабиринтных тупиц» по ряду других эмоциональных и мотивационных факторов, помимо прохождения лабиринтов. Другими словами, «лабиринтные умницы» — это не просто крысы, умеющие лишь быстро проходить через лабиринты.
Пренатальные факторы среды
Второй методологический подход к изучению взаимодействий между генами и средой заключается в исследовании взаимоотношений между различными пренатальными средами и последующим развитием. Мы уже говорили о том, что принадлежность с рождения к более высокому социальному классу обеспечивает детей большими возможностями для получения образования, и по причине наличия этих возможностей неудивительно, что дети, принадлежащие к более высоким социальным классам, лучше учатся в школе и набирают более высокие баллы по тестам IQ, чем дети «из низов». Но начинает ли среда, определяемая принадлежностью к высокому социальному классу, влиять лишь после рождения? Вероятно, нет. Будущие матери, занима
ющие более высокое социальное положение, имеют также доступ к более хорошей пище. Сейчас всем известно, что будущим матерям следует употреблять хорошо сбалансированную, богатую питательными веществами пищу; и всем известно, что будущим матерям следует на время беременности увеличивать объем потребляемой пищи. Но порой люди забывают, что пренаталь-ное питание, получаемое плодом, является одним из путей, посредством которых среда взаимодействует с генетически детерминированным развитием. Поэтому если два ребенка, принадлежащие к семьям с высоким социально-экономическим положением, развиваются пренатально, и один из них получает более хорошее питание, чем другой, то лучше питающийся ребенок будет также более хорошо развит физически и психологически.
Аналогично, три беременные матери, принадлежащие к одному и тому же социальному классу, могут различаться тем, каким вредным воздействиям окружающей среды они подвергают своих детей. Например, одна мать может курить во время беременности, другая — выпивать во время беременности, а третья — выбрать на время беременности образ жизни, лишенный вредных воздействий. Вы можете пронаблюдать за этими тремя детьми после рождения и поискать какие-либо кратковременные или долговременные различия. В то время, когда была опубликована статья Анастази, еще не было хорошо известно о том, что происходит с детьми, подверженными подобным вредным прена-тальным воздействиям. Но сейчас нам известно о том, что дети курящих матерей имеют при рождении, как правило, пониженный вес, и, как правило, в позднем детстве у них возникают проблемы с некоторыми школьными дисциплинами, и что дети пьющих матерей рискуют приобрести эмбриональный алкогольный синдром, который, среди прочих симптомов, опосредованно связан с серьезной умственной отсталостью.
Сравнение практик воспитания детей
В качестве третьего способа изучений взаимодействий «природа — среда» Анастази предложила рассмотрение способов, при помощи которых люди из различных культур или субкультур воспитывают своих детей. Конечно, данный подход касается скорее средового аспекта, но все же полезно знать круг возможных результатов, который может возникнуть как следствие круга возможных родительских воздействий. Анастази описала несколько таких исследований, которые были уже доступны в то время. Например, в ходе одного исследования оценивалось уме
ние читать при поступлении в первый класс у детей из среды более высокого социального класса и у детей из среды более низкого социального класса. При этом было обнаружено, что родители, принадлежавшие к более высокому классу, более эмоционально теплы и более позитивно настроены по отношению к своим детям, чем родители, у которых социальный статус ниже. Результат заключался в том, что дети из семей с более низким социально-экономическим положением были склонны приписывать взрослым людям, в общем, и учителям, в частности, некоторую враждебность. Нет сомнений в том, что такие дети, вследствие своих разобщенных отношений с родителями, окажутся в школе в невыгодном положении, учитывая то, что они не доверяют взрослым. Призыв Анастази к сравнению практик воспитания детей предвосхитил революционное исследование Дайаны Бомринд, посвященное стилям воспитания, которое мы подробно разбирали в главе 13.
Исследования близнецов
Один из способов по-настоящему подойти к сути вопроса о взаимодействии между природой и воспитанием мог бы заключаться в том, чтобы сохранять среду абсолютно постоянной и отслеживать различия, возникающие между детьми, воспитываемыми в этой среде. Если вы это сделали, то тогда любые различия, наблюдаемые между детьми, проистекали бы из различий в их генетической организации. Другой способ подойти к сути вопроса мог бы заключаться в том, чтобы взять нескольких детей, снабдить их одинаковыми генами и воспитывать в разных средах. В данном случае любые различия между детьми проистекали бы из различий в их внешнем опыте. Проблема состоит, конечно же, в том, что на самом деле вы не можете использовать ни одну из этих исследовательских тактик. Было бы технически невозможно содержать разных детей в точности в одной и той же среде. И было бы неэтично и, вероятно, даже незаконно обеспечить двух детей идентичными наборами генов. Клонирование было бы единственным способом, при помощи которого это можно было бы сделать.
К счастью для нас, ученых, природа предложила нам механизм, достаточно точно соответствующий этой исследовательской задумке. Речь идет о близнецах. Близнецы чем-то напоминают собственную попытку Матери Природы провести эксперимент, чтобы ответить на вопрос о «природе — воспитании».
Идентичные близнецы возникают при расщеплении единственной яйцеклетки, оплодотворенной одним сперматозоидом.
Если оба близнеца появляются из одной оплодотворенной яйцеклетки, то таких идентичных близнецов называют монозиготными (что означает «из одной оплодотворенной яйцеклетки»). Но самое важное здесь то, что поскольку оба близнеца происходят из одной оплодотворенной яйцеклетки, то они генетически идентичны. Братские близнецы происходят из двух яйцеклеток, оплодотворенных двумя разными сперматозоидами, поэтому их называют дизиготными (что означает «из двух оплодотворенных яйцеклеток»). Дизиготные близнецы генетически схожи друг с другом не больше, чем любая другая пара сиблингов (детей от одних родителей), которые, в среднем, имеют лишь 50% общих генов.
Вся научная прелесть близнецов заключается в том, что оба члена близнецовой пары находятся в среде, одинаковой настолько, насколько это только возможно. С точки зрения всех практических целей получается, что монозиготные близнецы, воспитанные в одной семье, имеют одинаковую генетическую организацию и находятся практически в одинаковой среде. Дизиготные близнецы, напротив же, генетически схожи лишь на 50% (в среднем), но также находятся практически в одинаковой среде. Все что требуется для того, чтобы осмыслить роль генетики, — это сравнить, насколько монозиготные близнецы схожи между собой с точки зрения определенной психологической особенности, например, IQ, по отношению к тому, насколько схожи между собой дизиготные близнецы с точки зрения той же особенности. Если степень сходства между монозиготными близнецами выше, чем между дизиготными, то это значит, что в основе изучаемой особенности должен лежать генетический компонент. Конечно же, Анастази этого не было достаточно, поскольку, как мы уже видели, все согласны с тем, что все психологические особенности содержат определенный генетический компонент. Для Анастази более интересным было бы сравнение поведенческого сходства дизиготных близнецов с поведенческим сходством обычных биологических братьев и сестер (сиблингов). Поскольку в случае дизиготных близнецов, как и в случае обычных сиблингов, известно генетическое соотношение (50% сходства), соответственно, различия в степени сходства должны быть следствием различий в среде. Следующим шагом могло бы стать определение и документальное подтверждение того, какие различия в среде коррелируют с различиями между дизиготными близнецами, в сравнении с различиями между прочими биологическими сиблингами.
Выводы
Опубликованная в 1958 году статья Анастази была революционной, потому что она потребовала, чтобы ученые занялись поиском возможных путей к ответу на вопрос как, касающемуся взаимодействия между природой и воспитанием; взаимодействия, которое приводит к появлению невероятного разнообразия психологического потенциала человека. Анастази высказала мнение о том, что недостаточно просто утверждать: природа и воспитание, генетика и среда, наследственность и опыт производят совместную работу. Всем это и так уже известно. Да уж! А необходимым было понимание того, как они производят совместную работу.
Очевидно, что призыв Анастази очень хорошо работал на протяжении нескольких десятилетий, начиная с того момента, как ее статья была опубликована. Но вместе с тем она дала нам понять, что люди не будут больше увеличивать количество исследований по вопросу «природа — воспитание». В 1958 году Анастази написала: «Два или три десятилетия назад так называемый вопрос о среде — наследственности был центром жарких споров. Но, с другой стороны, сегодня для многих психологов данная проблема утратила свой смысл». Однако, начиная с 1958 года, происходило здоровое, но иногда пугающее возрождение интереса к этой теме. Такой интерес был мотивирован, главным образом, заботой о здоровье и поддерживался рядом откровенно радикальных технологических инноваций в биохимии, биотехнологии, хирургии и техниках воссоздания работы мозга. На самом деле современная наука настолько продвинулась в решении вопроса «природа — воспитание», что большинство границ между тем, что такое природа, и тем, что такое воспитание, как кажется, стали размытыми до такой степени, что их практически не видно.
Возьмем, к примеру, терапию, связанную с пересадкой генов. Технологии стали столь совершенными, что позволяют ученым в настоящее время удалить или исправить у отдельно взятого человека гены, обусловливающие наличие заболевания, оставив на их месте здоровые версии тех же самых генов. Например, ученые, работающие в Онкологическом Центре в Техасе (M.D. Anderson Cancer Center in Texas), модифицировали вирус, который, как было известно, вызывает обычную простуду. Модифицированный вирус был введен в кровь пациентов, больных определенной формой рака легких. Но вместо того чтобы инфицировать здоровые ткани организма, вирус начал инфицировать ра
ковые клетки и исправлять ген, отвечающий за образование рака легких! Здесь речь идет о случае, когда различие между природой и воспитанием весьма размыто. Если «исправленная» генетическая организация ракового больного позволяет ему вернуться к нормальной жизни и освободиться от болезни, то вы бы стали рассматривать это как результат влияния генетики или среды? Аргументы можно привести в защиту обеих позиций. С одной стороны, вы могли бы сказать, что избавление от болезни имеет генетическую основу, поскольку у человека был ген, избавляющий от болезни. Но с другой стороны, вы могли бы сказать, что избавление от болезни имеет средовую основу, поскольку ген, избавляющий от болезни, появился на свет благодаря ученому и его одомашненному вирусу.
Кроме того, существует целая проблема пластичности в развитии головного мозга. Большинство людей, вероятно, даже не представляют себе, насколько сложно протекает здоровое развитие мозга. Я могу предположить наличие у среднестатистического человека мнения, что наши гены просто «говорят» клеткам нашего мозга (называемым нейронами), куда им «идти» и что делать. Но при наличии свыше 100 биллионов нейронов, каждый из которых соединяется с сотнями или тысячами других нейронов, нашим генам понадобилось бы отправить несколько триллионов команд, чтобы быть уверенными в том, что наш мозг развивается правильно! Но как оказывается, наш мозг развивается вовсе не так. Вместо этого нейроны в нашем мозге узнают о том, куда им идти, и с какими другими нейронами им соединяться, из общения с другими близлежащими нейронами. Конечно же, в движение все приводится генами, но итоговая структурная архитектура мозга определяется, в конечном счете, сотнями триллионов непродолжительных разговоров, имеющих место между всеми этими маленькими нейронами.
Как это делается? При помощи чудесной особенности мозга, названной пластичностью. Понятие пластичности связано с идеей, что отдельные части мозга могут быть крайне гибкими, когда они прекращают выполнение своей работы. Данные множества исследований, проведенных на животных, свидетельствуют о том, что если вы возьмете нейроны из одной части коры, скажем, из зрительной коры (которая отвечает за обработку зрительной информации) и трансплантируете их в другую часть мозга, скажем, в соматосенсорную кору (которая отвечает, среди прочего, за обработку информации о прикосновениях), то обнаружите, что перемещенные из зрительной коры клетки не пытаются восстанавливать связи со старыми нейронными окон
чаниями, а, кроме того, вовсе и не прекращают работать. Клетки из зрительной коры начинают вести себя подобно соматосенсор-ным нейронам. Они придерживаются философии «Если ты находишься в Риме, то веди себя так, как ведут себя римляне». Ключевой момент состоит здесь в том, что нейроны мозга получают команды от близлежащих клеток, а не от генов. И снова возникает вопрос: согласились ли бы вы с тем, что работа трансплантированных зрительных нейронов задается генами, поскольку именно гены были ответственны за их превращение в нейроны? Или это результат влияния среды, поскольку именно близлежащие нейроны заставили трансплантированные нейроны работать на достижение цели, отличной от той, ради которой последние создавались?
В наши дни крайне горячей темой является тема использования «стволовых клеток» (stem cells). Стволовыми клетками называют разновидность клеток, обычно экстрагируемых из выкидышей или отторгаемых пуповин. Эти клетки обладают потенциалом к превращению в любую другую клетку организма. Стволовая клетка может стать кровяной клеткой, может стать нейроном, или она может стать костной клеткой. Все зависит от того, куда ее помещают. Если ее поместить среди прочих кровяных клеток, она превратится в кровяную клетку. Если ее поместить в мозг, она станет нейроном. Стволовые клетки столь важны, потому что их можно использовать для лечения множества болезней. Стволовые клетки могли бы превратиться, например, в инсулин-вырабатывающие клетки, используемые для лечения пациентов, больных диабетом, или из них можно было бы сделать дофамин-вырабатывающие нейроны, используемые для лечения пациентов с болезнью Паркинсона. Но если стволовую клетку трансплантируют в мозг для лечения болезни Паркинсона, и она превращается в дофамин-вырабатывающий нейрон, то является ли это результатом влияния природы, поскольку ведь именно гены обеспечивают стволовые клетки способностью превращаться в любые другие клетки? Или это результат приобретения, поскольку именно близлежащие нейроны вступали в коммуникацию со стволовой клеткой, говоря ей, чтобы она стала нейроном?
Анастази считают первым психологом, заметившим, что старые пути ответа на вопрос о «природе — воспитании», никуда не ведут. Но если быть честным, то следует сказать, что ее призыв к поиску новых подходов так и остался неуслышанным. Даже сегодня легко найти исследование, цель которого состоит в определении того, сколько в какой-то психологической способности
врожденного, а сколько приобретенного. Очевидно, что данный тип исследований игнорирует вопрос как. Но с другой стороны, исследователи, услышавшие призыв Анастази, и уже знающие, как, ставят перед нами провокационные этические вопросы. Например, если нам известно, как изменить генетическую организацию наших детей, чтобы избавить их от болезней, следует ли нам идти вперед и менять их гены? Возможно. А что тогда насчет знания о том, как менять генетическую организацию наших детей, чтобы делать их более привлекательными или более умными? Следует ли нам это делать? Вполне может быть, что по мере движения в XXI век нас станет меньше интересовать поиск ответа на вопрос как, но станет больше занимать поиск ответа на вопрос когда.
Библиография
Elmes J. L.t Bates, E. A., Johnson, M. H., Karmiloff-Smith, A., Parisi, D., &
Plunkett, K. (1996). Rethinking innateness: A connectionist perspective on
development. Cambridge, MA: MIT Press. Jackson, N. W. (1992). Anne Anastasi and the heredity vs. environment problem:
A history in psychology. Unpublished doctoral dissertation. University of
Rhode Island.
Вопросы для обсуждения
1. Хотелось ли вам когда-нибудь выглядеть по-другому или иметь таланты и навыки, отличные от тех, которыми вы в настоящее время располагаете? Если допустить, что вы можете изменить свой внешний вид, таланты и навыки, как, по вашему мнению, люди из вашего окружения стали бы реагировать на эти перемены? Хотели ли бы вы, чтобы они обращались с вами по-другому? Стали ли бы вы также обращаться с ними по-другому?
2. Если бы в период, когда вы были ребенком, ваши родители получили наследство размером, скажем, в пару миллионов долларов, то как бы ваша личность отличалась от той, что есть сейчас? Согласились ли бы вы обменять личность, которая у вас есть сейчас, на ту, другую?
3. Если бы вам представился шанс выбирать, какие ваши гены и гены вашего партнера будут переданы потомству, воспользовались ли бы вы этим шансом? Сделали ли бы вы это ради того, чтобы усилить красоту своего ребенка? Усилить его талант? Снизить его предрасположенность к болезням?
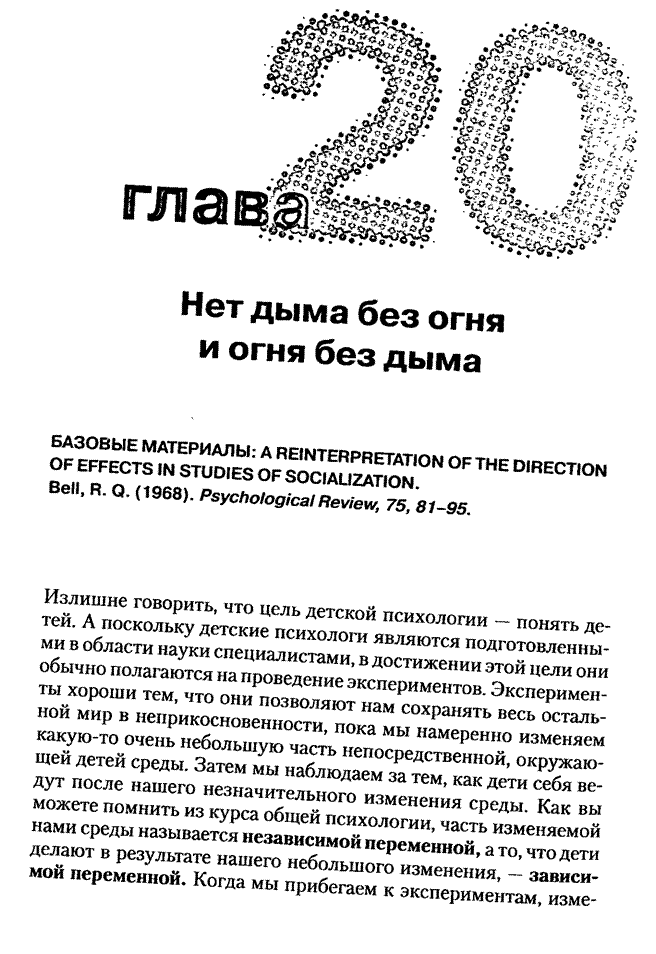
нения в детском поведении в ответ на наше преобразование среды позволяют нам заключить, что изменения произошли вследствие нашего преобразования. Эксперимент — это оптимальное, наиболее прямое средство понимания того, что движет детьми.
К сожалению, мы не можем экспериментировать с некоторыми из наиболее интересных и важных особенностей жизни детей. Например, как бы мы ни были заинтересованы в том, чтобы узнать о влиянии развода родителей на развитие детей, мы в действительности не можем просто взять и провести эксперименты с разводом. В подобном эксперименте нам бы пришлось определить случайным образом 50 детей в группу с разводом и 50 детей — в группу без развода. Затем нам бы пришлось устроить так, чтобы родители детей в первой группе развелись, а во второй — не развелись. Далее нам бы осталось только наблюдать за развитием этих детей. Любые различия, которые мы бы обнаружили между двумя группами детей, являлись бы следствием их жизни в условиях развода или совместной жизни родителей. Но даже если бы мы смогли осуществить подобный дьявольский эксперимент, вы, без сомнения, согласитесь, что это была бы очень плохая идея.
Когда нет возможности проводить эксперименты, вторым по значимости средством детского психолога является то, что называют корреляционным исследованием. Детские психологи, которые используют корреляционный подход, пытаются определить паттерны связей между двумя переменными. Часто предполагается, что одна из этих переменных вызывает изменения в другой переменной, но мы не можем быть уверены в этом без помощи истинного эксперимента. Мы легко можем приложить корреляционный подход к изучению развода, сравнив поведение детей в разведенных семьях с поведением детей из полных семей. Любые показатели, по которым мы обнаружили бы различия между двумя группами детей, должны были бы быть про-коррелированы со статусом детей — в разводе их родители или нет. Так, корреляционные исследования развода обычно выявляют, что в сравнении с детьми из полных семей, дети в разведенных семьях в течение определенного времени имеют больше поведенческих проблем в школе и страдают от более низкой самооценки. Можем ли мы заключить, что развод явился причиной поведенческих проблем и низкой самооценки? К сожалению, нет. При корреляционном подходе максимум, что мы можем сказать, — это то, что развод и поведенческие проблемы связаны друг с другом. При корреляционном подходе равновероятно, что поведенческие проблемы детей могли стать причиной развода
их родителей. Невозможно определить, какое направление влияния является истинным. В целом, мы называем это проблемой направления воздействия, и она возникает во всех корреляционных исследованиях.
Пристальное внимание исследователей детского развития к проблеме направления воздействий привлекла статья, написанная в 1968 году Ричардом К. Белл ом (Richard Q. Bell), которая заняла 11-е место среди наших наиболее революционных исследований. Белл показал, что хотя большинство исследователей детской психологии на словах признавали проблему направления воздействий, они, тем не менее, исходили в своей работе из допущения, что влияния всегда направлены от родителя к ребенку. Эти исследователи редко признавали возможность того, что дети могут оказывать на своих родителей столь же сильное влияние.
В своей статье Белл сфокусировал обсуждение на исследованиях социализации детей. Литературу по детскому развитию отличало общее допущение, что родители играют ведущую роль в социализации своих детей. Родители учат своих детей хорошим манерам и правилам поведения и объясняют им, чего от них ждет общество. Вы не должны причинять вред другим людям, вы не должны брать чужие вещи и вы должны при первой возможности протягивать руку помощи. Это лишь немногие из ожиданий общества в отношении социализации детей. Но Белл указал, что дети могут оказывать столь же сильное влияние на подход родителей к задаче социализации. Так, в своей классической статье Белл обратился к нескольким наиболее популярным научным результатам того времени, большинство из которых были корреляционными и допускали направление социализации от родителя к ребенку, и по-новому проинтерпретировал их, показав, что могли иметь место также направления влияния от ребенка к родителю.
Введение
Белл начал свою, имевшую поворотное значение, статью с прояснения того, почему для исследователей детской психологии исторически было столь заманчиво допускать в социализации детей направление воздействий от родителя к ребенку. Если проводить сравнение с другими животными, человеческие дети оказываются одними из самых беспомощных при рождении, и требуется продолжительное время, прежде чем они овладеют хотя
бы самыми элементарными навыками выживания. Обычно необходимы целых 7 месяцев, прежде чем они смогут хотя бы самостоятельно передвигаться! Детеныши многих других млекопитающих могут ходить сразу после рождения. Человеческие дети зависят целиком от доброй воли своих родителей, которые обязаны о них заботиться. Исходя из этого практического наблюдения, Белл пишет: «Кажется совершенно логичным представить человеческого родителя как передатчика культуры, а младенца — просто как объект процесса культурного развития. Родитель является первичным агентом культуры, а ребенок — объектом». Но этот подход полностью игнорировал генетические факторы, которые младенцы приносят вместе с собой в мир. Некоторые малыши плачут чаще, чем другие, некоторые крайне активны; младенцы также заметно различаются по своим режимам сна и естественных отправлений организма. Малыши уникальны от рождения, и было бы глупо полагать, что родители не будут реагировать уникальным образом на особые характеристики своих детей. Эти факты должны напомнить вам об исследовании характерных черт, которое провели Томас, Чесе и Берч (см. главу 16).
Новые данные, противоречащие модели направления воздействий «от родителей»
В первом подразделе своей статьи Белл привлекает внимание читателя к некоторым популярным исследованиям своего времени, которые поставили под сомнение предполагаемое направление социализации от родителя к ребенку. Он назвал эти исследования «противоречащими модели родительского эффекта», поскольку они не только показывали, что родители влияют на детей, но оставляли возможность влияния детей на то, как родители влияют на них (вы поняли мысль?). Другими словами, он утверждал, что имеет место направление влияния от ребенка к родителю. Или, если пользоваться иной терминологией, мы назвали бы это двунаправленностью влияния. Белл начал с иллюстрации некоторых двунаправленных влияний, часто обнаруживаемых в человеческих семьях, а затем перешел к более убедительным примерам, заимствованным из экспериментов, проясняющих двунаправленность влияний в семьях животных.
Белл показал, что благодаря самому своему внешнему виду, новорожденные дети привлекают к себе исключительное внимание, начиная с момента своего рождения. Уверен, что вы можете подтвердить мои слова. Разве можно не задержать взгляд на малыше, недавно появившемся на свет? Способен ли кто-
11 П»-»»..'.-™ — ---------- —-**- "
нибудь из нас удержаться от того, чтобы не проворковать какие-то нелепые детские слова этим милым маленьким источникам радости? А когда малышам бывает плохо, они вызывают взволнованную реакцию со стороны окружающих, направленную на уменьшение их страданий. Белл цитирует Харриет Рейнголд (Rheingold), подчеркивая эту мысль: «Плач младенца настолько тягостен, особенно для людей, что нет таких усилий, которые мы бы не приложили, нет такого средства, к которому мы бы не прибегли, с тем чтобы малыш перестал плакать и улыбнулся, или хотя бы успокоился». На основании одного этого факта понятно, что начиная с самых ранних моментов жизни, дети оказывают огромное воздействие на своих родителей — задолго до того, как родители начинают процесс социализации своих детей. (Эти слова могут напомнить вам о вызывающих отклик сигналах, о которых говорил Джон Боулби, — см. главу 11.)
Как еще об одном типе несогласующихся данных, Белл упомянул об исследовании случая приемной матери, которой поручили заботиться о четырех монозиготных девочках-близнецах, каждая из которых страдала шизофренией. Приемная мать была крайне строга со всеми четырьмя девочками. Но степень ее привязанности к ребенку была иной в каждом случае. Тот факт, что ее расположение варьировало, показывает, что она реагировала на различия между четырьмя детьми. Другими словами, дети влияли на то, как она проявляла свое расположение. На основании чего она могла проводить грани между детьми, как не исходя из их различий? Это то, что мы могли бы назвать «эффектом ребенка», поскольку тип проводимой социализации зависел от ребенка. И, разумеется, степень любви и доброты, проявленная приемной матерью, будет важным элементом, на который дети станут обращать внимание во время своей социализации. Было также подмечено, что та же приемная мать демонстрировала совершенно иные паттерны реакций на других детей, уход за которыми ей позже поручили (на этот раз дети находились в младенческом возрасте). Если бы социализация следовала только по маршруту от родителя к ребенку, тогда поведение этой приемной матери было бы идентичным в случае каждого ребенка, о котором она заботилась. Но имело место нечто совершенно иное. Привязанность к ребенку со стороны приемной матери обусловливалась характеристиками детей, находившихся под ее опекой.
В другом описанном Беллом исследовании, которое включало большую группу биологических матерей, а не единственную приемную мать, за матерями наблюдали с целью определения того, как они реагируют на своих новорожденных в периоды кор
мления. Как и ожидалось, матери реагировали более позитивно, когда малыши бодрствовали, чем когда они спали. Опять же, состояние активности малышей влияло на материнское поведение в большей степени, чем последнее влияло на активность малышей. В родственном исследовании наилучшим предвестником того, сколько времени после рождения малышей матери кормили их грудью, было количество молока, которое малыши поглощали при каждом кормлении. Матери малышей, которые выпивали много молока при каждом кормлении, кормили их в течение более длительного периода времени. В этом случае собственное поведение малышей при кормлении было более надежным предвестником продолжительности кормления, чем планы матери в отношении кормления.
В исследованиях животных Белл указал на ряд очень убедительных результатов, касающихся направлений влияния от детеныша к матери у макак-резус (этот же вид изучала чета Харлоу — см. главу 10). Например, в одном исследовании самки макак-резус, выполнявшие роль приемных матерей для маленьких обезьянок, начали даже выделять молоко, реагируя таким образом на льнувших к ним малышей! А самки оленьих мышей, которым просто подбросили помет однодневных мышат, начали облизывать их и строить гнезда — типичное материнское поведение. На мой взгляд, имеются все основания для допущения, что ни самки макак-резус, ни самки оленьих мышей не начали бы проявлять материнское поведение, если бы не присутствие приемных детенышей. Очевидно, как предположил Белл, исследователи животных ушли далеко вперед в понимании значимости двунаправленных влияний между родителями и их потомством. Если животные с их паттернами поведения, в значительной мере обусловленными инстинктами, способны продемонстрировать столь явные эффекты двунаправленности, вероятно, у людей отношения мать — ребенок восприимчивы к двунаправленности в еще большей степени.
Модификаторы родительской реакции
Белл показал, что в действительности не так уж трудно принять идею, что младенцы и более старшие дети могут оказывать значимое влияние на родительское поведение. В конце концов, с точки зрения родителей, малыши являются, в сущности, всего лишь еще одним источником внешней стимуляции. Подобно тому как родители чихают, когда нюхают перец, и пронзительно кричат, когда садятся на гвоздь, они также реагируют на стимуляцию со стороны своих детей. Белл предположил, что первым
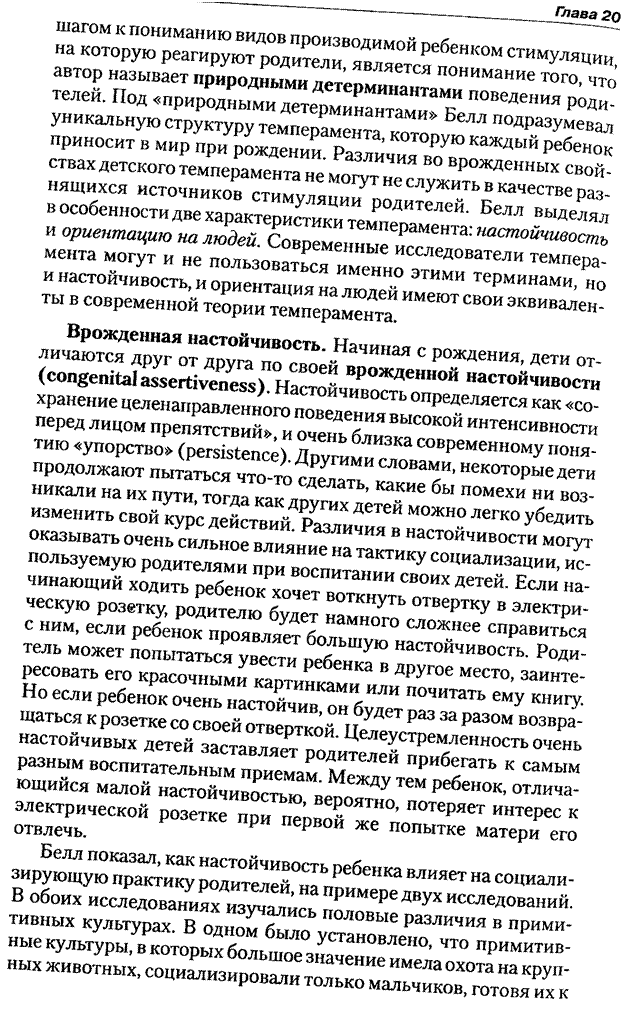
роли охотников. В другом исследовании было установлено, что в 224 примитивных культурах социализировались только мальчики, с тем чтобы стать воинами. Белл полагал, что весь этот акцент на подготовку мальчиков к роли охотников и воинов должен быть обусловлен более выраженным развитием скелетных мышц, обнаруживаемым у мальчиков, которое, как он также считал, должно сопровождаться более высокими уровнями настойчивости. Автор пишет: «Представляется обоснованным допущение определенного потенциала к использованию мышц при физически настойчивом поведении. Роль воина не отводилась бы исключительно мужчинам, если бы они обладали только большей массой скелетных мышц без сопутствующего потенциала к использованию, или если бы этот потенциал был равномерно распределен между полами».
Врожденная ориентация на людей. Другой характеристикой детей, которая способна повлиять на социализирующую практику родителей, является то, что Белл назвал врожденной ориентацией на людей. Под ориентацией на людей понимается интерес детей к другим людям. Дети с сильной ориентацией на людей обращают большое внимание на то, что делают другие люди, в особенности их родители, и чутко реагируют на попытки родителей инициировать социальную интеракцию. Дети со слабой ориентацией на людей, как правило, отличаются несколько большей отчужденностью. Им интереснее бегать и прыгать или возиться с игрушками, и они обычно проявляют намного меньший интерес к социальной интеракции с родителями. Ориентация на людей также имеет свой эквивалент у современных исследователей темперамента, соотносясь с таким термином, как «общительность» (sociability). В любом случае легко понять, что родители будут по-разному реагировать на детей, которых характеризует социальная теплота и восприимчивость либо социальная отдаленность и изолированность. Для подтверждения этой точки зрения Белл воспользовался еще двумя исследованиями.
В одном исследовании было установлено, что малыши со слабой ориентацией на людей, которых охарактеризовали как уклоняющихся от прикосновений, чаще противились тому, чтобы их носили на руках, гладили или целовали. Белл соотнес этот вид социальной изоляции, прежде всего, с неприятием социального контакта самим ребенком, а не с какой-либо социальной неопытностью со стороны матери. В другом исследовании, изучавшем половые различия, было установлено, что мальчики в возрасте
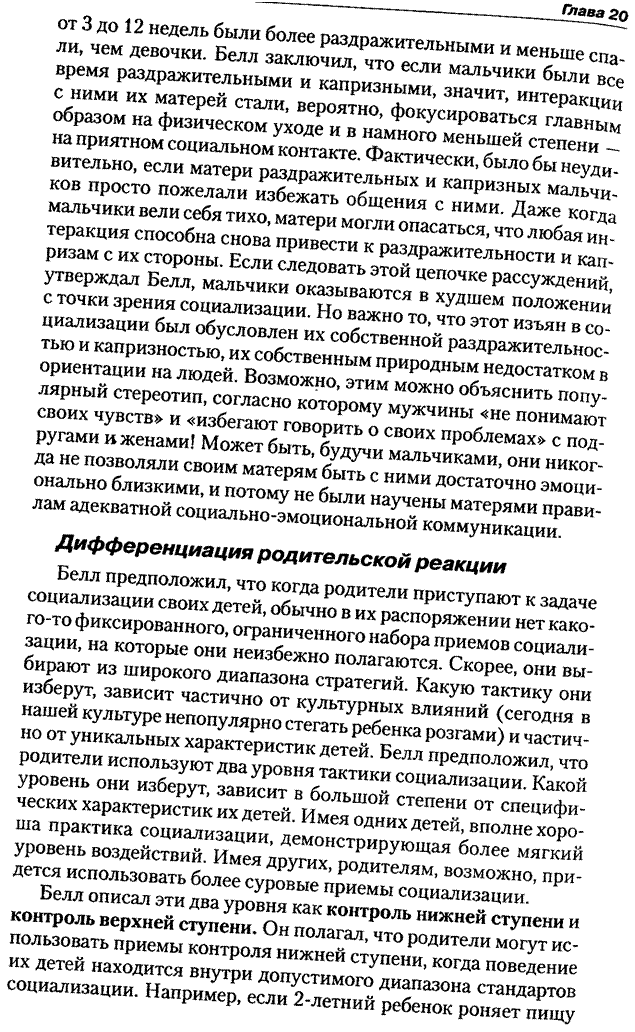
на пол, когда учится самостоятельно есть, то его мама может просто сказать: «Ай-ай-ай, постарайся в следующий раз быть более аккуратным». В этом случае мама может посчитать, что для 2-летних детей вполне нормально ронять пищу, и поэтому ей будет достаточно прибегнуть к одному из вариантов контроля нижней ступени, с тем чтобы справиться с проблемой. С другой стороны, если тот же ребенок решит швырнуть на пол полную тарелку каши, этот поступок может превысить границы терпения матери. В данном случае мать может использовать один из приемов контроля верхней ступени и ответить более строгой реакцией социализации, например, выгнав ребенка из-за стола. Но отметьте, что в каждом случае приемы социализации, использованные матерью, зависели от поведения ребенка.
В целом то, к какому уровню практики социализации прибегнет мать в конкретной ситуации, зависит от трех факторов: (1) культурных ожиданий в отношении того, как ребенок должен себя вести и как должна^ реагировать мать; (2) уникальных ожиданий матери в отношении ее ребенка; (3) уникальных характеристик ребенка. Несмотря на тот факт, что социализация явным образом зависит от каждого из этих трех факторов, заметил Белл, литература по детской психологии придает слишком большое значение роли ожиданий родителя и преуменьшает собственное влияние ребенка на использование определенной практики социализации. Белл заметил, что когда увеличительное стекло исследователя направлено исключительно на родителя, то «родителя, часто демонстрирующего крайнее поведение верхней ступени, вероятно, опишут как репрессивного или сурового, [тогда как родителя], демонстрирующего поведение по верхней границе нижней ступени [опишут] как добивающегося своего или требовательного». И в том и в другом случае игнорируется роль ребенка в материнской тактике социализации. Когда исследователи уделяют исключительное внимание роли родителя, одновременно пренебрегая ролью ребенка, это может вести только к неправильному пониманию истинного характера социализации.
Новая интерпретация современных данных из литературы
В следующей части своей статьи Белл по-новому проинтерпретировал несколько популярных проблем родительского воздействия, представленных в научной литературе того времени, в свете идеи двунаправленное™, которую он отстаивал. Одна из
популярных тем, которую муссировали в научных кругах, сводилась к тому, что применение родителями чрезмерных наказаний вызывает у детей избыточную агрессивность. Белл процитировал два исследования, которые пришли к подобным выводам. Одно обнаружило, что 8-летние дети, которых пороли родители, оценивались друзьями как более агрессивные, сравнительно с 8-летними детьми, которых не пороли. Другое исследование установило, что 15-16-летние подростки, которых пороли, чаще испытывали неприятности с законом, чем подростки, которых не пороли. Результаты обоих исследований подтверждают теорию, что когда родители прибегают к порке при социализации своих детей, они фактически учат своих детей использовать агрессию для преодоления фрустрации. Очевидно, что авторы этих исследований исходили из направления влияния от родителя к ребенку. Но трактовка Беллом этих результатов была следующей: родители могли использовать порку как средство, позволяющее справиться с детьми, которых уже отличает большая настойчивость. Порка могла быть стратегией контроля верхнего уровня, непосредственной причиной которой было поведение, вышедшее за допустимые рамки.
В одном исследовании нравственного развития было установлено, что у детей, чьи родители социализировали их с помощью разговоров о добре и зле, формировалось более высокое нравственное сознание, чем у детей родителей, которые применяли порку в качестве наказания за плохое поведение. Опять же, это исследование исходило из того, что именно стратегия социализации, использовавшаяся родителями, явилась причиной более высокого нравственного сознания детей. Но Белл указал, что эти результаты можно столь же обоснованно проинтерпретировать противоположным образом. Возможно, дети, которые с самого начала отличались сильной ориентацией на людей и, следовательно, более высоким нравственным сознанием, создали такую атмосферу, которая позволила родителям применить стратегию устных бесед.
В одном исследовании формирования половых ролей было установлено, что 5-6-летние мальчики, у которых проявлялись ярко выраженные мужские качества, имели отцов, которые не скупились и на вознаграждения, и на наказания. То есть когда отцы вознаграждали своих мальчиков за какой-то хороший поступок, они использовали очень щедрые вознаграждения, а когда наказывали их за плохой поступок, то прибегали к очень строгим наказаниям. Авторы этого исследования заключили, что мальчики приобрели ярко выраженную маскулинность вслед
cmeue крайних паттернов вознаграждения и наказания, практиковавшихся их отцами. Аналогичным образом, они заключили, что отцы, которые прибегали к не столь крайним вознаграждениям и наказаниям, способствовали развитию мальчиков с более низкими уровнями маскулинности. Но, с точки зрения Белла, равновероятным заключением может быть следующее: отцы просто реагировали с самого начала на гендерно-адекватное поведение их мальчиков. Одним из проявлений маскулинности является настойчивость. Мальчики, отличающиеся от природы большой настойчивостью, уже обладают множеством особенностей, описываемых большинством людей как «маскулинные». Следовательно, когда очень настойчивые мальчики проявляли это свое качество, их отцы могли испытывать удовлетворение и вознаграждать их соответствующим образом. С другой стороны, когда мальчики вели себя слишком настойчиво, это могло переполнить чашу терпения даже их отцов, и те могли прибегнуть к стратегии контроля верхней ступени, такой как наказание. С этой точки зрения социализирующая практика отцов не должна обязательно рассматриваться как порождающая маскулинность у их сыновей; можно с той же вероятностью считать, что маскулинность у мальчиков влияет на социализирующую практику отцов.
На протяжении 1950-60-х годов распространенной темой в исследованиях социально-классовых различий была теория, согласно которой родители из средних классов общества реже используют в отношении своих детей физические наказания и чаще — приемы социализации, ориентированные на любовь, чем родители из низших классов. Также был распространен вывод, что дети из семей, принадлежащих к низшим классам, чаще страдают расстройствами внимания и имеют неприятности в школе. Типовое допущение сводилось к тому, что расстройства внимания у детей и их школьные проблемы вызваны более суровой дисциплиной, применяемой родителями из низших классов. Но у любой медали есть оборотная сторона. У семей из низших классов меньше денег, и им сложнее получить высококачественную медицинскую помощь. В результате в семьях из низших классов чаще бывают осложнения во время беременности и родов, что, вероятно, повышает вероятность расстройств внимания и гиперактивности. Соответственно, более суровая дисциплина, применяемая родителями из низших классов, может быть обусловлена повышенной врожденной гиперактивностью их детей, а не наоборот.
Примеры исследований,
с трудом поддающихся иной интерпретации
Хотя Белл указал на множество научных результатов, которые можно интерпретировать и как демонстрирующие направление влияния от ребенка к родителю, он также идентифицировал несколько исследований, которым не так легко дать иную интерпретацию. Самый яркий пример определенного, безусловного направления эффекта от родителя к ребенку имеет место, когда родители дают своим детям лекарства. Вероятно, вам известно, что дети с ADHD (синдромом дефицита внимания и гиперактивности) хорошо реагируют на различные лекарственные формы, такие как риталин и адцеролл. Но почти нет сомнений в том, что когда родители дают эти лекарства своим детям, они изменяют их поведение непосредственным образом. (Конечно, при этом можно отметить, что родителей заставило обратиться за медицинской помощью, прежде всего, поведение их детей.)
Заключение
Статья Белла от 1968 года была революционной потому, что она заставила исследователей детской психологии сделать два шага назад и переосмыслить связь между социализирующей практикой родителей и поведением детей. Но влияние Белла вышло далеко за рамки специфической области исследований детской социализации. В наши дни детские психологи, изучающие буквально все аспекты отношений родитель — ребенок, принимают к сведению уроки Белла, хорошо понимая, что всякий раз, когда родитель контактирует со своим ребенком, ребенок также контактирует со своим родителем. Вы можете увидеть влияние Белла на революционную работу Самероффа и Чандлера (см. главу 18), когда они говорят о той роли, которую ребенок играет в провоцировании жестокого обращения с ним!
Корреляция не означает причинности
Белл установил золотое правило в отношении того, как следует подходить к корреляционным исследованиям. Как я упоминал в начале главы, часто возникает соблазн сделать определенные выводы в отношении направления воздействия между родителями и детьми даже тогда, когда имеются только корреляционные данные. Более того, во многих случаях кажется, что существует только один возможный способ интерпретации данных. Но хочется еще раз подчеркнуть: корреляционные данные
не содержат никаких доказательств того, что воздействие между родителем и ребенком должно быть направлено непременно в одну или другую сторону. Когда исследователи детской психологии обнаруживают корреляцию между какими-то действиями матери и ребенка, это всего лишь означает, что изменения в материнском поведении и изменения в поведении ребенка сопутствуют друг другу. Это не означает, что изменения в материнском поведении вызвали изменения в поведении ребенка или что изменения в поведении ребенка вызвали изменения в поведении матери. Равновероятна любая интерпретация. (Вот почему преподаватели психологии часто внушают своим студентам мысль: «Корреляция не означает причинности», когда те добираются в своих учебниках до главы, посвященной корреляции.)
Темперамент
Основополагающие идеи Белла также послужили отправной точкой для последующих исследований в области детского темперамента, продолжающихся в течение трех десятилетий. Несмотря на все рассуждения Белла о природных различиях между детьми и о том, как эти природные различия могут влиять на родителей, о характере подобных природных различий было известно очень немного. Из-за недостатка понимания этих врожденных отличий в теории детской психологии образовался большой пробел. К счастью, в том же году, когда Белл обнародовал свои идеи, Томас, Чесе и Берч опубликовали собственную революционную работу о характерных чертах детей (см. главу 16), которая быстро заполнила пробел, идентифицированный Бел-лом. Диапазон в вариации детского темперамента, изученный Томасом, Чесе и Берчем, а также различные типы сочетания характерных черт, идентифицированные ими, дали исследователям детской психологии пищу для размышлений в их попытках понять двунаправленность интеракций родитель — ребенок.
В результате последние три десятилетия стали свидетелями всплеска исследований темперамента, большинство из которых были сфокусированы на том, как темперамент детей может влиять на отношения родитель — ребенок. К сожалению, поскольку темперамент является одной из тех независимых переменных, которыми детские психологи не могут манипулировать, большинство этих исследований также были корреляционными. И по этой причине было невозможно разрешить вопросы, касающиеся направления воздействий. Но, по крайней мере, теперь мы имеем представление о тех многочисленных аспектах, по которым дети могут различаться от природы.
Эксперимент с «малышкой X»
Во многом на основании идей Белла сейчас, более чем когда-либо, признается, что если исследователи детской психологии намерены добиться успеха в изолировании направлений влияния от родителя к ребенку и от ребенка к родителю, им необходимо намного меньше полагаться на корреляционные планы и намного больше — на экспериментальные. Конечно, экспериментальное исследование не всегда возможно, например, при изучении влияния развода на самооценку детей или влияния темперамента на качество отношений родитель — ребенок. Но, тем не менее, мы можем узнать о направлениях влияния очень многое из экспериментов, которые возможны. Мне приходит на память одно небольшое и особенно изящное исследование, которое подтверждает эту точку зрения.
«Исследование с малышкой X (икс)» было продиктовано очень популярным наблюдением в детской психологии, согласно которому родители играют со своими разнополыми детьми по-разному. С мальчиками обычно играют более энергично, тогда как игры с девочками отличаются большей нежностью. Исследователей интересовало игровое поведение родитель — ребенок, поскольку оно может дать нам некоторое представление об источниках гёндерно-ролевых стереотипов, сохраняющихся на протяжении всей жизни. Само собой, вопрос звучит так: почему родители играют с мальчиками и девочками по-разному? Потому что они хотят, чтобы их мальчики стали более сильными, а их девочки — более мягкими? Или, прежде всего, потому, что мальчики от природы более настойчивы, а девочки больше ориентированы на людей, побуждая своих родителей относиться к ним по-разному? Это классическая проблема направления воздействия.
Чтобы ответить на этот вопрос, Кэрол Сиви, Филлис Кац и Сью Зал к (Seavey, Katz & Zalk) провели свой известный эксперимент с малышкой X. Целью их исследования было проверить, будут ли взрослые играть по-разному с конкретным малышом в зависимости от того, мальчик это или девочка. Хотя этот исследовательский вопрос ставился ранее много раз, оригинальность эксперимента с малышкой X заключалась в том, что каждый взрослый в действительности играл с одним и тем же 3-месячным малышом. Некоторым взрослым говорили, что малыш — мальчик, другим — что это девочка, а третьим не давали никакой информации о поле ребенка. В действительности малышка X была девочкой, но все признаки ее истинного пола были
скрыты, так как на девочке был гендерно-нейтральный желтый комбинезон. Кроме того, рядом находились гендерно-типовые и гендерно-нейтральные игрушки. Например, имелся футбольный мяч («мальчишеская» игрушка), тряпичная кукла («девчоночья» игрушка) и пластмассовое кольцо (гендерно-нейтральная игрушка).
Это был своего рода критический эксперимент, поскольку вы могли сделать два противоположных прогноза в зависимости от того, какое направление влияния, на ваш взгляд, является более важным. Если имеет место направление влияния от взрослого к ребенку, тогда любая гендерно-стереотипная игра, демонстрируемая взрослыми, будет обусловлена их собственными гендерно-стереотипными ожиданиями; и принятый пол малыша X окажет сильное влияние на игровое поведение взрослых. Но если имеет место направление влияния от ребенка к взрослому, тогда любая гендерно-типовая игра, демонстрируемая взрослыми, будет вызвана реальным полом ребенка, возможно, какими-то «девчоночьими» манерами, которые проявит малышка; а воспринимаемый со слов другого взрослого пол окажет незначительное влияние на игровое поведение взрослых.
Результаты оказались вполне определенными. Когда взрослые полагали, что малышка X — девочка, то выбирали для игры куклу. Когда они полагали, что малышка X — мальчик, то оставляли в покое куклу (и, как это не удивительно, футбольный мяч) и выбирали пластмассовое кольцо. Когда пол был им неизвестен, взрослые женщины активно участвовали в социальной интеракции, в то время как взрослые мужчины инициировали очень мало социальных интеракций. Возможно, мужчинам было неловко играть с малышом неопределенного пола. Но несмотря на незнание пола малышки, почти все взрослые «решали», что ребенок — либо мальчик, либо девочка, на основании физических характеристик, которые они подмечали. Они называли ее мальчиком, если обращали внимание на ее «сильную хватку» и отсутствие волос, или девочкой, если замечали, что она «нежная и хрупкая». Суть в следующем: на манеру игры взрослых с малышкой X сильно влияло то, какого пола, по их мнению, был ребенок. Очевидно, им были присущи откровенно стереотипные ожидания в отношении того, как следует играть с мальчиками и девочками, и эти ожидания влияли на их игровое поведение. Экспериментальные исследования, подобные этому, имеют большое значение, помогая специалистам по детской психологии понять влияние родительских ожиданий на интеракции родитель — ребенок.
Трудно сказать, уделила бы область детской психологии столь большое внимание проблеме направления воздействий, если бы Белл не опубликовал тогда свою революционную работу. По-видимому, область детской психологии, так или иначе, созрела для нового движения, и Белл смог просто оказаться в нужном месте в нужное время. Другие революционные авторы конца 1960-х годов также пытались понять направления влияний от ребенка к родителю, включая уже упомянутое исследование темперамента и изучение Джоном Боулби (см. главу 11) «эффектов ребенка» в отношениях привязанности. С другой стороны, также возможно, что влияния, оказанные исследованиями темперамента и привязанности, были бы намного менее глубокими, если бы в свое время Белл «не просигнализировал о смене караула». На мой взгляд, можно подвести такой итог: Белл сделал то, что должен был сделать в определенное время, и в процессе этого произвел революционные изменения в детской психологии. Остальное принадлежит истории.
Библиография
Golombok, S., & Fivush, R. (1994). Gender development. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Seavey, C. A., Katz, P. A. & Zalk, S. R. (1975). Baby X: The effects of gender labels on adult responses to infants. Sex Roles, 1,103-109.
Вопросы для обсуждения
1. Кто на кого оказал большее влияние, по вашему мнению: вы на своих родителей или родители на вас?
2. Допустим, у вас есть братья и сестры. Какие различия могли бы быть в методах, которыми родители вас воспитывали, если бы вы родились либо позже, либо раньше? Какое специфическое влияние оказали ваши сиблинги на воспитательную практику ваших родителей?
3. Когда вы встречаете людей в первый раз, относитесь ли вы к ним по-разному в зависимости от того, мужчины это или женщины? Если да, в чем именно выражаются различия в вашем отношении к ним? И почему вы относитесь к ним по-разному?

Мозг котят как подспорье в изучении развития
БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: RECEPTIVE FIELDS OF CELLS IN STRIATE CORTEX OF VERY YOUNG, VISUALLY INEXPERIENCED KITTENS. Hubel, D. H., & Wiesel, T. N. (1963). Journal of Neurophysiology, 26, 994-1002.

Во всех разделах этой книги мы обсуждали одно за другим революционные исследования, которые внесли значимый вклад в наше понимание детской психологии. Мы говорили о когнитивной способности детей, их языке, эмоциях, агрессии, даже об их нравственности. Но вы могли заметить, что в разговоре обо всех этих психологических способностях и возможностях неизменно присутствовала определенная степень абстракции. Фактически, нельзя по-настоящему заниматься психологией, не исполь-
зуя абстрактных психологических понятий. Проблема заключается в том, что невозможно увидеть психологическую способность или возможность; максимум, чего можно добиться, — это сделать о ней некоторые выводы. Например, вам никогда не увидеть мышления ребенка; все, что вы, в сущности, видите — это действия ребенка, на основании которых вы предполагаете, что он мыслит. Вам никогда не увидеть чувства счастья ребенка; все, что вы видите или слышите, — это улыбка на его лице или его смех, и вы заключаете, что он счастлив. Вам никогда не увидеть агрессию ребенка; вы только наблюдаете, как он пинается и кричит, и делаете предположение, что он агрессивен. Вся область психологии переполнена этими видами ненаблюдаемых сущностей, и самое большее, на что может надеяться ученый-психолог, — это изучить поведение, которое, на его взгляд, вызвано этими ненаблюдаемыми характеристиками.
Если и имеется какая-то данность, известная почти каждому психологу, так это то, что источником этих абстрактных психологических способностей и возможностей является, в конечном счете, нервная организация мозга. Мышление детей протекает в их мозге, их эмоции являются следствием работы мозга, а причиной агрессии является то, как мозг интерпретирует социальную информацию. Но если столь значительная часть психологии основывается на активности мозга, почему тогда не все психологи занимаются его изучением? Мне приходит на ум пара ответов. Во-первых, как мне кажется, большинство психологов не удовлетворяются допущением, что вся человеческая психика может быть сведена к паттернам электрической активности в головном мозге, по крайней мере, не при нынешнем состоянии развития техники. Человеческое поведение настолько сложно, настолько непредсказуемо, и нам известно так мало о диапазоне возможных действий людей в каких бы то ни было условиях, что большинство психологов не уверены даже в том, что именно они хотят найти внутри мозга. Можно ли искать неврологическое объяснение какой-то психологической способности, когда вы не понимаете даже саму психологическую способность?
Но, несмотря на это, некоторые психологи все-таки считают себя исследователями мозга. Этим людям иногда присваивают такие ярлыки, как нейропсихолог, биопсихолог, нейрофизиолог или психофармаколог. Фактически, поддержкой исследований, в основе которых лежит изучение мозга, занимаются несколько отделений Американской психологической ассоциации: 6-е отделение, поведенческая неврология и сравнительная психология; 28-е отделение, психофармакология и злоупотребление нарко
тическими веществами; 40-е отделение, клиническая нейропсихология; и, созданное самым последним, 55-е отделение, Американское общество за развитие фармакотерапии. Сегодня психологические исследования на основе изучения мозга популярны как никогда ранее, облегчаемые лавиной технологических новшеств, позволяющих психологам «подсматривать» за функционированием человеческого мозга непосредственно и в интерактивном режиме, а также не требующих, чтобы исследователи получали специальную медицинскую подготовку в области анатомии мозга. Эти новые средства позволяют нам изучать, как мозг реагирует на все виды стимуляции. Например, благодаря позитронно-эмиссионной томографии мы можем сделать трехмерный снимок частей мозга, которые наиболее активны, когда человек спит, читает, разговаривает или решает математические задачи.
Но если какая-то часть мозга начинает «светиться» на экране компьютера, когда человек решает математические задачи, это еще не означает, что именно в этой области хранятся математические правила. Высокая активность отдела мозга может также указывать на то, что человек испытывает немалый стресс, занимаясь математикой. Поэтому даже исследователям мозга приходится делать определенные допущения в отношении связей между психологическими способностями и активностью мозга. С научной точки зрения, интересен вопрос, не легче ли понять происходящее, если произвести с мозгом какую-то манипуляцию. Можно было бы подвергнуть электрической стимуляции один из отделов мозга человека, а затем спросить, какие воспоминания приходят клиенту на ум. Или можно было бы удалить кусочек мозга и посмотреть, какую способность утратит человек. Но по какой-то непонятной причине среди людей очень немногие вызываются участвовать в подобного рода проектах (и даже если они бы все-таки вызвались, появилось бы множество этических и правовых причин, запрещающих вам заниматься удалением частей человеческого мозга).
Это привело к тому, что многие психологи обратились к исследованиям мозга животных. Мозг животных, особенно млекопитающих, очень похож на наш. Если вы имеете дело с мозгом животного, то можете протыкать его, стимулировать, удалять его ткани в соответствии с велением вашего сердца (или совести). Конечно, в Американской психологической ассоциации и многих государственных учреждениях имеются очень строгие правила в отношении того, как следует обращаться с подопытными животными. Вдобавок, мы должны учитывать, что
мозг животных не столь сложен, как человеческий — животные не разговаривают и не рассуждают, и они не решают математические задачи. Но, изучая мозг животного, вы, по крайней мере, можете получить прекрасное представление о том, как устроен любой мозг. Кроме того, люди и другие животные имеют много общих систем мозга. Среди наиболее тщательно изучаемых — зрительная система.
В центре внимания данной главы находится новаторское исследование Дэвида Хьюбела и Торстена Визела, посвященное развитию зрительной системы кошки. Их работа не только была названа сообществом детских психологов 13-й среди наиболее революционных, но также принесла им в 1982 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. Их исследование было революционным благодаря трем важным результатам. Во-первых, авторы установили, что индивидуальные клетки в зрительной коре кошачьего мозга реагируют на специфические паттерны визуальных сигналов. (Корой называют внешнюю поверхность головного мозга. Она состоит из странного на вид, волнистого, сморщенного вещества.) Эти корковые клетки реагировали, главным образом, на простые паттерны, например, на края и линии, расположенные под определенными углами. Но этот результат был, тем не менее, очень важным, поскольку он позволял получить определенное представление о нашей зрительной способности. До этих открытий нам было известно, что палочки и колбочки в глазу реагируют на свет, и что входящая визуальная информация, в конечном счете, направляется к зрительной коре через таламус; но было большой загадкой, как наш мозг собирает всю эту визуальную информацию воедино, создавая четкие, хорошо сформированные картинки всего того, на что мы смотрим.
Представьте себе эту проблему следующим образом. В каждом из наших глаз имеется около 120 млн палочек и около 6 млн колбочек. Поскольку и палочки, и колбочки являются разновидностями нервной клетки, всякий раз, когда палочка или колбочка улавливает свет, попадающий в глаз, она посылает нервный импульс в ту часть мозга, которая отвечает за обработку визуальной информации. Говоря о нервной системе, это означает, что в любой момент времени продуцируется целых 252 миллиона визуальных нервных импульсов. Разумеется, когда вы сидите и читаете эти слова, то не воспринимаете 252 миллиона различных световых точек. Вы воспринимаете четкий, целостный образ. Поэтому задача, которую было необходимо решить, состояла в следующем: каким образом мы начинаем с 252 миллионов
различных нервных импульсов и приходим в итоге к восприятию только одной резко очерченной картинки! Хьюбел и Визел дали такой ответ: корковые клетки нашего мозга получают не единичные сигналы от палочек и колбочек, а реагируют только на паттерны сигналов. Это означает, что где-то в зрительной системе, после того как визуальные импульсы покидают палочки и колбочки, но еще не достигают зрительной коры, они каким-то образом объединяются и суммируются.
Второе открытие, сделанное Хьюбелом и Визелом, заключалось в том, что корковые клетки, которые обрабатывают визуальные импульсы, занимаются импульсами, приходящими от обоих глаз. Другими словами, авторы установили, что корковые клетки являются бинокулярными {bin — «два», ocular— «глаз»). Когда клетка мозга в зрительной коре воспринимает бинокулярные импульсы, это означает, что импульсы от глаза, находящегося на той же стороне тела (называемой ипсилатеральной стороной), объединяются с импульсами от глаза на другой стороне тела (называемой коитралатеральной). Бинокулярные клетки реагируют наиболее интенсивно, когда принимают бинокулярный сигнал. Это означает, что одиночная бинокулярная клетка фактически реагирует на два образа, один из левого глаза и один — из правого. Вы можете подумать, что бинокулярность расточительна по отношению к ценным возможностям нервного контура. В конечном счете, зачем дважды посылать одну и ту же визуальную информацию корковой клетке? Но в действительности бинокулярность очень адаптивна. Прежде всего она наделяет мозг способностью восприятия глубины. Когда мы смотрим на объект, в каждом глазу отображаются несколько иные образы объекта, в зависимости от его расположения в пространстве. Когда корковые клетки в мозге суммируют эту информацию, они получают определенные данные о том, насколько далеко в пространстве находится объект. Помимо того, что бинокулярность играет роль в восприятии глубины, по-видимому, полезно дать корковым клеткам две возможности распознавания объектов мира. Если визуальная информация не замечена одним глазом, велика вероятность, что другой сумеет ее уловить. Хьюбел и Визел также установили, что над бинокулярными корковыми клетками обычно доминирует или один или другой глаз. То есть один глаз обычно вызывает более интенсивную реакцию в корковой клетке, чем другой.
Третье важное открытие, сделанное Хьюбелом и Визелом, состояло в том, что корковые клетки группируются в зрительной коре в виде маленьких колонн. Выражаясь более профессиональ
ным языком, можно сказать, что визуальные корковые клетки живут совместно в колоннообразной микроструктуре. Эти маленькие колонны визуальных корковых клеток расположены перпендикулярно к поверхности мозга. Чтобы понять, что это означает, представьте, что вы втыкаете в яблоко иголку под прямым углом. Часть иглы, которая вонзается в мякоть яблока, примерно соответствует тому, как колонны корковых клеток вытянуты под поверхностью мозга. Хьюбел и Визел также обнаружили, что все корковые клетки внутри определенной колонны реагируют на одни и те же простые паттерны. Это означает, что корковые клетки организованны территориально. Корковые клетки в колонне на одном участке зрительной коры реагируют на один тип визуального паттерна, а клетки в колоннах на других участках зрительной коры — на другие типы зрительных паттернов.
Но постойте. Я рассказываю вам конец истории, даже ее не начав. Давайте бросим более пристальный взгляд только на одну из составляющих того вклада, который внесли в данную область Хьюбел и Визел. В своей статье, опубликованной в 1963 году, они представили строгие данные о существовании очень ранней нервной организации — в зрительной системе котят двухнедельного возраста.
Введение
Хьюбел и Визел предлагают нам немногое в качестве введения к своему исследованию. Они фактически сообщают лишь то, что их целью «было определить возраст, в котором у корковых клеток появляются нормальные, зрелые рецептивные поля, и выяснить, существуют ли подобные поля у животных, на которых не воздействуют паттернами визуальной стимуляции». Под рецептивным полем исследователи понимают паттерн визуальных сигналов, на который реагирует отдельная корковая клетка. Ранее я упомянул, что индивидуальные корковые клетки реагируют на простые визуальные паттерны, такие как вертикальные линии или горизонтальные кромки, но чтобы стимулировать данную корковую клетку, паттерн должен находиться в определенном положении в зрительном поле. Например, если вы смотрите на что-то, и в верхней части образа имеется вертикальная линия, тогда эта вертикальная линия окажется в рецептивном поле корковых клеток, которые чувствительны к верхним частям образов. Но если вы смотрите на что-то, и вертикальная ли-гия находится в нижней части образа, тогда вертикальная ли
ния окажется в рецептивном поле корковых клеток, которые чувствительны к нижним частям образов. Корковые клетки, которые реагируют на паттерны в верхних частях образов, не реагируют на те же самые паттерны, находящиеся в нижних частях образов. Две группы корковых клеток имеют разные рецептивные поля.
Метод
Участники
В эксперименте были использованы четыре котенка, три из которых были из одного помета. Первому котенку было 8 дней, когда начался эксперимент, и у него еще не открылись глаза. У второго котенка оба глаза на 9-й день закрыли «прозрачными контактными колпачками», которые, в сущности, представляли собой наглазники, пропускавшие немного света, но не достаточно для того, чтобы котенок мог что-нибудь видеть. Когда этому котенку надевали колпачки, у него только начали открываться глаза. У третьего котенка правый глаз на 9-й день прикрыли прозрачным колпачком, а левый оставили открытым. Четвертый котенок, единственный из другого помета, рос нормально, так что его зрению ничто не мешало. У него глаза также открылись на девятый день. Таким образом, когда эксперимент начался, у двух котят не было визуального опыта, один котенок имел опыт зрения одним глазом, а еще один — опыт зрения обоими глазами.
Материалы и процедура
У Хьюбела и Визел а была скверная привычка описывать детали своей экспериментальной процедуры путем отсылки читателей к более ранним публикациям. Например, в методическом разделе данной статьи они пишут: «Процедуры стимуляции и регистрации были в основе своей описаны в предыдущих работах» и далее цитируют некоторые из своих более ранних работ. Я проверил одну из этих ранних статей, чтобы узнать подробности, и к своему удивлению обнаружил, что в этой статье они также пишут: «Детали методов стимуляции и регистрации даны в предыдущих работах». У меня стало создаваться впечатление, что они не хотят, чтобы их читатели узнали, как они проводили свои эксперименты! К счастью, они привели чуть больше подробностей в публикации от 1962 года, поэтому я частично ссылаюсь на это исследование, описывая ниже их методологию.
Перед обследованием каждого котенка подвергли короткой хирургической процедуре, просверлив небольшое отверстие диаметром несколько миллиметров в его черепной коробке и твердой мозговой оболочке, с тем чтобы можно было ввести в зрительную кору регистрирующий электрод. Для столь маленьких котят подготовка к хирургической операции включала очень небольшую дозу барбитурата и местную анестезию. Хьюбел и Визел пишут: «Через несколько минут после инъекции анестезирующего средства животное обычно засыпало и не проявляло никаких признаков дискомфорта во время хирургического вмешательства или эксперимента». Электроды вводили в кору в нескольких местах и на различную глубину. В большинстве случаев электроды уходили вглубь не более чем на 3-4 мм. Поскольку цель состояла в регистрации уровней активности индивидуальных корковых клеток, глаза котят постоянно стимулировали паттернами света по мере продвижения электродов внутрь мозга. Эта процедура сделала возможной локализацию индивидуальных корковых клеток. Во время процедуры введения электродов черепные коробки котят закрепляли в специальном аппарате, который можно было крепко зажать, в результате чего голова котенка оставалась в полном покое. Как только электрод оказывался на месте, а череп надежно удерживался, котятам показывали паттерны образов на экране, освещенном рассеянным светом. По окончании эксперимента мозг котят подвергали гистологическому анализу, т. е. их мозговая ткань изучалась под микроскопом.
Результаты
Хьюбел и Визел снимали показания для восьми-девяти индивидуальных корковых клеток у каждого из 4 котят. В целом, они установили, что эти корковые клетки намного менее активны, чем у взрослых кошек, а у некоторых клеток было очень трудно вызвать хоть какое-то возбуждение. Клетки, которые все-таки реагировали, как правило «уставали» намного быстрее, чем это было свойственно взрослым кошкам. Но, как и у взрослых кошек, клетки котят реагировали наиболее интенсивно на паттерны стимулов определенной ориентации (здесь под «ориентацией» я подразумеваю угол наклона линии). Хьюбел и Визел сообщили, что определение правильной ориентации линии для данной корковой клетки часто было утомительной задачей. Например, когда снимались показания для клетки, линию или край
приходилось перемещать взад-вперед через поле зрения котят и вращать в различных направлениях, пока корковая клетка-мишень не начинала интенсивно реагировать. Возможно, я могу дать вам определенное представление об этой процедуре, предложив небольшой воображаемый эксперимент. Предположим, вы смотрите прямо перед собой. Представьте, что прямо перед вами в пространстве висит измерительная линейка. Теперь мысленно расположите линейку строго вертикально, а затем представьте, как она перемещается взад-вперед, слева направо. Затем мысленно немного поверните линейку вокруг оси, пока ее верх не укажет на 1:00, а низ — на 7:00 (имея в виду циферблат часов), после чего представьте, как линейка передвигается взад-вперед через ваше поле зрения в направлении, перпендикулярном к ее ориентации, из верхнего левого положения в нижнее правое. Теперь поверните линейку вокруг оси, так чтобы ее верх указывал на 2:0, а низ — на 8:00, и проведите ее снова через свое поле зрения. Если вы продолжите эти действия, то получите представление о наборе визуальных паттернов, которыми стимулировали котят.
Хьюбел и Визел считали, что рецептивное поле для данной корковой клетки существует всякий раз, когда в визуальном образе присутствовала линия, и при такой ориентации этой линии, когда клетка реагировала наиболее интенсивно. Они пишут: «Систематически фиксировались кратковременные реакции [в одной клетке], когда [край] был ориентирован в направлении 1 час — 7 часов, однако не отмечалось реакции, когда он был ориентирован под 90° к этому направлению [11 часов — 5 часов]. Аналогичный вид предпочтений в ориентации стимула был типичен для всех изолированных единиц. Несколько клеток, особенно клетки у котенка в возрасте 8 дней, реагировали на набор ориентаций стимула, который был необычно широк по взрослым стандартам, однако даже у этих клеток стимуляция при ориентации 90° к оптимуму не вызывала никакой реакции. Кроме того, реакции на перемещение оптимально ориентированного стимула в рецептивном поле были необязательно идентичными для двух диаметрально противоположных направлений движения. Как и у взрослой кошки, этот вид предпочтения в направлениях варьировал от клетки к клетке; некоторые клетки реагировали одинаково хорошо на два противоположных направления перемещения, тогда как некоторые хорошо реагировали на одно направление и никак — на другое». Другими словами, индивидуальные корковые клетки не только реагировали наиболее интенсивно на линию при определенной ее ориентации, но
интенсивное реагирование имело место, только когда линия перемещалась через визуальное поле; и даже в этом случае иногда, чтобы вызвать реакцию, линия должна была перемещаться в одном определенном направлении.
Бинокулярная интеракция
Хьюбел и Визел установили, что на огромное большинство корковых клеток, которые они изучили, мог влиять каждый глаз в отдельности. Из 39-ти корковых клеток, активность которых они регистрировали, 26 интенсивно реагировали на сигналы из обоих глаз. Из оставшихся клеток имелись 4, которые реагировали только на сигналы из контралатерального (находящегося на противоположной стороне тела) глаза, и одна — только на сигналы из ипсилатерального (находящегося на той же стороне) глаза. Этот паттерн бинокулярного реагирования был во многом идентичен тому, который обнаруживают у взрослых кошек, что позволило Хьюбелу и Визелу заключить: «Влияние возраста или визуального опыта на распределение окулярного доминирования невелико или отсутствует».
Функциональная архитектура
Что касается идеи колоннообразной микроструктуры, то Хьюбел и Визел обнаружили, что все корковые клетки, содержащиеся внутри одиночной колонны, достаточно хорошо реагируют на линии одной и той же ориентации. Они выяснили это, сначала вводя электрод в верхнюю клетку колонны и тут же производя запись, потом углубляясь дальше к следующей клетке в колонне и производя запись, потом к следующей и производя запись и т. д. С другой стороны, когда электрод вводили под небольшим углом к колонне, тем самым отклоняясь от клеток в одной колонне и проникая в клетки другой, то ориентации линии, которые вызывали наиболее интенсивную реакцию, менялись. Хьюбел и Визел построили диаграмму того, как менялись ориентации линии, вызывавшие наиболее интенсивное реагирование, по мере продвижения электрода вглубь мозга, пересекая несколько колонн клеток: (1) клетки в первой колонне реагировали наиболее интенсивно на ориентацию линии 11:00-5:00, (2) клетки в следующей колонне реагировали наиболее интенсивно на ориентацию линии примерно 12:30-6:30, (3) следующие клетки лучше всего реагировали на ориентацию примерно 9:30-3:30 и, наконец, (4) последняя колонка клеток интенсивнее всего реагировала снова на ориентацию примерно 11:00-5:00.
Различия в коре9
основанные на визуальном опыте
В этом исследовании Хьюбел и Визел установили, что, в сущности, не было различий в восприимчивости индивидуальными корковыми клетками бинокулярных сигналов, идущих от обоих глаз, даже у котят, которые был лишены визуального опыта. Авторы пишут: «Можно заключить... что даже в столь позднем возрасте, как 19 дней, не было необходимости в том, чтобы клетка подвергалась предшествующим паттернам стимуляции от глаза, с тем чтобы нормально на нее реагировать». Другими словами, даже несмотря на то, что глаза у некоторых котят не получали визуальных сигналов из среды, импульсы, посылаемые этими глазами к корковым клеткам, были слышимы корковыми клетками «громко» и «ясно». Связи между временно не видевшими глазами и корковыми клетками оставались совершенно незатронутыми.
Обсуждение
Основным результатом данного исследования была демонстрация того, что базовая архитектурная организация зрительной коры у котят не меняется даже у тех из них, кто лишен визуального опыта. Эта архитектура присутствует в своей основе на момент рождения, и на нее не влияет даже тяжелая депривация визуального опыта, по крайней мере, не к возрасту в 2,5 недели. Исследователи пишут: «Настоящие результаты со всей очевидностью показывают, что нервные связи высокой сложности возможны и при отсутствии нервного опыта».
Заключение
Хотя Хьюбел и Визел установили, что лишение котят визуального опыта не оказывает сколько-нибудь значимого влияния на организацию их визуальной системы, было бы преждевременно заключать, что опыт не играет никакой роли в сохранении нервных связей по истечении первых 20-ти дней. Фактически, в родственном исследовании, опубликованном в том же журнальном номере, они обнаружили, что в зрительном нервном контуре произойдут серьезные нарушения, если котята будут лишены визуального опыта в течение намного более продолжительного времени. Давайте рассмотрим это родственное исследование более внимательно.
Родственное исследование
В этом исследовании, также опубликованном в 1963 году, но с обратным порядком авторов, Визел и Хьюбел изучали котят, у которых один глаз был прикрыт в течение 4-х месяцев. В этом исследовании использовались 7 котят и 1 взрослая кошка. Не видевший глаз был либо зашит, предотвращая какое-либо проникновение света, либо прикрыт прозрачным колпачком, пропуская немного сильно рассеянного света. Нервная активность 84 корковых клеток регистрировалась в различные моменты периода визуальной депривации. Исследователи обнаружили, что, в отличие от более раннего исследования, бинокулярные корковые клетки у этих котят не продемонстрировали абсолютно никакой восприимчивости к импульсам, идущим от глаза, который подвергли визуальной депривации. Вы можете вспомнить, что в более раннем исследовании корковые клетки котят, которых подвергали визуальной депривации в течение менее чем 20 дней, хорошо реагировали на сигналы от обоих глаз. Их корковые клетки оставались бинокулярными. Но в этом втором исследовании, когда визуальная депривация продолжалась намного дольше, эти же самые клетки совершенно переставали реагировать на глаз, от которого не поступало визуальной информации. Эти корковые клетки утрачивали свою бинокулярность из-за нервной атрофии. Другими словами, связи, которые очень хорошо функционировали на раннем этапе жизни, переставали функционировать при отсутствии длительной стимуляции.
Некоторым из котят в этом втором исследовании также предоставляли возможность передвигаться, когда их зрячий глаз был закрыт, а глаз, подвергавшийся ранее визуальной депривации, открыт. Визел и Хьюбел описали поведение котят следующим образом: «Когда животное передвигалось, исследуя свое окружение, то вышагивало с широко расставленными лапами и неуверенно, а его голова двигалась вверх и вниз в странной кивающей манере. Котята наталкивались на большие препятствия, такие как ножки стола, и даже на стены, которые они обычно исследовали, используя в качестве щупа свои усы. Когда животных ставили на стол, они ступали за его край, несколько раз неуклюже упав на пол. Когда перед глазом перемещали какой-то объект, ничто не свидетельствовало, что он воспринимался, и не делалось никаких попыток за ним следовать. Как только колпачок снимали с [зрячего] глаза, котенок вел себя нормально, изящно спрыгивая со стола и умело избегая объекты на своем пути.
Мы заключили, что у этих животных в глазу, подвергавшемся депривации, имело место глубокое, возможно полное, нарушение зрения».
Если объединить эти два исследования, то результаты показывают, что связи в зрительной системе котят развивались должным образом, но что ее части атрофировались со временем из-за неиспользования. До работы Хьюбела и Визела большинство исследователей зрения полагали, что зрительная система не формируется до рождения. Они считали, что необходим визуальный опыт, чтобы заставить зрительные клетки образовать связи друг с другом. Очевидно, это не так. По-видимому, клетки с самого начала связаны друг с другом, но полное отсутствие визуального опыта делает эти связи неэффективными.
Так какое же отношение к детской психологии имеет весь этот разговор о корковых бинокулярных клетках, зрительной системе кошек и клеточной атрофии из-за неиспользования? Фактически, работа Хьюбела и Визела имеет много общего с детской психологией. Просто для того чтобы увидеть картину крупным планом, вам необходимо уменьшить разрешение микроскопа своего критического мышления. Самым непосредственным следствием их работы является то, что она помогла нам понять, как работает зрительная система человека. Когда кошка выслеживает мышь, мы знаем, что она должна увидеть объект и распознать в нем мышь. Чтобы этого добиться, кошка сначала должна обработать визуальную информацию своими глазами; затем глаза посылают информацию к части мозга, называемой таламусом, а тот направляет ее в зрительную кору. В зрительной системе человека также используются глаза, таламус и зрительная кора. Поскольку обе системы так похожи друг на друга, то известное нам о зрительной системе котят можно приложить к зрительной системе людей. Вдобавок, исследование Хьюбела и Визела показало, что к тому времени, когда визуальная информация достигает визуальной коры, она поступает в форме неразложимого паттерна. Нам это известно потому, что клетки в зрительной коре реагируют наиболее интенсивно на линии и края в определенной ориентации. Если у котят визуальная информация достигает коры в форме простого паттерна, тогда становится намного более понятным, почему мы, люди, не воспринимаем мир как смешение 252-х миллионов отдельных световых точек.
Конечно, следующей проблемой, к которой необходимо обратиться, является то, что мы не воспринимаем мир и как смешение отдельных линий и краев. Но открытие Хьюбелом и Визелом корковых клеток, распознающих края, по крайней мере,
дает нам способ осмысления вопроса, почему мы не видим мир таким. Прежде всего само существование корковых клеток, распознающих края, говорит о возможности того, что клетки высшего уровня могут отвечать за распознавание визуальных паттернов высшего уровня. Простая логическая версия такова. Когда человек смотрит на кромку или линию, образ кромки или линии проецируется на сетчатую оболочку в задней части глазного яблока. В этой оболочке глазного яблока имеются палочки и колбочки. Когда образ проецируется на сетчатку, интенсивно реагируют палочки и колбочки, которые непосредственно контактируют с образом. Остальные палочки и колбочки остаются в относительном покое. Активные палочки и колбочки затем посылают сигналы через таламус к зрительной коре. Теперь, поскольку мы знаем, что информация о краях и линиях передается к корковым клеткам от палочек и колбочек, разумно заключить, что индивидуальные корковые клетки суммируют работу, проделанную большими группами палочек и колбочек. Если корковые клетки делают это с сигналами от нескольких палочек и колбочек, почему клетки высшего уровня не могут выполнять аналогичную суммирующую функцию с сигналами от нескольких корковых клеток?
Очень возможно, что все происходит именно так. Хьюбел и Визел назвали корковые клетки, которые они изучали, «простыми» («simple») клетками. Простые клетки реагируют на края и линии, которые, как мы видели, представляют собой паттерны сигналов от групп палочек и колбочек. Очевидно, группы простых корковых клеток могут также посылать информацию к высокоуровневым «сложным» («complex») корковым клеткам. Сложные клетки суммируют информацию от групп простых корковых клеток. Представьте, к примеру, что сложная клетка принимает сигналы от двух простых клеток. Представьте, что одна из этих простых клеток лучше всего реагирует на вертикальную линию, а другая — на горизонтальную. В этом случае если в поле зрения присутствует и вертикальная, и горизонтальная линия, скажем в форме прямого угла, каждая из двух простых клеток интенсивно прореагирует. Соответственно, интенсивно прореагирует и сложная клетка, которую они питают информацией. А это означает, что сложная клетка суммирует сигналы от двух простых клеток, а каждая простая клетка суммирует сигналы от группы палочек и колбочек. Когда в поле зрения имеется прямой угол, заставляющий интенсивно реагировать две простые клетки, и когда эти две простые клетки реагируют и заставляют интенсивно реагировать сложную клетку,
тогда мы можем в итоге сказать, что сложная клетка реагирует на визуальное присутствие прямого угла. Мы также можем назвать эту сложную клетку «детектором угла в 90°».
Но эту логику можно продолжать дальше. Группы сложных клеток сами могут быть связаны с клетками еще более высокого уровня, называемыми «сверхсложными» («hypercomplex») клетками, которые суммируют паттерны реакций сложных клеток. Интенсивное реагирование сверхсложной клетки говорит о наличии в поле зрения паттерна еще более высокого уровня. Это может быть не угол, а геометрическая фигура. По мере того как уровень реагирования все более повышается вверх по цепочке, повышается и степень визуального суммирования и интеграции. Могут существовать сверх-сверхсложные и сверх-сверх-сверх-сложные клетки. В конце концов, мы можем иметь клетки очень высокого уровня, которые отвечают за нашу способность распознавать очень сложные визуальные картины в окружающем нас мире. Кое-кто предполагает даже, что в верхней части корковой лестницы может иметься некая «клетка бабушки», которая интенсивно реагирует на зрительный образ вашей бабушки!
Следует признать, что картина, которую я нарисовал, несколько упрощена. И лавина исследований, которую вызвала ранняя работа Хьюбела и Визела, уже выявила ряд недостатков в их ранних результатах. Но именно их начальная работа послужила толчком к дальнейшим исследованиям, и за нее они получили должное признание.
Вторым, намного более общим результатом этой работы было открытие авторами нервной пластичности. Этот термин отражает идею, согласно которой нервный контур можно изменять посредством опыта (в данном случае пластичность означает гибкость). Нервная пластичность является важнейшей темой для исследователей мозга и для детских психологов, поскольку она напрямую касается вопроса «природа или воспитание» (более углубленное обсуждение спора «природа или воспитание» см. в разделе 19 об Анастази). Если вы помните, Хьюбел и Визел установили, что функционирование зрительных корковых клеток можно изменить радикальным образом, если устранить визуальные сигналы, идущие от одного глаза. Но степень изменения зависит от того, когда были прекращены визуальные сигналы. У кошек прекращение визуальных сигналов от одного глаза в течение первых 20-ти дней жизни, по-видимому, не оказывает большого влияния на то, насколько восприимчива корковая клетка к информации от этого глаза. Но если визуальные сигналы не поступают в течение первых 2-4 месяцев жизни, тогда
корковые клетки полностью перестают реагировать на этот глаз даже после того как зрение восстановлено. Нервная пластичность нарушается столь серьезно, что когда кошек заставляют воспользоваться этим глазом, чтобы заметить край стола, они просто падают вниз. Поскольку нервный контур зрительной системы можно менять посредством опыта, значит, он определенно пластичен.
Этот результат указывает на возможность того, что нервный контур в остальной части мозга также может быть пластичным. Мозг может функционировать в соответствии со своего рода философией «используй или потеряешь». Связи и проводящие пути в мозге, которые не используются, могут просто атрофироваться, тогда как используемые связи и пути часто буквально расцветают. Пластичность также свидетельствует о возможности того, что если некоторые корковые клетки не используются по своему прямому назначению, они могут кооптироваться другими системами, которые способны использовать их с большей пользой. Несколько очень интересных исследований, проведенных Хелен Невилл (Neville), показывают, что слуховая кора (часть головного мозга, участвующая в реализации функции слуха) взрослых людей, родившихся глухими, может брать на себя некоторые зрительные функции. Как это может происходить? Она предполагает, что на момент рождения могут существовать нервные связи между зрительными участками таламуса и слуховой корой. В норме эти связи не сохраняются, поскольку сама слуховая система получает представительство в слуховой коре. Но у людей, родившихся глухими, клетки в слуховой коре не получают слуховых сигналов, поэтому, как и у кошек Хьюбела и Визела, эти связи атрофируются. Это оставляет нетронутыми раннее существовавшие связи между зрительной системой и слуховой корой, а поскольку визуальные сигналы продолжают поступать, связи со слуховой корой постоянно усиливаются. Со временем между зрительной системой и слуховой корой может возникнуть настоящее товарищество.
Радость удачи
Мало кто сомневается в огромной значимости работы Хьюбела и Визела. Но их случай также свидетельствует о том, насколько важно иметь на своей стороне немного удачи, когда вы пытаетесь сделать себе имя в устоявшейся научной области. Мы посвятили несколько последних страниц разговору о том, как Хьюбел и Визел осуществили запись корковых реакций одиночной клетки в ответ на простые визуальные паттерны, такие как
линии и кромки. Они сделали карьеру на этих микроскопических записях, и комитет по присуждению Нобелевских премий признал их за эту работу. Но очень немногие люди вне исследовательского сообщества неврологов осознают, насколько близко Хьюбел и Визел были к тому, чтобы потерпеть полное поражение на своем революционном пути к открытию.
Принимая Нобелевскую премию, Дэвид Хьюбел сказал в своей речи, что когда он и Торстен Визел начали попытки со снятием показаний для индивидуальных корковых клеток, то добились небольшого успеха. Прежде всего, когда вы вводите электрод внутрь поверхности мозга, то не видите, где он находится. А когда вы не видите то, что делаете, может потребоваться множество операций методом проб и ошибок, прежде чем будет получен нужный результат. Но они были уверены, что с их методикой все в порядке, поскольку она была разработана и успешно использовалась Верноном Маунткаслом (Mountcastle) при изучении соматосенсорной коры у кошек и обезьян. Тем не менее, по какой-то причине они сначала не обнаружили ничего, что заставляло бы зрительные корковые клетки реагировать. Поскольку они знали, что их записывающая техника в порядке, то решили, что проблема должна быть связана с тем, как они проецируют котятам визуальные образы. В результате, им пришлось проецировать образы на потолок лаборатории! Хьюбел пишет: «Не имея другого держателя головы [кошки], мы продолжали какое-то время использовать держатель головы для офтальмоскопа, что создавало проблему, так как взгляд кошки был направлен прямо вверх. Чтобы разрешить эту трудность, мы принесли несколько простыней, которые подвесили между трубами и паутиной, украшавшими потолок в подвале [института] Уилмера, придав всей обстановке вид циркового шатра. Однажды нас посетил Верной Маунткасл и пришел в ужас от этого зрелища. Метод был определенно неудобным, поскольку нам приходилось смотреть на потолок в течение всего эксперимента». К счастью, они, в конце концов, добились того, что их проекционная система сработала. В итоге они стали проецировать простые визуальные паттерны прямо на сетчатку кошек, используя специальное приспособление, которое позволяло им вставлять в проекционный аппарат либо небольшую медную пластину с отверстием, либо небольшой стеклянный слайд с черной меткой. Приспособление попускало свет сквозь отверстие в медной пластине, проецируя одиночное пятно света на сетчатку кошек, или же пропускало свет через стеклянный слайд, проецируя на сетчатку тень от черной метки.
Хотя они начали буквально бомбардировать сетчатку кошек пятнами света и тенями, их первоначальные записи по-прежнему оказывались неудачными. Сначала корковые клетки, вопреки ожиданиям, совершенно не реагировали на визуальные образы. Но через несколько часов, снимая показания для клетки под номером 3004, исследователи сделали свое знаменитое открытие. (В действительности они не снимали показаний для 3003 других клеток. Просто они решили начать нумерацию своих клеток с 3000, чтобы поразить Маунткасла, у которого количество записей для клеток шло на тысячи.) Клетка 3004 продемонстрировала весьма интенсивную реакцию. Это открытие более всего поражало тем, что клетка реагировала не на пятно света и не на тень — ожидаемые источники реакций; она реагировала на край стеклянного слайда, когда его вставляли в проекционный аппарат! Следующие 9 часов Хьюбел и Визел провозились со слайдом, чтобы воспроизвести ту же интенсивную реакцию. В конце дня они пришли к выводу, что клетка реагировала наиболее энергично на край с ориентацией, соответствовавшей углу, под которым слайд вставляли в проекционный аппарат. Когда ориентация была верной, «клетка начинала посылать сигналы, подобно строчащему пулемету».
Вероятно, вы можете вообразить, насколько легко было Хью-белу и Визелу упустить момент и не сделать это открытие. Прежде всего, они, очевидно, оставили проекционный аппарат включенным, когда вставляли один слайд за другим. Если бы у них была привычка выключать аппарат после каждого проецирования, тень от края слайда никогда не попала бы на сетчатку кошки, и клетка 3004 никогда бы не прореагировала. Кроме того, только благодаря счастливому случаю они снимали показания для клетки, чья предпочитаемая ориентация точно соответствовала углу края слайда. Если бы они снимали показания для клетки, которая предпочитала вертикальные края, то не сумели бы вызвать вообще никакой реакции. Но, в конце концов, они оставили аппарат включенным, а клетка 3004 оказалась подходящей по предпочтению линии именно такой ориентации; и примерно 20 лет спустя комитет по присуждению Нобелевских премий назвал их имена.
Библиография
Barlow, Н. В. (1982). David Hubel and Torsten Wiesel: Their contributions towards understanding the primary visual cortex. Trends in Neuroscience, 5, 145-152.
Hubel, D. Н. (1982). Evolution of ideas in the primary visual cortex, a biased
historical account. Bioscience Reports, 2,435-439. Neville, H.J. (1990). Intermodal competition and compensation in development:
Evidence from studies of the visual system in congenitally deaf adults. Annals
of the New York Academy of Science, 608,71-87.
Neville, H. J., & Lawson, D. (1987). Attention to central and peripheral visual space in a movement detection task: An event-related potential and behavioral study. II. Congenitally deaf adults. Brain Research, 45, 268-283.
Wiesel, T. N., & Hubel, D. H. (1963). Single-cell responses in striate cortex of kittens deprived of vision in one eye. Journal of Neurophysiology, 26,10031017.
Вопросы для обсуждения
1. Напомните мне, почему исследование зрительной коры котят оказалось в книге, посвященной 20-ти исследованиям, которые произвели революцию в детской психологии?
2. Хотя из соображений этики ученые не могут резать мозг живого человека, с тем чтобы просто поэкспериментировать, считаете ли вы, что допустимо выращивать мозг в искусственных условиях лаборатории?
3. Оправдано ли проведение исследований на мозге других животных, когда цель — всего лишь узнать о функционировании мозга? Не подходят ли одни виды животных лучше, чем другие, для проведения исследований мозга?
4. Правильно ли ставить Хьюбелу и Визелу в заслугу открытие порядка функционирования визуальных корковых клеток, если это открытие произошло более или менее случайно?

Государственные органы, школы и магазины: уровни со сложной структурой, оказывающие влияние
БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: TOWARD AN EXPERIMENTAL ECOLOGY OF HUMAN DEVELOPMENT.
Bronfenbrenner, U. (1977). American Psychologist, 32, 513-531.

Начиная с самого своего рождения в конце 1800-х годов, психология в течение целого века была вынуждена вести борьбу за свое признание в качестве «настоящей» науки со стороны более прославленных сестринских дисциплин в сфере «естественных» наук. Эти дисциплины, например, физика и химия, обычно под-
смеиваются над реальностью психологии и над ее притязанием на статус «настоящей науки». Даже их юная сестра, биология, которую только недавно приняли в клуб естественных наук, позволяет себе делать выпады в адрес психологии. Критика психологии неизменно сводится к одному: «Эта область слишком расплывчата», «Люди не могут проводить объективные исследования самих себя», «Психологи измышляют всякую всячину по мере своего продвижения вперед», «Психология — это всего лишь набор отвечающих здравому смыслу фактов, которые всем уже известны» и, последнее, но не самое маловажное, «Психология слишком неопределенна, чтобы называться наукой».
На первый взгляд, некоторые замечания наших критиков кажутся правильными. Психология иногда действительно отличается излишней расплывчатостью. И верно, что люди не могут проводить объективные исследования самих себя. Но, в сущности, люди вообще не могут проводить объективные исследования чего бы то ни было, включая физические и химические данности, поскольку человек, по самой своей природе, ограничен собственными перцептивной и когнитивной системами. Но следующие два замечания полностью несправедливы. Психологи, по крайней мере, те из них, кого можно считать хорошими, не измышляют всякую всячину по мере своего продвижения вперед. И психология — это вовсе не набор отвечающих здравому смыслу общеизвестных истин. Фактически, психологические исследования доказали, что многие «отвечающие здравому смыслу» представления, если не большинство из них, полностью ошибочны.
Но в течение длительного времени головной болью для психологии был упрек в том, что ей плохо удаются точные прогнозы в отношении человеческого поведения. Это замечание, безусловно, верно, по крайней мере, когда речь идет о прогнозировании поведения отдельных индивидуумов. Но психологи дают достаточно надежные прогнозы, касающиеся больших групп людей. Например, я всегда точно предсказываю, что 40 плюс-минус несколько процентов студентов, слушающих мой курс общей психологии, получат низкий балл или «неуд» на своем первом экзамене. Я говорю так, поскольку 40% моих студентов на этом курсе всегда получают низкий балл или «неуд» на своем первом экзамене. Точность моего группового прогноза основана на моих прошлых групповых данных. Однако мне очень трудно предсказать, кто именно из моих студентов получит подобные отметки. Вот в чем загвоздка. Психологи известны своими неточными предсказаниями в отношении поведения отдельных индивидуумов. Психологов часто приглашают на слушания, где
♦
решается вопрос о досрочном освобождении преступников, чтобы сделать заключение, будет ли, к примеру, поджигатель и дальше устраивать поджоги, или педофил — приставать к детям. Максимум, что эти психологи способны сделать, — это, основывая свои суждения на имеющихся данных, сказать нечто в таком роде: «На основании существующей научной литературы я могу заключить, что вероятность того, что этот индивидуум перестанет устраивать поджоги в случае его освобождения из заключения, равна 28,7%». Подобное заключение выглядит не слишком определенным с научной точки зрения, не так ли?
Теперь сравните этот уровень точности с тем, о чем мы обычно узнаем из естественнонаучных дисциплин. Например, из физики мы узнаем о законах тяготения, движения, термодинамики, квантовой механики и т. д. Используя эти законы, мы можем оценивать с абсолютной точностью, каким будет исход того или иного искусственно вызванного события. К примеру, я помню, как на одном из экзаменов по физике я высчитывал, с какой скоростью должен лететь шарик от пинг-понга, чтобы остановить движущийся по рельсам локомотив. Урок, который я вынес из этой задачи, был следующим: объект с очень маленькой массой должен перемещаться очень-очень быстро, чтобы нейтрализовать импульс объекта с очень большой массой, но движущегося намного медленнее. Вся задача сводится к тому, чтобы подставить значения для скорости и массы в определенные уравнения, одновременно делая определенные допущения в отношении события. Как выяснилось, чтобы 2,5-граммовый теннисный шарик заставил остановиться 100-тонный локомотив, движущийся со скоростью 70 км в час, он должен перемещаться со скоростью 2,8 миллиарда км в час, т. е. примерно в три раза быстрее скорости света!
Не правда ли, создается полное впечатление, что физика исключительно точная наука? Вся хитрость в деталях (и допущениях). Например, в случае данного события с теннисным шариком мы допускаем, что шарик сталкивается с локомотивом лоб в лоб, а не под углом. Мы также допускаем, что столкновение происходит при неизменных атмосферных условиях, т. е. при отсутствии ветра, дождя и при постоянной температуре. Мы также предполагаем, что рельсы уложены ровно, и что поезд движется по горизонтальной поверхности. Эти допущения составляют то, что позволяет нам делать очень точные прогнозы в отношении физического поведения. Без этих допущений уровень точности, которого может добиться физик, будет значительно ближе к уровню точности, с которым имеет дело психолог.
Перед любым, кто полагает, что физика точнее психологии, я ставлю следующую задачу: предсказать с абсолютной точностью конечное состояние арбуза, который сталкивают с крыши пятиэтажного здания. (Эта идея посетила меня в 1980-х годах после просмотра шоу Дэвида Леттермана.) Недостаточно просто сказать, что арбуз разобьется вдребезги, ударившись о землю. Я говорю о более точном уровне описания — том, которого большинство людей ждут от физики. Где окажется каждое семечко? В каких местах треснет корка, и на сколько частей она расколется? Какой величины будет каждый кусок? Где окажутся эти куски? Каким образом распределится мякоть арбуза? Очевидно, что на эти вопросы нельзя ответить с большой степенью точности. Причина в слишком большом количестве переменных, которые нужно принять во внимание. Многое будет зависеть от изменения скорости ветра на каждой высоте во время падения арбуза. В свою очередь, влияние ветра будет зависеть от ориентации арбуза в пространстве. Вращение арбуза в пространстве будет зависеть от его колебательного движения во время отрыва от поверхности крыши. Кроме того, существует такое понятие, как структурная целостность арбузной корки. То, как она расколется, будет зависеть от толщины той части корки, которая первой коснется земли. А влияние земли будет зависеть от того, какой ее участок первым придет в соприкосновение с арбузом. Имеются ли трещины в бетонном покрытии? Лежат ли поблизости маленькие камни или прутики? Вероятно, теперь вы уяснили стоящую перед вами задачу.
Я привожу случай с падающим арбузом для того, чтобы показать: в такого рода ситуациях физик, подобно психологу, способен дать только наиболее общие прогнозы. Например, он может предсказать, что мякоть арбуза распределится веерообразно, в зависимости от угла падения и скорости арбуза при ударе о землю. Но я не склонен называть этот прогноз высокоточным. Именно с подобными ситуациями приходится сталкиваться ежедневно детским психологам, когда они прогнозируют поведение детей. Дети подвержены такому большому количеству постоянно меняющихся внутренних и внешних влияний, что психологи просто не могут описать с достаточно высокой степенью точности все последствия их развития.
Именно этот вопрос и затрагивает революционная работа Ури Бронфенбреннера (Urie Bronfenbrenner). В своей статье от 1977 года, занявшей седьмое место среди самых революционных, Бронфенбреннер выдвинул «экологическую теорию человеческого развития». Он предложил свою теорию, чтобы поддержать
стремление психологов при объяснении человеческого развития принимать в расчет столь много факторов, сколько возможно. Конечно, социально-эмоционально-культурные факторы, которые влияют на человеческое развитие, сильно отличаются от физических факторов, влияющих на падение арбуза, но уровни сложности, связанные с обоими прогнозами, вероятно, сопоставимы. Развитие детей спрогнозировать труднее хотя бы по той причине, что они не обладают эмоциональной устойчивостью арбуза!
Бронфенбреннер создал свою экологическую теорию потому, что, согласно его точке зрения, детские психологи тратят слишком много времени на исследование вопросов развития, которые слишком узки в отношении большинства детей в большинстве условий большинства культур. В типичном случае детский психолог приводит ребенка в лабораторию, предлагает ему разнообразные задачи и тесты и помещает его в различные необычные ситуации. Хотя детский психолог может полагать, что он оценивает интеллектуальную способность ребенка, в действительности он оценивает нечто намного большее. Прежде всего, он оценивает собственное влияние на ребенка. Ребенок реагирует не только на вопросы теста, но также на интонацию и манеры детского психолога! На ребенка также воздействует непривычная обстановка лаборатории. Когда дети попадают в незнакомое место, их реакции становятся иными, нежели в знакомой обстановке. Бронфенбреннер сетовал, что в большинстве исследований в области детской психологии эти дополнительные влияния обычно игнорируются или считаются маловажными.
В своей экологической теории Бронфенбреннер описал четыре уровня, или контекста, влияний среды, которые детские психологи должны принимать во внимание, если действительно хотят продвинуть вперед детскую психологию как науку. Бронфенбреннер полагал, что учитывая все эти четыре контекста, детские психологи не только сделают свою науку более совершенной и точной, но также чаще будут проводить действительно значимые исследования.
Введение
Бронфенбреннер указал нам на недостатки современной детской психологии, заявив, что многие исследования в этой области состоят из экспериментов, которые умело спланированы и надежно контролируются, но имеют мало общего с тем, что
происходит в реальной жизни. Традиционную детскую психологию он шутливо охарактеризовал как «науку о необычном поведении детей в незнакомых ситуациях с незнакомыми взрослыми в течение наикратчайших периодов времени». С другой стороны, детским психологам, которые действительно пытаются сделать свои исследования релевантными реальному миру и которые проводят свои научные изыскания вне лаборатории, очень непросто добиться того, чтобы их исследования были строгими и надежно контролируемыми. Иными словами, исследователи в области детской психологии либо акцентируют внимание на строгости в ущерб релевантности, либо на релевантности в ущерб строгости.
Но Бронфенбреннер отверг идею, что эти две возможности являются единственными. Он полагал, что естественные наблюдения за развитием детей в реальном мире могут быть хорошо контролируемыми, и что наблюдения в лаборатории могут быть приложимы к реальному миру. Задача в том, чтобы понять, что и лабораторная обстановка, и естественная среда являются составными частями естественного окружения детей, и что можно ожидать влияния обеих этих частей на поведение детей. Аналогичным образом, и исследователь, который тестирует ребенка, и мать, которая о ребенке заботится, — это люди в естественном окружении ребенка, которые, как можно ожидать, повлияют на его поведение. Призыв Бронфенбреннера к экологическому подходу в детской психологии был призывом к учету всех контекстов, и физических, и социальных, в которых оказываются дети.
Так в чем же конкретно состоит экологический подход в психологии? Давайте начнем с термина экология. Экологией принято называть отрасль биологии, которая изучает связи между организмами и их средой. Она обращается к следующим вопросам: каким образом организмы используют себе во благо среду, и как изменения в среде могут повлиять на функционирование организма? С экологической точки зрения, нельзя по-настоящему понять организм, если одновременно не принять во внимание его окружение. Рассмотрим случай с лесным бобром. Вы можете поместить бобра в лабораторную обстановку, можете кормить его червями и листьями, можете дать ему погрызть собачью игрушку и можете попытаться научить его ездить на велосипеде. Но лишив бобра его естественной среды обитания, вы не сможете наблюдать за некоторыми из наиболее уникальных и интересных моделей поведения, которые он демонстрирует на воле. Например, вы никогда не увидите, как бобры валят дере
вья с помощью своих зубов, никогда не увидите их ловкости и изобретательности при строительстве своих жилищ из древесины и комьев земли, и никогда не увидите, как они возводят плотины поперек водных потоков, чтобы иметь у себя запас воды. Экологический подход потребовал бы, чтобы вы изучали бобра в его естественной среде.
Прилагая экологический подход к детской психологии, Бронфенбреннер призывал нас не рассматривать ребенка как изолированный организм, а попытаться понять его в контексте его естественного окружения. Принимая во внимание среду ребенка, детские психологи сумеют подметить некоторые из наиболее уникальных и интересных моделей поведения, демонстрируемых детьми в естественной среде.
Формально Бронфенбреннер определил свою экологическую психологию как «научное исследование прогрессивной, взаимной аккомодации, на протяжении всей жизни, между развивающимся человеческим организмом и изменяющимися непосредственными условиями среды, в которых он живет, когда на этот процесс влияют связи, существующие внутри этих непосредственных условий и между ними, а также более широкие социальные контексты, как формальные, так и неформальные, в которые включены эти условия». Как это свойственно профессиональной психологии, данное определение трудно для понимания. В сущности, Бронфенбреннер говорит не просто о том, что следует изучать детей в их естественном окружении, но и о том, что их естественное окружение существует на нескольких уровнях. Вскоре я опишу каждый из этих уровней более подробно, а пока можно отметить, что уровни окружения различаются по степени своего влияния на детей. Наиболее прямое влияние исходит от непосредственной среды детей, состоящей из объектов и людей, с которыми дети вступают в прямые контакты, включая их дом и семью, а также школьные классы, одноклассников и учителей. Далее следует более широкое окружение, с которым дети не вступают в прямые контакты, но которое оказывает влияние на непосредственное окружение. Это более широкое окружение включает соседей, государственную систему образования и место работы родителей. Дети не имеют прямых контактов с этой более широкой средой, но, тем не менее, она влияет на них. К примеру, если государственная система образования придерживается принципа, согласно которому учителя не могут принимать подарков от учеников, тогда этот принцип оказывает прямое влияние на ребенка, когда он хочет угостить своего учителя
яблоком. И если одного из родителей ребенка переводят на работе на вышестоящую должность, тогда этот родитель приходит домой в прекрасном настроении, что, в свою очередь, оказывает позитивное влияние на его игру с ребенком в конце дня.
Но существует еще более широкое окружение, чем это, хотя в данном случае термин «окружение» не является оптимальным. Возможно, лучше подойдет слово «контекст». К примеру, рассмотрим контекст американской политики в отношении государственного образования. Правительство Соединенных Штатов проводит в жизнь федеральное требование, чтобы все дети в любой местности получали обязательное, финансируемое государством образование. Частью этого контекста является курс на то, чтобы все локальные органы власти обеспечили обязательное образование для детей, проживающих в данной местности. В результате, формируются местные государственные отделы образования, нанимаются учителя, а дети занимаются в школьных классах. Хотя образовательная политика США не оказывает непосредственного воздействия на конкретного ребенка, она, тем не менее, влияет на него, распространяя свое влияние по нисходящей цепочке государственного контроля. Федеральная образовательная политика определяет образовательную политику штатов, которая определяет образовательную политику на местах, которая определяет то, как будут обучаться дети в данной местности, что, в свою очередь, обусловливает то, как преподаватели станут учить своих учеников.
Поскольку окружение детей, или контекст, может влиять на них на столь многих уровнях, Бронфенбреннер прояснил роль каждого уровня, выделив 4 категории. Расположив их в соответствии со степенью влиятельности (от максимального до минимального), автор дал им следующие названия: (1) микросистема, (2) мезосистема, (3) экзосистема, (4) макросистема. Мы рассмотрим все по порядку.
Микросистема
Согласно терминологии Бронфенбреннера, микросистема — это «комплекс отношений между развивающимся человеком и непосредственной средой, включающей самого этого человека». Окружением, или обстановкой, могут быть дом, школа, игровая площадка или кондитерский магазин, среди многих других вариантов. В каждой обстановке ребенок играет специфическую роль, например дочери, ученика, товарища по игре или покупа
теля. Вдобавок, внутри каждой обстановки имеются определенные объекты, с которыми ребенок контактирует, и определенные люди, с которыми он взаимодействует. Чтобы понять влияние микросистемы на ребенка, необходимо понять, как каждое из этих условий непосредственно сказывается на развитии ребенка. Когда ребенок совершает свои обычные действия в течение дня, он может, к примеру, завтракать вместе со своей младшей сестрой, идти в школу вместе со своим лучшим другом, сидеть в классе на уроке математики, тренироваться после школы с баскетбольной командой, обедать вместе со своей семьей, сидеть за письменным столом у себя в спальне, выполняя домашнее задание, мыться в ванне, ужинать вечером, следя за спортивной телепередачей, и читать перед сном книгу. Каждое из этих действий представляет собой ряд событий, характерных для условий в доме, школе и группе сверстников, и каждое способно повлиять на развитие ребенка. Все эти условия образуют вместе микросистему. Бронфенбреннер сформулировал четыре «постулата» в отношении микросистемы, которые должны быть приняты экологической психологией.
Постулат 1
В отличие от традиционной однонаправленной исследовательской модели, обычно применяемой в лаборатории, экологический эксперимент должен обеспечивать взаимообратный процесс, т. е. не только влияние А на В, но также влияние В на А. Это требование взаимности.
Другими словами, исследователи в детской психологии должны осознать, что не только среда может влиять на ребенка, но что ребенок оказывает столь же сильное влияние на среду. Рассмотрим случай с ребенком, завтракающим со своей маленькой сестрой. Когда ребенок подходит к столу и обнаруживает, что сестра съела последнюю порцию его любимого сухого завтрака, он может выплеснуть на нее свою досаду и назвать ее «дурочкой». Очевидно, что данная ситуация оказала на мальчика сильное влияние. Но сам акт обзывания сестры также влияет на среду, в частности, на роль, играемую сестрой как частью этой среды. На следующее утро ребенок, подойдя к столу, может оказаться в еще более неприятном положении. Когда он сядет за стол, сестра может начать разговор, назвав его «злюкой». Нет сомнений, что это придаст ситуации еще более антагонистический характер. Оба ребенка могут пуститься в словесную перепалку, и мальчик затем отправится в школу в скверном настрое
нии. Причем скверное настроение мальчика будет косвенным образом обусловлено его собственным обзыванием сестры накануне. Суть здесь в том, что когда детские психологи проводят свои исследования, они проявляют недальновидность, если полагают, что влияние направлено только от среды к ребенку. Игнорируя возможное направление влияния от ребенка к среде, они упускают из виду половину картины.
Постулат 2
Экологический эксперимент требует признания социальной системы, фактически действующей в исследовательской обстановке. Эта система обычно включает всех участников, в том числе экспериментатора. Это требование признания тотальности функциональной социальной системы в ситуации.
Когда детей приглашают участвовать в исследовании, проводимом детским психологом, они вступают в социальную систему, которая включает их самих, экспериментатора и всех его ассистентов. И подобно тому, как маленький мальчик сам явился причиной своего скверного настроения, назвав сестру дурочкой, ребенок может повлиять на собственные результаты в психологическом эксперименте тем, насколько хорошо он ладит с экспериментатором. В моем собственном исследовании я наблюдал, как многие малыши в возрасте 21 месяца вызывают настоящую фрустрацию у моих лабораторных ассистентов. В одном из моих экспериментов, к примеру, малышей просят найти мяч. Но вместо того чтобы просто показать на мяч или передать его ассистентке, некоторые малыши бросают его через всю комнату (а поскольку мяч резиновый, он может отскочить куда угодно). Ассистентке приходится вставать и идти за мячом. После того как она приносит мяч назад, многие малыши снова его бросают. Хотя я учу своих ассистентов быть учтивыми и терпеливо сносить подобное поведение, но не могу не заметить раздраженное выражение на их лицах, которое говорит о том, что они завершат сеанс раньше времени. В этом примере малыши, бросающие мяч, добиваются того, что ассистенты проведут экспериментальный сеанс с большой поспешностью. А если ассистенты станут проводить экспериментальные сеансы более быстрыми темпами, у малышей будет меньше возможностей проявить свои интеллектуальные способности. Другими словами, малыши в лаборатории могут косвенно влиять на свои показатели в тесте IQ, поскольку их поведение оказывает личное, прямое влияние на экспериментаторов, проводящих тесты.
Постулат 3
В отличие от традиционной диадной исследовательской модели, которая сводится к оценке прямого влияния каждого из двух агентов друг на друга, план экологического эксперимента должен учитывать наличие в обстановке систем, которые включают более двух человек... Подобные более крупные системы необходимо анализировать с точки зрения всех возможных подсистем.
Это означает, что когда в какой-то обстановке взаимодействуют более двух человек, ситуация усложняется просто стремительными темпами. Предположим, вы приглашаете для участия в исследовании маленькую девочку по имени Дженни. Поскольку она живет в полной семье, то будут иметь место не только ее отношения с мамой и папой, но также отношения мамы и папы между собой. Каждое из этих отношений между двумя людьми называют «диадой», и каждая диада является подсистемой некоторой более крупной системы из трех человек, называемой «триадой». Бронфенбреннер предупреждает, что мы не можем понять, к примеру, отношения Дженни с мамой, не понимая при этом два других вида отношений. Если в лабораторию приходят Дженни и мама, и во время сеанса свободной игры мы выясняем, что мама выглядит чрезмерно строгой и контролирующей поведение Дженни, наше первоначальное суждение может свестись к тому, что мама слишком строгая и властная. Но, делая это заключение, мы игнорируем возможность того, что на поведение мамы во время лабораторного сеанса могли повлиять ее отношения с отцом Дженни. Например, возможно, в лабораторию девочку должен был привести папа, но в последнюю минуту он решил отказаться от своих обязательств. В этом случае маме пришлось его заменить, что не вызвало у нее особой радости, и она могла излить свою досаду во время свободной игры с Дженни. Наше первоначальное предположение, что мама необычно строга и властна, ослабляется тем фактом, что ее поведение во время этого конкретного сеанса свободной игры, вероятно, не является точным отражением ее обычной, беззаботной натуры.
Постулат 4
Экологические эксперименты должны учитывать аспекты физической среды в качестве источников возможного косвенного влияния на социальные процессы, происходящие в данной обстановке.
Наконец, Бронфенбреннер показал, что люди — не единственные объекты, которые существуют в естественном окружении детей. Имеются также физические объекты. И эти физические объекты могут оказывать сильное влияние на любые социальные действия, происходящие в среде. К примеру, Бронфенбреннер описал одно исследование, которое показало, что почти 80% семей меньше разговаривают во время просмотра телепрограмм. Нет сомнений, что появление в семьях телевизоров в последние 50 лет радикально уменьшило возможности детей вести беседы со своими родителями, а также возможности родителей беседовать со своими детьми. Поэтому прежде чем детские психологи сделают вывод, что какие-то конкретные родители не испытывают потребности в общении со своими детьми, им стоит принять во внимание следующий тривиальный момент: как часто в доме включен телевизор, или, хотя бы, сколько в семье телеприемников.
Мезосистема
Оптимальный способ осмысления следующего уровня окружения, т. е. мезосистемы, — представить ее как совокупность микросистем, которые влияют друг на друга. Согласно Бронфенб-реннеру, «мезосистема включает в себя взаимосвязи между основными условиями, в которых оказывается развивающийся человек в конкретный момент своей жизни. Так, в случае 12-летнего американца, мезосистема обычно охватывает взаимосвязи между семьей, школой и группой сверстников; в случае некоторых детей она может также включать церковь, детский лагерь или рабочее место». Суть здесь в том, что влияния, которые имеют место в одних условиях, могут примешиваться к влиянию, которое присутствует в других условиях. Когда влияния индивидуальных условий распространяются на другие условия, вы имеете дело с мезосистемой. Бронфенбреннер сформулировал три постулата, которые детские психологи должны учитывать при изучении мезосистемы.
Постулат 5
В традиционной исследовательской модели поведение и развитие исследуются в данный момент времени только в каком-то одном условии, без учета возможных взаимозависимостей между условиями. Экологический подход предлагает рассматривать совместное влияние двух или более условий на их элементы. Это требование, когда оно выполнимо, предполагает анализ взаимодействий между условиями.
Например, ребенок может зайти в кондитерский магазин по пути в школу и купить коробку лимонных леденцов. Уже можно видеть непосредственное влияние кондитерского магазина на ребенка, поскольку он снабдил его кислыми, имеющими вкус лимона леденцами. Когда ребенок приходит в школуон может начать сосать леденцы во время контрольной работы по математике, вынуждая учителя сделать ему выговор за нарушение школьных правил. В этом случае, как вы могли заметить, имеет место двунаправленное влияние между ребенком и учителем внутри микросистемы школьного класса. Сосание ребенком леденцов влияет на учителя, а учительский выговор влияет на ребенка. Но отметьте, что присутствует также косвенное влияние микросистемы кондитерского магазина на микросистему класса. Выговор обусловлен совместным вкладом двух микросистем, между которыми возникают определенные отношения вследствие действий ребенка. Не будь школьного учителя, выговора не последовало бы; его также не последовало бы, не будь леденца. Выговор имел место только благодаря комбинации учитель + леденец, сочетающейся с желанием ребенка съесть леденец во время контрольной.
Теперь ребенок может вернуться домой в конце дня и сообщить маме, как он навлек на себя неприятности во время контрольной по математике тем, что стал сосать леденец. Мама может наказать мальчика, как за растрачивание денег на конфеты, так и за нарушение школьных правил. Это действие отражает еще одно совместное влияние микросистем. Если бы ребенок не купил леденцы в магазине, если бы он не нарушил школьные правила, если бы он не получил выговор от учителя и если бы он не сообщил о нем маме, его бы не наказали. В конце концов, хорошее понимание того, почему ребенка наказали, требует хорошего понимания того, как все микросистемы взаимодействуют друг с другом на уровне мезосистемы. Детские психологи, которые рассматривают поведение детей только в какой-то один момент времени, обречены на то, чтобы упустить из виду намного более содержательные источники влияния, которые сказываются на поведении детей.
Постулат 6
План экологического эксперимента, в котором один и тот же человек оказывается в более чем одном условии, должен учитывать возможные подсистемы, которые существуют, или могут существовать, в разных условиях.
Когда ребенок исполняет различные роли в разных условиях, такие как покупатель в кондитерском магазине, ученик и сын, условия не только оказывают различные независимые и совместные влияния на ребенка, но люди из различных условий могут также формировать системы отношений друг с другом. Например, когда мама нашего сладкоежки посещает родительские собрания, проводящиеся в школе каждое полугодие, она встречается с учителем и устанавливает с ним определенные отношения. Иногда она может посылать учителю записки и получать от него ответные послания. Отношения, возникшие между матерью и учителем, — пример подсистемы, которая охватывает разные условия. Если ребенок снова захочет пососать в классе леденцы, тогда выговор, который учитель сделает ребенку, может частично зависеть от его отношений с матерью ребенка. Если учитель хорошо относится к матери, он может смягчить свой выговор. Но если он считает ее злой старой ведьмой, то может не сделать вообще никакого замечания ребенку, полагая, что ему и так достается дома. Вместо этого он может просто молча отобрать леденец у ребенка, не приводя ученика в состояние ненужного смущения. Суть здесь в том, что дети являются продуктом не только собственных представлений, желаний и способностей, но также того, как их представления, желания и способности взаимодействуют с условиями среды. А условия одновременно и влияют на ребенка, и испытывают влияние со стороны друг друга.
Постулат 7
Контекст, полезный для исследований развития, обеспечивается экологическими переходами, которые периодически имеют место в жизни человека. Эти переходы включают в себя изменения в ролях и условиях, как функцию созревания человека или функцию событий в жизненном цикле других людей, отвечающих за заботу о нем и за его развитие. Подобные переходы понимаются и анализируются как изменения в экологических системах, а не только внутри индивидуумов.
Идея, стоящая за этим постулатом, такова: детские психологи должны осознать не только то, что дети меняются и развиваются, но что меняется и развивается также их экологическое окружение. К примеру, мы привыкли думать о домашней среде как о некоем неизменном условии. Но домашняя среда может заметно преобразиться, если ребенок и его семья переезжают на новое место жительства. Возле его нового дома может оказаться
баскетбольная площадка, и у него появится возможность развить свои атлетические навыки. Кроме того, в новом доме может быть более просторный сад, газон которого он будет подстригать, что позволит ему получать больше денег от родителей на карманные расходы.
Экзосистема
В двух типах окружающих условий, о которых мы только что говорили, — микросистеме и мезосистеме — ребенок был непосредственным участником происходящих событий. Воспринять их как окружающие условия легко, поскольку между ними и ребенком устанавливается прямая связь. Но существуют более широкие, более отдаленные виды окружающих условий, которые влияют на ребенка, даже когда он не вступает в физический контакт с ними. Первый из этих видов условий Бронфенбреннер назвал экзосистемой. Он определил ее как «расширение мезосистемы, охватывающее другие специфические социальные структуры, как формальные, так и неформальные, которые сами не включают в себя развивающегося человека, но воздействуют на непосредственные условия, в которых человек оказывается, или вбирают в себя их и тем самым затрагивают, ограничивают или даже определяют происходящее». Типовая экзосистема, которая, вероятно, вам знакома, включает мир производственных отношений, средства массовой информации, местные органы власти, торговлю и промышленность, а также местную общину. Единственный постулат Бронфенбреннера, касающийся экзоси-стемы, всего лишь предлагает детским психологам принять эк-зосистему во внимание и не дает специальных предписаний в отношении того, как это сделать.
Постулат 8
Изучение экологии человеческого развития требует исследований, которые выходят за рамки непосредственной среды, включающей человека, и рассматривают более широкие контексты, как формальные, так и неформальные, которые влияют на события внутри непосредственной среды.
Например, в северо-западной части штата Огайо, где я проживаю, местная система государственного образования решила направить часть своих средств на поддержку специальной программы, нацеленной на удовлетворение потребностей местных «одаренных» детей. Одаренными считаются те дети, которые
получают очень высокие баллы в стандартных тестах интеллекта или достижений. Чтобы удовлетворить потребности этих детей, наша местная система образования разработала специальную программу. По четвергам все одаренные дети из начальных школ освобождаются от обычных уроков и собираются в отдельном классе в одной из школ. Там учитель, подготовленный для работы с одаренными детьми, проводит урок, план которого соответствует повышенным интеллектуальным потребностям этих детей. Вот вам прекрасный пример влияния экзосистемы на развитие детей. В данном случае «более широкий контекст» — это решение системы образования предоставить одаренным детям дополнительные услуги. Хотя дети, по сути дела, не связаны напрямую с данной политикой, они непосредственно контактируют с одаренным классом и учителем, которые появились в результате этой политики.
Давайте рассмотрим, как экзосистема может влиять на результаты исследований в детской психологии. Предположим, детский психолог хочет выяснить, какой процент одаренных учеников проходит курс средней школы до конца. Предположим, исследователь посещает десяток округов в своем штате и собирает в отделах образования этих округов данные о проценте учеников, завершивших обучение в школе. После анализа данных он заключает, что, в целом, по показателям ряда различных отделов образования, одаренные дети оканчивают среднюю школу не чаще, чем другие дети. Может ли это заключение быть ошибочным? Может! Точность этого вывода оказывается под сомнением, если не учтены влияния экзосистемы. Вероятность того, окончит ли одаренный ребенок среднюю школу, может во многом зависеть от политики местной системы образования в отношении предоставления специальных услуг одаренным детям. Одаренным детям, которые учатся в системах образования, не разрабатывающих специальные программы для одаренных, может наскучить обычная программа. В результате, они могут склоняться к тому, чтобы бросить школу, и даже в большей степени, чем другие дети. Одаренные же дети, которые учатся в системах образования, удовлетворяющих их потребности, могут склоняться к тому, чтобы бросить школу, в меньшей степени, чем остальные дети. Детский психолог не имеет возможности выявить какие бы то ни было различия между группами одаренных и обычных детей без учета влияний экзосистемы, которые обусловливают то, предоставляет или нет система образования услуги одаренным детям.
Макросистема
Источником наиболее широких, наиболее глобальных и наиболее опосредованных влияний на развитие детей является макросистема. Бронфенбреннер определил макросистему как «преобладающие институциональные паттерны культуры или субкультуры, такие как экономическая, социальная, образовательная, правовая и политическая системы, конкретными проявлениями которых являются микро-, мезо- и экзосистемы. Макросистемы понимаются и изучаются не только в терминах их структуры, но и как носители информации и идеологии, которые, как явно, так и скрыто, наделяют смыслом и мотивацией определенные учреждения, социальные сети, роли, виды деятельности и взаимосвязи».
Еще одно громоздкое, туманное психологическое определение. А суть его всего лишь в том, что любому обществу присущи определенные культурные и субкультурные ценности, которые становятся настолько органичной частью общества, что члены последнего могут даже не осознавать возможность других ценностей. В Соединенных Штатах, к примеру, ценность образования принимается как нечто само собой разумеющееся. В наши дни от большинства людей ожидают получения образования хотя бы в колледже. В американской культуре дети в процессе своего роста развиваются внутри контекста этого культурного ожидания. Это не означает, что большинство американцев стремятся получить образование в колледже, но те американцы, которые его не получают, часто полагают, что им следовало бы его иметь. Образование — это ключевой компонент «американского образа жизни».
Разумеется, не все культуры придают образованию столь большое значение. Например, в некоторых странах Среднего Востока женщинам запрещено учиться в колледже. А в других странах, особенно в бедных, дети зачастую не получают вообще никакого образования. Бронфенбреннер предупреждает нас, что проводя исследования в детской психологии, мы должны помнить не только о том, что развитие ребенка происходит внутри контекста основных культурных ценностей, но также то, что мы, как ученые, поддерживаем определенные культурные ценности и должны быть восприимчивыми к тем влияниям, которые эти ценности оказывают на наши занятия наукой. Эти соображения являются основой последнего постулата Бронфенбреннера.
Постулат 9
Исследования экологии человеческого развития должны включать эксперименты, предполагающие новаторское реструктурирование преобладающих экологических систем такими способами, которые отступают от существующих институциональных идеологий и структур путем переопределения целей, ролей и видов деятельности и путем создания взаимосвязей между системами, ранее изолированными друг от друга.
Именно потому, что макросистема столь всеохватывающа, очень трудно исследовать ее влияние на развитие детей. Можно провести кросс-культурное исследование с целью сравнения детей из разных культур. Но поскольку культуры не похожи друг на друга, и поскольку макросистема столь сильно влияет на микро-, мезо- и экзосистемы, нельзя быть уверенным, обусловлены ли различия детей из разных культур макросистемой или второстепенными системами. Поэтому Бронфенбреннер рекомендует проводить трансформационные эксперименты. В этих экспериментах берут детей из какой-то одной культуры и помещают их в ситуации, характеризующиеся радикальными отступлениями от идеологии, присущей их культуре. Разумеется, возникает вопрос: как этого добиться?
Согласно Бронфенбреннеру, образцовым примером трансформационного эксперимента, относящегося к макросистеме, является известный «эксперимент в Роббере Кейв», проведенный Музафером Шерифом (Muzafer Sherif) в 1950-х годах. Исследовательской площадкой был спортивно-трудовой лагерь в Роббере Кейв. В лагерь привезли 24 мальчика в возрасте примерно 12 лет, принадлежавших к низшим слоям среднего класса, и сначала дали им возможность принять участие в ряде мероприятий, способствовавших установлению дружеских отношений. Когда мальчики лучше узнали друг друга, их разбили на две более мелкие группы. Мальчики в каждой из этих групп жили, трудились и играли вместе, и между ними завязалось множество новых дружеских контактов. Возникшее чувство групповой сплоченности было очень сильным. Между двумя группами было проведено несколько соревнований, в результате которых возросла внутригрупповая преданность, а также усилился межгрупповой антагонизм. Межгрупповое соперничество было настолько явным, что у мальчиков в каждой группе сформировалась достаточно сильная неприязнь к детям из другой группы (многие из которых еще недавно были их друзьями).
Эту внутригрупповую сплоченность и межгрупповое недоверие, которые шли рука об руку, можно рассматривать как довольно распространенный аспект американской культуры, как одну из ее макросистем — которой мы не слишком гордимся, но которая, тем не менее, существует. Люди часто определяют себя с точки зрения позитивных характеристик собственной группы и дистанцируют себя от того, что они воспринимают как негативные качества других групп. Наш дискомфорт в отношениях с незнакомыми группами может возрасти до уровня отвращения и нетерпимости. Как бы то ни было, после того как Шериф привил двум группам мальчиков эту американскую культурную идеологию, он затем попытался ее изменить. Выбранный им метод оказался весьма успешным. Он создал ряд «чрезвычайных» -ситуаций, преодоление которых потребовало сотрудничества между обеими группами. Например, в лагере оказалось нарушенным водоснабжение, и мальчикам из обеих групп предложили участвовать в совместном поиске места предполагаемой утечки воды. «Трансформационный» результат был в итоге таким: мальчики из обеих групп забыли о своих разногласиях и стали трудиться на общее благо. Недоверие уступило место гармонии. Ничто не помогает объединению двух противников в большей степени, чем внезапное появление третьего, более опасного, общего врага.
Заключение
Экологический подход Бронфенбреннера с самого начала подвергался постоянным уточнениям и улучшениям. Но несмотря на то что некоторые из терминов были изменены, большинство основных идей и вопросов остались нетронутыми. Теперь Бронфенбреннер называет свой теоретический подход «биоэкологической парадигмой», а исследования в детской психологии, которые включают биоэкологическую точку зрения, описываются как модели «процесс — человек — контекст — время» (РРСТ model). Как и в прежней формулировке, новая модель сфокусирована на психологическом развитии детей, влиянии непосредственного окружения и всесторонних влияниях более отдаленных социальных и культурных идеологий. Но пересмотренная модель уделяет более явное внимание роли времени в развитии детей (эта роль называется хроносистемой). Исчерпывающее описание текущего состояния экологической теории Бронфенбреннера можно найти в статье, которую он опубликовал
в 1994 году в журнале Psychological Bulletin в соавторстве со Стивеном Сеси (Stephen Ceci).
Ури Бронфенбреннер разработал свою экологическую психологию с той целью, чтобы детские психологи задумались о многогранных влияниях окружения детей на их психологическое развитие, учли одновременное влияние самих детей на их окружение и стали проводить исследования, выявляющие эффекты этих влияний. Хотя детские психологи на протяжении длительного времени признавали значимость среды в развитии детей, «среда» обычно представляла собой плохо определенную, свободно трактуемую совокупность всевозможных объектов, которые существуют вовне. Экологическая теория Бронфен-бреннера оказалась революционной потому, что она расчленила «среду» и идентифицировала ряд уровней общего влияния среды, каждый из которых действует одновременно и интерактивно, сказываясь на жизни детей. Бронфенбреннер также снабдил нас общей терминологией, которую можно использовать, характеризуя каждый из уровней воздействия среды.
Несмотря на ее внешнюю логику и доступность, экологическую теорию Бронфенбреннера использовать не слишком легко. Достаточно трудно провести одиночный эксперимент при каком-то одном лабораторном условии, не говоря уж о переносе исследования на множество других условий микросистемы с одновременным учетом связей людей в каждом из этих условий с другими людьми в этих и прочих условиях. Возможно, по этой причине огромное большинство исследователей в детской психологии по-прежнему не принимают подход Бронфенбреннера, по крайней мере, в развернутом варианте. Тем не менее, замечания Бронфенбреннера хорошо согласуются с воззрениями большинства детских психологов, которые обычно признают важность учета множественных контекстов для понимания психологического развития ребенка. Как правило, подобные высказывания можно найти в тех разделах их опубликованных исследовательских статей, где они говорят о направлениях будущих исследований. Хотя большинство исследователей отказывается открыто признавать теорию Бронфенбреннера, мне думается, что ему, по меньшей мере, приятно видеть, что столь большая часть современного сообщества детских психологов сознает необходимость рассмотрения экологии ребенка. Неизвестно, в каком состоянии пребывала бы сегодня детская психология, если бы не революционное переосмысление Бронфен-бреннером характера среды, окружающей детей.
Библиография
Bronfenbrenner, U., & Ceci, S. J. (1994). Nature-nurture reconceptualized in developmental perspective: A bioecological model, Psychological Review, 101, 568-586.
Moen, P., Elder, G. H., Jr., & Liischer, K. (1995). Examining lives in context:
Perspectives on the ecology of human development. Washington, DC: American
Psychological Association. Sherif, M., Harvey, O. J., White, B. J., Hood, W R., & Sherif, C. N. (1961).
Intergroup conflict and cooperation: The Robbers Cave experiment. Norman,
OK: University of Oklahoma Book Exchange.
Вопросы для обсуждения
1. Можете ли вы идентифицировать факторы, относящиеся к каждому из четырех контекстов, по Бронфенбреннеру, которые влияют на ваше поведение в данный момент? Можете ли вы идентифицировать факторы, относящиеся к каждому из четырех контекстов, по Бронфенбреннеру, которые влияют в данный момент на поведение вашего лучшего друга?
2. Одно из утверждений Бронфенбреннера состоит в том, что экспериментатор не может вывести себя за рамки экспериментальной ситуации, поскольку само его существование влияет на реакции ребенка на него. Может ли вывести себя за рамки экспериментальной ситуации физик? Влияет ли существование физика на физическую среду, которую он исследует? Влияют ли человеческие качества физика на интерпретацию им результатов, которые он получает в своем физическом эксперименте?
3. В чем, на ваш взгляд, сходства и различия между влиянием макросистемы на граждан Израиля и на палестинцев, которые живут на территориях, оккупированных Израилем? Какие влияния макросистемы могли бы объяснить, почему обе группы столь сильно ненавидят друг друга?
Глоссарий
Авторитарное воспитание (authoritarian parenting) — у Бомринд: один из основных стилей воспитания, характеризуемый ориентацией на беспрекословное послушание и завышенными ожиданиями.
Авторитарность (authoritarianism) — склонность к строгости и негибкому применению власти.
Авторитетное воспитание (authoritative parenting) — у Бомринд: один из основных стилей воспитания, характеризуемый ориентацией на личностный рост ребенка и гибкий подход к ребенку, но с сохранением высоких ожиданий.
Агент, агенс (agent) — в предложении: человек, животное или другой одушевленный организм, который делает что-то или заставляет что-то свершиться.
Агрессия (aggression) — действие с намерением причинить другому человеку физический или эмоциональный вред.
Адаптабельность (adaptability) — у Томаса, Чесе и Берча: одна из характерных черт, отражающая, что детей можно успокоить, когда они испытывают страдания.
Аддитивная связь (additive relationship) — на взгляд Анастази, наивное ожидание, что для того чтобы понять развитие ребенка, достаточно просуммировать эффекты среды и генетические влияния.
Аккомодация (accommodation) — в теории Пиаже: процесс, который объясняет, каким образом существующие схемы видоизменяются с учетом новой информации.
Ассимиляция (assimilation) — в теории Пиаже: процесс включения новой информации в существующие схемы.
Аффекциональная система «младенец — мать»- (infant-mother affectio-nal system) — отношения привязанности, любви между малышами и их матерями.
База безопасности (secure base) — в теории привязанности: роль, исполняемая матерью в отношениях «мать — ребенок» с безопасной привязанностью. Если мать является для малыша базой безопасности, он станет компетентным исследователем окружающей среды.
Бенефициант (beneficiary) — в предложении: человек, животное или другой одушевленный организм, который получает что-то в результате действия, выраженного глаголом.
Бинокулярные клетки (binocular cells) — клетки зрительной коры, которые получают информацию от обоих глаз.
Буферный агент (buffering agent) — человек или объект, который помогает предотвратить нечто, способное причинить вред.
Быстро привыкающие (short-habitua-tors) — характеристика, обычно прилагаемая к малышам, которые привыкают к чему-то относительно быстро (см. привыкание).
Внутренний голос (inner voice) — в теории Выготского: постоянный внутренний диалог, который мы ведем, когда пытаемся разрешить какие-то проблемы.
Внутриличностная функция речи (in-trapersonal function of speech) — понятие Выготского, предполагающее, что в итоге дети научаются в большей или меньшей степени вести внутренний диалог при решении проблемы. Они начинают прислушиваться к внутреннему голосу.
Возможность переключения (distracti-bility) — у Томаса, Чесе и Берча: одна из характерных черт, показывающая, насколько легко дети прерывают свою деятельность под влиянием посторонних событий.
Воспитание с позиции силы (power assertive discipline) — форма воспитания, опирающаяся на более высокий физический, эмоциональный или финансовый статус родителя.
Врожденная (природная) ориентация на людей (congenital person-orientation) — характеристика, описанная Беллом и подобная приближению/
удалению у Томаса, Чесе и Берча, когда ребенку присуще сильное стремление быть среди людей.
Врожденная (природная) настойчивость (congenital assertiveness) — характеристика, описанная Беллом и подобная длительности и помехоустойчивости внимания у Томаса, Чесе и Берча, когда ребенок продолжает целенаправленно действовать, несмотря на препятствия.
Врожденный (innate) — обычно означает «присутствующий на момент рождения», но иногда используется в значении «содержащийся в генах».
Вторичные циркулярные реакции (secondary circular reactions) — у Пиаже: третья подстадия сенсомоторно-го развития. Малыш проделывает нечто интересное с каким-то внешним объектом и пытается воспроизвести это действие. В данном случае вторичные означают «внешний объект», а циркулярные — «повторение акта».
Высшие психические функции (higher psychological process) — в теории Выготского: способность пользоваться языком и применять орудия труда.
Генетика поведенческого развития (developmental behavior genetics) —
область исследования, предполагающая изучение того, в какой степени поведение и его развитие обусловлены генами и сопутствующими генетическим проявлениями.
Гипотеза (hypothesis) — ожидание или прогноз на основании ведущих элементов теории.
Гистологический анализ (histological examination) — тип анализа, когда под микроскопом изучают срезы мозговой ткани на предмет ее ней-роанатомической организации.
Глубинная структура (deep structure) — основополагающие грамматические связи между подлежащими, глаголами и дополнениями, предположительно присущие всем нормальным носителям всех языков. Должна быть превращена в поверхностную структуру, до того как человек сможет изложить свои идеи посредством речи или письма.
Грамматические морфемы (grammatical morphemes) — см. Морфемы.
Двунаправленность влияния (bidirec-tionality of influence) — предложенная Беллом идея, что не только родители влияют на своих детей, но и дети одновременно влияют на своих родителей.
Дизиготные, двуяйцевые близнецы (dizygotic twins) — сиблинги, родившиеся одновременно, но происходящие из двух независимых оплодотворенных яйцеклеток.
Добродетель в форме жертвенности (goodness as self-sacrifice) — у Гиллиган: второй уровень нравственности, когда хорошие и плохие поступки определяются с точки зрения того, способствуют ли они благополучию других.
Долго привыкающие (long-habitua-tors) — характеристика, обычно прилагаемая к малышам, которым требуется относительно много времени для привыкания (см. Привыкание).
Дополнение (complement) — в предложении: нечто, создаваемое глаголом. Называют также дополнением глагола.
Дополнение в форме придаточного предложения (object noun phrase complement) — этот замысловатый термин предполагает, что в качестве дополнения глагола может выступать целое предложение. В высказывании: «Я надеюсь, Джейн чистит свой «ос», слова Джейн чистит свой нос являются дополнением в форме придаточного предложения.
Естественное наблюдение, наблюдение в естественных условиях (naturalistic observation) — исследовательский план, при котором исследователь наблюдает за поведением в обстановке, возникающей естественным образом.
Естественный отбор (natural selection) — дарвиновское понятие, использованное Пиаже для того, чтобы объяснить сохранение хороших,
адаптивных идей и исчезновение плохих, неадаптивных. Жизнестойкость (resilience) — способность нормально развиваться, несмотря на явно неблагоприятные условия.
Зависимая переменная (dependent variable) — в эксперименте: интересующее исследователя итоговое поведение, на которое предположительно влияет какой-то другой фактор или которое вызвано каким-то фактором (см. Независимая переменная).
Зона ближайшего развития (zone of proximal development) — популярное понятие, предполагающее, что дети могут функционировать на более высоком уровне, когда их направляет более зрелый и опытный человек. Технически эта зона определяется как разница в способности, проявляемой при выполнении задания в одиночку и при выполнении его вместе с более опытным человеком.
Импринтинг (imprinting) — биологический процесс, посредством которого малыш привязывается к взрослому представителю вида.
Инстинкт (instinct) — в теории Боулби: любая поведенческая система, которая (1) у большинства представителей вида следует схожему и предсказуемому паттерну, (2) является не простой реакцией на одиночный стимул, а последовательностью действий, которые происходят в предсказуемой очередности, (3) вызывает последствия, которые важны для выживания индивидуума или вида, и (4) развивается, даже когда отсутствуют возможности для того, чтобы обучиться ей.
Инструмент (instrument) — в предложении: средство, используемое агенсом для того, чтобы сделать что-то или заставить что-то свершиться.
Инструментально-целевая последовательность (means-ends sequencing) — использование одной схемы с целью сделать возможным использование второй схемы. Первая схема применяется в качестве инструмента, позволяющего использовать вторую схему.
Интеллектуальная адаптация (intellectual adaptation) — более общий процесс, который включает аккомодацию и ассимиляцию.
Интенсивность реагирования (intensity of reaction) — у Томаса, Чесе и Берча: одна из характерных черт, показывающая, насколько энергично дети реагируют на мир.
Интерактивная связь (interactive relationship) — зависимость характера одного события от уровня или качества другого события.
Интернализация (internalization) — у Выготского: включение в нашу психику процессов, которые, начинаясь как межличностные, переходят во внутренний план, в результате чего они становятся внутрилично-стными.
Интернализация схем (internalization of schemes) — процесс, посредством которого примитивные, сенсомотор-ные схемы получают, в конце концов, ментальное представительство. Другими словами, они становятся интернализованными.
Интернализованное расстройство (internalizing disorder) — любое из множества расстройств, которые обычно появляются впервые в среднем или позднем детстве и характеризуются избыточной тревогой.
Ипсилатеральный (ipsilateral) — относящийся к той же самой стороне.
Качество настроения (quality of mood) — у Томаса, Чесе и Берча: одна из характерных черт, отражающая общую позитивность или негативность настроя, проявляемую ребенком.
Качество соответствия (goodness of fit) — степень, в которой ребенку с определенным профилем характерных черт соответствует его социальное и физическое окружение.
Колоннообразная микроструктура (columnar micros tincture) — согласно сообщению Хьюбела и Визела, тип организации клеток в зрительной коре, при котором группы клеток, реагирующих на схожие визуальные стимулы, расположены в виде колонн.
Конвенциональная мораль (conventional morality) — у Колберга: второй уровень морального развития, когда хорошие и плохие поступки определяются тем, что о вас могут подумать окружающие, если вы совершите эти поступки.
Континуум нарушений воспитания (continuum of caretaking casualty) — У Самероффа и Чандлера: набор факторов, относящихся к пост-натальному влиянию заботящихся взрослых, который может способствовать негативным психологическим исходам.
Континуум репродуктивных нарушений (continuum of reproductive casualty) — у Самероффа и Чандлера: набор факторов, относящихся к биологическим процессам вынашивания ребенка и родов, который может способствовать пренатальным или перинатальным осложнениям и впоследствии негативным психологическим исходам (см. Пренаталъ-ные осложнения и Перинатальные осложнения).
Контралатеральный (contralateral) — относящийся к противоположной стороне.
Контроль верхней ступени (upper-limit control practices) — набор приемов воспитания, который родители используют при регулировании крайнего или необычного поведения детей.
Контроль нижней ступени (lower-limit control practices) — набор приемов воспитания, который родители используют при регулировании нормального, повседневного поведения ребенка.
Контрольная группа/условие (control group/condition) — группа или условие, в которых не происходит ничего необычного или нового. Служат в качестве модели, с которой сравнивают экспериментальную группу или условие, где происходит нечто необычное или новое.
Корковые клетки (cortical cells) — клетки, которые образуют кору мозга.
Корреляционный план (correlational design) — исследовательский план, при котором целью является выявление паттернов связей между двумя переменными.
Критический эксперимент (critical experiment) — особый тип эксперимента, результаты которого помогают определить валидность двух или более конкурирующих теорий и сделать выбор в пользу одной из них. Если получают одни результаты, подтверждается теория А, если другие - теория В, и т. д.
Легкий ребенок (easy child) — профиль сочетания характерных черт, включающий выраженную реакцию приближения, биологическую ритмичность, позитивное настроение, высокую адаптабельность и низкую интенсивность реакций.
Либеральное воспитание (permissive ' parenting) — у Бомринд: один из основных стилей воспитания, характеризуемый ориентацией на полное приятие ребенка, но без больших ожиданий.
Локализация (location) — в предложении: местонахождение состояния, действия или процесса, выраженного глаголом.
Лонгитюдный план (longitudinal design) — план исследования развития, при котором исследователь наблюдает за одними и теми же индивидуумами в процессе их перехода из одной возрастной группы в другую (другие) и делает выводы относительно процессов развития, которые лежат в основе изменений данных индивидуумов с возрастом (см. Поперечно-срезовый план).
Макросистема (macrosystem) — в экологической теории Бронфенбреннера: преобладающие институциональные паттерны культуры или субкультуры, такие как образовательная, правовая и политическая системы.
Медленно приспосабливающийся ребенок (slow-to-warm-up child) —
профиль сочетания характерных черт, включающий исходно сильную реакцию удаления и неадаптабель-ность, но и низкую интенсивность реагирования, с итоговым перехо
дом к толерантности и приятию ситуации.
Межличностная функция речи (interpersonal function of speech) — понятие Выготского, предполагающее, что нередко для решения проблемы необходим диалог между двумя людьми.
Мезосистема (mesosystem) — в экологической теории Бронфенбреннера: совокупность микросистем, которые влияют друг на друга.
Ментальная модель (mental model) — в теории привязанности: ряд присущих ребенку, основанных на опыте ожиданий в отношении надежности и отзывчивости матери.
Механизм овладения языком (language acquisition device, LAD) — предполагаемый врожденный механизм мозга, содержащий все возможные грамматические, морфологические и, быть может, даже фонологические правила для всех возможных языков, и определяющий, какие правила релевантны для данного ребенка на основании языка, воздействие которого он испытывает в своей окружающей среде.
Микросистема (microsystem) — в экологической теории Бронфенбреннера: комплекс отношений между развивающимся человеком и непосредственным окружением, включающим этого человека.
Модель (model) — в исследовании Бандуры: индивидуум, намеренно или ненамеренно демонстрирующий поведение, которое наблюдают и которому подражают другие.
Модуляции значения (modulations of meaning) — в сущности, то же самое, что морфология (см. Система морфологических правил).
Монозиготные, однояйцевые близнецы (monozygotic twins) — сиблинги, родившиеся одновременно и происходящие из одной оплодотворенной яйцеклетки, которая разделилась после оплодотворения.
Морфемы, или грамматические морфемы (morphemes, grammatical morphemes) — наименьшие единицы смысла в языке. Различают два основных типа: свободные морфемы, которые могут существовать самостоятельно и иногда называются корневыми словами, и связанные морфемы, которые могут существовать, только когда они связаны в слове и стоят в его начале (префиксы), конце (суффиксы) или в середине (инфиксы). См. Система морфологических правил.
Нативизм (nativism) — философское течение, которое почти все в развитии малышей объясняет врожденными причинами (см. Врожденный).
Независимая переменная (independent variable) — в эксперименте: фактор, который, предположительно, вызывает интересующее исследователя итоговое поведение или влияет на последнее, и которым экспериментатор манипулирует, с тем чтобы выявить, что произойдет (см. Зависимая переменная).
Незнакомая ситуация (strange situation) — популярная методология, разработанная Эйнсворт для оценки качества привязанности «мать — ребенок».
Номотетический подход (nomothetic approach) — научный подход, который нацелен на выявление универсальных, основополагающих законов.
Нонконформистское воспитание (nonconforming parenting) — стиль воспитания, при котором родитель обычно ведет себя в манере, которая нарушает нормы общества, иногда демонстрируя откровенно странное поведение.
Нормативное развитие (normative development) — нормальное развитие.
Нравственность ненасилия (morality of nonviolence) — последний и высший уровень нравственности, предложенный Гиллиган, когда хорошие и плохие поступки определяются с точки зрения того, способствуют ли они установлению и сохранению отношений между людьми.
Онтогенез (ontogeny) — путь развития индивидуального представителя вида.
Операциональное определение (operational definition) — когда психологи оценивают выделенные психологические черты, характеристики или способности, они описывают специфические операции или процедуры, которыми будут пользоваться при оценке. Любая операция или процедура, которую они выбирают для оценки черты, характеристики или способности, является их операциональным определением этой черты, характеристики или способности. К примеру, типовым операциональным определением интеллекта является показатель теста IQ.
Ориентация на индивидуальное выживание (orientation to individual survival) — первый и наиболее примитивный уровень нравственности, предложенный Гиллиган, когда хорошие и плохие поступки определяются с точки зрения того, способствуют ли они выживанию индивидуума.
Ориентированный на достижения (achievement oriented) — стремящийся достичь успеха или значимой цели.
Острота зрения (visual acuity) — то, насколько хорошо вы видите. «Нормальная» острота зрения - 20/20.
Отклоняющееся, девиантное развитие (deviant development) — аномальное развитие чего-либо.
Относительное предложение (relative clause) — вид придаточного предложения, которое включено в остальное предложение. В предложении «Мужчина, который зашел пообедать, остался на неделю», слова «который зашел пообедать» являются относительным предложением.
Пассивное принятие (passively ассер-tant parenting) — стиль воспитания, при котором родитель всегда внешне приемлет ребенка, даже когда тот не слушается.
Пациент, пациенс (patient) — в предложении: кто-то или что-то, либо находящееся в данном состоянии, либо претерпевающее изменение состояния.
Первичные циркулярные реакции (primary circular reactions) — у Пиаже: вторая подстадия периода сенсомоторного развития. Малыш проделывает нечто интересное со своим телом и пытается воспроизвести это действие. В данном случае первичные означает «собственное тело», а циркулярные - «повторение акта». Перинатальные осложнения (perinatal complications) — факторы, действующие во время рождения ребенка, которые могут затруднять роды и ослаблять здоровье малыша или матери.
Пластичность (plasticity) — свойство клеток мозга и организации мозга проявлять высокую гибкость и адаптивность и не быть обреченными на развитие лишь каким-то специфическим образом.
Поведенческий психолог/бихевиорист (behavioral psychologist, behavio-rist) — психолог, который считает, что любое поведение усваивается через опыт посредством той или иной формы классического либо инструментального обусловливания.
Поверхностная структура (surface structure) — грамматическое упорядочение устного и письменного языка. Извлекается из глубинной структуры говорящего или пишущего посредством ряда правил преобразования.
Повествовательный исследовательский план (narrative research design) — форма исследования, в которой акцент делается на устные сообщения участников исследования; при этом учитывается, что каждое сообщение включено в уникальный смысловой контекст, создаваемый участником, предоставляющим информацию.
Поперечно-срезовый план (cross-sectional design) — план исследования развития, при котором исследователь наблюдает за индивидуумами из разных возрастных групп (двух или более), и делает выводы относительно процессов развития, которые лежат в основе изменений в каждой из этих групп (см. Лонгитюдный план).
Порог возникновения реакции (threshold of responsiveness) — у Томаса, Чесе и Берча: одна из характерных
черт, показывающая, насколько интенсивным должен быть стимул, чтобы ребенок на него прореагировал.
Постконвенциональная мораль (post-conventional morality) — третий и высший уровень морального развития, предложенный Колбергом, когда хорошие и плохие поступки определяются с точки зрения ваших собственных интернализованных идеалов и принципов.
Постоянство объектов (object permanence) — представление, что объект продолжает существовать даже при отсутствии визуальной, слуховой или любой иной сенсорной информации от этого объекта.
Правила структуризации предложения (phrase structure rules) — правила перехода от глубинной структуры предложений к поверхностной, зависящие от грамматики конкретного языка.
Преконвенциональная мораль (ргесоп-ventional morality) — первый и самый примитивный уровень морального развития, по Колбергу, когда хорошие и плохие поступки определяются тем, накажут или вознаградят вас за их совершение.
Пренатальные осложнения (prenatal complications) — факторы, действующие до рождения ребенка, которые могут ослаблять здоровье малыша или матери.
Приближение/удаление (approach/ withdrawal) — у Томаса, Чесе и Берча: одна из характерных черт, показывающая, насколько приятны детям новые объекты или люди.
Привыкание (habituation) — снижение быстроты реагирования, которое обычно имеет место как результат многократного предъявления стимула.
Принцип экономии (principle of parsimony) — практика, принятая во всех науках, и требующая, чтобы принималось простейшее из возможных объяснений феномена, пока не будут выявлены данные, свидетельствующие об обратном.
Природные детерминанты (congenital determinants) — врожденные факторы, которые способствуют определенным типам психологического развития или являются их причиной.
Проблема направления воздействий (direction of effects problem) — проблема, присущая всем корреляционным планам, выражающаяся в невозможности определить, какая из двух связанных переменных является причиной другой.
Продолжительность и помехоустойчивость внимания (attention span/ persistence) — у Томаса, Чесе и Берча: одна из характерных черт, отражающая длительность временного промежутка, в течение которого дети готовы работать над какой-то задачей.
Проспективная наука (prospective science) — подход к проведению психологических исследований, цель которого — изучить поведение на раннем этапе и проследить, как оно меняется и развивается во времени. Это «впередсмотрящий» подход.
Пунитивное (карательное) поведение (punitive behavior) — поведение, нацеленное на наказание.
Реакция опеки (cute response) — гипотетическая биологически обусловленная система реакций, благодаря которой малыши воспринимаются взрослыми как «миловидные» (прелестные, привлекательные), и тем самым повышается вероятность того, что взрослые станут о них заботиться.
Ретроспективная наука (retrospective science) — подход к проведению психологических исследований, при котором поведение изучают на более позднем этапе и делают выводы относительно причин, способствующих этому поведению. Это «назад-смотрящий» подход.
Рефлексы (reflexes) — в теории Пиаже: базовые структуры знаний, с которыми малыши начинают свой путь, а, значит, самые первые схемы.
Рецептивное поле (receptive field) — поле зрения, которое для определенной совокупности клеток сетчатки вызывает наиболее выраженную реакцию последних.
Ритмичность (rhythmicity) — у Томаса, Чесе и Берча: одна из характерных черт, отражающая регулярность и предсказуемость соматических процессов.
Самоэффективность (self-efficacy) —
чувство контроля над своей жизнью и судьбой.
Семантические связи (semantic relations) — роли, исполняемые словами в предложении, включая такие роли, как агенс, бенефициант, инструмент и пациенс.
Сигнальное поведение (signaling behaviors) — в теории привязанности: биологически подготовленный и эволюционно значимый набор сигналов, подаваемых малышом, с тем чтобы проинформировать мать о какой-то потребности или состоянии. Включает плач и улыбку.
Синтаксис (syntax) — правила построения предложений на основании грамматики языка. По правилам английского языка, в изъявительном предложении субъект предшествует глаголу, за которым следует объект. Другие языки имеют собственный синтаксис.
Система морфологических правил (morphological rule system) — система правил, уникальная для определенного языка, которая определяет, как комбинируются морфемы. В английском языке, чтобы получить существительное множественного числа, необходимо добавить образователь множественного числа в конце слова (саг + plural marker = cars) или внутри слова (woman + plural marker = women).
Система прагматических правил (pragmatic rule system) — система правил, уникальная для отдельных культур и субкультур, которая оговаривает, как следует использовать язык.
Система привязанности (attachment system) — система, которая сформировалась в результате тысячелетних процессов эволюционного отбора, и благодаря которой матери и дети испытывают притяжение друг к другу, тем самым повышая вероятность того, что малыши доживут до зрелости.
Система семантических правил (semantic rule system) — система правил, которая оговаривает сочетания слов, дающие смысл. «Жена холостяка» — фраза, не дающая смысла.
Система синтаксических правил (syntactic rule system) — система правил, уникальная для конкретного языка, которая оговаривает, как слова должны сочетаться друг с другом на основании грамматики данного языка.
Система фонологических правил (phonological rule system) — система правил, уникальная для определенного языка, которая оговаривает допустимое использование и сочетание звуков внутри этого языка. В английском языке имеется примерно 36-40 различных звуков; в некоторых языках их больше, в других меньше.
Служебные слова (filler words) — короткие слова, такие как предлоги, местоимения, союзы и артикли, которые не всегда необходимы для понимания основного смысла предложения, но использования которых требуют грамматические правила языка. Дети обычно начинают использовать их относительно поздно (см. Содержательные слова).
Содержательные, знаменательные слова (content words) — ключевые, «насыщенные» слова, такие как существительные и глаголы, которые являются в предложении основными носителями смысла. Как правило, большинство англоязычных детей сначала начинают использовать существительные и глаголы, и лишь затем - короткие служебные слова.
Социально адаптивное поведение (socially adaptive behaviors) — в теории Бомринд: поведение, которое помогает индивидууму ладить с другими людьми в частности, и с обществом в целом.
Социоэкономический статус (socioeconomic status) — характеристика общего качества среды, в которой воспитывается ребенок, основанная
на социальном статусе профессии родителя и уровне его доходов.
Среда адаптации (environment of adap-tedness) — специфическая среда, в которую данный вид включен эволюцией, и которой он более всего соответствует.
Средняя длина высказывания (mean length of utterance, MLU) — популярный способ, позволяющий быстро охарактеризовать насыщенность детской речи, подсчитав среднее количество морфем на высказывание. Предложен Роджером Брауном.
Стимул, раздражитель (stimulus) — любой объект или событие, которое организм распознает и/или на которое он реагирует.
Суррогатная мать (surrogate mother) — у Харлоу: проволочно-тряпичные «матери», с помощью которых воспитывались многие детеныши обезьян.
Схемы (schemas) — базовые структуры, которые лежат в основе любого знания; схема — это наше внутреннее представление или понимание объекта, идеи, события, факта или любой другой известной нам информации.
Телеграфная речь (telegraphic speech) —
речь, в которой опускаются служебные слова, но базовое послание, тем не менее, передается.
Теория обработки информации (information processing theory) — теория когнитивного развития, которая использует компьютер в качестве метафоры при описании мыслительной способности детей. Подобно компьютеру, у малышей имеются входные данные (ощущения) и выходные данные (поведение), и предполагаемые некие важные процессы, происходящие в промежутке.
Теория разума (theory of mind) — постепенно усложняющееся представление детей о том, что и другим людям присущи представления, намерения и желания; т. е. дети создают собственную миниатюрную теорию разума.
Терапия перерождением (rebirthing therapy) — спорный метод терапии, в ходе которой дети или взрослые с различными формами расстройства привязанности символически переживают повторное рождение.
Тонкая чувствительность (sensitive responsiveness) — у Эйнсворт: ключ к безопасной привязанности. Обладающие тонкой чувствительностью матери прекрасно улавливают потребности своих малышей и адекватно реагируют на них.
Тотальность функциональной социальной системы (totality of the functional social system) — утверждение Бронфенбреннера, что любая достойная внимания теория развития ребенка должна учитывать тот факт, что эксперименты, проводимые с людьми, сами являются социальной системой, и что поведение детей в этих экспериментах будет неизбежно отражать эту социальную систему.
Транзакциональная модель (transactional model) — теория развития ребенка, которая делает акцент как на гибком характере среды, окружающей детей, так и на активной роли, которую они играют в собственном психологическом развитии.
Трансформационный эксперимент (transforming experiment) — тип эксперимента, в котором дети сталкиваются с радикальными отступлениями от системы представлений, существующей в их культуре.
Требование взаимности (requirement of reciprocity) — утверждение Бронфенбреннера, что любая достойная внимания теория развития ребенка должна оговаривать не только то, как среда влияет на индивидуума, но также то, как индивидуум влияет на среду.
Третичные циркулярные реакции (tertiary circular reactions) — у Пиаже: пятая подстадия сенсомоторного развития. Малыш делает нечто интересное и пытается воспроизвести это действие, каждый раз изменяя при этом детали события, чтобы «посмотреть, что получится».
Трудный ребенок (difficult child) — профиль сочетания характерных черт, включающий сильно выраженную реакцию удаления, биологическую
неритмичность, негативное настроение, неадаптабельность и высокую интенсивность реакций.
Управляемый (tractable) — послушный, легко контролируемый.
Уровень активности (activity level) —
у Томаса, Чесе и Берча: одна из характерных черт, проявляющаяся в скорости и частоте движений ребенка.
Филогенез (phylogeny) — путь развития вида в целом.
Функционально инвариантные (functionally invariant) — понятие, использованное Пиаже и предполагающее, что хотя содержание мышления и знания может меняться и развиваться со временем, процессы, ведущие к развитию мышления и знания, всегда функционируют одинаково. Другими словами, они становятся функционально инвариантными.
Характерные черты (temperament) —
набор биологических и поведенческих предпосылок, заставляющий человека реагировать определенным образом на источники стимуляции в среде.
Целевое (purposive) — действие, направленное на достижение какой-то цели.
Широкая интерпретация (rich interpretation) — использование непосредственного социального и средового контекста в качестве ключа, помогающего интерпретировать намерение и/или смысл высказываний детей.
Экзосистема (exosystem) — в экологической теории Бронфенбреннера: ряд социальных структур, которые влияют на непосредственное окружение развивающегося человека, но не включают в себя этого человека.
Экологическая психология (ecological psychology) — научное изучение прогрессивной, взаимной аккомодации на протяжении всей жизни между развивающимся человеческим организмом и изменяющимся непосредственным окружением, в котором человек живет; причем на этот процесс влияют связи, существующие внутри этих непосредственных условий и между ними, а также более широкий социальный контекст, в который включены эти условия.
Экологические переходы (ecological transitions) — согласно Бронфенбреннеру, содержательные контексты, способствующие исследованиям развития. Эти переходы включают изменения ролей и условий по мере того, как человек становится более зрелым.
Экология (ecology) — отрасль биологии, которая изучает отношения между организмами и их окружением.
Экспериенциер (experiencer) — в предложении: человек, животное или другой одушевленный организм, который участвует в каком-то действии или переживает некоторое ментальное либо эмоциональное состояние.
Экспериментальная группа/условие (experimental group/condition) —
группа или условие, на которые экспериментатор воздействует тем или иным образом, чтобы проверить, отражается ли это воздействие на поведении испытуемых.
Экстернализованное расстройство (externalizing disorder) — любое из множества расстройств, которые обычно появляются впервые в среднем или позднем детстве и характеризуются демонстративностью, импульсивностью, агрессивностью и гиперактивностью.
Эпистемология (epistemology) — отрасль философии, которая занимается смыслом и истоками знания.
Этика заботы (ethic of caring) — повышенное беспокойство о благополучии других, чаще всего проявляемое и испытываемое женщинами.
Этика справедливости (ethic of justice) — повышенное беспокойство о собственной честности и соблюдении справедливости в обществе, чаще всего проявляемое и испытываемое мужчинами.
Этология (ethology) — отрасль биологи, которая занимается изучением того, как поведение видов помогает им выживать в естественной среде.








