2. Как работы Гарри Харлоу (см. главу 10) вписываются в теорию привязанности Боулби?
3. В чем могло бы выражаться поведение, демонстрирующее привязанность, у детей, матери которых страдают хроническими депрессивными расстройствами?
4. Чем еще современное человеческое общество отличается от среды адаптивности? Можете ли вы представить себе гипотетические обстоятельства, из-за которых поведение, связанное с проявлением привязанности, в будущем может превратиться в деза-даптивное?

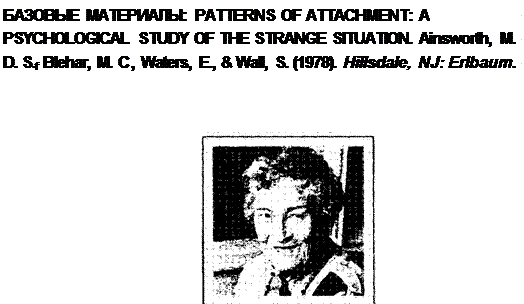
Эта незнакомая ситуация
«Парализующий страх» — именно это словосочетание лучше всего характеризует мое эмоциональное состояние на тот момент, когда я, уже будучи взрослым, впервые приехал в центральную часть Чикаго. Не то чтобы Чикаго производил особенно пугающее впечатление. Подозреваю, что он ничем не отличался от любого другого большого города с населением в несколько миллионов человек. И теперь, нередко бывая в Чикаго, я испытываю трепет перед теми возможностями культурной жизни, которые он сулит. Почему-то в тот первый приезд я пре
бывал в состоянии особой взволнованности. Уже потом я думал об этом, и, полагаю, понял причину. В тот день мы с моей невестой приехали в Чикаго, но встречающего у нас не было. Видите ли, мы планировали навестить нашу подругу Шарон, которая жила в центре Чикаго; мы собирались сделать ей сюрприз, будто бы «оказались поблизости» (на самом же деле мы были в часе езды оттуда, в Северной Индиане, но что такое несколько десятков миль?). Мы так стремились это сделать и потому, что был тот редкий момент, когда Шарон вернулась из одной из своих многочисленных командировок, но еще не уехала в другую. Мы думали, что просто заявимся к ней и скажем: «Привет!» По нашим предположениям, раз она сейчас не в командировке, то, значит, сидит дома в своей квартире в центре Чикаго. Такой расчет казался нам вполне разумным. В конце концов, что еще можно делать в Чикаго в солнечный субботний день, верно? (Это шутка, разумеется!) Как оказалось, она нас не ждала, и вообще, ее не * было дома.
В тот момент, когда до меня дошло, что мы оказались одни в этом огромном, шумном, неистовом городе, меня охватила легкая паника. Хотя сам я вырос в городе (хотя и значительно уступающем Чикаго по размерам), моим первым порывом было дать деру из этих каменных джунглей и вернуться на знакомую территорию. Потом мне кое-что пришло на ум. Причиной того, что я почувствовал себя таким испуганным, таким уязвимым, было отсутствие у нас «родного загона», «центра действий». Я знал, что вернись Шарон домой и открой нам двери в безопасные недра своей квартиры, все было бы хорошо. Мы были бы свободны в выборе достопримечательностей, которые хотелось посмотреть, и ресторана, куда пойти поужинать. Мы могли бы в полной безопасности исследовать новые для нас городские окрестности, зная, что есть безопасное место, куда мы можем вернуться в любой момент, как только возникнет необходимость. Так получилось, что Шарон действительно вскоре вернулась домой, и волшебное преображение окружающего мира не заставило себя долго ждать.
Если исходить из работы Мэри Эйнсворт (Магу Ainsworth), получается, что моя потребность иметь место, где я ощущал бы себя в безопасности, отнюдь не является чем-то необычным. В сущности, потребность в безопасном месте (или «базе», следуя терминологии Эйнсворт), по-видимому, является фундаментальной частью потребностей человека. В своей книге, которая была признана четвертой среди работ, совершивших революционный переворот в области детской психологии и опублико-
ванных после 1950 года, Эйнсворт в мельчайших деталях исследует, какое значение для развития имеет наличие базы безопасности. Свою работу она и трое ее соавторов, Мэри Блеар (Магу Blehar), Эверетт Уотерс (Everett Waters) и Салли Уолл (Sally VVall), начали с рассмотрения понятия привязанности, предложенного Боулби (к которому мы заглянули в предыдущей главе), и предприняли попытку исследовать влияние привязанности на эмоциональное развитие ребенка. Эйнсворт и ее коллег особенно интересовал механизм функционирования «системы привязанности» ребенка в знакомой или, напротив, незнакомой обстановке. К своему удивлению, Эйнсворт обнаружила, что отношения, основанные на привязанности между детьми и родителями, могут принимать самые разные формы. Именно открытие моделей привязанности принесло славу ей и ее работам. Свою книгу она озаглавила «Модели привязанности» («Patterns of Attachment).
Введение
Как я уже говорил, свою книгу Эйнсворт и ее коллеги начали с того, что по-новому рассмотрели центральные понятия теории привязанности Боулби. Разумеется, мы только что посвятили этой теории целую главу, поэтому нет необходимости излагать ее еще раз. Достаточно лишь сказать, что среди прочих важных понятий данной концепции наибольший интерес у Эйнсворт и ее коллег вызывала система привязанности, которая, по мнению Боулби, существует у каждого ребенка. С особенной пытливостью Эйнсворт стремилась разобраться в том, какие условия активируют систему привязанности ребенка, а какие тормозят ее функционирование. Что же это за условия?
Вы говорите, что немного подзабыли понятие привязанности? Хорошо, напомним в нескольких словах. Боулби утверждает, что у каждого младенца существует врожденная система привязанности, состоящая из поведенческих проявлений, сформировавшихся в процессе эволюции и способствующих более эффективной адаптации, которые помогают ребенку держаться рядом с матерью. Все, что может сделать ребенок для того, чтобы побудить маму быть рядом и никуда ее не отпускать, составляет поведение, основанное на привязанности. Ребенку достаточно сделать лишь одно движение, и мать тут как тут. Но все это, разумеется, не относится к детям, которые еще не умеют ни ходить, ни даже ползать. Их поведенческий репертуар, позволяющий привлечь внимание матерей, ограничивается плачем и
улыбкой. Такие формы сигнального поведения, пусть даже далекие от совершенства, нередко позволяют сделать так, чтобы мама была рядом; но даже с помощью этих форм не удастся добиться желаемого, если мать не видит или не слышит своего ребенка. После того как ребенок приобретает подвижность, его поведенческий репертуар обогащается такими действиями, как локомоции, что дает ему возможность самому двигаться по направлению к матери. Как мы уже отмечали в предыдущей главе, значение такого поведения заключается в том, чтобы обеспечивать выживание ребенка под заботливой опекой матери. Этот фактор имел колоссальное значение в доисторические времена, когда стоило ребенку остаться одному, и он имел все шансы отправиться на завтрак к львице и ее чадам в виде превосходного бифштекса.
Кроме того, Эйнсворт и ее коллег занимал вопрос, каким образом развитие мышления ребенка может сопровождать пове- * дение, основанное на привязанности, и способствовать его совершенствованию. Становясь старше, дети приобретают способность не только перемещаться, но и размышлять, а также строить планы о том, как им оставаться рядом с матерью. Так как обсуждение этого вопроса выходит за рамки предыдущей главы, поясним, что Боулби понадобилось немало времени для разработки понятия ментальной модели, или «когнитивной карты», но он доказал, что этот конструкт играет важную роль в формировании системы привязанности у детей. А что такое ментальная модель? Ментальную модель можно рассматривать как совокупность ожиданий, формирующуюся на основании опыта. С вашего позволения, я приведу пример. Когда я был ребенком, все ребята в моем дворе знали звуки машины, торговавшей мороженым. Драндулет, развозивший мороженое, очень медленно проезжал через наш двор, установленные на его крыше динамики громко играли приятную мелодию, а водитель продавал окрестным ребятишкам столько мороженого, сколько могли себе позволить их родители. В какую бы игру ни играли во дворе, мелодия, предвещавшая появление машины с мороженым, мгновенно овладевала всеобщим вниманием, и мы знали, что продавец этого лакомства скоро будет здесь. Пользуясь терминологией Боулби, у нас сформировалась ментальная модель машины с мороженым. Наша ментальная модель встречи с машиной, развозившей мороженое, состояла из звучавшей мелодии, вида машины и вкуса мороженого, если нам удавалось выклянчить у родителей деньги на его покупку. Однако, помимо прочего, ментальная модель машины с мороженым включала в себя даже вре
мЯ Года. Мы не ожидали, что она может появиться в середине зимы, когда на Среднем Западе лежит слой снега толщиной несколько дюймов, а то и целый фут. (Хотя, я припоминаю, что когда однажды январским днем в нашем дворе внезапно появился развозчик мороженого, знакомые мелодии потонули в огромных снежных сугробах. Не думаю, что в тот день у него было много покупателей!)
Так или иначе, и Боулби, и Эйнсворт полагали, что формирующиеся у детей ментальные модели матерей играют фундаментальную роль, определяющую запуск системы привязанности. У тех детей, чьи матери все время находились где-нибудь неподалеку, в конце концов, формировалась ментальная модель матери, как надежной фигуры, на которую можно положиться. Если же мамаша, напротив, часто оставляла ребенка одного, то у него рано или поздно формировалась ментальная модель матери, как фигуры абсолютно непредсказуемой. Эйнсворт и ее коллеги писали: «Если в ходе взаимодействия со своей матерью у ребенка формируются ожидания, что она всегда будет доступной для него и станет чутко реагировать на его сигналы и обращения, то это послужит весомым «модификатором» его цели достижения близости... при обычных обстоятельствах. Если полученный опыт внушит ему подозрения в ее досягаемости и чуткости, его стремление к близости... может быть несколько ограничено».
Принимая во внимание этот факт, Эйнсворт и ее коллеги разработали модель исследования детских систем привязанности. Они считали, что если удастся активировать у детей системы привязанности в условиях контролируемого эксперимента, то исследователи смогут лучше понять природу этих систем привязанности, так как появится возможность тщательно изучить внутренние механизмы функционирования таких систем. Для того чтобы активировать системы привязанности, Эйнсворт проделала процедуру, ныне известную во всем мире как незнакомая ситуация. На создание незнакомой ситуации Эйнсворт, скорее всего, вдохновили работы Харлоу с макаками-резусами (см. главу 10). Может быть, вы помните из той главы, что Харлоу помещали детенышей макак-резусов в незнакомую комнату, которую назвали неогороженной камерой (open-field chamber). Незнакомая обстановка этой камеры вызывала у детенышей макак мощнейший стресс, особенно если Харлоу запускали внутрь игрушечного медведя, который бил в барабан и наводил ужас на маленьких обезьянок. Несмотря на то что в отличие от Харлоу, доставлявших своим мохнатым подопечным столько
переживаний, Эйнсворт не собиралась так сильно пугать детей, участвовавших в ее эксперименте, она хотела поместить их в незнакомые, непривычные для них ситуации, сродни тем, в которых они вполне могли оказаться в повседневной реальной жизни.
Метод
Участники
Цитируя Эйнсворт и ее коллег: «Выборка состояла из детей белых родителей, принадлежавших к среднему классу жителей Балтимора, предварительно прошедших консультации с частнопрактикующими педиатрами. Возраст участников эксперимента составлял около 1 года. Общая группа [участников], состоявшая из 106 детей, была разделена на четыре группы, каждая из которых составляла выборку для отдельного эксперимента».
Материалы
Обстановка. Все наблюдения проводились в одной из двух лабораторных комнат, которые разделяло двустороннее зеркало. (Двустороннее зеркало сделано из особого стекла, которое с одной стороны выглядит как самое настоящее зеркало, а с другой — как обычное прозрачное окно). Скудная обстановка экспериментальной комнаты состояла из таких предметов мебели, как стол, стулья, книжный шкаф и металлический сейф (этот специфический предмет обстановки использовался по-разному в различных экспериментальных процедурах). Для 13 из участвовавших в эксперименте детей пол был покрыт плетеным ковриком, а остальные дети находились на непокрытом полу, разделенном на 16 квадратов таким образом, чтобы наблюдатели имели возможность более точно отмечать перемещения испытуемых по комнате. В одном конце комнаты находился детский стул, «со всех сторон от которого были разбросаны игрушки». В другом конце комнаты стояли два стула для взрослых, один из которых предназначался для матери, а другой для «незнакомки». Двустороннее зеркало было вмонтировано в стену, рядом с которой стояли стулья для взрослых. Наблюдатели следили за происходящим через двустороннее зеркало и записывали свои наблюдения на диктофон «Stenorette».
Персонал. В идеальных условиях процедуру незнакомой ситуации обслуживали пятеро сотрудников: двое наблюдателей, незнакомка, экспериментатор и встречающий. Задача последнего — встретить родителей и показать им экспериментальную
комнату. Работа экспериментатора заключалась в том, чтобы следить за временем и давать матери и незнакомке сигналы, когда входить в экспериментальную комнату, а когда из нее выходить. Наблюдатели должны были следить и по ходу дела записывать на диктофон рассказ обо всем, что происходит в экспериментальной комнате, (исследователи привлекали двоих наблюдателей, чтобы повысить вероятность более точного изложения происходящих событий). Задача незнакомки была в том, чтобы выступать в этой роли, а также по сигналу входить в комнату, выходить из нее и снова возвращаться. Думаю, вы сами могли бы назвать шестого человека, чье участие было совершенно необходимо, — это мама. В ее задачу входило просто быть мамой, и по сигналу выходить из комнаты, а потом возвращаться. В самом крайнем случае для выполнения процедуры можно было обойтись двумя сотрудниками, когда один из них выполнял роли встречающего и наблюдателя, а другой выступал в качестве экспериментатора и незнакомца.
Процедура
Процедура эксперимента в незнакомой ситуации состоит из восьми эпизодов. В связи с тем, что она хорошо известна и принадлежит к числу самых методологически оригинальных экспериментов, разработанных в течение последних пятидесяти лет, описывая каждый из эпизодов, я остановлюсь лишь на некоторых примечательных деталях. Однако небезынтересно будет отметить, что обдумывание процедуры заняло у Эйнсворт совсем немного времени. Поговорив не более получаса со своей коллегой Барбарой Уиттиг (Barbara Wittig), они представили описание эпизодов и их последовательность.
Эпизод 1: Мама, ребенок и экспериментатор. В ходе этого эпизода маму с ребенком приглашают в экспериментальную комнату. Маму просят внести ребенка в комнату и показывают, куда его посадить. Кроме того, ей подсказывают, куда после этого сесть (на один из стульев, стоявших рядом с двусторонним зеркалом). Во время этого эпизода, который считали первым столкновением с незнакомой ситуацией, исследователи ведут наблюдение за ребенком.
Эпизод 2: Мать и ребенок. Мама опускает ребенка на пол посередине между своим стулом и стулом незнакомки. Ребенка усаживают таким образом, чтобы он видел игрушки, находящиеся в другом конце комнаты. Считается нормальным и даже предпочтительным, если ребенок отправляется исследовать комнату (особенно игрушки). В течение первых двух минут маму про
сят не инициировать никакого взаимодействия с ребенком, хотя ей разрешается реагировать на обращения с его стороны так, как она сочтет нужным. Если спустя 2 минуты ребенок не начнет исследовать комнату и игрушки, то, согласно полученным инструкциям, мама должна подвести ребенка к игрушкам и попытаться пробудить у него интерес к ним. Во время этого эпизода наблюдатели фиксируют формы и интенсивность исследовательской деятельности, демонстрируемой ребенком.
Эпизод 3: Незнакомка, мать и ребенок. Затем в комнату входит незнакомка и говорит что-нибудь вроде: «Привет, я незнакомка!» Сразу после этого незнакомка садится на предназначенный для нее стул (находящийся рядом со стулом для мамы) и в течение минуты сидит молча. Она избегает пристально смотреть на ребенка, если тот настороженно ведет себя по отношению к ней. В течение следующей минуты (по сигналу) незнакомка заводит разговор с мамой. В продолжение последующей минуты незнакомка, по сигналу, начинает взаимодействовать с ребенком. Затем (итак, к этому моменту истекли 3 минуты от появления незнакомки) маме делают знак выйти из комнаты, предварительно убедившись, что ее сумочка осталась лежать на стуле. Мама старается выйти в такой момент, когда внимание ребенка занято чем-нибудь другим. Во время этого эпизода наблюдатели фиксируют, сколько и какое внимание ребенок уделяет незнакомке, сравнительно с тем, какое внимание он уделяет маме или исследованию игрушек. Кроме того, наблюдатели отмечают, насколько успешными оказываются попытки незнакомки вступить в контакт с ребенком.
Эпизод 4: Незнакомка и ребенок. После того как мама выходит из комнаты, незнакомка перестает так уж настойчиво общаться с ребенком, преследуя цель, чтобы тот мог заметить мамино отсутствие. Если ребенок возвращается к игрушкам, незнакомка садится на свой стул и сидит молча. В данном случае наблюдателей интересует, насколько ребенок будет увлечен игрушками, по сравнению с тем эпизодом, когда мама была в комнате. Но если ребенок начинает плакать, незнакомка пытается вмешаться, отвлечь его игрушками, а если не получается, то берет его на руки и начинает с ним разговаривать. Если успокоительные мероприятия приводят к желаемому результату, незнакомка старается снова заинтересовать ребенка игрушками. Если ребенок не слишком расстроился, этот эпизод длится в течение 3 минут. Предметом наблюдений в данном случае является реакция ребенка на уход мамы, а также на попытки незнакомки его успокоить. Спустя 3 минуты маме делают знак вернуться в комнату.
Эпизод 5: Мама и ребенок. Мама подходит к закрытой две-ведущей в экспериментальную комнату, с другой стороны, начинает говорить достаточно громко, чтобы ребенку было лышно. Затем она умолкает, открывает дверь и снова делает паузу- Эти паузы нужны для того, чтобы дать ребенку возможность, если он захочет, направиться в сторону двери. Мама получает инструкции предпринять все необходимые меры для того, чтобы успокоить ребенка и снова занять его игрушками. Тем временем незнакомка потихоньку удаляется из комнаты. Через 3 минуты, или как только ребенок придет в себя и будет готов к новому эпизоду, маме делают знак выйти. Она улучает момент, когда ребенок полностью поглощен игрушками, подходит к двери (опять оставляя сумочку), говорит: «Пока!», выходит и закрывает за собой дверь. Во время этого эпизода наблюдатели сосредоточиваются на том, как ребенок реагирует на появление мамы и на ее уход.
Эпизод 6: Ребенок один. На этот эпизод отводится 3 минуты, в течение которых ребенку дают возможность самостоятельно обследовать комнату. Если дитя плачет, ему предоставляется возможность успокоиться самому. Но если он начинает заходиться в плаче, эпизод прекращается. Наблюдатели обращают внимание на эмоциональную реакцию ребенка на уход мамы, а также на то, как быстро он возвращается к игрушкам.
Эпизод 7: Незнакомка и ребенок. Теперь уже незнакомка подходит к двери с внешней стороны и старается говорить достаточно громко, чтобы это было слышно ребенку. Затем она замолкает, открывает дверь и снова делает паузу. Как и в прошлый раз, эти паузы запланированы для того, чтобы дать ему возможность приблизиться к незнакомке, если ему захочется это сделать. Если он начинает плакать, незнакомка пытается его успокоить, взяв на руки, если ребенок позволяет ей это сделать. Если его удается утихомирить, она возвращает его к игрушкам и пытается ими увлечь. Если он начинает играть, незнакомка снова садится на свой стул. Тем не менее если при появлении незнакомки ребенок не начинает плакать, она прилагает все усилия, чтобы он приблизился к ней. Если он игнорирует ее побудительные сигналы, она подходит к нему сама и пытается заинтересовать его игрой. Если он с увлечением играет, она снова садится на свой стул. Наблюдатели отмечают, насколько легко незнакомке удается угомонить ребенка, стремится ли он к ней, принимает ли ее приглашения и включается ли в игру с ней. Кроме того, °ни описывают особенности реакции ребенка на возвращение
Двадцать великих открытий в детской психологии

незнакомки в комнату, по сравнению с реакцией на возвращу ние мамы в ходе эпизода 5.
Эпизод 8: Мама и ребенок. После окончания эпизода 7, за.. нимающего 3 минуты, мама возвращается в комнату. Она открывает дверь и выдерживает паузу, прежде чем поприветствовать ребенка. Потом она обращается к нему и берет его на руки.
Как вам удается распознать проявления привязанности?
В ходе подготовки наблюдателей их учили распознавать множество различных поведенческих проявлений, с помощью которых дети демонстрируют свою привязанность. Наиболее важными Эйнсворт и ее коллеги считали шесть специфических особенностей поведения. Вот краткое описание форм поведения, которые они считали таковыми: (1) стремление к близости и установлению контакта: отражается в том, насколько настойчиво ребенок пытается приблизиться к другому человеку; (2) поддержание контакта: отражается в том, насколько настойчиво ребенок стремится сохранить контакт, установленный с другим человеком; (3) сопротивление: своего рода противоположность стремлению к близости и установлению контакта, которая находит отражение в том, насколько активно ребенок старается держаться подальше от другого человека; (4) избегание: находит отражение не столько в активном сопротивлении или в стремлении держаться подальше от другого человека, сколько в игнорировании других; (5) поиск: во многом перекликается со стремлением к близости и установлению контакта, за исключением того, что поиск имеет место, когда желаемого человека нет в комнате; в этом случае ребенок подходит к двери и пытается ее открыть или остается стоять рядом с ней; (6) отстраненное взаимодействие: отражается в попытках ребенка взаимодействовать с интересующим его человеком на расстоянии, то есть не вступая в физический контакт; он демонстрирует свой интерес, устанавливая контакт глазами или обмениваясь улыбками.
Результаты
Хотя оригинальные инновации, которыми Эйнсворт обогатила процедуру незнакомой ситуации, пользовались огромной популярностью, ее звезда взошла еще выше, когда она обратила внимание на то, что поведение детей, основанное на привязанности, позволяет разделить их на три группы, в соответствии
^знакомая ситуация
gja——---------
моделями поведения. Эти модели она назвала «Группа А», «ГрУппа ®* и <<1РУппа С»- Когда я впервые встретил данные на-вания, первое, что пришло мне в голову, то почему же эта неугомонная Эйнсворт использовала такие бесцветные названия. Очевидно, они не несут никакой смысловой нагрузки, вроде того, чТ0 это первые буквы каких-нибудь названий или чего-нибудь еще. Как оказалось, Эйнсворт остановила свой выбор на этих ничего не значащих наименованиях именно потому, что они лишены какой-либо описательности. Она боялась, что если даст этим группам более осмысленные названия, скажем, «Плачущая группа» или «Счастливая группа», они (названия) могли бы повлиять на нее и ее коллег, подталкивая к отслеживанию определенных типов поведения и игнорированию других. Выбрав нейтральные обозначения «А», «В» и «С», Эйнсворт, по крайней мере, могла быть уверена, что присвоенные группам названия не повлияют на результаты работы наблюдателей.
И все же Эйнсворт пришлось описать различия между отдельными моделями поведения, основанного на привязанности, и таким образом, названия различных групп, в конце концов, были соотнесены с выделенными поведенческими моделями. Выделение специфичных моделей поведения, основанного на привязанности, вовсе не означало, что одни дети демонстрировали поведение такого рода, а другие нет. Детей, абсолютно лишенных привязанности, не было. Все дети, независимо от того, к какой группе их причислили, демонстрировали те или иные формы поведения, основанного на привязанности. Именно по этой причине Эйнсворт и ее коллеги считали, что все дети в той или иной степени испытывают привязанность. Скорее, дети отличались друг от друга качественными характеристиками привязанности. Опираясь на предложенную Эйнсворт категоризацию, мы приводим краткое описание различных типов поведения, основанного на привязанности, которое дети демонстрировали в незнакомой ситуации.
Группа А. Наиболее явной моделью поведения детей, вошедших в Группу А, было то, что они не проявляли каких-либо признаков беспокойства, когда оставались наедине с незнакомкой в незнакомой комнате, и избегали контактов с мамой в моменты воссоединения! В целом создавалось впечатление, что им безразлично, здесь мама или нет. На самом деле некоторые из этих Детей с более выраженным энтузиазмом принимали общество незнакомки, чем собственной матери! Группу А Эйнсворт разделила еще на два субтипа. Дети из группы А1 явно избегали
свою мать или полностью ее игнорировали. Дети из группы Д2 проявляли смешанную реакцию: некоторое стремление приблизиться к матери сочеталось со стремлением держаться подальше Группа В. Детей, принадлежащих к этой группе, по-видимому, отличали наиболее благополучные и адаптивные взаимоотношения с матерями, основанные на привязанности к ним. Таким детям свойственно было придавать особое значение взаимоотношениям с мамой в минуты их воссоединения. Тем не менее свою привязанность они выражали по-разному. Некоторые из детей сильно расстраивались, когда мама уходила, оставляя их одних, тогда как других это беспокоило значительно меньше. Но всех детей в этой группе объединяло то, что они видели в своих мамах базу безопасности, и бесконечно ценили их присутствие. Взяв за основу различия между детьми, входившими в группу В, Эйнсворт выделила три подгруппы. Дети из группы В1 практически не расстраивались при расставании, но зато демонстрировали явные признаки заинтересованности, когда матери возвращались в комнату. Однако они проявляли интерес к своим матерям на некотором расстоянии. То есть они не предпринимали попыток приблизиться к матери, а вместо этого приветствовали ее появление в комнате радостной улыбкой. Дети, которые были причислены к группе В2, испытывали переживания средней силы, когда мама выходила за дверь комнаты, и они больше, чем дети из В1, стремились к физическому контакту после ее возвращения. Дети, причисленные к подгруппе ВЗ, в отличие от других детей из группы В, больше всего стремились к близости с мамой. В эпизодах, когда матери возвращались в комнату, дети из этой подгруппы активнее всех стремились к ним навстречу и проводили рядом с ними больше всего времени. Но такие дети вовсе не обязательно проявляли сильное беспокойство в моменты расставания с мамами, они не особенно «цеплялись» за мам перед расставанием.
Группа С. Наблюдать за этими детьми было чрезвычайно интересно, так как их поведение, основанное на привязанности, носило весьма противоречивый характер. В моменты воссоединения с матерями они демонстрировали причудливые, зигзагообразные действия и движения, то решительно направляясь к мамам, то столь же активно их отвергая. Например, иногда при появлении матери они бежали ей навстречу только лишь затем, чтобы немедленно начать вырываться из объятий, стоило только мамам взять их на руки. Дети из этой группы либо очень расстраивались, когда оставались без мамы, и открыто демонстри-
овали гнев во время эпизодов расставания (С1), либо казались внешне пассивными (С2). Под характеристикой «внешне пассивные», я подразумеваю, что они ничего не предпринимали. Они просто сидели без движения, напоминая безвольную куклу.
Обсуждение
Главный успех Эйнсворт заключался в том, что выделив эти три стиля привязанности, она подготовила почву для изучения различных типов взаимоотношений между детьми и их матерями в рамках детской психологии. Но работа Эйнсворт возымела и еще один немаловажный эффект: ее система классификации могла быть использована для прогнозирования благополучного или неблагополучного развития ребенка в других сферах. Не сумей мы извлечь из этого пользу, размышляла Эйнсворт, как бы мы узнали, какой тип взаимоотношений, основанных на привязанности, принесет наилучшие плоды? Если же в этом разобраться, то у нас есть все основания вмешаться, когда мы видим, что отношения между матерью и ребенком развиваются не лучшим образом. Давайте попытаемся глубже понять скрытый смысл взаимоотношений, основанных на привязанности, разные формы которых получили обозначения А, В и С.
Группа В — наилучшая (безопасная) привязанность. Хотя с самого начала Эйнсворт и ее коллеги проделали огромную работу ради того, чтобы особенности собственного восприятия ситуации не влияли на разделение детей по категориям, характеризующим специфику привязанности (в частности, обозначили категории ничего не значащими наименованиями А, В и С), в конце концов получилось, что одни типы привязанности все равно лучше, чем другие. Очевидно, наиболее предпочтительной представляется группа В: «Типичный представитель группы В демонстрирует более позитивное поведение по отношению к своей матери, чем дети, принадлежащие к двум другим группам. Его связывают с матерью более гармоничные отношения, он в большей степени расположен к совместной активности и с большей готовностью выполняет материнские просьбы. [Ребенок из группы В] демонстрирует менее конфликтное поведение и с большим энтузиазмом идет на физический контакт со своей матерью». К тому же дети из группы В чаще воспринимают свою мать как базу безопасности для исследования внешнего мира, и, как правило, чувствуют себя относительно комфортно, когда обнаруживают, что ее нет рядом. Эйнсворт пишет: «Даже
когда [мама] находится вне поля зрения, [типичный представитель группы В] все равно верит, что она досягаема для него и что она немедленно откликнется, стоит ему только подать сигнал, что он ее ищет». Источник такого уровня комфорта Эйнсворт усматривает в том, что у детей группы В существуют ментальные модели матерей, согласно которым мать всегда доступна и неизменно откликается на любой призыв. Даже когда матери нет рядом, дети из этой группы убеждены, что в случае необходимости ее всегда можно позвать. По мнению Эйнсворт, безопасность, которую можно было наблюдать в группе В, обусловлена «тонкой чувствительностью» матерей. К счастью, в группу В попали примерно две трети детей, участвовавших в эксперименте.
Безопасная привязанность, продемонстрированная в группе В, имеет целый ряд преимуществ для процесса развития. В частности, дети из этой группы более расположены к совместной активности, и с большей готовностью выполняют материнские просьбы. Следовательно, дети, чью привязанность к матери можно охарактеризовать как безопасную, успешнее проходят процесс социализации. Успешно социализирующийся ребенок отличается большей социальной компетентностью, а социальная компетентность обеспечивает ему популярность. Во-вторых, такой ребенок меньше боится незнакомых предметов и людей. Если новое не слишком сильно их страшит, то, скорее всего, они будут успешно действовать в незнакомой им ситуации, например, когда впервые пойдут в школу, или во время экзамена при поступлении в школу. Неудивительно, что дети из группы В, которым свойственна безопасная привязанность к матери, как правило, успешнее проходят всевозможные тесты и получают более высокие оценки.
Группа С (тревожно-амбивалентная привязанность). В группу С входит гораздо меньше детей, чем в группы А или В, и все-таки детей, демонстрирующих тревожно-амбивалентное поведение, достаточно много, чтобы объединить их в отдельную группу. Как вы помните, дети из группы С чаще всего плакали, когда мама оставляла их одних в незнакомой ситуации; и когда она возвращалась, дети, казалось, не могли решить, заключить ли им в объятия любимую мамочку или избегать контактов с ней. По сути, иногда они выказывали желание, чтобы мать взяла их на руки, но сразу после этого старались избежать взаимодействия с ней. Складывалось впечатление, что они питают противоречивые чувства к родной маме. Вот почему иногда говорят, что они испытывают «амбивалентную привязанность». Конеч-
АО же, термин амбивалентный в данном случае означает противоречивость чувств.
Как оказалось, всех детей из этой группы объединяло нечто общее — их матери, как правило, не слишком чутко реагировали на призывные сигналы детей. Нет ничего удивительного в том, что дети из группы С почти все время плакали. В этом был особый смысл. Если бы вы все время плакали, а ваша мама не стремилась бы отреагировать на ваши потребности по первому зову, разве это не заставило бы вас плакать еще больше и горше? Кроме того, поскольку матери оставались глухи к коммуникативным сигналам, которые дети посылали им, эти малыши так никогда и не сформировали ментальную модель матери как эмоционально доступной фигуры. Напротив, в их ментальной модели мать представала фигурой эмоционально недосягаемой. А поскольку у этих детей не сформировалась ментальная модель мамы, на которую всегда можно положиться, они не научились использовать маму как базу безопасности для исследования окружающего мира. В свою очередь, отсутствие базы безопасности привело к значительному сокращению исследовательской активности детей из группы С, Памятуя же о том, насколько изучение окружающего мира определяет приобретение знаний об этом мире, нетрудно представить себе, в какой степени дети из группы С проигрывали в когнитивном развитии детям, входящим в группу В. .
Группа А (тревожно-уклончивая привязанность). Эйнсворт пишет, что «ключ к пониманию поведения группы А, очевидно, лежит в том, что там, где другие дети демонстрируют чрезвычайно сильную привязанность к матерям, дети группы А явно избегают контактов с ними». Тогда как дети, принадлежащие к группам В и С, ищут у своих матерей безопасности (дети группы В формируют надежную ментальную модель, а те, что составляют группу С, заходятся в плаче, стоит только матери уйти), отношение представителей группы А к своим матерям, судя по всему, следует охарактеризовать как «бери или беги». Причем, по-видимому, сами они отдают предпочтение второй части. Оказавшись в незнакомой ситуации, они часто попросту избегали собственных матерей, особенно в эпизодах воссоединения. Неужели эти дети так бесчувственны и равнодушны? Нет. Как выяснилось, настойчивое стремление этих детей держаться подальше от своих матерей следует расценивать как вполне адаптивное.
Видите ли, дело в том, что их матери сами не хотели быть рядом с ними. У их матерей прослеживалась склонность отвергать
собственных детей; они принадлежали к тому типу матерей, которые считают необходимым избегать близких контактов с ребенком. Вероятно, неприятие со стороны матерей причиняло детям величайшие страдания, в результате чего в их отношении к матери стали сквозить гнев и негодование. Но с этологической точки зрения, непрерывная демонстрация агрессии по отношению к матери не может быть конструктивной. Вы рискуете, что мать просто бросит вас и уйдет, лишив, таким образом, защиты и основного источника пропитания. Поэтому если у вас есть возможность не демонстрировать ей свой гнев, а она не предпринимает попыток находиться рядом с вами, то вам лучше всего просто избегать ее присутствия. Уклоняясь от контактов с ней, вы не рискуете дать волю своему гневу, и не маячите у нее перед глазами. Основной момент заключается в том, что дети группы А тесно связаны со своими матерями, а избегание, которое они демонстрируют, вероятно, служит наиболее адаптивным поведением, которое они смогли выработать за те короткие промежутки времени, что на них обращали внимание.
И, тем не менее, за тенденцию к уклончивой привязанности ребенку приходится расплачиваться в сфере межличностных отношений. Наиболее явным среди возможных последствий для дальнейшей жизни ребенка может стать неумение устанавливать стабильные, безопасные взаимоотношения с другими значимыми фигурами. Такие дети рискуют всю жизнь чуждаться социального комфорта, источником которого обычно являются благополучные отношения с окружающими людьми. Вместе с тем для них существует риск так и не научиться уживаться с другими. Недавно проведенное исследование показало, что дети с уклончивой привязанностью к своим матерям чаще сталкиваются с проблемами в школе и хуже ладят с друзьями*.
Новые направления
| * В отечественной литературе употребляются следующие названия групп: А — небезопасная привязанность избегающего типа; В — безопасная привязанность; С — небезопасная привязанность амбивалентно-сопротивляющегося типа. — См., например: Практикум по возрастной психологии / Под ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб: Речь, 2001. С. 598621. — Прим. ред. |
Выделение стилей привязанности стало монументальным достижением Эйнсворт, а ее работа дала толчок многим тысячам исследований, посвященных привязанности. Однако несмотря
на огромный авторитет Эйнсворт, как автора революционных исследований в области детской психологии, и несмотря на введенные ею инновации с незнакомыми ситуациями и открытие трех категорий привязанности, ей на удивление не везло с получением грантов на финансирование своих работ. В это трудно поверить, но в большинстве университетов страны от преподавателей ждали, а зачастую даже требовали, чтобы они получали финансирование своих исследований из внешних источников. Большинство заявок на финансирование поступает в правительство Соединенных Штатов, где такие учреждения, как Национальные Институты Здоровья (National Institutes of Health) и Национальный Научный Фонд (National Science Foundation), ежегодно выделяют миллионы долларов специалистам в области детской психологии. Поэтому исследователи постоянно находятся под жестким прессингом, вынуждающим их «выколачивать» деньги на свои проекты. Но, по той или иной причине, Эйнсворт так и не вкусила плодов внешнего финансирования. По мнению Мэри Мэйн (Mary Main), коллеги и соратницы исследовательницы, Эйнсворт не удавалось получить финансирование, главным образом, потому, что ее работа была особой. Работа Эйнсворт была «специфична тем, что акцент был сделан на изучении отдельных индивидуальностей, и в подаваемых ею заявках, описывавших значение различий в структуре привязанности между ребенком и матерью, фигурировало разделение на устрашающе малочисленные группы, а, кроме того, эти работы невозможно было повторить». Несмотря на недальновидность финансирующих инстанций, исследования, посвященные феномену привязанности, основывавшиеся преимущественно на оригинальной теории и методологии Эйнсворт и продолжавшие ее идеи, проводились еще в течение десятилетий. Как и подобает исследованию, совершившему переворот в науке, в работе Эйнсворт больше вопросов, чем ответов. А ученые, по мере сил, стараются ответить хотя бы на некоторые из них.
Одной из целей исследования было выяснить, является ли мать единственной фигурой, по отношению к которой у ребенка может сформироваться привязанность. Мать была идеальной кандидатурой на эту должность, но предначертано ли ей самой природой стать единственной, к кому может привязаться ребенок? Или другие могут сыграть эту роль не хуже? Как оказалось, взаимоотношения, основанные на безопасной привязанности, могут формироваться у детей не только с матерями, но и с Другими лицами, скажем, с отцом, с бабушкой или дедушкой, братом или сестрой, а иногда и с кем-нибудь другим, кто берет
на себя все заботы о ребенке. Очевидно, что мать выступает в качестве главной фигуры не просто потому, что она мать. Ее значение как объекта привязанности определяется тем, что она, как правило, в первую очередь заботится о ребенке, и что само ее положение предопределяет особую чуткость к потребностям ребенка. Как нетрудно представить, такие данные служат огромным утешением для нетрадиционных семей, которые все чаще можно встретить, где ребенок растет только с одним родителем — с папой.
Еще одной целью исследования было узнать, подвергаются ли дети, проводящие по 8 часов в день в детском саду, риску формирования взаимоотношений на основании небезопасной привязанности. Как вы, возможно, понимаете, и как, быть может, было и в вашем детстве, многие дети дошкольного возраста живут в семьях, где люди, обеспечивающие уход за ребенком, вынуждены уходить на работу не менее 5-ти раз в неделю. В отсутствие других родственников, которые могли бы помочь ухаживать за ребенком, у родителей нередко просто не остается другого выбора, кроме как отводить дитя на весь день в ежедневный детский сад. Уже в течение многих лет родителей терзает страх, что у детей, которых отдали в детские сады, могут сформироваться взаимоотношения на основе небезопасной привязанности, как следствие того, что дети много времени проводят в разлуке со своими близкими. К сожалению, на этот вопрос исследователи не дают однозначного ответа. Хотя, по данным некоторых исследований, существует риск, что у детей, посещающих детские сады, сформируются уклончивые отношения, но в других научных работах подобных данных получено не было. Думаю, нам придется потерпеть, пока научное жюри не вынесет по этому поводу окончательный вердикт.
Но одно из недавних исследований, которое, полагаю, представляет особый интерес, было посвящено разработке методологии для изучения привязанности во взрослом состоянии! Исследователи, занимающиеся проблемой привязанности, предпринимают все больше усилий, стремясь охарактеризовать особенности привязанности у взрослых. С помощью методики под названием Интервью о Привязанностях у Взрослых (Adult Attachment Interview) родителей расспрашивали о том, какого рода привязанность они испытывали к своим родителям, когда сами еще были детьми. По иронии судьбы оказалось, что взрослых тоже можно разделить на три категории по характеру привязанности, и эти категории полностью повторяют классификацию Эйнсворт. Но, возможно, еще более поразительным пока-
#сется тот факт, что, по данным этого исследования, взрослые с оПределенным типом взаимоотношений, основанных на привязанности, устанавливают аналогичные отношения со своими детьми. Полагаю, это называется передачей типа взаимоотношений, основанных на привязанности, из поколения в поколение. Но, делая такое умозаключение, мы поднимаем вопрос о том, что родители, которые сами в детстве сформировали взаимоотношения, основанные на небезопасной привязанности, рискуют спровоцировать такую же небезопасную привязанность у своих детей. Отношения, основанные на привязанности, заразны.
Выводы
Я думаю, самое важное, что мы можем вынести из работы Эйнсворт, это то, что мать (или любая другая фигура, становящаяся основным объектом привязанности) играет очень значимую, центральную роль в процессе формирования у ребенка взаимоотношений, основанных на здоровой привязанности. Ключевым понятием в работе Эйнсворт была чуткость как основа формирования реакций (sensitive responsiveness) у матери. Хотя у всех детей гарантированно формируется тот или иной тип привязанности, безопасную привязанность испытывают только те малыши, чьи мамы обладают чуткостью. Однако это ключевое понятие породило немало сомнений у исследователей, научные интересы которых выходили за рамки феномена привязанности. В частности, концепция чуткости, как основы реагирования матери на потребности ребенка, возлагает всю тяжесть ответственности на плечи матерей (или других фигур, к которым привязан ребенок). Как и ее предшественника Джона Боулби, Мэри Эйнсворт осуждали за то, что в тех случаях, когда в отношениях между матерью и ребенком что-то не ладилось, она усматривала «материнскую вину».
Отчасти проблема заключалась в том, что Эйнсворт просто не уделяла должного внимания особенностям темперамента ребенка. Ученые, занимавшиеся проблемой темперамента, отмечали, что в эпизодах разлуки матери с ребенком при экспериментах с незнакомой ситуацией, возможно, некоторые дети плакали не из-за небезопасной привязанности, а в силу биологической предрасположенности к проявлению тревоги в необычных обстоятельствах. Детский психолог из Гарварда Джером Каган Oerom Kagan) широко известен своей работой, в которой показал, что некоторые дети обладают биологической предрасполо
женностью к высокой реактивности симпатической нервной системы. Это означает, что такие дети плачут при малейшем отклонении от нормального фона. Когда эти дети плачут, утверждает Каган, это не всегда свидетельствует о наличии у них небезопасной привязанности; возможно, их реакция связана со свойствами темперамента. Дело в том, что, коль скоро, склонность ребенка к плаксивости можно объяснить особенностями его темперамента, то мать не должна винить себя в этом.
Хотя исследование Эйнсворт было посвящено клиническим аспектам нормального эмоционального развития детей, ее работа получила широкий резонанс, который распространился далеко за пределы сфер изучения нормального и, в частности, эмоционального развития, наиболее существенно затронув область психопатологии развития. Специалисты в этой области заняты проведением лонгитюдных исследований, направленных на то, чтобы выяснить, может ли выделение вида привязанности в детстве служить основанием для прогнозирования последующего развития таких патологий, как депрессии и поведенческие нарушения. А специалисты в области когнитивного развития начинают задаваться вопросом, могут ли отношения, основанные на привязанности к родителям, служить фактором когнитивного развития детей. Это предположение из разряда тех, что понятны с точки зрения здравого смысла: если дома у вас проблемы с родителями, то вряд ли в школе вы будете блестящим учеником. Но наука не может основываться на здравом смысле. Науке нужны достоверные свидетельства. В ближайшие несколько лет мы получим долгожданные данные, подтверждающие влияние отношений, основанных на безопасной привязанности, в младенчестве и раннем детстве на дальнейшую жизнь человека.
Понятие привязанности занимает центральное положение практически во всех современных концепциях эмоционального развития детей. Полагаю, можно сказать, что теория привязанности могла бы предоставить самому научному сообществу базу безопасности, отталкиваясь от которой, можно отправляться в рискованные предприятия на разведку новых, неизведанных территорий психологического развития ребенка. Серия из двух коротких вспышек, порожденных теоретическими размышлениями Боулби и методологически-эмпирическими достижениями Эйнсворт, совершила революционный переворот в области детской психологии. Представить себе, какие перемены принесет следующая революция в области детской привязанности — это непросто, но очень волнующе.
Библиография
Ainsworth, М. D. S., & Marvin, R. S. (1995). On the shaping of attachment theory and research: An interview with Mary D. S. Ainsworth (Fall 1994). Monographs of the Society for Research in Child Development, 60 (Serial No. 2-3), 3-21.
Bretherton, 1. (1992). The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary
Ainsworth. Developmental Psychology, 28,759-774. Fagot, В. I., & Kavanagh, K. (1990). The prediction of antisocial behavior from
avoidant attachment classification. Child Development, 61,864-873. Main, M. (1999). Mary D. Sailer Ainsworth: Tribute and portrait. Psychoanalytic
Inquiry, 19, 682-736.
Вопросы для обсуждения
1. Работы Эйнсворт подвергали критике, поскольку автор уделяла слишком мало внимания тому, в какой степени манера поведения самих детей определяет качество взаимоотношений между матерью и ребенком. Как различные особенности темперамента у детей могли оказать благотворное или негативное влияние на взаимоотношения, основанные на привязанности?
2. «Незнакомая ситуация», предложенная Эйнсворт, была настоящей экспериментальной инновацией. Безусловно, определенные ограничения были связаны с необходимостью проводить эксперимент в лабораторных условиях. Можете ли вы придумать ситуации из реальной жизни, похожие на «незнакомую ситуацию»? Если провести эксперименты с этими ситуациями из реальной жизни, получат ли исследователи более ценные данные, чем получила Эйнсворт в лабораторных условиях? Почему?
3. Сторонники теории привязанности считают фактор «база безопасности» определяющим благополучное эмоциональное развитие в детстве. Тем не менее наличие базы безопасности на протяжении всей жизни может оказаться важным для психического здоровья вообще. Можете ли вы привести два-три примера из собственной взрослой жизни, когда, имея в своем распоряжении своего рода базу безопасности, вы извлекли из этого выгоду или, наоборот, понесли ущерб?

«Тебе это причинит гораздо больше боли, чем мне»
БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: CURRENT PATTERNS OF PARENTAL AUTHORITY.
Baumrind, D. (1971). Development Psychology Monographs, 4(1, part 2).

Это была обычная семья служащих. Отец работал за гроши,
Мать присматривала за ребенком, возилась на кухне, А отец, приходя с работы, орал на домочадцев.
Вот типичная история родительского воспитания. Всем нам эта история знакома. Мы все знаем ее, независимо от того, воспитывали ли нас биологические родители, отчим или мачеха, при
емные родители, родители-роботы, или мы росли в стае волков. ц всем нам есть что рассказать о воспитании (за исключением того случая, когда нас вырастили волки, и мы не можем выражаться на человеческом языке). Часто мы защищаем дисциплинарные приемы наших родителей, а иногда, наоборот, даем себе слово, что ни в коем случае не будем воспитывать своих детей так же, как воспитывали нас самих. Мои студенты очень быстро начинают раздражаться, когда я спрашиваю их о том, как их воспитывали. Я придаю голосу официальный тон и произношу какую-нибудь сентенцию, например, такую: «Яо данным исследований, если детей часто шлепают, то это приводит к негативным последствиям, проявляющимся в течение длительного периода времени». Не успеваю я закончить фразы, как какой-нибудь спортивного вида студент отвечает мне: «Но, послушайте, мои родители шлепали меня, и посмотрите, какой я вырос!» Я насмешливо улыбаюсь и продолжаю: «Ну, и каким именно вы стали после этого?» И тут студенты, сидящие рядом с этим парнем, начинают сдержанно хихикать.
У всех у нас есть свое мнение о том, как надо воспитывать и растить детей. Но мы не всегда осознаем, когда наше мнение противоречит фактам. Поэтому преподаватель психологии часто видит, что студенты испытывают тягостные чувства при изучении детской психологии, так как их, студентов, представления о воспитании могут быть ошибочными. Стоит заметить, что у других наук нет такого тяжелого багажа. Когда преподаватель по физике рассказывает нам о том, что атомы состоят из электронов, нейтронов и протонов, мы говорим: «Да, понятно». Мы не сомневаемся в том, что нам говорит физик. А почему мы должны сомневаться? Мы ведь не испытываем никаких чувств к атомам, и вряд ли кто-то лично знаком с протоном из атома белка. Мы ведь не в состоянии уменьшиться до размеров атома.
Однако всех нас воспитывали родители. И когда преподаватель по психологии говорит, что если часто шлепать ребенка, то это приводит к длительным негативным последствиям, такое заявление задевает нас за живое, потому что с этой темой мы уже немного знакомы. И все же, как и на уроке физики, когда нам приходится выслушивать то, что говорит физик, я думаю, полезно будет, если мы отложим в сторону наши собственные стереотипы и предубеждения и прислушаемся к тому, что может сказать детский психолог. Как коллеги-ученые, мы, по крайней мере, обязаны проанализировать все известное по этому вопросу, особенно если мы примем во внимание, что данные и факты подчас производят революцию в области детской психологии.
Работа Дианы Бомринд (Diana Baumrind) о влиянии разных стилей родительского воспитания названа шестнадцатой в списке наиболее революционных исследований в области детской психологии за период с 1950 года. Наиболее важно то, что некоторые типы воспитания действительно оказываются лучше других. Отчасти, правда, это зависит от того, что вы подразумеваете под словом «лучше». Сама Бомринд не считала однозначным свое мнение о том, какой стиль воспитания хороший, а какой — плохой. Она, скорее, исследовала поведение детей и их развитие. «Хороший» стиль воспитания Бомринд определила как такое воспитание, которое лучше всего подготавливало детей к адаптации во взрослом мире. То есть такой метод воспитания был социально адаптивным (socially adaptive). «Плохие» стили воспитания — наоборот, те, которые приводили к тому, что дети не приобретали навыков выживания. Это исследование было революционным, потому что оно научно доказало, что есть нормы хорошего воспитания. Эти нормы актуальны и сейчас, по крайней мере, когда мы говорим о воспитании в семьях с образованными родителями и доходом в семье на уровне среднего и выше среднего класса.
Введение
Во введении к своей статье 1971 года Бомринд не приводит подробной истории научных работ о воспитании детей. Она просто указывает, что ставит перед собой цель ответить на некоторые вопросы, возникшие у нее во время проведения предшествующих исследований. В своих предыдущих работах психолог уже определила три различных стиля воспитания. Это авторитетный, авторитарный и либеральный стили (authoritative, authoritarian, permissive). Стиль воспитания в исследованиях Бомринд определялся, исходя из поведения самих детей, а не на том основании, как вели себя с детьми родители. Целью же ее работы 1971 года стало изучение реального поведения родителей, чтобы проверить, проявятся ли те же три типа воспитания или нет.
Кроме того, в своем первоначальном исследовании Бомринд не учла того, как различные типы воспитания влияли на мальчиков и девочек. Вопрос о различиях между мужчинами и женщинами был довольно актуальной социальной проблемой того времени. В начале 1970-х годов борьба за права женщин еще только начинала разворачиваться. Женщины «сжигали свои бюстгальтеры», прикрываясь лозунгом борьбы за «освобожде
лие женщины». Заголовки газет кричали о ратификации поправки о равных правах в конституции США, а социальные психологи по всей стране стали исследовать источники тендерных отличий и тендерного равенства. Итак, основной темой исследования 1971 года было различное влияние стиля воспитания на мальчиков и девочек.
Метод
Участники
Для исследования отобрали детей, посещавших один из тринадцати детских садов в Беркли, штат Калифорния (эти детские сады приблизительно сходны с нынешними). Бомринд поставила условие, чтобы в эксперименте приняли участие дети в возрасте не менее 3 лет и 9 месяцев, а их коэффициент умственного развития IQ должен был составлять не менее 95 единиц (то есть изучались дети с нормальным уровнем развития). Кроме того, родители на время проведения исследования должны были разрешить психологу приходить, к ним на дом. Эта часть исследования называлась «визит домой». 16 детей негритянского происхождения и их семьи исключили из исследования, потому что психолог во время проведения предыдущего эксперимента выяснила, что черные родители воспитывали детей иначе, чем белые. Бомринд отмечала, что ею готовится отдельная статья о стилях воспитания, практикуемых чернокожими родителями. При этом важно помнить, что все результаты Бомринд, описанные в данной монографии, касаются только белых семей с высоким доходом и лишь детей с высокими показателями умственного развития. Все эти семьи проживали в Беркли, штат Калифорния. Окончательная выборка состояла из 60 белых девочек и 74 белых мальчиков, а средний коэффициент умственного развития составлял 125 единиц (то есть коэффициент IQ у этих мальчиков и девочек был выше среднего), средний возраст детей был чуть более четырех лет.
Материалы и процедура исследования
Бомринд стала пионером в области исследования воспитания детей. Как первопроходцу, ей приходилось самой придумывать методику оценки стилей воспитания и качества поведения детей. Диана Бомринд располагала большой информацией и использовала сложные измерительные техники для определения стилей поведения родителей и детей. Помимо этого психолог
использовала ряд статистических процедур, чтобы проанализировать очень сложный набор разных данных. О сложности этой техники и методах вы можете судить хотя бы по тому факту, что психологу понадобилось 46 страниц на описание измерительных инструментов и процедур! Далее я попытаюсь представить краткое резюме этих 46 страниц.
Показатели, касающиеся детей. Поскольку Бомринд хотела выяснить, какие стили воспитания оказываются лучше других, ей пришлось определить, что она подразумевает под термином «лучше». Стиль воспитания детей считался тем лучше, чем более ребенок в результате такого воспитания усваивал социально адаптивное поведение. Да и действительно, в чем еще могла состоять цель воспитания, если не в том, чтобы дети росли подготовленными к жизни? Поэтому психолог поставила перед собой цель измерить социально-адаптивное поведение у детей. Бомринд начала с использования метода, известного как естественное наблюдение (naturalistic observation). При таком наблюдении психолог просто наблюдает за ребенком в естественной обстановке и фиксирует те аспекты поведения, которые представляются существенными. В исследовании Бомринд за детьми наблюдали в двух ситуациях: когда они находились в детском саду и когда выполняли тест на интеллект (Stanford-Binet intelligence test).
Для проведения исследования Бомринд пригласила семь разных наблюдателей, однако к каждому ребенку прикрепили только одного наблюдателя. Кроме того, психолог уделила много внимания контролю надежности результатов, проверяя то, насколько согласованы были подходы наблюдателей при регистрации актов поведения детей. Наблюдатели были ориентированы отмечать признаки семи различных типов поведения. Шкалы, соответствующие каждому типу поведения, были биполярны: на одном конце шкалы — поведение, связанное с адаптивным характером развития ребенка (то есть поведение признавалось относительно хорошим), а на другом — с неадаптивным (то есть это поведение признавалось относительно плохим). Опять-таки учтите, что поведение считалось адаптивным или неадаптивным в зависимости от целей культуры белых благополучных людей с высоким коэффициентом умственного развития. Карла Бредли (Carla Bradley), изучающая стратегии воспитания у афро-американцев, может напомнить нам: то, что считается адаптивным для американских детей европеоидной расы, считается неадаптивным для афроамериканских детей. Как бы то ни было, мы
приводим список с семью типами поведения, по Бомринд, и пару примеров «плохого» и «хорошего» поведения для каждого типа.
fun поведения
Враждебное —
дружелюбное
поведение
Примеры адаптивного поведения
Забота о других детях или проявление симпатии к ним. Помогает другим детям осуществлять их планы
Примеры неадаптивного поведения
Оскорбляет, обижает других детей
Сопротивляющееся поведение — сотрудничество
Несговорчивость — сговорчивость
Стремление оказывать влияние — покорность
Целеустремлен -ное — бесцельное поведение
Ориентирован — не ориентирован на достижение
Независимый —
поддающийся
внушению
Послушный ребенок. Ребенку можно доверять
Ненавязчивость. Боязнь неодобрения со стороны взрослых
Лидер среди сверстников. Умеет противостоять стремлению других детей доминировать
Уверенный.
Самостоятельный.
Инициативный
Любит усваивать новые навыки. Показывает себя с лучшей стороны и в заданиях, и в игре
Склонен проявлять свою индивидуальность
Старается уклониться от руководства взрослых
Манипулирует другими детьми
Поддается внушению
Наблюдатель. Плохо
ориентируется в обстановке
Не проявляет настойчивости, когда сталкивается с препятствиями. Без удовольствия выполняет задания
Со стереотипным мышлением. Не сомневается, что взрослый все знает и всегда прав
В моем списке приводится всего пара примеров каждой категории поведения, у каждого ребенка в действительности наблюдалось гораздо более специфическое поведение. В этом эксперименте у детей оценивалось 72 параметра в поведении!
Показатели, касающиеся родителей. Стили воспитания также определялись на основании естественного наблюдения. Однако наблюдения за родителями проводились в семьях. Бомринд описывает это так: «Для того чтобы обеспечить стандартность ситуации обследования, наблюдатели всегда приходили в каждую семью с визитом незадолго до ужина, и весь визит длился до того времени, пока ребенок не укладывался спать. Известно, что именно в это время между родителями и детьми возникают трения, его выбрали, чтобы понаблюдать за самыми яркими взаимодействиями в период максимального стресса». Другими словами, наблюдатели находились в семьях в самый трудный период времени, — когда родители заставляли детей ложиться спать.
Несколько труднее описать то, как Бомринд измеряла методы родительского воспитания. Это измерение оказалось двухфазным. На первом этапе психолог выделила 15 различных методов воспитания, которые, как она думала, наиболее подходят для описания того, как родители выполняют свои родительские функции. На втором этапе Бомринд провела подробный статистический анализ и сократила число этих методов с 15 до более обоснованного числа (5 или 6). Кроме того, автор отдельно выполнила статистический анализ по данным, полученным от матерей и от отцов, и проверила, отличаются или нет практики воспитания матерей от наиболее важных практик воспитания у отцов. Я начну с того, чточперечислю 15 характеристик воспитания, которые изначально выделила Бомринд, а потом приведу сокращенный список, в котором охарактеризовано поведение матерей и отцов по отдельности. Учтите, что для каждого метода воспитания, как и для определения поведения детей, Бомринд включила конкретные признаки поведения. И наблюдатели должны были постараться зафиксировать эти проявления. Для каждого типа поведения родителей я приведу по два примера. Вероятно, вы сами сможете оценить собственных родителей по каждой из этих шкал (вспомните то время, когда вам было около 4 лет).
1. Ожидается или нет, что ребенок примет участие в выполнении домашних дел.
Примеры: Родитель требует, чтобы ребенок убрал игрушки. Родитель требует, чтобы ребенок сам оделся.
2. Родители стараются обогащать или же родители обедняют окружение ребенка.
Примеры: Родитель предоставляет интеллектуально стимулирующую среду. Родитель требует, чтобы ребенок стремился знать и уметь.
3. Директивность или недирективный характер воздействий на ребенка.
Примеры: Родитель устанавливает много правил и ограничений. Родитель устанавливает определенное время для отхода ребенка ко сну.
4. Поощрение или непоощрение эмоциональной зависимости от родителей.
Примеры: Родитель поощряет ребенка вступать в контакт с другими взрослыми. Родитель старается не слишком опекать ребенка.
5. Неодобрение или поощрение инфантильного поведения. Примеры: Родитель не поощряет ребенка говорить «как малыши» и демонстрировать инфантильную манеру поведения. Родитель требует того, чтобы ребенок умел вести себя за столом.
6. Гибкость родительского поведения и ясное понимание своей родительской роли или отсутствие гибкости и ясного понимания.
Примеры: Родитель четко ставит цели и рассказывает ребенку, как и что делать. Родитель придерживается стабильных и прочных представлений обо всем, что надо делать.
7. Родители твердо стоят на необходимости для ребенка выполнять требования родителей или родители не требуют обязательного выполнения правил*.
Примеры: Родитель использует негативные санкции, когда встречает сопротивление ребенка. Родитель требует, чтобы ребенок обращал внимание на его слова и запреты.
8. Родители используют послушание как важную позитивную ценность или же считают послушание несущественным или даже негативным качеством.
| * Далее в тексте эта характеристика будет обозначена как требовательность — нетребовательность. — Прим. ред. |
Примеры: Родитель вступает с ребенком в конфликт, когда ребенок не подчиняется. Родитель с готовностью использует власть, чтобы добиться от ребенка подчинения.
9. Родители стараются утвердить свою власть или стремятся установить с ребенком отношения в стиле сотрудничества. Примеры: Родитель считает, что он всегда и во всем имеет преимущество. Родитель не делится с ребенком своей властью по принятию решений.
10. Родители проявляют уверенность или неуверенность в себе. Примеры: Родитель считает себя компетентным человеком. Родитель считает, что ребенок должен опираться на опыт родителей.
11. Родители поощряют или не поощряют независимость ребенка.
Примеры: Родители поощряет независимые действия. Родитель спрашивает ребенка о его мнении.
12. Родители поощряют или не поощряют вербальный обмен и использование логических доводов.
Примеры: Если ребенок не слушается, родитель приводит дополнительное объяснение. Родитель поощряет ребенка говорить самому и слушать других.
13. Родители не расположены проявлять гнев или неудовольствие по отношению к ребенку или же стремятся делать это.
Примеры: Родитель чувствует стыд и замешательство после того, как рассердится. Родитель скрывает раздражение или досаду, когда ребенок не подчиняется.
14. Родители ориентируют ребенка на приоритет проявлений индивидуальности или же на приоритет социального одобрения.
Примеры: Родитель поощряет проявления индивидуальности ребенка. Родитель выражает собственную индивидуальность.
15. Склонность наказывать или стремление проявлять заботу. Примеры: Родитель становится недоступным, когда чувствует неудовольствие. Родитель сурово наказывает ребенка.
Вот так-так! Трудно принять во внимание столько разных факторов. Но вам лучше с ними ознакомиться, потому что далее мы подвергнем их внимательному рассмотрению. Как бы то ни было, на основании этих 15 изначальных принципов воспитания Бомринд провела статистический анализ и обнаружила, что
можно уменьшить число наиболее важных для матерей и отцов установок родительского поведения. Бомринд слегка изменила названия признаков поведения, потому что некоторые из определений включают несколько других характеристик родительского стиля. Однако самый главный вывод, который вы можете сделать, заключается в том, что и у матерей, и у отцов наиболее важные характеристики практикуемого родительского стиля очень похожи, и есть только несколько исключений.
Ключевые характеристики родительского стиля у матерей
1. Требовательность.








