5 Прошедшее время неправильных глаголов
6 Обладание
7 Несокращенная связка
8 Артикли
9 Простое прошедшее время
10 Третье лицо правильных глаголов
11 Третье лицо неправильных глаголов
12 Несокращенный вспомогательный глагол
13 Сокращенная связка
14 Сокращенный вспомогательный глагол
Пример
Добавление окончания -ing. длительное время Adam eating. Baby crying.
Добавление предлогов: Daddy in bed. Sock on.
Добавление 5 или es: Puppies! Two cookies.
Образование формы прошедшего времени неправильных глаголов без добавления типичного -ed: Went bye-bye. Made a mess.
Часто добавление's для обозначения обладания: Adam's chair. My bear.
Связкой является форма глагола to be и может использоваться в сокращении или без; сначала появляется несокращенная форма: Eve is girl. I am Adam.
A doggie. The moon.
Walked home. It dropped.
Обычно добавляется -5, как в Не sleeps. Timmy bites.
Исключение в ситуации простого добавления -s, как в Adam does it. Не has to.
Используются вспомогательные глаголы, как в lam running. They have to eat.
Но без частичного сокращения.
Используется частично сокращенная связка: Eve's a girl. I'm Adam.
Вспомогательные глаголы используются в частично сокращенной форме: I'm running. Mom's got it.
Обсуждение
В заключительной главе Браун подчеркивает: то, что мы узнали о появлении первых предложений у детей, возможно, будет пересмотрено другими исследователями в будущем. Одним из наиболее загадочных вопросов, который остался без ответа в книге Брауна, является то, почему речь детей улучшается. Другими словами, хотя исследование Брауна показало, что грамматика детей улучшается со временем — под словом «улучшение» мы понимаем приближенность к грамматике в речи взрослых, — не совсем ясно, что заставляет ее улучшаться. Заставляет ли детей именно социальное давление использовать все более и более точное подобие грамматики взрослых? Или же существует некое биологическое расписание, согласно которому при созревании мозга появляется правильная грамматика? Может, наиболее удивительным является то, что по прошествии 30 лет после того, как Браун начал всю эту работу, и после тысяч других исследований на тему развития языка, вопрос о том, как и почему развивается речь у детей, остается без ответа.
Заключение
Два вывода из основных открытий Роджера Брауна потрясли меня больше всего, так как именно ими заняты исследователи после того, как сам Браун оставил это дело. Первый касается интригующего открытия Брауна о том, что способность детей использовать образователь простого прошедшего времени, -edf появляется после возникновения способности образовывать прошедшее время неправильных глаголов. Согласно данным Брауна, дети начинают употреблять неправильные глаголы в прошедшем времени, как went, ran или ate, до того, как начинают образовывать прошедшее время у правильных глаголов, как talked, wanted или kissed. Конечно же, последние три глагола в прошедшем времени являются примером простого прошедшего времени, потому что образованы путем стандартного добавления -ed к глаголу, который нужно поставить в прошедшее время. Go, run и ваг нельзя поставить в прошедшее время с помощью «обычного» правила. Но хотя это правило и неприменимо к глаголам go, run и eat, дети до сих пор научаются образовывать прошедшее, время этих глаголов раньше, чем других.
Во всех других грамматических морфемах неправильные формы усваиваются после правильных. И тогда это обретает
смысл, потому что использование правильных грамматических морфем требует участия лишь одного правила вроде: «Добавьте -ей для образования формы прошедшего времени глагола». Поэтому вы можете подумать, что неправильные глаголы сложнее выучить, так как для них не существует единого правила образования прошедшего времени. Процедура образования прошедшего времени меняется практически у каждого неправильного глагола, который вам нужно поставить в форму прошедшего времени. Возникает вопрос — почему дети быстрее усваивают более сложное, как в случае образования прошедшего времени? Последующие исследования открыли одну интересную вещь. Сначала дети учатся ставить в прошедшее время неправильные глаголы и произносят их правильно. Но как только они начинают осваивать основное правило образования прошедшего времени, то есть добавление -ed, они начинают делать ошибки в тех неправильных глаголах, которые до этого произносили правильно. Они начинают применять общее правило к неправильным глаголам, и этот процесс называется доминированием правильности. Но по прошествии некоторого времени дети, используя неправильные глаголы, наконец-то понимают, что обычный способ образования прошедшего времени здесь не подходит, и снова начинают верно употреблять неправильные глаголы в прошедшем времени. Это потрясающее открытие! Получается, будто дети совершают шаг назад, чтобы сделать два шага вперед.
Второй интересный вывод из исследования Роджера Брауна относится к явлению индивидуальных различий в развитии грамматики. Браун сделал несколько серьезных заявлений, утверждая: (1) дети начинают развитие с освоения одних и тех же восьми семантических связей на стадии I; (2) дети осваивают один и тот же набор из 14 грамматических морфем на стадии И; и (3) грамматические морфемы появляются позже, чем основные семантические связи. После его работы некоторые исследователи предположили, что, возможно, не все дети проходят по одному и тому же пути развития речи. Хотя то, что дети проходят одинаковый путь развития (начиная с основных содержательных слов (существительных и глаголов) и общих семантических тем, и лишь позже добавляя вспомогательные слова (грамматические морфемы)), может быть и правдой, но другие исследователи отмечают, что некоторые дети сначала концентрируются на вспомогательных словах, а основные содержательные слова появляются позже. Можно сказать, что эти дети входят в мир грамматики задом наперед! Работы таких исследователей, как Луис Блум (Lois Bloom), Кэтрин Нельсон (Katherine
Nelson), Элена Ливен (Elena Liven) и Элизабет Бейтс (Elizabeth Bates) предоставляют убедительные доказательства идеи мно-#сества-путей-в-мир-речи. Хотя никто никогда не мог определить, почему некоторые дети идут не по общему пути, были некоторые идеи на эту тему. Нельсон, например, предполагала, что дети могут выбирать разные пути в зависимости от их представления о назначении языка. Дети, выбирающие стандартный путь (начинающийся с содержательных слов), могут рассматривать язык как способ анализа и описания мира. Она назвала этих детей «соотносящими», так как они используют слова для соотнесения вещей и событий, происходящих в мире вокруг них. Дети, которые, напротив, концентрируются изначально на служебных словах, могут рассматривать язык как метод усиления социального взаимодействия. Похоже, что такие дети замечают, как опытные пользователи речи употребляют эти короткие служебные слова, и детям кажется, что они смогут быстрее войти в социальный мир, если тоже будут употреблять эти маленькие словечки. Так как эти дети больше заинтересованы в самовыражении, нежели в описании мира, Нельсон назвала их «экспрессивными». К несчастью, исследования разных путей, которыми дети идут в мир грамматики, не так давно «почили в бозе», поэтому мы до сих пор не знаем, что толкает детей на тот или иной путь.
Последние замечания
Колеблясь и сомневаясь, я выпускаю в свет эту главу как краткое изложение революционного исследования Брауна. Глубина его идей при рассмотрении всех аспектов комбинирования слов детьми на первых двух стадиях языкового развития; исчерпывающий содержательный обзор исследовательских работ по теме — все это не может получить достойного освещения в рамках одной-единственной главы. Поэтому я предпочту лишь сказать о тех семенах мудрости, которые были посеяны его книгой и приносили свои плоды на протяжении последующих 30 лет изучения освоения языка. Открытие того, что в первых предложениях, создаваемых детьми, содержится восемь видов семантических связей, и что первые грамматические морфемы бывают четырнадцати видов и появляются в определенном порядке, является сутью всего. Благодаря именно этим вкладам работа Брауна считается истинно революционной.
Но как же заканчивается эта история? Выходит, что Браун даже не пытался издать что-либо касательно развития грамматики на стадиях III, IV и V. Он так написал об этом в своей
«Автобиографии от третьего лица» в книге Кесселя ^Autobiography in the Third Person» in Kessel s book). «Планируемый второй том Первой речи, который должен быть посвящен Поздним стадиям, так и не был написан. Люди обычно спрашивают об этом, но после нескольких довольно сложных лет психолингвисты пришли к выводу, что он никогда и не появится. Почему? Сбор данных был завершен в 1973 году, и с тех пор они находятся в виде неопубликованных словарей. У Брауна был неудачный год, когда он работал над Поздними стадиями, и, в конце концов, он был вынужден сдаться. Детальный анализ предполагаемых стадий III, IV и V не давался Брауну, как не давались любые строгие обобщения, сравнимые с полученными по ранним стадиям, и он не видел смысла в издании, возможно, слишком уникальных деталей». Роджер Браун умер в 1997 году в возрасте 72 лет. Но его наследие живо в великолепном вкладе тех студентов, которым посчастливилось учиться под началом создателя Райского сада исследования речи.
Библиография
Hoff, Е. (2001). language development. Belmont, С A: Wadsworth.
Ingram, D. (1989). First language acquisition: Method, description and explanation.
New York: Cambridge University Press. Kessel, F. S. (1988). The development of language and language researchers: Essays
in honor of Roger Brown. Hills-dale, NJ: Erlbaum. Nelson, K. (1973). Structure and strategy in learning to talk. Monographs of the
Society for Research in Child Development, ^('Serial No. 149).
Вопросы для обсуждения
1. Есть что-нибудь ошибочное, или есть что-нибудь имеющее смысл в том, что целостное исследование развития речи основывается на данных всего лишь троих детей?
2. Браун говорил, что он не смог близко подойти к описанию развития речи на стадиях HI, IV и V, поскольку не было очевидных «убедительных обобщений». Почему было легче сделать обобщения о развитии речи на ранних стадиях, чем на поздних? Какие факторы могли повлиять на это?
3. Адам, Ева и Сара — это дети, говорящие на английском языке. Есть ли причины полагать, что первые появляющиеся семантические связи у говорящих на английском языке будут отличаться от первых семантических связей у детей, говорящих на других языках? Почему да или почему нет?
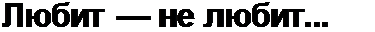 | |||
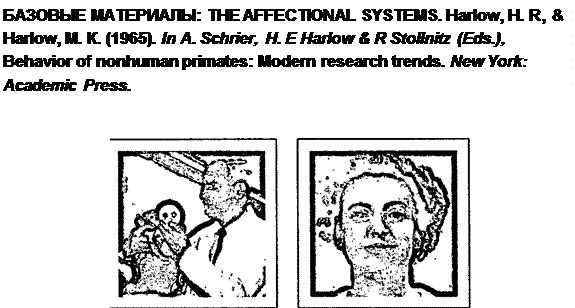 | |||

«Чего ради мы возимся с этими обезьянами? И вообще, что общего они имеют с психологией? Психология — это наука о людях!» Эти вопросы вырвались у моего однокурсника, имени которого уже не припомню, на одном из занятий заключительного курса, который я посещал лет 20 назад. Каким образом, искренне недоумевал студент, изучая обезьян, можно приумножить знания в области психологии, да еще потом применять их к человеку. Полагаю, удивление этого студента так запомнилось мне
из-за впечатления воплощенной невежественности, которое он производил. Возможно, я воскликнул что-нибудь вроде: «Да ты смеешься! Что могут обезьяны поведать о человеке? Ведь всем известно, что на эволюционной лестнице человек стоит всего на пару ступеней выше обезьян. Разве можно не заметить сходства?» Впрочем, может быть, я тогда и не высказал этого вслух, но меня просто-таки ошеломило, что кто-то не может проследить очевидные аналогии между человеком и животными — приматами.
Мысленно возвращаясь к событиям тех дней, я понимаю, что сам тогда не отличался особой терпимостью к кажущейся невежественности кое-кого из моих однокурсников, специализировавшихся в области психологии. Сейчас, выступая в роли великодушного преподавателя колледжа, я понимаю, что сходство поведения животных с многообразием человеческих проявлений далеко не всегда очевидно. Я вижу, что нередко, когда речь заходит об эволюционной преемственности между высшими и низшими приматами, в студентах начинают говорить их религиозные убеждения. И коль скоро я выхожу на импровизированную трибуну и во всеуслышанье провозглашаю торжество эволюции, то считаю: ключевым моментом служит не тот факт, что человекообразные и низшие обезьяны похожи на человека, а что и те, и другие могут дать психологам, изучающим природу человека, обширную почву для размышлений.
Работа, описанию которой посвящена эта глава, проведена Гарри и Маргарет Харлоу. Она служит экспонатом № 1 в деле использования данных, полученных в ходе изучения поведения обезьян, в качестве иллюстраций к тайнам человеческого поведения. Из других глав этой книги, особенно тех, которые посвящены работам Джона Боулби и Мэри Эйнсворт, вы узнаете, что многие эмоциональные проявления, которые Харлоу наблюдали у детенышей макак-резусов и их матерей, по-видимому, присутствуют и в поведении женщин и их детей. Эта работа, восьмая среди 20 самых революционных исследований в сфере детской психологии, получила название «Аффекциональные системы». И хотя вы уже изучали курсы психопатологии или мотивации и эмоций, подозреваю, что такое название не вызовет у вас бурного восторга. Возможно, вы не очень знакомы с существительным аффект. Поэтому прежде чем углубляться в подробное описание работы Харлоу, я, с вашего позволения, уточню, что термин аффект, независимо от контекста, всегда можно заменить словом эмоция; а термин аффекциональный — соответственно, словом эмоциональный. Существительное «аффект», которое начинается с того же звука что и слово яблоко (по-английски «affect» и «applc» начинаются с одного и того же звука. — Прим. пер.), так или иначе, означает эмоцию. Но если попытаться докопаться до СУ™ Beil*e**>то предметом нашего разговора является «любовь». В сущности, Харлоу задаются вопросом: по каким законам возникает любовь между матерью и младенцем? Вот сейчас и посмотрим.
Введение
Приступая к написанию своей работы, Харлоу руководствовались двумя целями. Во-первых, они постарались изложить свои представления о пяти, по их мнению, наиболее важных аффек-циональных структурах у животных-приматов. Хотя категория животных-приматов описывает достаточно много видов, в том числе таких высокоразвитых (человекообразных) обезьян, как шимпанзе, горилла и орангутан, больше всего времени Харлоу провели, наблюдая за определенным видом низших приматов, известным как Масаса mulatta, которых чаще называют макаками-резусами. Макаки-резусы живут, главным образом, на земле, и в дикой природе обитают во многих азиатских районах. Однако в исследовательских лабораториях по всей Северной Америке и в Европе можно встретить тысячи макак-резусов.
Другой немаловажной целью, которую поставили перед собой Харлоу, было собрать воедино результаты широкого ряда экспериментов, направленных на изучение эмоционального развития этих обезьян. Поэтому исследователи приводят данные, полученные в рамках дюжины ранее опубликованных экспериментов. Используя результаты этих эмпирических работ, авторы доказывают свои теоретические посылки, но очень важно не забывать о том, что основываясь на этих данных, они сформулировали собственные научные идеи.
В этой главе Харлоу описывают собственные представления о пяти аффекциональных системах: «(1) аффекциональная система "младенец-мать", которая связывает младенца с его матерью; (2) аффекциональная система "мать-младенец", или материнская аффекциональная система [которая обеспечивает развитие у матери стремления защищать своего ребенка]; (3) аффекциональная система "младенец-младенец", охватывающая отношения между ровесниками, посредством которой дети устанавливают взаимоотношения между собой и формируют устойчивую привязанность друг к другу; (4) сексуальная и гете
росексуальная аффекциональная система, кульминацией развития которой являются период подростковой сексуальности и, наконец, сексуальное поведение во взрослом возрасте, направленное на воспроизводство; (5) отцовская аффекциональная система, широко трактуемая как позитивное отношение взрослых мужчин к младенцам, подросткам и другим членам их социальной группы».
Вы обратили внимание на наличие явных параллелей между аффекциональными системами обезьян и человека? Так-то. Современная психология уделяет им огромное внимание, а правительственные фондодатели предоставляют гранты в миллионы долларов клиническим, социальным психологам, а также специалистам в области психологии развития, занимающимся изучением этих же взаимоотношений между членами семей Homo sapiens sapiens (человеческих семей).
Если руководствоваться практическими целями, наиболее уместным будет рассмотреть первую из вышеперечисленных систем — аффекциональную систему «младенец-мать». Гарри Харлоу, совместно с рядом коллег, которые тоже занимались исследованием формирования связей ребенка и его безопасности, уделял самое пристальное внимание именно этой проблеме. Поэтому в оставшейся части главы я сосредоточусь на описании подхода Харлоу к исследованию эмоционального развития детенышей макак-резусов, особенно в том, что касается формирования аффекциональной системы «младенец-мать».
Аффекциональная система «младенец-мать»
Начиная обсуждение аффекциональной системы «младенец-мать», Харлоу отмечают, что эта система, по-видимому, отличается наименьшими изменчивостью и гибкостью среди прочих описанных систем. Основанием для такого утверждения послужил тот факт, что эта система, вероятно, играет самую важную роль для выживания детенышей макаки, и, возможно, наиболее биологически детерминирована. Эта система, обеспечивающая эмоциональную привязанность детеныша макаки к его матери, имеет даже большее значение, чем комплементарная ей аффекциональная система «мать-младенец» (в приведенной выше классификации она стоит под номером 2), которая определяет привязанность матери-макаки к своему детенышу. Звучит несколько парадоксально. Как эмоциональная привязанность детеныша к матери может значить больше, чем материнская любовь и защита? Если у матери не сформируется привязанность к своему
детенышу, то как же он сможет выжить? По мнению Харлоу, привязанность детеныша к матери имеет большее значение потому, что «многие младенцы выживают и при относительно низкоэффективной материнской заботе, а перспектива неотвратимого жесткого наказания со стороны бесчувственных матерей заставляет систему работать с удвоенной силой». Поэтому сильная привязанность к матери повышает шансы на выживание даже у детенышей тех матерей, которые не слишком заботятся о своем потомстве.
Харлоу выделяют четыре стадии нормального развития аффекциональной системы «младенец-мать»: (1) стадия рефлекса; (2) стадия комфорта и привязанности; (3) стадия безопасности; (4) стадия отделения. И даже разделяя эмоциональную систему на четыре стадии, авторы подчеркивают, что эти стадии перекрывают друг друга. Стадии не обязательно начинаются и заканчиваются в одно и то же время, поскольку многое зависит от индивидуальных особенностей матери и детеныша, а также от специфики внешней среды, в которой растет детеныш. Для того чтобы достичь зрелости и, когда придет время, благополучно отделиться от матери, детенышу, живущему в относительно нормальных условиях, нужно пройти эти четыре стадии.
Стадия рефлекса. Стадия рефлекса у детенышей макак-резусов продолжается в течение первых 15-20 дней и очень напоминает подстадию использования рефлексов сенсомоторного периода, согласно периодизации Пиаже (которая рассматривается в главе 3). Она, в первую очередь, характеризуется проявлением основных рефлексов, необходимых для выживания детеныша. Существуют два типа рефлексов: одни связаны с кормлением грудью, а другие касаются поддержания физического контакта с матерью. Одним из рефлексов, связанных с кормлением, является ориентировочный рефлекс. Впервые он приводится в действие, когда новорожденный малыш ощущает некоторую стимуляцию лица, особенно в области рта. Возбуждение заставляет его поднимать и опускать голову или совершать движения головой из стороны в сторону до тех пор, пока он не найдет материнский сосок. Обнаружив сосок, детеныш берет его в рот и тем самым запускает сосательный рефлекс (второй рефлекс, связанный с кормлением грудью). Третьим рефлексом, возможно, тоже связанным с грудным вскармливанием, является рефлекс карабканья. Необходимость этого рефлекса особенно очевидна, когда детеныш обезьяны находится около ноги матери и пытается вскарабкаться по ней, после чего в действие всту
пает ориентировочный рефлекс. Карабканье по своей природе представляется скорее рефлексом, чем целенаправленным поведением, так как, согласно Харлоу: «Если новорожденного детеныша обезьяны поместить на проволочную наклонную плоскость, он будет карабкаться по проволоке вверх и даже дальше, так что если не поставить заграждения, он упадет на пол!» Очевидно, что это рефлекс, который отличает детеныша обезьяны от человеческого младенца. Младенец не обладает такой развитой способностью карабкаться и приобретает ее только спустя несколько лет.
Другим рефлексом, который не наблюдается у детей человека, является цеплятельный рефлекс, хотя его рудиментарные пережитки прослеживаются в ладонном «хватательном» рефлексе, присущем человеческим младенцам. Цеплятельный рефлекс проявляется в том, что детеныши обезьяны цепляются обеими руками и ногами за нижнюю часть тела матери. Этот рефлекс тоже играет ключевую роль для выживания детеныша, поскольку если бы не он, то руки матери почти все время были бы заняты тем, что прижимали детеныша к телу. В связи с тем, что руки нужны обезьянам, чтобы передвигаться, а в дикой природе группы обезьян иногда совершают миграции по несколько миль в день, то не будь у детенышей цеплятельного рефлекса, матери-обезьяны были бы лишены возможности держаться группами.
Стадия комфорта и привязанности. По мере того как стадия рефлекса подходит к концу, на смену ей приходит стадия, где главной целью детеныша является близость с матерью и ощущение принадлежности к ней. Харлоу отмечают, что у обезьян эта стадия продолжается до 2-2,5 месяцев, а у человека может длиться до 8 месяцев. На этой стадии мать, главным образом, выполняет защитную функцию. Комфорт и привязанность, необходимые детенышу, достигаются двумя основными способами: посредством грудного вскармливания и физического контакта. Но выполненные Харлоу эксперименты, описание нескольких из которых я приведу ниже, показали, что эти способы неравнозначны. Хотя для того чтобы выжить, ребенок должен получать необходимое питание, физический контакт, по-видимому, значительно более важен для его психического здоровья. Находясь в тесном физическом контакте с телом матери, он начинает медленно и постепенно исследовать окружающую его среду — сначала он изучает тело матери, а затем переключается на находящиеся поблизости предметы, которые при других обстоятельствах были бы ему недоступны.
Стадия безопасности. Затем детеныши обезьян, которые находятся в естественном контакте с матерью, и у которых формируется ощущение комфорта и привязанности, переходят к исследованию более удаленных участков окружающей среды. Однако чтобы отважиться на такую исследовательскую деятельность, им необходимо присутствие матери в зоне досягаемости. Когда мать рядом, ее детеныш бесстрашно пускается в рискованное путешествие по неведомым землям. Но стоит ей удалиться, как обязательно произойдет что-нибудь ужасное. Вот, например, что случилось, пока матери не было рядом: «В отсутствие матери поведение детенышей радикально меняется. Резко возрастает выраженность таких эмоциональных показателей, как голосовые сигналы, припадание к земле, покачивание и сосание. Как правило, детеныши либо замирают, припав к земле, либо бегают по комнате на задних лапах, обхватив себя руками». Такое зрелище приведет в замешательство любого, верно?
Существует интересное предположение, что у обезьян масштабы исследования детенышами внешней среды отчасти зависят от социального статуса их матерей в группе. Малыши, чьи матери занимают в группе доминирующую позицию, действуют свободно и непринужденно, не испытывая ни малейшего страха подвергнуться нападению со стороны других членов группы или рассердить их. Они ведут себя как маленькие снобы из породы обезьян. Но для детенышей, рожденных у матерей, которые занимают невысокое место в социальной иерархии, все обстоит совершенно иначе. Им приходится постоянно быть настороже и следить, как бы не стать объектом придирок со стороны собственных сверстников или их матерей.
Стадия отделения. Завершающая стадия развития аффекциональной системы «младенец-мать» наступает в тот момент, когда детеныши обезьян взрослеют настолько, что могут разорвать узы, ранее накрепко связывавшие их с матерями. Отчасти это неминуемое отделение происходит вследствие возникновения у молодых обезьян естественного стремления к самостоятельному познанию окружающего мира. Но, с другой стороны, посильную лепту в этот процесс вносят и матери, которые «вышвыривают ребенка из дома». Так, стадия 2 развития аффекциональной системы «мать-младенец», о которой мы пока не говорили, получила у Харлоу название «Промежуточной, или Амбивалентной стадии». В ходе этой стадии мать все более безразлично относится к присутствию своего детеныша. Кроме того, она^ начинает применять к своему детенышу все более жесткие меры
наказания. В целом отделение младенца от матери, по-видимому, происходит по мере нарастания негативного отношения матери к детенышу. В конце концов, всех вполне устраивает, что детеныш начинает все реже контактировать со своей матерью. Но как только происходит отделение, в семье наступает покой.
Исследования Харлоу
Теория аффекциональных систем «младенец-мать» на примере макак-резусов, которую мы только что кратко изложили, может показаться столь очевидной, что ее можно понять на уровне здравого смысла. Отнюдь, ведь в основу этой теории были положены результаты широкого ряда экспериментов, выполненных Гарри Харлоу и его коллегами. Причем, что примечательно, кое-что они обнаружили совершенно случайно. Например, хотя Гарри Харлоу и его коллеги сами начали эксперименты по изучению социальной изоляции, и с этой целью стали отнимать детенышей обезьян от их матерей сразу после рождения, исследователи не рассчитывали, что у этих малышей разовьется такая сильная привязанность к шерстяным одеялам, устилавшим пол в клетках. И в своей статье, опубликованной в 1959 году, Гарри Харлоу и Роберт Циммерман (Robert Zimmerman) сообщили о гипертрофированных эмоциональных реакциях у маленьких обезьянок, которые последние и продемонстрировали, когда ученые попытались вынуть из клеток шерстяные подстилки.
Так, благодаря счастливой случайности, ученые сделали немаловажное открытие, впервые свидетельствовавшее о том, что контакт с относительно мягким и приятным предметом послужил важным фактором развития этих детенышей. Прежде в психологии было принято считать, что привязанность ребенка к матери формируется по определенным законам обусловливания, а привлекательность матерей объясняли тем, что они обеспечивают детям возможность получать пищу или оральное удовлетворение, о котором без конца твердил Зигмунд Фрейд. Поразительное открытие Гарри Харлоу доказывает, что кормление не имеет ничего общего с эмоциональной привязанностью младенцев к своим матерям. Скорее всего, природу этой привязанности определяет контакт поверхностей кожи.
В главе, посвященной книге Харлоу, мы резюмируем главные открытия Гарри Харлоу и его коллег. Однако они проделали и опубликовали такое множество экспериментов, что охватить их все практически невозможно. Вместо этого я ограничусь описанием общих процедур, использованных Харлоу, и обзором наиболее значимых результатов некоторых из основных исследова
нйй. Коль скоро в этой главе они представляют данные своих исследований, то мне остается только лишь выбрать наиболее интересные и важные.
Метод
Как и во многих других исследованиях, представленных в настоящей книге, из описания, предложенного самими авторами, не так-то легко составить полное представление о предмете эксперимента. Тем не менее, для того чтобы вы имели возможность представить себе масштабность выполненного исследования, я немножко схитрю и заимствую информацию из статьи, которую Гарри Харлоу и Роберт Циммерман опубликовали в 1959 году в журнале Science.
Участники
Шестьдесят новорожденных детенышей макак (резусов) забрали у их матерей в первые 12 часов после рождения и вскармливали искусственно. В пользу успешности суррогатного вскармливания говорит тот факт, что эти детеныши набрали даже больший вес, чем их ровесники, росшие с матерями.
Материалы
Были изготовлены две искусственные суррогатные матери. «Матерчатая мама... представляла собой деревянный цилиндр, обмотанный мягкой ворсистой тканью, а в роли проволочной мамы выступал [цилиндр, обычно использовавшийся для хранения одежды]... Их обеих прикрепили под углом 45 градусов к алюминиевым подставкам и снабдили разными лицами, чтобы обеспечить узнаваемость в различных экспериментальных ситуациях». Вглядевшись в фотографии, приведенные ниже, вы сможете составить представление о том, как на самом деле выглядели эти суррогатные матери. В экспериментальных целях
обе суррогатные матери были устроены таким образом, чтобы детеныши могли получать от них пищу, но соприкосновение только с одной из них создавало ощущение комфорта. При проведении этого эксперимента детеныши, взаимодействовавшие с обеими суррогатными матерями, благодаря той пище, которую они получали, набрали нормальный вес. Рискуя сообщить избыточную информацию, Харлоу опубликовали также данные о том, что у обезьян, выросших в компании проволочной матери, фекалии были более жидкой консистенции.
Процедура
Хотя определенные детали процедур, проводившихся Харлоу и его коллегами, менялись в зависимости от специфики того или иного эксперимента, между ними было немало общего. Суть процедуры сводилась к тому, что четверых новорожденных обезьяньих детенышей отдавали на «взращивание» в одних условиях, а четверых других — в совершенно иных. Обычно продолжительность взращивания составляла как минимум 165 дней.
Например, в одном эксперименте каждого из четырех новорожденных детенышей изолировали от других обезьян, заменив их обеими суррогатными матерями; при этом матерчатая мама служила источником молока. В контрольном эксперименте все было точно так же, за исключением того, что пищу детенышам давала проволочная мама. В условиях другого эксперимента каждый из детенышей рос в обществе только одной из суррогатных матерей. Но и здесь четверых малышей поместили к матерчатой маме, а других четверых — к проволочной. В одном из вариантов эксперимента, например, четыре новорожденных детеныша росли с лактирующей (дающей молоко) проволочной матерью, в то время как четверо других жили в обществе нелак-тирующей тряпочной мамы (они получали пищу путем ручного вскармливания).
Важная проблема, стоявшая на повестке дня на протяжении всех этих «семейных экспериментов», заключалась в том, как детеныши будут справляться с ситуациями, провоцирующими возникновение тревоги. Подобные ситуации как таковые можно классифицировать на основании источников тревоги. В некоторых случаях в комнату, где жили обезьянки, непосредственно рядом с их «жилищем» помещали движущегося игрушечного медведя или игрушечную собаку. Иногда малышей запускали в совершенно незнакомое помещение, где находились несколько «стимулов, которые провоцируют у детенышей обезьяны любопытство и побуждают их к манипулированию предметами».
В отдельных случаях при этом присутствовала суррогатная мать (иногда это была матерчатая мама, а иногда проволочная), а в ряде случаев матери не было.
Думаю, вы со мной согласитесь, что многообразие способов проведения этого эксперимента поистине поражает. И в самом деле, одна из причин того, что по итогам проведенной серии экспериментов Харлоу и его коллеги опубликовали около двадцати пяти научных работ, заключается в том, что именно столько статей понадобилось, чтобы описать каждый из многочисленных проведенных экспериментов. Но, тем не менее, в конце каждого дня на протяжении всего исследования ученые неизменно задавались одним и тем же вопросом: так какова же природа аффекциональной системы «младенец-мать»?
Результаты
В связи с тем, что данные Харлоу имеют большой объем, я решил разделить их на части, в соответствии с условиями проведения эксперимента.
Детеныши, воспитывавшиеся в обществе обеих суррогатных матерей
В данном эксперименте половина детенышей росли с проволочной матерью, от которой они получали молоко, а другая половина маленьких обезьянок получала молоко у матерчатой мамы. Но как одни, так и другие постоянно находились в обществе обеих «кормилиц». Наибольший интерес здесь вызывает тот факт, что все детеныши проводили большую часть времени в соприкосновении с тряпочной мамой. Даже когда малышам приходило время получить пищу у проволочной мамы, для этого они нередко наклонялись к ней, не отпуская свою матерчатую маму. В возрасте от 25 до 165 дней детеныши из обеих групп ежедневно проводили в контакте с матерчатой матерью от 15 до 18 часов. С проволочной же суррогатной матерью они соприкасались всего лишь около 1-2 часов в день.
На сегодняшний день существуют, по крайней мере, два подхода к интерпретации этих результатов. С одной стороны, можно утверждать, что причиной тому, что маленькие обезьянки проводили так много времени, прильнув к тряпочной суррогатной матери, было ощущение комфорта от соприкосновения с мягкой тканью. Кому захочется обниматься с проволочной конструкцией? С другой стороны, дело может быть в том, что мяг
кая мама создавала для детенышей большее ощущение защищенности, чем ее проволочная «соперница». Если это так, то следу» ет ожидать, что именно у матерчатой суррогатной матери малыши будут искать убежища в минуты страха и боли. Чтобы проверить это предположение, Харлоу и его коллеги ввели в экспериментальную ситуацию определенный стимул, заставивший детенышей испытать страх.
Детеныши, воспитывавшиеся
с обеими суррогатными матерями, в ситуации
предъявления внушающей страх игрушки
В данном эксперименте, как и в предыдущем, детенышей «воспитывали» обе суррогатные матери, но половине малышей молоко «давала» проволочная мама, а другим — матерчатая. Затем в эксперимент вводили стимул, внушавший обезьянкам страх. Примерно в 80% случаев обезьяны предпочитали искать спасения у мягкой матери, независимо от того, у какой из них они получали молоко. Но вскоре после этого детеныши отваживались исследовать испугавшую их игрушку. Харлоу и Циммерман приводят очень яркое описание происходящего: «Несмотря на обуявший их немыслимый ужас, обезьяньи детеныши, поначалу бросившиеся к матерчатой матери и прижавшиеся к ней всем телом, быстро забыли о своих страхах перед загадочным объектом. Большинство малышей в течение минуты или двух изучающе разглядывали тот самый предмет, который совсем недавно казался им воплощением зла. Самые храбрые из них отважились отойти от мамы и приблизиться к этим жутким монстрам, разумеется, под прикрытием пристального материнского ока».
Таким образом, очевидно, что детеныши проводили все время, сидя на матерчатой матери, не только потому, что им было комфортно к ней прикасаться. Учитывая, что в минуты безумного страха они бросились именно к ней, получается, что матерчатая суррогатная мать помимо приятных тактильных ощущений обеспечивала им чувство безопасности.
Детеныши, воспитывавшиеся с одной
из суррогатных матерей, в незнакомой комнате
Следующая задача, которую поставили перед собой Харлоу и его коллеги, заключалась в том, чтобы выяснить, что произойдет, если лишить обезьяньих детенышей возможности в первую
чередь установить «взаимоотношения» с матерчатой мамой. Чтобы это выяснить, нескольких детенышей распределили по ррогатным матерям, не дав им возможности «общаться» с обеими. Более того, в ходе этого эксперимента тряпочная суррогатная мать не выполняла функцию кормления, в то время как проволочная мама давала малышам молоко. Дважды в неделю в течение 8 недель детенышей впускали в незнакомую комнату, в которой находилось много неизвестных им предметов. Каждую неделю суррогатная мать, «воспитывавшая» тех или иных детенышей, присутствовала при одних визитах, и отсутствовала во время других. В этом эксперименте контрольную группу составляли детеныши, которые росли даже без суррогатной матери, вместо этого первые 14 дней жизни они провели на шерстяном одеяле.
Оказавшись в незнакомой комнате, детеныши, росшие в обществе матерчатой матери, «стремглав бросались к своей суррогатной матери, если она присутствовала при этом, и вцеплялись в нее что было сил; их реакция была настолько резкой, что передать ее по силам только кинокамере. Затем, как и в эксперименте с внедрением к ним в клетку пугающего объекта, детеныши быстро приходили в себя, и, не выказывая ни малейших признаков опаски, начиная демонстрировать руками недвусмысленные позитивные реакции, карабкались по своей суррогатной матери. После нескольких повторений детеныши начали использовать суррогатную мать в качестве базы для своих операций, отходя от нее для того, чтобы исследовать и потрогать внедрившийся объект, и затем возвращаясь к ней в ожидании появления новой игрушки».
В отличие от них, тех обезьяньих детенышей, что провели первые дни своей жизни с проволочной суррогатной матерью, совершенно не волновало, присутствует ли она вместе с ними в незнакомой комнате или нет, несмотря на то, что она служила Для них основным источником пищи. Иногда детеныши подходили к ней, но контакты между ней и малышами качественно отличались от того, как другие обезьянки взаимодействовали с матерчатой матерью. Здесь будет уместно привести красочное описание поведения обезьяньих детенышей в незнакомой комнате в присутствии проволочной мамы, кормившей их молоком: «Они забирались на нижнюю часть ее тела и обхватывали себя Руками или, обняв руками свою голову и туловище, совершали конвульсивные рывки и покачивания, напоминающие поведение детей, живущих в специальных учреждениях и страдающих аутизмом».
Обсуждение
Серия экспериментов, описанных Харлоу и представленных в этой главе, приводит к безошибочному выводу о том, что одним из наиболее важных факторов установления связи между матерью и младенцем является физический контакт. Более того не любой физический контакт может играть настолько значимую роль. Соприкосновение должно давать ощущение комфорта. Согласно результатам этих исследований, соприкосновение кожи с холодным, твердым металлом не способствовало установлению необходимой тесной эмоциональной связи между обезьяньими детенышами и проволочной суррогатной матерью. У этих малышей, не имевших эмоционального контакта с матерью, по-видимому, так и не сформировалось твердое ощущение принадлежности и защищенности.
Этим мы отнюдь не хотим сказать, что безжизненный, невосприимчивый чурбан из дерева и ткани вполне отвечает эмоциональным потребностям детеныша, по крайней мере, не настолько, чтобы заменить ему настоящую, живую биологическую мать. Единственное, что нам известно, так это то, что, сравнительно с дикими обезьянами, обитающими в естественных природных условиях, детеныши из исследования Харлоу, вероятнее всего, превратились бы в неприспособленных к жизни, невротичных существ, даже если их «воспитывала» матерчатая суррогатная мать! Достоверно об этом судить нельзя, так как, по нашим сведениям, ни одного детеныша не выпустили назад в дикую природу. Можно сказать только то, что обезьяньи детеныши, выросшие в компании матерчатой матери, демонстрировали более широкий ряд проявлений, свойственных обезьянам, воспитанным в нормальных условиях.
Важно подчеркнуть, что мягкая на ощупь суррогатная мать служила маленьким обезьянкам «базой безопасности». Каждый раз, когда их что-нибудь пугало, они со всех ног бросались к ней и прижимались к ткани в поисках тесного физического контакта. Детеныши, растущие со своими настоящими матерями, ведут себя точно так же. Подобным образом, на какое-то время прижавшись к своей суррогатной матери, детеныши начинали чувствовать себя достаточно комфортно, чтобы пуститься в опасную авантюру и исследовать пугающую игрушку или незнакомую комнату. Такое же поведение наблюдается у малышей, проведших детство в обществе своей настоящей матери.
В целом работа Харлоу послужила весомым опровержением модной в то время точки зрения относительно теорий аффек-
иональных систем «младенец-мать». Одна из наиболее популяр1^1* теоРи** была предложена бихевиористами. Бихевиористы считали, что близость между матерью и ребенком является некой формой обусловленной связи, которая зависит от запаха, формы и размера. Например, они утверждали, что у младенца формируется привязанность к матери благодаря тому, что она обеспечивает его пищей. В результате многократного совместного предъявления пищи, лица и фигуры матери младенец начинает ассоциировать мать с пищей и, в конце концов, потянется к ней просто потому, что она у него будет ассоциироваться с кормлением. Очевидно, что работа Харлоу бросала вызов такой системе взглядов. В его исследовании детеныши предпочитали матерчатую суррогатную мать проволочной даже в том случае, если молоко они получали у последней.
Эти же данные ставили под вопрос фрейдистские воззрения, пользовавшиеся в то время большой популярностью. Как вы, возможно, помните из вводного курса психологии, наиболее значимым мотивирующим фактором, определяющим поведение детей, является, по Фрейду, стремление к достижению орального удовлетворения. Поскольку кормление грудью вполне может служить способом удовлетворения оральных потребностей ребенка, мать нужна ему, в первую очередь, для кормления грудью. Возвращаясь к экспериментам Харлоу, нужно сказать, что удовлетворения оральных потребностей, которое могло бы быть мотивирующим фактором поведения детенышей, оказалось явно недостаточно, чтобы перебороть желание прильнуть к мягкой матерчатой маме.
Выводы
Работа Харлоу совершила революционный переворот в детской психологии, так как именно в этом исследовании, в условиях контролируемого эксперимента, впервые удалось продемонстрировать значение физического контакта для установления аффекциональной связи между ребенком й матерью. Кроме того, данные Харлоу сыграли центральную роль в развитии теории привязанности Джона Боулби (разговор об этом пойдет в главе И). Интересно, что своей работой супруги Харлоу предвосхитили полемику о значении связи между ребенком и матерью, развернувшуюся спустя десятилетия после первой публикации Данных этой работы. Например, в конце 1970-х — начале 80-х годов в литературе по детской психологии нередко высказывались
Двадцать иеликих открытий в детской психологии
мнения о необходимости немедленного телесного контакта матери с только что родившимся младенцем. Одним из аргументов авторов подобных заявлений было то, что неотложный физический контакт матери с ребенком необходим для включения инстинктивного побуждения заботиться о новорожденном, укоренившегося в человеке за сотни тысяч лет эволюции. Несложно представить, как тогдашних новоиспеченных матерей охватывал панический страх, что их дети, лишенные физического контакта с матерью сразу после рождения, обречены на патологические эмоциональные отношения с ними. Основными глашатаями этой идеи были Джон Кеннелл (John Kennell) и Маршалл Клаус (Marshall Klaus).
Вследствие распространения такого подхода на плечи многих молодых матерей, которые по тем или иным причинам не смогли обеспечить незамедлительный контакт с ребенком сразу после его рождения, легло тяжкое бремя вины. Например, представьте себе, каково бы вам было, если бы вы долгие 40 часов в праведных трудах рожали ребенка (если вы женщина, то представить это вам будет несложно). Легко ли будет вам уже через час взять ребенка на руки? Или, быть может, вам захочется немного вздремнуть? Хорошо, предположим, вам хватит сил уже очень скоро навестить своего ребенка. Но многих мам настолько выматывает процесс родов, что они даже глаз не могут открыть. А теперь представьте благонамеренную медсестру, которая подносит ребенка к вашему лицу и сообщает: «Доктор говорит, что вы должны подержать его на руках 47 минут». Ситуация может усугубиться, если роды прошли с осложнениями. Так, если ребенок рождается недоношенным или его состояние требует немедленного врачебного вмешательства, роженица не сможет взять ребенка на руки, даже если захочет. Представьте себе, какую ужасную вину будет чувствовать молодая мама, если ей скажут, что у ее ребенка могут возникнуть эмоциональные проблемы только из-за того, что она лишила его этого самого физического контакта!
К счастью, данные более современного исследования, опубликованные Дайаной Эйер (Diane Eyer) в начале 90-х годов, свидетельствуют, что немедленный физический контакт вовсе не обязателен. Как оказалось, дети, чьи матери не взяли их на руки сразу после рождения, не испытывают серьезных эмоциональных проблем. Очевидно, главной причиной того, что отсутствие контакта с матерью сразу после рождения ребенка оказывало негативное влияние на эмоциональные отношения между ними, была убежденность матери в необходимости такого контакта.
£сли мать свято верит в то, что физический контакт совершенно необходим, но по той или иной причине он не состоялся, происходит нечто вроде самоисполняющегося пророчества. Если мать думает, что ее эмоциональные отношения с ребенком пострадали в результате отсутствия первичного физического контакта, она будет по-другому вести себя с малышом. Именно ее дальнейшее поведение, основывающееся на заблуждении, по-видимому, способствует формированию негативной аффекциональной системы «младенец-мать». Забавно, как действует наша психика, правда?
Библиография
Eyer, D. Е. (1992). Mother-infant bonding: A scientific fiction. New Haven, CT:
Yale University Press. Harlow, H. E, & Zimmerman, R. R. (1959). Affectional responses in the infant
monkey. Science, 130. 421-432. Kennell, J. H., & Klaus, M. H. (1979). Early mother-infant contact: Effects on
the mother and the infant. Bulletin of the Menninger Clinic, 43,69-78. Kennell, J. H., & Klans, M. H. (1984). Mother-infant bonding: Weighing the
evidence. Developmental Review. 4,275-282.
Вопросы для обсуждения
1. Существенно ли отличается любовь между младенцем и матерью у людей от любви между детенышем и матерью у других приматов? Какие именно проявления у младенцев и матерей свидетельствуют о том, что они любят друг друга? Чем их поведение отличается от того, что можно наблюдать в указанном отношении у животных-приматов?
2.Каким образом любовь между младенцем и матерью способствует выживанию, если исходить из эволюционной точки зрения? Не опасно ли для матери тратить все свои силы на уход за ребенком?
3.Этично ли выращивать обезьяньих детенышей без их матерей? Можете ли вы представить себе, чтобы человеческие дети росли в таких же условиях, как маленькие обезьянки в экспериментах Харлоу?
4.Нам известно, что исследовательское поведение макак-резусов отчасти зависит от социального статуса их родителей в группе. А человеческие дети ощущают на себе влияние социального статуса своих родителей?

Невидимый эластичный трос
БАЗОВЫЕ МАТЕРИЛЫ: ATTACHMENT AND LOSS.
Bowlby, J. (1969). Vol. I. Attachment. New York: Basic Books.

Вам когда-нибудь приходилось наблюдать за игрой ребенка «на эластичном тросе»? Может быть, вы просто никогда не слышали такого названия, но я абсолютно уверен в том, что вы видели, как дети в это играют. Такая игра во многом напоминает занятие экстремальным видом спорта. Этот спорт заключается в том, что смельчаки привязывают к лодыжкам длинный прочный эластичный трос, а затем прыгают с высокого здания, с моста или платформы, расположенной высоко в небе. Вся надежда на то, что
секундой раньше, чем лицо этого безумца встретится с землей, эластичный трос замедлит падение смельчака и вырвет человека из цепких лап гравитации.
Игра ребенка «на эластичном тросе» тоже связана с риском и отвагой, для нее тоже необходима неподвижная платформа, но в этом случае трос соединяет мать с ее 2- или 3-летним ребенком. Однако в жизни игра обходится без прыжков, а трос невидим постороннему глазу. Играющих «детей на тросе» можно увидеть повсюду в общественных местах, где бы ни были матери и их чада. Мать, выступающая в качестве «домашней базы», начинает игру, занимая относительно неподвижную позицию. Например, она может сидеть на стуле в комнате, где пациенты ожидают приема врача, или на скамейке рядом с площадкой для детских игр. Ребенок стартует из положения рядом с матерью. Цель игры для ребенка заключается в том, чтобы уйти как можно дальше от матери, прежде чем невидимый трос тревоги и страха снова притянет его к ней. Однако если ребенок, не обращая на это внимания, забредет слишком далеко от домашней базы, эластичный трос притянет к нему мать. «Дети на тросе» всегда играют в общественных местах.
Когда в следующий раз вы соберетесь на детскую площадку, в аэропорт или в ресторан, остановитесь и немного понаблюдайте. Вы увидите детей и их мамаш, движущихся туда-сюда, блуждающих взад и вперед, движущихся навстречу друг другу, и наоборот. Трос, соединяющий их, остается для вас невидимым, но вас не покидает ощущение его присутствия, так как он постоянно удерживает маму и ее ребенка в зоне безопасности, не позволяя им слишком удаляться друг от друга.
Джон Боулби (John Bowlby) имел репутацию видного деятеля в области детского психического здоровья, особенно благодаря тому, что именно он открыл и сформулировал правила для игры «детей на тросе». Хорошо, я согласен, никто их так не называет. Предположим, что это я придумал для них такое название. Да и не игра это вовсе. Это нечто, что в нормальных условиях непрестанно происходит между матерями и их маленькими Детьми. Боулби называл это явление «привязанностью». Но вам будет легче составить четкое представление о том, что он имел в виду, если его понятие привязанности вы будете ассоциировать с игрой «детей на тросе».
Работам Боулби, а также его коллеги Мэри Эйнсворт (Магу Ainsworth, см. главу 12), мы обязаны самым значительным за последние 50 лет теоретическим прорывом в научных исследованиях эмоциональных взаимоотношений матери и ребенка.
Сообща они установили и раскрыли громадный купол идей известный в психологии как теория привязанности. Воспользовавшись базой данных «PsycINFO», я попытался выяснить сколько опубликованных статей было посвящено проблеме привязанности. Я получил свыше 5000 источников! На мое счастье, я испытал огромное удовольствие от изучения, по крайней мере, тех двух глав, к которым я могу обратиться, чтобы живописать научный вклад этих всемирно известных основоположников теории привязанности. Настоящую главу я посвящу деятельности Боулби (который был третьим среди 20 авторов, чьи работы, опубликованные после 1950 года, считаются революционными). В следующей главе я поподробнее остановлюсь на том, какой вклад в науку внесла Мэри Эйнсворт (стоящая в названном списке четвертой).
Боулби получил медицинское образование по специальности «психиатрия». Как и у большинства психиатров, закончивших образование в первой половине XX века, его клиническая практика была насквозь пропитана философскими и теоретическими традициями психоанализа — того направления в психотерапии, начало которому положил небезызвестный психиатр Зигмунд Фрейд. Ввиду ограниченности рамками главы, я не могу слишком углубляться в подробности обширной и запутанной психосексуальной теории развития личности, предложенной Фрейдом. Но для того чтобы понять теоретический контекст работы Боулби, необходимо вкратце обрисовать традиционный психотерапевтический подход, применявшийся Фрейдом и многими его последователями.
Свой метод психотерапии, равно как и теорию в целом, Фрейд вывел из собственного опыта работы со взрослыми пациентами. В большинстве своем этими пациентами были женщины, которые нередко обращались к Фрейду с целым рядом необычных, а иногда весьма странных психологических симптомов. Одна из причин того, почему эти симптомы казались столь экстраординарными, заключалась в том, что, на первый взгляд, они не имели под собой физиологической основы. Они как будто возникали на пустом месте. Типичным расстройством, с которым приходилось сталкиваться Фрейду, было нечто вроде «истерического паралича», при котором подвижность и чувствительность одной из конечностей пациентки, по ее словам, была ограничена. К состояниям подобного рода часто применялся термин истерические, когда их не удавалось объяснить с точки зрения неврологии. Фрейд предпочитал термин истерические потому, что считал эти проблемы типичными именно для женщин — ведь слово
истерический происходит от греческого hystera, что означает «матка» или «лоно».
Что примечательно, Фрейд полагал, будто тяжесть симптомов пациентки можно облегчить (или даже полностью устранить эти симптомы), просто поговорив с ней о ее прошлом. Именно к этому и сводилась процедура психоанализа. Вы начинаете работать с пациенткой, страдающей психологическим расстройством, а затем обращаетесь к ее прошлому, стараясь найти в нем причину патологии. Фрейд обнаружил, что психологические расстройства очень часто уходят своими корнями в детство пациента и связаны с особенностями его взаимоотношений с родителями. Но внимание Фрейда было приковано не к тому, достаточно ли любви и ощущения принадлежности получает ребенок от своих родителей; он больше ориентировался на степень удовлетворения родителями фундаментальных потребностей ребенка в удовольствии. Считалось, что дети, получавшие слишком много или слишком мало удовольствия, становясь взрослыми, обречены страдать неврозами.
Поскольку Боулби имел образование психоаналитика, он уделял огромное внимание роли фактора взаимоотношений между матерью и ребенком в становлении личности последнего. Но тот факт, что практически все психоаналитические теории на тот момент рассматривали взаимоотношения между родителем и ребенком ретроспективно, несколько его озадачивал. Другими словами, недостатком подхода Боулби считал тот факт, что психологические проблемы появляются у человека прежде, чем удается проследить динамику его отношений с родителями, и сам подход казался ему запоздалым. По его мнению, психологическая наука выиграет значительно больше, если в первую очередь сформировать общее представление о природе отношений между матерью и ребенком. Когда общая концепция будет сформирована, исследователи смогут разобраться, способствуют ли те или иные особенности отношений между родителями и детьми нормальному или аномальному психологическому развитию личности в будущем.
Поскольку к тому времени еще не был разработан подход, ориентированный на будущее, Боулби пришлось действовать самостоятельно. Одной из целей его книги было составить план-проект по методологии проспективной (ориентированной на будущее) психоаналитической психологии. Наука не только испытывает потребность в развитии проспективной психологии, полагал он; кроме того, реализация такого подхода расширила бы диапазон научных возможностей психоанализа. Проспектив-
ный подход позволил бы специалистам в области психоанализ делать прогнозы относительно дальнейшего эмоционального благополучия пациента. В этом случае ожидания по поводу эмоциональной состоятельности ребенка в будущем могли бы основываться на качестве его взаимоотношений с родителями, имеющих место в настоящий момент. С научной точки зрения, это было бы куда более ценно, чем традиционный фрейдистский метод объяснять все и вся постфактум. В результате, проспективный подход придал бы психоаналитическим теориям значительно ббльшую наукосообразность. Возможность проверки результатов служит неотъемлемой частью любой науки. Идеи, которые нельзя проверить, не имеют научной ценности. К сожалению, до появления работ Боулби психоанализ большей частью строился на изучении историй пациентов, в том числе на их воспоминаниях о событиях, которые имели место в раннем детстве. Воспоминания человека о делах давно минувших дней нельзя считать достоверной информацией. Боулби своим проспективным подходом готовил революционный переворот в теории психоанализа, так как его версия дала бы психоаналитикам возможность прогнозировать развитие событий на основании анализа взаимоотношений между родителями и детьми на сегодняшний момент, а затем давать оценку справедливости этих прогнозов.
Пусть у вас не возникают иллюзии, будто Боулби обдумывал свои идеи, сидя на вращающемся стуле и попивая вечерний чай. Столкнувшись с многочисленными ситуациями, когда детей, по тем или иным причинам, забирали у матерей в очень раннем возрасте и помещали в специализированные детские учреждения, где дети иногда находились в условиях значительной социальной изоляции, Боулби был вынужден поставить под сомнение фундаментальные теоретические посылки психоанализа. Боулби и сам несколько раз пережил разлуки с эмоционально значимыми для него людьми. Минни, его любимая няня, которая о нем заботилась и была ему как мать, ушла, когда мальчику было 4 года. С научной точки зрения, никто не мог дать достоверный прогноз о будущем маленького ребенка, которого в раннем детстве отняли от матери, ввиду отсутствия проспективных научных подходов. Боулби вознамерился заполнить этот пробел.
Введение
Свою книгу, в которой Боулби попытался представить собственное видение проспективной психоаналитической психологии, он начал с презентации под названием «Наблюдения, требующие
объяснений». Такое же название получила вторая глава его книги. Представляя свои наблюдения, требующие объяснений, Боулби свидетельствует, что не хотел бы с самого начала выдвигать набор теоретических предположений. Он признавал, что получил образование в области психоанализа, но при этом признавал также некоторые недостатки данного подхода. Он дает нам понять, что хотел бы разработать свою новую теорию в индуктивном ключе. Для начала Боулби хотел изложить результаты своих наблюдений по поводу того, что же происходит, когда детей забирают у матерей, и только потом он намеревался продолжить работу над теорией, которая позволила бы объяснить результаты этих наблюдений.
Метод
Участники
Боулби отдал должное своему коллеге Джеймсу Робертсону (James Robertson), который взвалил на себя всю тяжесть проведения необходимых наблюдений, положенных в основу теории привязанности. Мы не располагаем сведениями о том, каких именно детей снимал на пленку Робертсон, известно лишь, что пока он вел съемку, все они находились в специализированных детских учреждениях Лондона или окрестностей. Боулби отмечает, что «данные Робертсона получены в результате наблюдений за поведением детей второго и третьего года жизни, которые в течение ограниченного периода времени находились в детских учреждениях по месту жительства или в больничных палатах, где за ними был установлен обычный уход. Это значит, что ребенка забрали у его матери или у лица, ее заменяющего, отлучили от семейного круга, а вместо этого поместили в непривычную обстановку, вверив заботам совершенно незнакомых людей. Последующие данные были получены на основании наблюдений за поведением [ребенка] в домашней обстановке в течение нескольких месяцев после возвращения, а также по рассказам родителей».
Материалы
Для проведения исследования не понадобилось никаких специальных материалов, так как оно, главным образом, строилось на «естественных наблюдениях» за детьми в период разлуки с матерью. Это означает, что наблюдение проводилось в естественных, близких к идеальному соблюдению этой естественности,
условиях, в которых находились дети. Тем не менее для непрерывной записи происходящего была необходима кинокамера.
Процедура
Как и в том, что касается материалов, проводившиеся наблюдения никак не вписываются в понятие экспериментальной процедуры. Однако Робертсон, снимая детей, разлученных со своими родителями, продемонстрировал такое операторское мастерство, что его методы съемки на камеру были приняты в качестве стандартных правил, соблюдение которых стало обязательным во время съемок детей в отсутствие родителей. По сути дела, операторская работа Робертсона вылилась в создание фильма, который демонстрировался по всей Европе и в Соединенных Штатах, и благодаря которому многие больницы пересмотрели режим посещений своих пациентов.
Результаты
По результатам съемок Робертсон выделил в поведении детей, разлученных со своими родителями, три последовательно сменяющие друг друга фазы. Эта модель поведения наблюдалась среди тех детей, чьи отношения с родителями до госпитализации были совершенно благополучными и надежными. Согласно описанию Робертсона, три фазы поведения, связанного с отделением от родителей, сменяют друг друга в следующем порядке: (1) протест, (2) отчаяние и (3) отчужденность. Боулби отмечает, что не все дети переживают эти фазы одну за другой. Кроме того, продолжительность каждой из фаз у детей может значительно варьировать. Но очевидная универсальность этих фаз произвела на Боулби немалое впечатление. Приведем вам несколько примеров того, что происходит во время каждой из этих трех фаз.
Протест. Когда детей впервые разлучают с их матерями, дети переживают период отчаянного протеста. Некоторые начинают протестовать незамедлительно; в поведении других протест проявляется спустя некоторое время. Иногда протесты длятся всего несколько часов; тогда как в некоторых случаях ребенок перестает протестовать только спустя неделю! Исследователям удалось проследить значительные различия продолжительности и времени начала протестов у детей, в зависимости от качества их взаимоотношений с матерью. Поэтому хотя протестующее поведение демонстрируют абсолютно все дети, качественные
характеристики их взаимоотношений с матерью в значительной степени обусловливают продолжительность и интенсивность протестов.
Как описывает Боулби, во время фазы протеста «маленький ребенок выглядит очень расстроенным тем, что потерял маму, и старается ее вернуть, прилагая к этому все свои скромные усилия. Он часто и громко плачет, сбивает постель, трясется и напряженно ждет хоть какого-нибудь звука или движения, которое может быть предвестником возвращения его потерянной мамы. Всем своим видом он демонстрирует ожидание, что она вот-вот вернется. Тем временем он отвергает всех, кто к нему обращается, хотя другие дети отчаянно цепляются за подошедших к ним медсестер».
Отчаяние. После периода протестов, которые, с точки зрения ребенка, не дали никаких результатов, он постепенно начинает привыкать к мысли, что мама, скорее всего, не вернется. Во время этой фазы ребенком все больше овладевает состояние беспросветной безнадежности. Силы и энергия были израсходованы в период протеста, в результате чего ребенок уходит в себя и практически ни на что не реагирует. Боулби описывает эту фазу как состояние глубокой печали.
Отчужденность. При переходе от отчаяния к отчужденности ребенок как будто порывает с внешним миром. Если говорить о поведении, то оно внешне меняется в лучшую сторону. Если бы события разворачивались на глазах у наивного наблюдателя, ему даже могло бы показаться, что во время третьей фазы ребенок оправляется от стресса, и что он наконец-то смиряется со своей судьбой. Может возникнуть впечатление, будто он свыкается с уходом матери. К тому же он уже не отвергает помощь и заботу со стороны медсестер, а, напротив, принимает их. Некоторым даже удается усмотреть в поведении ребенка проявления счастья и общительности. Однако, как пишет Боулби, при появлении матери «возникает подозрение, что с ребенком не все в порядке, из-за полного отсутствия в его поведении каких-либо четких проявлений привязанности, свойственной этому возрасту. Вместо того чтобы приветствовать мать, ребенок ведет себя так, как будто едва ее знает; вместо того чтобы броситься к ней, он остается отчужденным и апатичным; вместо того чтобы заплакать, он безразлично отворачивается. Со стороны кажется, будто он утратил к ней всякий интерес».
Несмотря на то что эти данные были получены на основе наблюдений за детьми, которых пришлось отправить в больницу,
или которые находились в детских учреждениях, аналогичные результаты дали и наблюдения за детьми, просто остававшимися дома в отсутствие матерей. Я отчетливо помню, как мой племянник Мэттью, которому тогда было два года, бесповоротно отвергал собственную мать, вернувшуюся после недельного отсутствия. В поведении Мэттью не было ни намека на протест или отчаяние; вероятно, в связи с тем, что во время разлуки с матерью он оставался с отцом. Но меня поражало, что после маминого возвращения он не выказывал к ней ни малейшего интереса, когда она обнимала его, и даже когда брала его на руки. Я полагал, что стану свидетелем счастливых объятий и запоздалого воссоединения матери с ее ребенком, но передо мной предстала картина холодной отчужденности.
Обсуждение
Итак, о Боулби: в распоряжении этого ученого находились данные всех наблюдений, но для их расшифровки он мог руководствоваться только лишь психоаналитической теорией. Поэтому он начал создавать новую теорию, обратившись, в первую очередь, к проблемам этологии, литературных данных в отношении которых с каждым днем становилось все больше и больше. Этология основывается на предложенном Чарльзом Дарвином эволюционном механизме адаптации посредством естественного отбора. Этологи исследуют поведение отдельных особей, с тем чтобы выяснить, благоприятствует ли то или иное поведение животного выживанию вида во внешней среде. Поведение, которое в большей степени способствует адаптации вида к среде обитания, совершенствует вид в целом, а, кроме того, отдельные особи, принадлежащие к этому виду, получают больше шансов на выживание. Представляется само собой разумеющимся, что если поведение благотворно для вида, то гены, ответственные за реализацию этого поведения, с большей вероятностью передадутся следующему поколению особей, и что следующее поколение тоже будет реализовывать эту адаптивную модель поведения. Боулби считал, что у людей взаимоотношения между матерью и ребенком являются разновидностью адаптивного поведения. Он полагал, что эти взаимоотношения настолько сильны и настолько значимы для развития ребенка, что были заложены в ходе эволюционного процесса, чтобы способствовать выживанию вида. А почему бы и нет? Совсем незадолго до Боулби супруги Харлоу (см. главу 10) продемонстрировали огром
ное значение взаимоотношений между детенышем макаки-резуса и его матерью для благополучия малыша. Почему бы этой закономерности не распространяться и на людей?
Заимствования из этологии
Во времена Боулби этология, как наука об эволюционно обусловленных адаптационных механизмах, присущих различным животным видам, была в большом фаворе. Этологи по всему миру публиковали статьи, в которых констатировали поведенческие проявления, многие из которых были совершенно поразительными. Нередко поведение животных казалось весьма необычным и экзотическим, но для реализовывающих его животных видов оно неизменно выполняло функцию адаптации. Боулби посчитал, что, возможно, из этологии можно заимствовать ряд гипотез о том, почему матери и их маленькие дети всегда стараются поддерживать такую тесную близость, как будто их связывает невидимый трос. Значительная часть книги Боулби изобилует примерами феноменов, заимствованных из этологии животного мира, которые, по его мнению, внесли определенный вклад в формирование столь тесной связи мать-младенец и у людей тоже.
Среда адаптивности. Одну из центральных этологических категорий, которую Боулби взял на вооружение, он назвал средой адаптивности. Термин «среда адаптивности» характеризует определенную среду обитания, которую та или иная система «выстроила» посредством естественного отбора для наиболее оптимального функционирования. В качестве «системы» может выступать любая совокупность объектов. Например, давайте представим какой-нибудь животный вид как систему. Возьмем, к примеру, радужную форель. Как система, радужная форель лучше всего функционирует в холодной пресной воде, температура которой колеблется в диапазоне от 7 до 25 градусов по Цельсию. Значительно хуже форели будет в теплых тропических водах или в соленой воде, независимо от температуры. И уж, конечно, весьма плачевным будет функционирование радужной форели в безводной среде, особенно на промасленной сковороде, стоящей на бивачном костре.
В качестве другого примера рассмотрим что-нибудь менее масштабное, чем целый животный вид. Возьмем, к примеру, биологическую систему, принадлежащую определенному виду: кар-диопульмональную (сердечно-легочную) систему человека. Задача кардиопульмональной системы заключается в том, чтобы экстрагировать кислород из внешней среды и снабжать им кро
веносную систему. Человеческая кардиопульмональная система устроена таким образом, что лучше всего она работает в атмосферных условиях морского берега. По мере увеличения высоты над уровнем моря она работает все хуже из-за снижения содержания кислорода в воздухе. Именно в этом кроется одна из причин того, почему многие команды Национальной Футбольной Лиги опасаются играть с командой «Денвер Бронкос» на стадионе «Высокая Миля». Игроки этих команд бегают по полю туда-сюда, тяжело дыша, и при каждом удобном случае надевают на лицо кислородную маску. В противном случае у спортсменов может случиться приступ. В связи с тем, что на высоте около полутора километров над уровнем моря в атмосфере так мало кислорода, кардиопульмональная система не может работать в полную силу.
Хотя оптимальный уровень функционирования системы достигается в условиях ее среды адаптивности, с ходом времени среда адаптивности иногда претерпевает некоторые изменения. Эти изменения могут поставить под вопрос выживание системы. Порой изменения в среде носят временный характер, как, например, в случае, когда излюбленный гусями пруд пересыхает в результате длительной летней засухи. Однако зачастую в среде происходят необратимые изменения, причем в результате целенаправленной деятельности самого животного вида. Вероятно, именно человек стал причиной наиболее плачевных изменений собственной среды обитания. Внешняя среда, в которой человек живет сегодня, кардинально отличается от того мира, приспособление к которому составляло суть процесса эволюционирования. Например, ни одна из человеческих систем не способствует выживанию среди самолетов, поездов и автомобилей. Скорее, биологические и поведенческие системы, наличествующие у нас сегодня, эволюционировали, чтобы помочь нашим древним предкам выжить в мире, который, по нынешним меркам, показался бы нам чудовищно примитивным. Поэтому вы можете в полной мере оценить вопиющее несоответствие между нынешним этапом процесса эволюционирования человека как животного вида, целью которого было приспособиться к первобытной среде, и нынешней индустриализированной средой обитания человека, которую можно считать какой угодно, только не первобытной.
Кроме того, с этологической точки зрения представляется очевидным, что дети, выросшие сегодня, относительно слабо подготовлены к выживанию в современном обществе. Их внутренняя организация предназначена для того, чтобы обеспечить
выживание в те времена и в тех обстоятельствах, где не было ни самолетов, ни поездов, ни автомобилей; где не было таких учреждений, как больницы и сиротские приюты; и где у них не было причин для длительного расставания с матерью. Боулби был совершенно уверен в том, что если нам и удастся постичь природу отношений между матерью и ребенком, то не с точки зрения современного общества. Боулби отмечает: «Единственным релевантным критерием, на основании которого можно судить об адаптивности поведенческого репертуара современного человека, является тот вклад, который он мог бы внести в выживание собственной популяции в первобытной среде, и способ его реализации». Соответственно, чтобы понять значимость отношений между матерью и ребенком для выживания сегодня, мы должны представить себе, каким образом они могли способствовать выживанию вида много тысяч лет назад. Протест, отчаяние и отчужденность детей, разлученных со своими матерями, по большей части, являются следствием несоответствия между подлинной биологической адаптивностью детей и реальностью современной среды обитания, в которой они находятся.
Идея системы интересовала Боулби настолько, насколько он мог применить ее к поведению детей. Таким образом, получалось, что речь идет о поведенческой системе. У Боулби были основания полагать, что внутри каждого ребенка функционирует система, удерживающая его вблизи матери. По крайней мере, последствия разлуки с матерью в ситуации, когда ребенка помещали в больничную палату, подтверждали это его предположение. Эту систему, при всей ее запутанности, он назвал системой привязанности.
Вынашивая эту идею, Боулби попытался собрать дополнительные данные в поддержку своей гипотезы о первобытной системе привязанности. Эти данные не только подтверждают идею о том, что система привязанности была «встроена» в детей еще в доисторические времена, поскольку помогала детям и человеческому роду в целом не выйти за грань выживания; возможно, они помогут дать объяснение таким реакциям, как протест, отчаяние и отчужденность, демонстрируемым детьми во время разлуки с матерями. Поскольку во взаимоотношениях между матерью и ребенком участвуют две стороны, то справедливо будет поставить два вопроса: (1) Какие факторы способствуют проявлению у ребенка врожденного, всепоглощающего желания быть рядом с матерью? (2) Какие факторы порождают у матери непреодолимое стремление быть рядом со своим ребенком? Боулби надеялся получить ответы на эти вопросы в этологических
исследованиях, проводившихся на близких к человеку животных видах.
Импринтинг. Что касается особой врожденной привязанности человеческих детей к своим матерям, то одним из любимых понятий Боулби, заимствованным из этологии, стал импринтинг (запечатление). Возможно, импринтинг приобрел широкую известность благодаря исследованиям этолога Конрада Лоренца (Konrad Lorenz), посвященным изучению поведения гусят и утят. Лоренц обнаружил, что только что вылупившиеся из яиц гусята и утята сразу же останавливают внимание на ближайшем движущемся объекте, попадающем в поле их зрения. Вскоре они начинают следовать за ним по пятам, причем всеми силами стараются оказаться как можно ближе к нему. Если объект исчезает, они пытаются его найти или издают жалобные сигналы, призывая его вернуться. В этом заключается процесс импринтинга; в общих чертах можно сказать, что в психике или головном мозге гусенка или утенка происходит запечатление объекта желания.
В естественной среде обитания в роли запечатленного объекта практически всегда выступает мать — гусыня или утка, а сам процесс импринтинга в той или иной степени гарантирует, что птенец будет держаться матери. Но с легкой руки этологов-экспериментаторов мы знаем, что объектом импринтинга может быть не только мать-птица. Бывало, что эту роль исполняли мячик, собака и даже пара желтых носков этолога-исследователя. Хотя особенности запечатляемого объекта не имеют большого значения, существует целый ряд факторов естественного происхождения, катализирующих процесс импринтинга. В частности, запечатляемый объект должен быть определенного размера. В том случае, если объект будет слишком маленьким или слишком большим, то механизм импринтинга может не сработать. Кроме того, выраженность импринтинга напрямую связана с особенностями звуковых сигналов, издаваемых объектом, например, с кряканьем. Но после того как в психике новорожденного запечатлится тот или иной объект, маловероятно, что этот механизм повторится, и у гусенка или утенка запечатлится что-нибудь еще. Объекты, запечатление которых не состоялось, иногда даже вызывают страх, стоит им только слишком приблизиться к птенцам.
Значение импринтинга для успешной адаптации вида не вызывает сомнений. В естественной среде обитания он, в сущности, служит гарантом того, что дети будут находиться рядом с матерью. Возможно, вам даже доводилось видеть на берегу какого-нибудь пруда или озера знакомые следы гусят или утят.
всем выводком следовавших за мамой. Оставаться рядом с матерью — значит придерживаться адаптивной линии поведения, так как это обеспечивает птенцу защиту от хищников и незваных гостей, которым мать может дать отпор. Мне это известно не понаслышке! Много раз бывало, что мне приходилось отражать нападки матери-гусыни, когда мой мяч улетал с площадки для гольфа и подкатывался слишком близко к тому месту, где она высиживала яйца.
Боулби считал, что импринтинг, безусловно, имеет место и в отношениях между матерью и ребенком. То есть не исключено, что у новорожденного ребенка происходит запечатление матери. Разумеется, птицы существенно отличаются от млекопитающих, особенно таких высокоразвитых, как люди. Скажем, новорожденный младенец не может сразу же встать и последовать за матерью. Поэтому применять понятие импринтинга к человеческим детям можно только с поправкой на то, что для его реализации должно пройти значительно больше времени, скажем, несколько месяцев. Но, несколько обобщая, можно провести немало параллелей между импринтингом у птиц и аналогичным поведением людей. Например, по прошествии нескольких месяцев после рождения младенцы начинают отдавать предпочтение одним объектам перед другими. Как правило, наиболее предпочтительным объектом становится мать. К тому же в ее отсутствие младенцы выказывают признаки страха, а иногда их может чрезвычайно сильно испугать появление незваных незнакомцев. Дети, не ограниченные в передвижениях, демонстрируют устойчивую тенденцию держаться поближе к матери, когда она рядом, и следовать за ней, когда она удаляется (чем вам не «дети на тросе»!).
Боулби пишет: «Итак, согласно имеющимся данным, мы можем сделать вывод, что механизмы формирования поведенческих проявлений привязанности у человеческих младенцев и направленность на определенную фигуру во многом перекликаются с механизмами формирования у других млекопитающих, а также у птиц. Соответственно, все это можно охарактеризовать одним-единственным понятием «импринтинг» — поскольку этот термин используется в... наиболее общем смысле. В противном случае между человеком и другими животными видами разверзнется непреодолимая пропасть». Как видите, для Боулби было исключительно важно объяснить феномен человеческой привязанности в духе дарвиновской теории эволюции. Теория Боулби основывалась на гипотетических этологических параллелях между человеческим поведением и тем, что мы наблюдаем
у представителей других животных видов, стоящих рангом ниже на эволюционной лестнице.
Инстинкты. Хотя явлением импринтинга можно объяснить естественное стремление детей быть как можно ближе к своим матерям, этот феномен не раскрывает нам природу присущей матерям тенденции быть рядом с детьми и заботиться о них. Поэтому Боулби заимствовал из этологии еще одно понятие, а именно, понятие так называемого материнского инстинкта. Вопрос о допустимости апеллирования к инстинктивным мотивам человеческого поведения в то время стоял довольно остро. Многие современники Боулби доказывали, что в человеческом поведении нет ничего, что определялось бы сугубо действием инстинктов. Но Боулби был с этим не согласен. С его точки зрения, поведение, связанное с материнской заботой и уходом за ребенком, вполне соответствовало критериям, позволяющим считать такое поведение инстинктивным. Согласно критериям Боулби, материнская забота носит инстинктивный характер, потому что: (1) она реализуется согласно прогнозируемой модели, универсальной для представителей большинства животных видов; (2) это не просто реакция на единичный стимул, а прогнозируемая последовательность действий; (3) эта последовательность действий в значительной степени обеспечивает выживание отдельной особи (человека) или всего вида в целом; (4) поведение реализуется даже при полном отсутствии возможностей научения.
Итак, в связи с тем, что современное общество уже не имеет ничего общего с первичной средой адаптивности, чтобы лучше понять природу материнского инстинкта, нам приходится больше полагаться на данные наблюдений за животными. Особенно информативными представляются наблюдения задругами «приматами, живущими на земле». Одна из ярких примечательных особенностей заключается в том, что они ведут общественный образ жизни. У них есть свое маленькое обезьянье общество, в котором действует своя неофициальная иерархия. Каждый из членов группы имеет собственный общественный статус и даже не пытается воспользоваться привилегиями, которые не положены ему «по штату», так как в противном случае члены группы, имеющие более высокий статус, немедленно «поставят его на место» (мне все это очень напоминает американскую культуру). Но жизнь в обществе с ярко выраженной «классовой» структурой имеет один неоспоримый плюс — в этом обществе каждый знает, чего от него ожидают. Например, когда группе угрожает нападение хищника, самцы объединяются ради того, чтобы
дать отпор злобному зверю. Тем временем самки хватают детенышей и спасаются бегством, стараясь укрыться в безопасном месте. Согласно только что приведенному нами определению, такое полоролевое поведение является инстинктивным. Одна из вероятных причин того, что матери бросаются защищать своих детей, заключается в том, что, возможно, в доисторические времена, хватая и пряча детей в минуту опасности, люди повышали тем самым свои шансы на выживание. В свою очередь, выживание вида способствовало селекции генов, благодаря которым следующие поколения матерей тоже хватали и прятали своих детей, в результате чего эти формы поведения просуществовали вместе с обществом до сегодняшнего дня.
Но есть и другой этологический фактор, отчасти объясняющий возникновение у матерей желания брать своих детей на руки и заботиться о них. Дело в том, что маленькие дети подают сигналы, на которые матери считают для себя необходимым реагировать. Например, когда малышам что-то нужно, они тут же начинают плакать. Плач младенца заставляет мать немедленно найти и устранить причину его неудовольствия. Но ведь дети еще и улыбаются! А улыбка младенца пробуждает у его матери самые прекрасные чувства. Вот что Боулби пишет об одной из матерей: «Стоит ей рассердиться на ребенка или продемонстрировать признаки усталости, одна его улыбка ее прямо-таки обезоруживает; когда она его кормит или как-то иначе выражает свою заботу, его улыбка служит ей наградой и поддержкой... улыбка ребенка настолько трогает мать, что, скорее всего, в будущем она быстро отреагирует на его сигналы, причем ее реакция непременно повысит его шансы на выживание».
И, наконец, как можно упускать из виду, что эти младенцы такие прелестные! В сущности, естественное очарование маленьких детей зачастую побуждает каждого из нас, а не только матерей, заботиться о них. Вас когда-нибудь охватывало непреодолимое желание подойти и взять на руки прелестное дитя? И это касается не только человеческих детей. Щенки, котята, обезьяньи детеныши и даже птенцы вызывают у взрослых людей по всему миру улыбку обожания и порыв прижать их к себе. Случайно ли, что детеныши всех животных видов выглядят такими хорошенькими? Конрад Лоренс (тот, что занимался импринтин-гом) уже довольно давно подметил, что детеныши многих животных видов имеют ряд анатомических черт, кажущихся людям очаровательными. По сравнению со взрослыми особями того же вида, у детенышей, как правило, необычно большая голова округлой формы, круглые щеки, большие глаза и лоб. Возможно,
эти черты «детскости» представляются взрослым представителям данного вида чрезвычайно трогательными, и быть может, именно они подталкивают взрослых к тому, чтобы заботиться о детях и прилагать все усилия по обеспечению их безопасности. Стремление заботиться и опекать, возникающее при виде очаровательного создания, получило название реакции опеки. Несмотря на то что сам Боулби не рассматривал такое понятие как реакция опеки, оно вполне могло стать еще одним эволюционным элементом, «встроенным» в психику матери, с тем чтобы гарантировать возникновение желания заботиться о своих детях.
Мать и ребенок: взаимная привязанность
В стремлении Боулби воспользоваться этологической литературой, чтобы выстроить эволюционный, биологический фундамент взаимной привязанности между матерью и ребенком, читались штрихи гениальности. Никому прежде, а возможно, и после него, не удавалось столь ясно сформулировать свою позицию, сведя воедино такие разные и непохожие дисциплины. Но Боулби идет еще дальше, стараясь доказать, что отношения между ребенком и матерью не следует рассматривать как «биологический удел». Мамы и их дети — это вовсе не компьютеры, функционирующие в соответствии с заданными программами. Возможно, эволюционный процесс дал им легкий толчок к тому, чтобы проникнуться друг к другу взаимной привязанностью, но для того чтобы добиться благополучия в отношениях, основанных на привязанности, обе стороны должны приложить немало усилий.
Например, матери и их дети должны быть отзывчивы по отношению друг к другу. Боулби отмечает, что отношения, основанные на привязанности, насквозь пронизаны самыми сильными эмоциями. Ситуация, когда по той или иной причине мать становится эмоционально или иначе недосягаемой для ребенка, вполне может спровоцировать тяжелое психологическое расстройство. Боулби пишет о том, что «оба ценят близость и эмоциональную общность, и получают от них удовольствие, а отчужденность и отвержение доставляют обоим боль и дискомфорт... В результате, стоит только этим стандартам значительно отклониться от нормы, как это время от времени случается в процессе развития человека, и их, скорее всего, сочтут патологичными». Вот куда мы идем. Как мы уже видели, обсуждая результаты, у детей, разлученных со своими матерями из-за необходимости пребывания в том или ином учреждении, неизбежно
азвивались серьезные эмоциональные травмы, принимавшие формы протеста, отчаяния или, что хуже всего, отчужденности.
В конце концов, хотя предпочтительным объектом привязанности, как правило, является мать, дети иногда привязываются и к другим людям, если те играют ключевую роль в их жизни. Подобно тому как утята могут запечатлеть собаку по имени фидо и следовать за ней по пятам, так и маленький ребенок порой привязывается к отцу, старшей сестре или брату, медсестре и даже к няне. Известны единичные случаи, когда объектом привязанности и главным источником заботливого отношения для ребенка становилось животное. Например, в конце XVIII века в лесной чаще нашли маленького мальчика по прозвищу Виктор. Как оказалось, семьей для него была волчья стая!
Революция привязанности
Я считаю, это замечательно, что последние несколько страниц мы смогли посвятить талантам теоретика, получившего образование фрейдиста-психоаналитика, но все свои силы направившего в другое русло. Как я уже упоминал, причиной этого стало недовольство Боулби традиционной фрейдистской теорией. Несмотря на то что поначалу Боулби хотел усилить теорию Фрейда, привнеся в нее весомые и широко известные это-логические денные, в конце концов, он создал свою теорию привязанности, которая получила собственную путевку в жизнь. От теории Фрейда в ней не осталось почти ничего. Кое-кто из самых верных последователей Фрейда даже заклеймил Боулби, назвав его еретиком!
И все же многие психоаналитики, занимающиеся лечением взрослых с различными психологическими нарушениями, используют теорию привязанности Боулби. Этот постбоулбиан-ский психоаналитический подход пошел по традиционному для психоанализа пути — сначала терапевт обсуждает актуальные психологические проблемы пациента, а затем обращается к его детству в поисках их причин. Но эта форма психоанализа примечательна одной особенностью, присущей именно боулбиан-скому подходу. Дело в том, что терапия начинается с оценки привязанности пациентки к лицам, значимым для ее сегодняшней взрослой жизни — например, к мужу, детям, лучшей подруге. Если взаимоотношения с этими людьми не слишком прочны, то следующий шаг терапевта — выяснить, не является ли это показателем того, что в раннем детстве пациентка была не слишком близка со своей матерью. Хотя такой подход тоже относится к
разряду ретроспективных, против которых выступал Боулби, но главенствующую роль в нем играет предложенное им понятие привязанности. Цель нового боулбианского психоанализа заключается в том, чтобы помочь пациентке восстановить отношения, основанные на привязанности, посредством многолетних насыщенных длительных терапевтических сессий; помочь пациентке разобраться в том, что именно могло воспрепятствовать ее отношениям с матерью или «отравить» их в те времена, когда она еще была ребенком. Достигнув этого понимания, психоаналитик, работающий в рамках теории Боулби, может помочь пациентке предпринять меры для восстановления упущенных или нарушенных взаимоотношений, пусть даже она давно уже взрослая.
Закат теории привязанности. Хотя можно было бы сказать, что подражание — высшее проявление лести, но несколько недавних случаев «несанкционированного» применения теории привязанности наверняка заставили бы Боулби перевернуться в гробу. Сегодня в лечении нарушений привязанности наметилась тревожная тенденция, получившая название терапии перерождением. Идея, положенная в основу терапии перерождением, проста. Пациент, страдающий нарушением привязанности, как бы возвращается в пренатальное состояние и еще раз переживает символическое «рождение», с тем чтобы во второй раз попытаться установить более благополучные взаимоотношения. Центры перерождения стали появляться по всей стране. У вас есть шанс переродиться всего за какие-то 5-7 тысяч долларов. Чтобы найти ближайший к вам центр, просто введите в свою любимую поисковую систему слова перерождение и клиника.
Хотя, в принципе, я ничего не имею против такого символического перерождения, проблема в том, что от такой «терапии» умирают дети! Возьмите случай Кандас Ньюмакер. Эта десятилетняя девочка испытывала проблемы эмоционального сближения со своей приемной матерью. Ее мать заплатила 7 тысяч долларов клинике перерождения в Эвергрине, штат Колорадо, за двухнедельную программу, включавшую эпизод символического перерождения. Ребенка завернули в одеяло, призванное символизировать матку. Четверо взрослых начали давить подушками на вернувшуюся в материнское лоно девочку. Надавливание символизировало родовые схватки. Согласно данным, опубликованным в газете U.S. News & World Report, в течение первых 24 минут Кандас семь раз повторила, что ей нечем дышать.
g течение первых 16 минут она шесть раз сказала, что умирает. Вместо того чтобы прекратить процедуру, терапевт продолжал со словами: «Ты хочешь умереть? Ладно, умирай. Валяй, умирай прямо сейчас». По прошествии 1 часа и 10 минут с начала сессии и неудавшегося перерождения Кандас, они развернули импровизированную матку и обнаружили бесчувственную, посиневшую Кандас — по иронии судьбы, она лежала в позе эмбриона. О ее смерти было объявлено на следующий день.
Выводы
Работы Джона Боулби помогли открыть глаза специалистам-медикам всего мира. В своих работах он показал, что если в течение длительного периода времени ребенок не имеет возможности взаимодействовать с человеком, к которому он привязан, то такая ситуация может спровоцировать серьезную психологическую травму или хроническое нарушение. Эволюционный статус детей не позволяет им долго находиться в разлуке со своими матерями. Кроме того, Боулби убедительно доказал, что мать — это много большее, чем просто ходячая грудь, единственным предназначением которой служит удовлетворение базовой потребности ребенка в питании. Мать дарит любовь. Боулби продемонстрировал, что если бы детские учреждения действительно были заинтересованы в сохранении психического здоровья своих маленьких пациентов, они должны были бы позволять матерям постоянно находиться рядом со своими детьми. А что касается сирот, у которых нет никого, к кому бы они могли испытывать привязанность, то им просто необходимо участие сотрудников, которые могли бы выступить в этой роли. Более того, мать выполняет функцию «базы безопасности», с которой ребенок отправляется во всевозможные рискованные предприятия и изучает неизведанные земли. Поэтому привязанность необходима не только для эмоциональной безопасности, но и для интеллектуального развития, которое происходит путем изучения окружающего мира.
Мэри Солтер Эйнсворт, которую с Джоном Боулби много лет связывали знакомство, сотрудничество и дружба, написала в некрологе, опубликованном в журнале American Psychologist: «Ученый Джон Боулби был неразделим с человеком Джоном Боулби. Все, кто его знал, считали его сердечным и очень заботливым человеком. Будучи превосходным врачом, он относился к другим с уважением, пониманием и участием. Некоторые
неверно истолковывают его внимание к родительскому поведению, влияющему на личностное развитие ребенка, как попытку обвинить родителей во всех детских проблемах. Нет, он знал, что "все понять — значит все простить". Он был не способен обвинять».
Библиография
Ainsworth, М. D. S. (1992). John Bowlby (1907-1990): Obituary. American Psychologist, 47,668.
Bretherton, I. (1992). The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary
Ainsworth. Developmental Psychology, 28,759-774. van Dijken, S. (1998).John Bowlby: His early life: A biographicaljourney into the
roots of attachment theory. London: Free Association Books.
Вопросы для обсуждения
1. Правда ли, что дети демонстрируют импринтинг, подобно птенцам в экспериментах Конрада Лоренца? Что общего в поведении младенцев и птенцов, и какие различия прослеживаются в их поведении?








