4. Почему для теории развития важно понятие функциональной инвариантности?
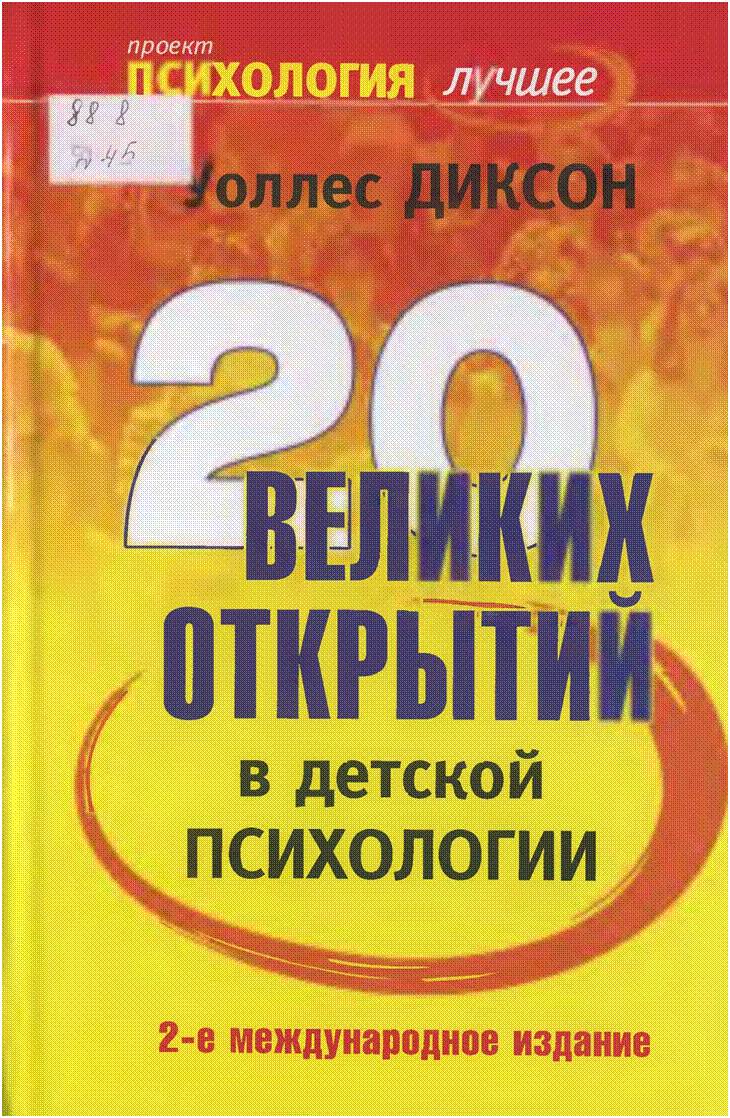
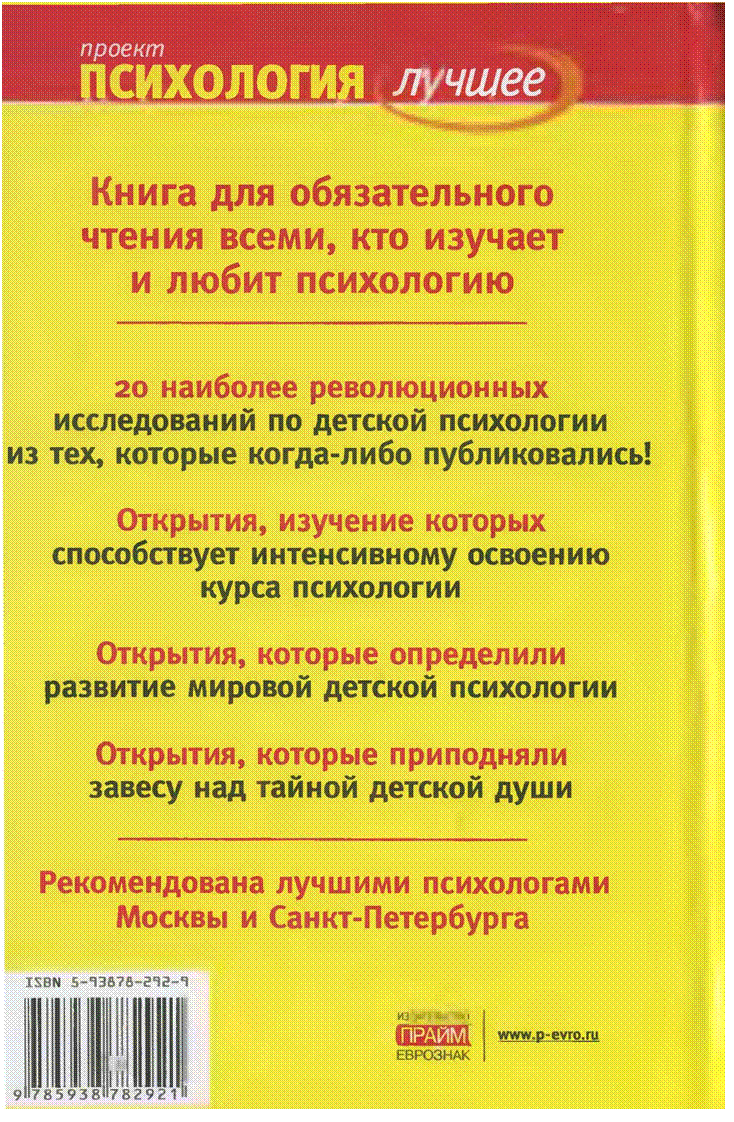
проект
ПСИХОЛОГИЯ (лучшее
«Я не встречала другого учебника по детской психологии, который был бы столь же захватывающим, как область, которую он описывает!»
Л. Ю. Соломина, кандидат психологических наук, преподаватель ЛОГУ им. А. С. Пушкина
Wallece E. Dixon, Jr.
TWENTY STUDIES THAT REVOLUTIONIZED CHILD PSYCHOLOGY
 |
Prentice Hall, Upper Saddle River, N J 07458
Уоллес Дмкссэн
ДВАДЦАТЬ ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ В ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
2-е международное издание
Санкт-Петербург Прайм-ЕВРОЗНАК» 2007
УДК 159.922J ББК 88.8 Д45
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
Диксон, У.
Д45 Двадцать великих открытий в детской психологии / Уоллес Диксон. — СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. — 448 с: ил. — (Психология — лучшее).
ISBN 5-93878-292-9
Эта уникальная книга представляет обзор двадцати исследований, кардинально изменивших наши знания о развитии, становлении личности и поведении человека. Книга заставляет испытать волнение первооткрывателя, почувствовать себя участником революционных событий в детской психологии под руководством Пиаже и Выготского, Хомского и Бандуры, Боулби и Брон-фенбреннера, Томаса и Эйнсворт, Анастази, Гиллиган и других выдающихся мастеров.
Для самого широкого круга читателей, интересующихся историей становления и современными достижениями в детской психологии.
Уолес Диксон
ДВАДЦАТЬ ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ В ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Перевод с английского: О. Исакова, Л. Ордановская, И. Павлова, Т. Пешкова, М. Потапова, А Ракитина, С. Рысев. Редактор: Л. Соломина
Подписано в печать 17.07.2006. Формат 84х1081/зг. Усл. печ. л. 23,52. Тираж 3 000 экз. Заказ № 5089.
«ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК». 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 41.
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2-953000 - книги, брошюры. Издание осуществлено при техническом участии ООО «Издательство АСТ».
ОАО «Владимирская книжная типография» 600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7. Качество печати соответствует качеству предоставленных диапозитивов
В|© Wallace Е. Dixon, Jr. Pearson Education, Inc. Upper
Saddle River, New Jersey 07458,2003
"*© Перевод на русский язык: Исакова О., Орданов-
ская Л., Павлова И., Пешкова Т., Потапова М.,
Ракитина А., Рысев С, 2003
ISBN 5-93878-292-9 © Серия, оформление, «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2007
ISBN 0-13-041572-3 (англ.) ® «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2007
Оглавление
Предисловие.............................................................................................................. 6
Глава 1. Введение................................................................................................. 8
Глава2. От моллюсков к малышам:
биологические принципы и психологические идеи 27
Глава 3. С чего начинается мышление...................................................... 44
Глава 4. Марксистская революция в психологии.................................. 63
Глава 5. Это видят глаза.................................................................................. 83
Глава 6. «Принцип разводного моста»...................................................... 96
Глава7. «Знаете ли вы, что знаю я?»...................................................... 116
Глава 8. Языковое развитие и «Теория Большого Взрыва»......... 136
Глава 9. Адам и Ева и исследование в Райском саду....................... 156
Глава 10. Любит — не любит......................................................................... 179
Глава 11. Невидимый эластичный трос................................................... 196
Глава 12. Эта незнакомая ситуация............................................................ 217
Глава 13. «Тебе это причинит гораздо больше боли, чем мне» ... 238
Глава 14. Обезьяна видит, обезьяна делает........................................... 261
Глава 15. Этика заботы: это путь женщины............................................ 280
Глава 16. «Если бы ты родилась первой, то мне бы уже хватило» 303
Глава 17. Броненосцы — не единственные млекопитающие,
у которых есть панцирь 323
Глава 18. Как вместе с водой не выплеснуть ребенка........................ 343
Глава 19. Хореография танца природа — воспитание....................... 363
Глава 20. Нет дыма без огня и огня без дыма........................................ 382
Глава 21. Мозг котят как подспорье в изучении развития................. 399
Глава 22. Государственные органы, школы и магазины: уровни со сложной структурой,
оказывающие влияние................................................................ 418
Глоссарий .............................................................................................................. 439
Предисловие
Я не утверждаю, что обладаю какими-то особыми знаниями о том, что происходит в области детской психологии. Я всего лишь обычный человек, который зарабатывает себе на жизнь, делая то, что положено делать детским психологам. Одна из их наиболее важных обязанностей — читать труды других детских психологов.
Примерно за два десятилетия, в течение которых я читаю эти работы, у меня выработалась достаточно точная классификационная схема того, какие исследовательские темы можно считать самыми значимыми, каких детских психологов — самыми влиятельными, и какие научные публикации — самыми революционными. Фактически, я пришел к тому, что когда я читаю работу еще одного детского психолога, моим вторым шагом становится просмотр библиографического раздела (первым делом я читаю название и аннотацию). Я обращаюсь к библиографии потому, что, как мне кажется, могу получить хорошее представление о тональности, цели и результатах статьи, всего лишь узнав, кто в ней процитирован. Обычно мои прогнозы сбываются на сто процентов.
Но около пяти лет назад я начал задаваться вопросом, есть ли у других детских психологов собственные классификационные схемы, и похожи ли их схемы на мою. Например, мне захотелось узнать, считают ли другие исследователи труды Роберта Фэнца (Robert Fantz) и Рене Байержо (Renee Baillargeon) такими же революционными, какими их считаю я. Поэтому летом 2000 года я взялся за собственный большой исследовательский проект в попытке определить ведущие исследовательские работы в детской психологии, опубликованные во второй половине XX века.
Я попросил детских психологов всех основных специализаций назвать изыскания, которые, на их взгляд, являются: Самыми Важными; Самыми Революционными; Самыми Противоречивыми; Самыми Увлекательными.
В настоящей книге описаны Двадцать Самых Революционных Исследований.
Этот проект оказался многотрудным предприятием, и с моей стороны было бы недопустимым не поблагодарить за вклад, внесенный в него множеством великодушных людей. Прежде всего
мне следует отдать должное громадным усилиям, предпринятым Дебби Хоффман. Деб участвовала в этом проекте на всех его этапах: она выбирала имена из регистрационного списка членов Общества исследований в детской психологии, отправляла письма помогала подсчитывать результаты и просмотрела всю мою книгу на предмет опечаток и грамматических ошибок. Я ей очень признателен.
Благодарю также Чака Муна, который помог мне разработать исследовательский план для той части проекта, которая была связана со сбором данных. Моя признательность всем тем, кто читал отдельные главы, комментировал их или как-то иначе помогал мне в работе над ними, в том числе Тимоти Андерсону, Дэниелу Крюйкшанксу, Маргарет Эванс, Брайану Хейли, Мишель Моузер и Кену Пораде. Одновременно благодарю тех, кто предоставил полезную информацию: Стива Веласкеса, Боба Берга, Аяко Табусу, Сяомина Хуана и Мутони Кимемиа. Мои благодарности должны также принять рецензенты: Тара Кутер, Университет Западного Коннектикута; Джуди Пейн, Университет штата в Марри; Джозеф Д. Склафани, Университет Тампы, и Роджер Ван Хорн, Университет Центрального Мичигана. Наконец, я хочу поблагодарить ряд авторов из «Первой двадцатки» и их близких знакомых за указания и советы в отношении того, как мне подойти к написанию книги; среди них Джо Фей-ган, Эмми Вернер, Рене Байержо, Арни Самерофф и Урсула Бел-луджи.
Ряд людей заслуживают особого упоминания за то, что придавали мне решимость в осуществлении проекта: Эстер Стра-хан — за то, что предрекла неизбежность моей писательской карьеры; Пег Смит — за подсказку, что мне пора писать книгу; Уоллес Диксон-старший — за то, что намекнул мне: написание книг приносит хорошие деньги; Тим Лосон — за то, что опередил меня и написал свою книгу первым; и Дженнифер Гиллилэнд — за ее постоянную поддержку и воодушевление и за то, что назвала меня «великим писателем».
Наконец, особые благодарности, со словами любви в придачу — моей жене Мишель Моузер и моим дочерям Рейчел и Саре, за готовность отказаться от моего общества в те долгие-долгие вечера, когда я удалялся в свой кабинет и занимался «обработкой текста» до самого раннего утра.
Уоллес ДИКСОН

Введение
Поздравляю! Вы только что вступили в захватывающий мир детской психологии. Конечно, я могу быть немного пристрастным. В конце концов, я занимаюсь детской психологией почти 20 лет, и мой заработок зависит от того, удастся ли мне убедить других в важности работы, которую я выполняю. (Если бы мои работодатели думали иначе, я бы лишился своего места!) Тем не менее основной причиной, по которой я связал свою жизнь с этой областью, была, с одной стороны, ее привлекательность, а с другой — то, что новые научные открытия в детской психологии происходят, едва ли не быстрее, чем срабатывает нейрон. Я даже вспоминаю, что в студенческие годы удивлялся, почему все остальные не специализируются в детской психологии. В конце концов, в какой другой профессии вам будут платить за то, что вы возитесь с детскими игрушками и очаровательными малышами (и никаких дурно пахнущих пеленок)? Кому захочется заниматься чем-то иным?
Но когда я осваивал высший курс детской психологии, недостатки этой области стали для меня более очевидными. Я обнаружил, что детская психология — это не только воздушные шарики и яркие картинки. Детским психологам в клинической и прикладной областях приходится иметь дело с весьма неприятными элементами развития детей. Они работают над такими проблемами, как реабилитация детей, ставших жертвами физической жестокости и запущенности, и улучшение качества жизни детей, родившихся с синдромом Дауна или аутизмом. Неспособность к развитию порой просто ужасает, и ежедневная работа с
этими детьми требует железной выдержки. Тем не менее такую работу надо выполнять, и тот факт, что я причастен к области, которая занимается этими труднейшими задачами, вызывает у меня гордость.
Несмотря на мое восхищение детской психологией, я готов допустить, что другие люди могут смотреть на вещи несколько иначе, чем я. С годами я также обнаружил, что многим не нравится игра в гольф, большинство не любят играть в шахматы, и очень немногих, кроме морских биологов и владельцев аквариумов с соленой водой, интересуют различия между мягкими и твердыми кораллами. Поэтому неудивительно, что время от времени я сталкиваюсь с людьми, которые считают, что предмет детской психологии нагоняет сон, хотя подобное отношение по-прежнему не укладывается у меня в голове.
После некоторых размышлений над данным вопросом я пришел к выводу, что одну из причин, почему эта область не вызывает восторга у некоторых людей, можно усмотреть в том, как написано большинство учебников по детской психологии. Скажем прямо, тексты по детской психологии читаются не так, как «Гарри Поттер». Признаюсь, я еще не встречал учебника по детской психологии, который был бы столь же захватывающим, как область, которую он описывает. Это вовсе не упрек в адрес авторов этих учебников. Наоборот, авторы учебников по детской психологии — исключительно компетентные специалисты, которые берутся за труднейшую задачу — дать обзор всей области менее чем на семистах страницах. Вы можете подумать, что 700 страниц — это очень много. Но более 700 страниц заняли всего лишь два из ста с лишним сочинений Пиаже, а Пиаже — только один из нескольких тысяч исследователей детской психологии, которые активно публиковались за последние 50 лет. Мне, по крайней мере, легко понять неразрешимость задачи, которая стоит перед автором учебника по детской психологии. Представьте себя, хотя бы на мгновение, в его положении. С одной стороны, объем книги ограничен, с другой стороны, вы стремитесь к полноте изложения. Может ли хоть один здравомыслящий человек рассчитывать на то, что ему удастся продать учебник объемом 520 000 страниц? Поэтому, подвергшись своего рода дарвиновскому естественному отбору, учебники превратились в компактное собрание результатов исследований, «сброшюрованных» в единое целое творческим талантом авторов.
Истоки проблемы можно также усмотреть в том трудном положении, в котором оказывается преподаватель детской психологии. Можете мне поверить, когда я говорю, нисколько не пре
увеличивая, что в студенческом кампусе не найти более достойных людей. Преподаватели детской психологии — на удивление талантливые люди. Они усердно работают. Они усердно занимаются. Но при этом они попадают в неизбежные ловушки. Во-первых, как и авторы учебников, преподаватели сталкиваются с обескураживающей задачей изложить буквально безграничный объем информации в течение крайне ограниченного времени. В конце каждого семестра я поражаюсь тому, как мало я успел сделать за свои 40 часов учебного времени. Кроме того, преподаватели обязаны удовлетворять потребности широкого круга студентов. Если преподаватель слишком отклонится от материала учебника, он рискует вызвать неудовольствие студентов, потративших 115 долларов на учебник, который не был использован профессором. Однако если он отклоняется от содержания учебника слишком редко, то вызовет раздражение другой группы студентов, которые потратили 1000 долларов на курс, когда все, что им требовалось, — это прочитать учебник. Ситуация практически безвыходная.
Даже если студенты действительно читают учебники, и внимательно слушают лекции, далеко немаловажно, что многие теории и выводы в детской психологии просто выше понимания среднего студента. Прежде всего студенты должны преодолеть барьер «здравого смысла». Многие из тех, кто приходит прослушать курс детской психологии, уверены, что курс подтвердит нечто им уже известное. В конце концов, когда-то они сами были детьми. У некоторых студентов даже есть собственные дети. Очевидно, родители должны знать многое о детской психологии, так ведь? Препятствие возникает в тот момент, когда многие выводы детской психологии начинают противоречить привычным представлениям и практике воспитания детей. Я никогда не забуду женщину средних лет, которая подошла ко мне после одной из лекций (в те далекие дни моей молодости, когда при покупке пива мне еще приходилось предъявлять удостоверение личности) лишь для того, чтобы сообщить, что меня не должен смущать ее богатый личный опыт воспитания детей.
Вдобавок ко всему, в теорию детской психологии из года в год вносятся серьезные уточнения и коррективы. Понимание теории в современной детской психологии подобно попытке попасть из лука в летящую тарелочку с расстояния в сто шагов. Некоторые теории стали настолько сложными и отдаленными от детей, которых они описывают, что в них перестали узнавать теории детской психологии! Я вспоминаю, как излагал лет семь назад одну такую теорию в аудитории. Эта теория, которую дет
ские психологи называют «теорией обработки информации», является современным подходом, использующим компьютер в качестве метафоры при осмыслении особенностей детского мышления. Однажды, стараясь показать студентам, как эта теория может быть связана с детским мышлением, я нарисовал им схему составных частей компьютера, включая клавиатуру, принтер, оперативную память и жесткий диск. Я разбил студентов на группы и попросил каждую группу показать путь на схеме, от входа информации до ее выхода, который, на их взгляд, наилучшим образом описывает прохождение информации через компьютер. Большинство исполнительных студентов с готовностью принялись за задание. Однако спустя примерно 10 минут один потерявший терпение учавдийся выпалил на всю аудиторию: «Какое отношение к детям имеет весь этот вздор?» Я был ошарашен вопросом не из-за его дерзости, а потому, что связь была мне абсолютна ясна. Я полагал, что студенты непременно поймут, что компьютеры обрабатывают информацию способами, аналогичными мышлению детей. Но эта связь полностью ускользнула от моих учеников. Связь между теорией обработки информации и реальными детьми была настолько отдалена, настолько оторвана от детского мышления, каким оно представлялось студентам, что они совершенно упустили суть. В те дни я понял, что преподаватели детской психологии должны сделать несколько шагов назад, отказавшись от своей безоглядной погруженности в науку, если они хотят сохранить хоть какую-то надежду на то, что их преподавание будет эффективным. Последователи Пиаже назвали бы это избавлением от излишнего эгоцентризма.
Чтобы преподавание было эффективным, педагоги должны усердно работать над укреплением связей между непривычными, иногда весьма причудливыми теориями и фактами данной научной дисциплины, и детьми, являющимися объектом исследований. Мне кажется, что преподаватели использовали бы свое время намного разумнее, если бы попытались перекинуть мостик к студенческим умам, вместо того чтобы ждать, что студенты перекинут мостик к умам преподавателей. К сожалению, как мы только что видели, подобная задача чрезвычайно трудна. В детской психологии слишком много информации, чтобы можно было ею эффективно поделиться.
Теперь, после рассказа о «правофланговых» преподавателях Детской психологии, трудолюбивых авторах учебников и озадаченных студентах, настала очередь невоспетых героев детской психологии, источников всех этих лакомых кусочков и факта
ческих материалов, которые заполняют страницы учебников детской психологии, — самих научных исследований. Перед вами некоторые из наиболее оригинальных и новаторских работ, когда-либо проводившихся во всей психологии, если не во всей науке. Благодаря им революционные шаги в понимании развития ребенка, которые сделаны за последние 50 лет, не имеют аналогов во всей истории человечества. Однако по каким-то причинам красота этих исследований, вместе с оригинальностью и побудительными мотивами исследователей, которые их провели, часто забывается, подобно бумажным обрезкам на полу редакторского кабинета. Вместо этого преподаватели иногда идут по проторенной дорожке, требуя от студентов запоминания фактов и выводов, стадий, дат и фаз научных изысканий. Могу признаться, что сам поступал так много раз. Но такой подход придает слишком большое значение результатам исследований в детской психологии, игнорируя при этом все то, что позволило эти исследования провести. Я полагаю, мы могли бы возбудить у студентов гораздо большее любопытство к нашей области, если бы вместо того чтобы обрушивать на них поток второстепенных подробностей, дали им возможность проникнуться оригинальностью наиболее значимых исследований. Мне кажется, что студенты, чей интерес разгорится благодаря этому методу, узнают подробности самостоятельно.
Разумеется, иногда индивидуальные исследования описываются в мельчайших деталях. Например, многие, изучающие детскую психологию помнят, что когда Пиаже исследовал когнитивное развитие, ему очень помогло внимательное наблюдение за тремя своими детьми. И нет сомнений, что сейчас где-то на планете студенты с сияющими глазами называют четыре основные стадии когнитивного развития по Пиаже. Но я задаюсь вопросом, не сочли бы студенты фигуру Пиаже более привлекательной, знай они, что он поначалу не проявлял никакого интереса к изучению детей. В сущности, его больше интересовали моллюски. И хотя, в конце концов, он остановился на профессии, связанной с наблюдениями за детьми, даже тогда он не находил свою работу слишком интересной, по крайней мере, на первых порах. Мне также любопытно, поразились ли бы студенты, узнав, что Пиаже написал в соавторстве свою первую научную статью в качестве не психолога, а биолога, причем еще не достигнув юношеского возраста. Более того, в результате известности, которую принесла ему эта статья, он даже получил предложение занять должность хранителя коллекции моллюсков в Музее естественной истории в Женеве (от чего, к своему вели
кому сожалению, был вынужден отказаться, поскольку к тому моменту ему исполнилось всего 15 лет, и он должен был сначала окончить среднюю школу). Мне думается, что такого рода справочная информация выставляет достижения Пиаже в намного более привлекательном свете, и что сообщая изучающим детскую психологию подобные «сплетни», мы можем обнаружить, что все остальные идеи, высказанные Пиаже, начинают вызывать у них намного больший интерес. И если все пойдет как надо, возможно, они сумеют лучше припомнить и их.
Готов поспорить, что стоит студентам получить более полное представление о человеке или исследованиях, стоящих за теорией, они почувствуют себя более погруженными и вовлеченными в нее. Они начнут относиться к вопросам серьезнее, поскольку будут с ними связаны. Вы можете определить, когда такая связь существует; в этом случае студенты обычно начинают задавать вопросы, подобные следующему: «Можно ли основывать теорию на наблюдениях всего лишь за тремя детьми?» Или, относительно Зигмунда Фрейда: «Можно ли доверять теории кокаиниста?» (имея в виду пристрастие Фрейда к кокаину).
И, разумеется, это мой любимый прием. Приглашая студентов за кулисы, преподаватели детской психологии могут надеяться на то, что студенты увидят движущие силы, стоящие за исследованиями детских психологов. Когда студенты понимают эти мотивации, им проще включить данную область в более широкий контекст, относительно которого они смогут оценивать, осмысливать и изучать ее части.
Написав эту книгу, я надеюсь заразить вас своим увлечением детской психологией, обрисовав эту область в контексте двадцати исследований, которые революционизировали наши представления о детях. Моя цель — познакомить вас с точкой зрения детского психолога на занятие детской психологией, после чего, как мне кажется, вам будет трудно не разделить мой энтузиазм. В процессе знакомства с этой точкой зрения вы узнаете о различных событиях, произошедших в нашей области. Вы узнаете о ситуации в прежние дни, до того как нам стало известно о недавно выявленных особых возможностях малышей, до того как мы узнали, что даже новорожденные могут понимать, психически организовывать вещи и размышлять о них. Если благодаря моей книге вы сумеете оценить не только исторический контекст этих научных исследований, но и их методологию, я готов принять за 100% вероятность того, что вы приложите к области детской психологии эпитет захватывающая. Все, о чем я прошу, — это прочитать книгу, обдумать то, что в ней сказано, и задать
вопросы о прочитанном в учебной аудитории. Если вы проделаете все это, мне кажется, хотя я и не даю гарантий, что у вас появится очень хороший шанс получить по этому курсу «отлично».
Прежде чем начать, мы должны обсудить ряд вопросов и сделать несколько допущений в отношении области детской психологии. Во-первых, я считаю нужным указать, что детская психология, подобно психологии в целом, а также биологии, химии, астрономии и физике, является, прежде всего, наукой. Это истинная наука, во всех возможных смыслах этого слова. Сказать такое — значит, сказать, с одной стороны, очень мало, а с другой — очень много. Очень мало потому, что этим только указывается, что детская психология следует научному методу. То есть детская психология подчиняется правилам научной постановки вопросов, логики, процедур сбора данных, анализа данных и пересмотра теорий. Детская психология делает все то, что вам, начиная с восьмого класса, известно о задачах науки. Однако слова, что детская психология — наука, могут показаться кому-то ересью! Многие люди в нашем обществе подвергают сомнению разумность анализа, касающегося детей, как будто эти действия могут раскрыть некий тайный, загадочный план. Другие утверждают, что детская психология — никакая не наука, поскольку люди не подчиняются тем научным законам и научным проверкам, объектом которых являются черви, химические реакции и метеорные потоки. На это я отвечаю: «Полная ерунда!» Научный метод — это процедура, способ изучения мира, и ему безразлично содержание того, к чему он прикладывается. Поэтому его можно приложить практически к любой теме исследования. Возможно, прогноз в отношении направления и скорости перемещения 10-килограммового ребенка, который учится ходить по дорожке сада, и не будет таким точным, как прогноз в отношении направления и скорости перемещения 50-граммового шара по поверхности с наклоном 20°, но детская психология является наукой в такой же степени, как и любой другой метод изыскания, который подчиняется научной методике. Важно следующее: поскольку детская психология — наука, мы не можем считать наши представления о детях истинными только потому, что мы так думаем. Факты в детской психологии должны быть надежно подтверждены строгой логикой и вескими доказательствами. Студенты на моих лекциях очень хорошо знают, после того как я повторил им это бессчетное количество раз, что мнение в отношении детей при отсутствии систематически получаемых данных не имеет научной ценности. Любые утверждения о действи
ях мыслях, знаниях и чувствах детей должны быть подкреплены научными данными.
Другое ошибочное представление сводится к следующему: наши выводы в детской психологии не могут быть валидными, если их нельзя приложить к каждому ребенку. Но это представление также демонстрирует незнание того, как функционирует наука. Вероятно, будет правильнее всего сказать, что наука детская психология приложима ко всем детям в некоторых случаях, к некоторым детям во всех случаях, но ее нельзя прилагать ко всем детям во всех случаях. Поскольку дети столь непохожи друг на друга, и поскольку их жизненные обстоятельства столь многообразны, детские психологи, будучи реалистами, не считают, что их научные выводы всегда приложимы ко всем детям. Они лишь стараются изо всех сил объяснить как можно больше в отношении как можно большего числа детей в как можно большем количестве условий. Поэтому когда детские психологи проводят научные исследования, они стремятся включить в них максимально возможное число детей. Однако, по-видимому, многие дилетанты не видят необходимости в больших выборках. Похоже, некоторые из них полагают, что одного случая достаточно для исчерпывающего понимания какого-то аспекта психологии. Их аргумент звучит примерно так: «Психология изучает людей. Я много общался с людьми; следовательно, я разбираюсь в психологии». Хотя иногда этот подход оправдан, порою вы можете попасть из-за него в неприятное положение. Например, если вам известен человек, который нюхал кокаин, а затем добился успеха на административной работе, сделаете ли вы заключение, что все люди, нюхающие кокаин, станут удачливыми администраторами? Сомневаюсь. Если вам известен человек или какой-то случай, которые в чем-то не соответствуют одному из выводов детской психологии, это не означает, что вы можете отбросить этот научный вывод как неверный. Всегда бывают исключения.
Принцип работы
Лишь учась на втором курсе колледжа, я понял, что исследования, на которые ссылаются ведущие программы новостей, когда говорят: «Последние исследования показали...», — это зачастую исследования, проводимые психологами. Для меня, специализировавшегося в психологии, это означало, что однажды я могу провести исследование, которое попадет в заголовки вечерних
новостей! Конечно, не каждое исследование заслуживает упоминания в новостях. Исследование должно быть хорошо поставлено и быть привлекательным для людей вне данной области. Но важнее всего то, что перед тем как исследование, наконец, окажется в центре внимания, оно обычно проходит через очень долгий и мучительный период развития и оценки.
Проведение научного исследования предполагает много больше того, что бросается в глаза. Во-первых, у ученого появляется идея о том, как что-то устроено. Пока это всего лишь идея, а идея ученого не лучше и не весомее идеи любого другого человека. Однако в отличие от тех, кто не занимается наукой, ученый переходит к проверке точности своей идеи, собирая из внешних источников информацию, которая имеет к этой идее определенное отношение. Этот процесс называют сбором данных. Первичная идея ученого обычно облачена в такую форму, которая позволяет задать конкретный вопрос. А данные собирают для того, чтобы ответить на этот вопрос. Когда ответ на вопрос получен, идея, которая этот вопрос породила, либо признается ошибочной, либо нет. Затем исследователь может перейти к проверке дополнительных вопросов, порожденных идеей. Когда этот процесс «идея —> вопрос —> идея» циклически повторяется несколько раз, появляется более содержательная идея. На этом более высоком уровне идею можно назвать теорией. Многие авторы учебников определяют теорию как ряд утверждений, которые хорошо объясняют существующий ряд данных. Хорошая теория должна также обеспечивать точные и конкретные прогнозы в отношении будущего.
Нахождение желаемого ответа на первоначальный вопрос не является последним шагом. Последний шаг называют «распространением». Посредством распространения ученые делают свою работу достоянием товарищей и коллег в научном сообществе. Этап распространения, в свою очередь, состоит из нескольких процедур, которым необходимо следовать. Во-первых, исследование и его результаты должны быть «описаны». Документ, который содержит это описание, называют рукописью. Затем ученый представляет рукопись редактору специализированного научного журнала для публикации. Однако прежде чем опубликовать рукопись, редактор журнала посылает статью на рецензию другим людям, знающим многое об области, в которой работает ученый. Этих людей называют рецензентами. Они читают рукопись, выявляют все неточности, которые им удается обнаружить, а затем подытоживают недостатки рукописи в письме, которое отправляют редактору журнала. Если выявляется не
слишком много проблем либо с исследованием, либо с рукописью, его описывающей, редактор может принять решение опубликовать рукопись в журнале (после того как ученый проверит ее один-два раза). Как только рукопись напечатана в журнале, весь научный мир может познакомиться с исследованием и его выводами. Некоторые авторы могут даже включить результаты исследования в последние издания своих учебников.
Структура статьи
Статьи, которые публикуются в научных журналах, имеют достаточно стандартизированный вид. У статей по психологии он может быть несколько иным, чем у статей по другим дисциплинам, но общая структура остается неизменной. Во-первых, имеется вводный раздел, за которым следует методический раздел, далее раздел результатов и, наконец, обсуждение или заключительный раздел. Каждый из этих четырех разделов преследует в статье определенную цель. Благодаря подобной стандартизации журнальных статей читатели знают, куда им обратиться, если у них появится конкретный вопрос по статье.
Вводный раздел
Во вводном разделе статьи ученый, теперь уже автор, первым делом описывает причину проведения своего научного исследования. В этом разделе автор сообщает своим читателям, почему им может быть интересно то исследование, которое он описывает. Ученый также сообщает читательской аудитории, какая работа была уже проведена по этой теме, каковы недостатки предыдущих исследований, что необходимо сделать, и какой вклад вносит его собственное исследование в существующую совокупность знаний в области детской психологии.
Методический раздел
Если прибегнуть к кулинарной метафоре, методический раздел можно уподобить рецепту для выпечки торта. В нем автор переходит к подробностям проведения самого исследования. Прежде всего автор может описать объекты своего исследования: сколько их было, каков их возраст, пол, этнические характеристики (если это люди), какова их видовая принадлежность и как удалось привлечь их к участию. (Животных, относящихся к виду гомо сапиенс, обычно нанимают. Других животных обычно» скажем так, настойчиво побуждают.) В прежние времена
субъектов психологического исследования именовали «испытуемыми» (subjects), но в наши дни мы называем их «участниками» (participants), особенно если это люди. Такое изменение во фразеологии отражает характерные для всей психологической дисциплины усилия, направленные на то, чтобы относиться к людям как к людям, а не только как к объектам исследования. Но как бы мы ни называли людей, участвующих в психологическом исследовании, они все равно остаются объектами научного изучения.
В методическом разделе автор также объясняет, как он «операционально определил» все абстрактные психологические понятия, которые им изучались. Идея операционального определения крайне важна для ученых, поскольку она позволяет им описать в ясных, недвусмысленных терминах то, как они измеряли нечто, подразумеваемое в целом абстрактным понятием. Например, если вы хотите изучить интеллектуальное развитие первоклассников, то не можете просто бросить взгляд на группу первоклассников и определить, каков их интеллект. Вам придется каким-то образом измерить их интеллект. Как правило, вы можете воспользоваться тем или иным тестом IQ. В данном случае операциональным определением интеллекта может быть показатель теста IQ. Когда ученый операционально определяет какое-то абстрактное понятие, он не утверждает, что его способ является лучшим способом измерения этого понятия; он лишь указывает, что это его способ. Другие ученые, если пожелают, могут воспользоваться иными методами измерения абстрактных понятий. Суть методического раздела в том, чтобы показать читателю, как данный ученый измерял данное абстрактное понятие в данном случае.
Методический раздел описывает не только ингредиенты, использованные ученым (участников и операциональные определения), но также то, как он производил их смешение (методологическую процедуру). Здесь автор указывает следующие подробности: как проводились измерения, когда они проводились, различные условия, при которых они проводились, сколько раз они проводились и порядок их проведения. Если вам приходилось печь торт, вы знаете, что вся изюминка заключается в порядке процедур. К примеру, вы не поставите торт в печь до смешения ингредиентов. Описывая свои экспериментальные процедуры, исследователь сообщает читателю, как и в каком порядке он смешивал свои ингредиенты. Поскольку автор обнародует эту информацию, любой читатель, которому не нравится вкус торта (результат исследования), может, по крайней мере, попытаться
испечь собственный, внеся в ингредиенты или процедуры смещения те изменения, которые он считает необходимыми. То, что подобные рецепты предаются всеобщей огласке и открыты для изучения, является одной из лучших черт науки. Ученые — не участники тайных обществ, замышляющие ниспровергнуть все хорошее и праведное. Наука абсолютно публична, и это делает ее открытой для общественной проверки, общественной критики и для людей, которые полагают, что могут принести ей ббль-шую пользу. Следствием подобной открытости является непрерывный научный прогресс.
Раздел результатов
Если участников, операциональные определения и процедуры исследования можно уподобить ингредиентам при выпечке торта, то результаты можно сравнить с его вкусовыми качествами. В разделе результатов журнальной статьи ученый приводит подробное описание данных, которые он получил у участников, используя операциональные определения и процедуры, описанные им в методическом разделе. Обычно вы встретите здесь массу статистических данных. Даже подготовленных студентов-психологов пугает обилие математики в журнальных статьях, не говоря уж обо всех этих непонятных F,tnp> появляющихся на протяжении всего раздела результатов. И совершенно не случайно, что для получения диплома студенты, специализирующиеся в психологии, должны прослушать, по меньшей мере, один курс статистики. Разделы результатов в статьях психологических журналов переполнены данными описательной статистики, статистическими проверками, значениями р, коэффициентами F, степенями свободы, а также бетами, этами, лямбдами и дельтами. Требуется по крайней мере один курс статистики, а обычно — намного больше, чтобы начать понимать статистические выкладки, представленные в разделе результатов журнальных статей.
Конечно, я не могу здесь вдаваться в подробности, объясняя, что означают многочисленные статистические показатели; но я могу сказать, что большинство исследователей включают статистику в свои журнальные статьи далеко неспроста. Все эти статистические данные преследуют очень важную цель. Они Должны продемонстрировать читателю малую вероятность того, что приведенные результаты получены лишь благодаря случайности. Поэтому задача ученого при написании раздела результатов — еще раз просмотреть каждый из исходных вопросов исследования, привести статистические данные, которые помогли ему ответить на каждый из таких вопросов, и определить, не
являются ли случайными какие-либо из корреляций или различий, которые он обнаружил для каждого из вопросов. Затем ученый предлагает читателю свои интерпретации статистических данных в свете исходных вопросов исследования.
Обсуждение
Если следовать нашей метафоре с выпечкой торта, то раздел обсуждения предоставляет ученому возможность поразмышлять над тем, насколько вкусным получился торт, и насколько хорошо он потрудился, выпекая его. Здесь он может описать, какие ингредиенты предпочел бы использовать взамен, как мог бы взяться в следующий раз за выпечку шоколадного торта вместо кремового, не лучше ли было испечь торт при другой температуре, а то и воспользоваться совершенно иной печью. Ученый также использует этот раздел для ознакомления читателя с тем, каким образом его результаты могут быть включены в данную область знаний в целом, и для рекомендаций в отношении будущих исследований, которые могут заполнить пробелы в понимании, оставшиеся после его исследования или даже созданные им. Моя научная руководительница когда-то посоветовала мне представить себе, что раздел обсуждения — это место, куда можно «отправиться на закате дней». Я полагаю, она имела в виду следующее: каждое исследование имеет свою привлекательную сторону, и раздел обсуждения должен выступить в качестве счастливой концовки рассказа о научном исследовании. Я знаю, что это может прозвучать банально, но автор, публикующий научное исследование, фактически рассказывает историю. У этой истории имеется свое начало, середина и конец. Имеются персонажи и декорации. Есть завязка, ведущая к какой-то цели (вводный раздел), средства, используемые для достижения этой цели (методический раздел), кульминация (раздел результатов) и развязка (обсуждение). Рассматриваемый под таким углом зрения, раздел обсуждения должен оставить читателя с ощущением завершенности и успеха. Читатель должен закрыть журнал с чувством удовлетворения.
Мой подход
Цель моей книги — поделиться с вами своими знаниями о детской психологии, представив 20 наиболее революционных исследований из тех, которые когда-либо публиковались в этой области. Давая обзор каждого из этих 20 исследований, я, по возможности, посвящу какое-то время тому, чтобы познакомить вас
ними путем рассмотрения четырех основных вопросов. А именно* я объясню, почему автор хотел провести исследование, чего он надеялся достичь, как исследование проводилось, что было установлено, и каким образом результаты произвели революцию в данной области. Я, по возможности, покажу, почему результаты исходного исследования по-прежнему релевантны области сегодняшней детской психологии или современному обществу в целом.
Однако не все работы, попавшие в «Первую двадцатку», являются традиционными научными исследованиями. В четырех случаях революционный вклад был сделан при отсутствии научного исследования. В трех из этих статей «исследование» больше напоминало эссе, в котором автор размышляет о положении дел в детской психологии и дает ряд советов в отношении того, как можно его улучшить. В этих случаях я попытался выделить узловые моменты авторской мысли и, когда было возможно, упоминал о том, какое практическое влияние эссе оказало на проведение последующих исследований.
Поскольку я столь твердо верю в роль науки как источника новых знаний, то, не желая изменять себе, решил не опираться лишь на собственную интуицию при определении того, какие исследования включать в эту книгу. Я достаточно хорошо разбираюсь в детской психологии, и мог бы выбрать наиболее революционные исследования самостоятельно. Но я посчитал, что можно составить намного более точный перечень такого рода исследований, если провести научный опрос специалистов в этой области. Поэтому я провел собственное научное изыскание. Я начал с опроса 1000 случайно отобранных членов ведущей организации детских психологов, Общества исследований детского развития (Society for Research in Child Development, SRCD). Я просил людей назвать не более трех исследований, которые, на их взгляд, революционизировали область детской психологии. В этой «открытой» части моего вопроса выявилось свыше 75 различных исследований. Поскольку было указано столь много исследований, я решил провести дополнительный опрос, чтобы сократить перечень. На этот раз я послал список из 30 чаще всего называвшихся исследований второй случайной выборке, состоявшей из 500 членов SRCD. В этом «закрытом» варианте опроса я попросил респондентов определить порядок, в котором, по их мнению, должны располагаться первые 5 самых революционных исследований. Эти результаты позволили мне сократить перечень до 20 исследований. Именно с ними вы и познакомитесь на последующих страницах книги.
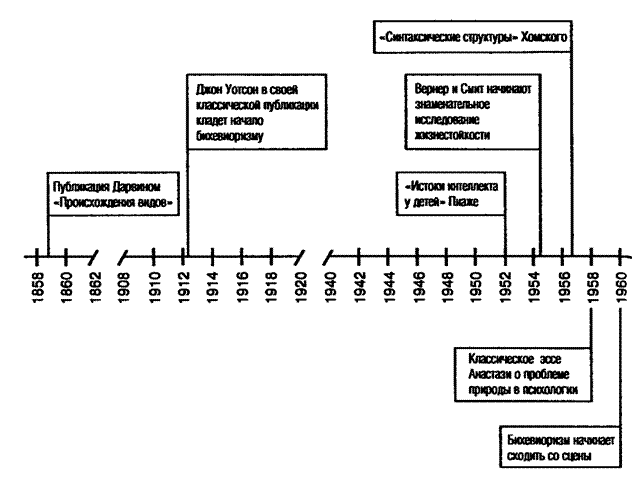
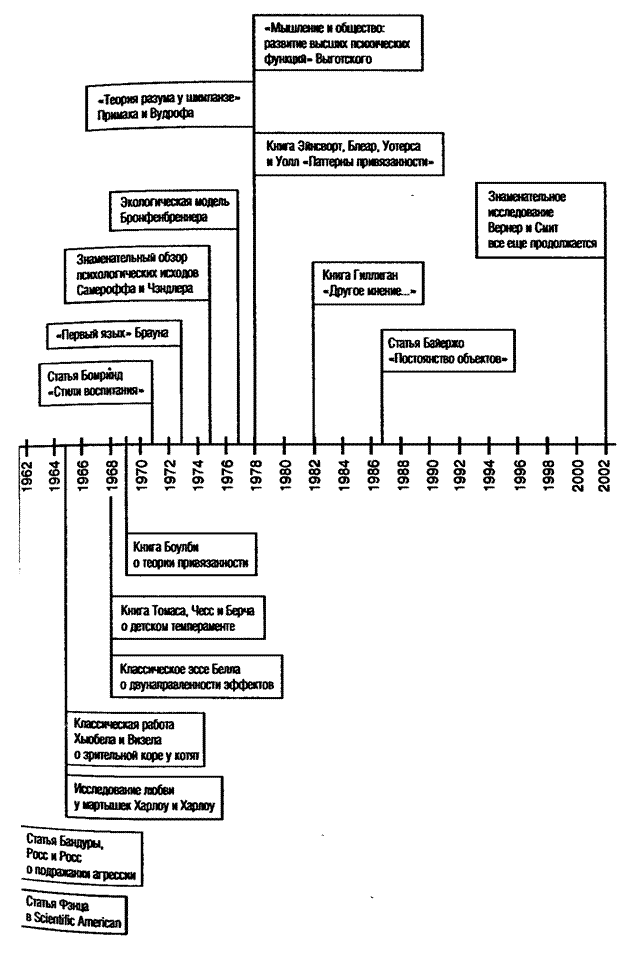
Темы
Авторы многих традиционных учебников стараются выделить общие темы, которые постоянно циркулируют в детской психологии. Существует ряд общих проблем, которые проходят красной нитью через революционные исследования, описанные в этой книге. Некоторые из них, без сомнения, тождественны темам, указываемым в других учебниках по детской психологии, но при этом имеется несколько вопросов, которые уникальны для наших революционных исследований. Вот основные темы, которые регулярно повторяются в этих 20 исследованиях.
Природа или воспитание. Возможно, наиболее популярная тема, проходящая через эти 20 революционных исследований, — «природа или воспитание».Как вам, вероятно, известно, вопрос природа/воспитание касается того, что же больше влияет на развитие детей: их собственные гены или уникальная среда. Как показано в главе 19, где Анна Анастази (Anne Anastasi) решительно берется за этот вопрос, в наши дни он представляет собой в меньшей степени спор, чем компромисс. Исследователи больше не спрашивают, гены или среда являются исключительной причиной чего-то. Вместо этого их интересует, какова степень влияния каждого из этих факторов.
Между авторами имеются достаточно большие различия в том, сколько внимания они уделяют вопросу природа/воспитание, по крайней мере, в работах, представленных в этой книге, но большинство, так или иначе, затрагивают эту тему. К исследователям, которые отдают приоритет природе, относятся: Фэнц (Fantz, глава 5), Байержо (Baillargeon, глава 6), Хом-ский (Chomsky, глава 8), Харлоу и Харлоу (Harlow and Harlow, глава 10), Боулби (Bowlby, глава 11) и Эйнсворт (Ainsworth, глава 12). В число исследователей, которые уделяют больше внимания воспитанию, входят: Выготский (Vygotsky, [Л. С. Выготский], глава 4), Бомринд (Baumrind, глава 13) и Бандура, Росс и Росс (Bandura, Ross and Ross, глава 14). Среди исследователей, для которых первостепенным было взаимодействие между природой и воспитанием: Пиаже (Piaget, главы 2 и 3), Томас, Чесе и Берч (Thomas, Chess and Birch, глава 16), Вернер и Смит (Werner and Smith, глава 17), Самерофф и Чэндлер (Sameroff and Chandler, глава 18), Анастази (Anastasi, глава 19), Белл (Bell, глава 20) и Хьюбел и Визел (Hubel and Wiesel, глава 21).
Активный ребенок. Это также распространенная тема в учебниках по детской психологии, показывающая, что дети играют активную роль в своем развитии. К примеру, Пиаже (Piaget, главы 2 и 3) говорит о том, как биология наделяет детей определенными исходными предпосылками для усвоения знаний, и как они наращивают эти знания благодаря собственной сенсомотор-ной активности. А Самерофф и Чэндлер (Sameroff and Chandler, глава 18) обращаются к вопросу, как уникальные поведенческие характеристики некоторых детей могут фактически повышать вероятность жестокого обращения с ними. В число других исследователей, которые говорят об активной роли детей в их собственном развитии, входят: Боулби (Bowlby, глава 11); Томас, Чесе и Берч (Thomas, Chess and Birch, глава 16); Вернер и Смит (Werner and Smith, глава 17); Анастази (Anastasi, глава 19); Белл (Bell, глава 20); Хьюбел и Визел (Hubel and Wiesel, глава 21); и Бронфенбреннер (Bronfenbrenner, глава 22).
Эволюционная теория. Тема, на которой в стандартных учебниках по детской психологии, возможно, меньше акцентируют внимание, — в какой мере теории и исследования основываются на теории эволюции Дарвина. Однако в ряде работ, о которых здесь сообщается, дарвиновская теория эволюции играет центральную роль. Например, в главе 1 мы отчетливо видим, что вся концепция когнитивного развития Пиаже основана на приложении этим автором эволюционной теории к интеллектуальному развитию детей. Вся концепция привязанности Боулби (глава 11), как и ее модификация у Эйнсворт (глава 12), также уходит корнями в эволюционную теорию. Фэнц (глава 5) предполагает, что предпочтение, отдаваемое малышами человеческим лицам, может быть «сформировано» эволюцией. А Премак и Вудрофф (Premack and Woodruff, глава 7) стараются убедить нас том, что успех человека как вида частично обусловлен нашей исходной способностью осознавать, что у других людей имеются мысли и представления.
Точка зрения. По-видимому, некоторые исследования оказались революционными потому, что привнесли в область детской психологии новую или необычную точку зрения. Например, Пиаже (главы 2 и 3) способствовал серьезному прогрессу в детской психологии, главным образом, потому, что взглянул на эту область с точки зрения биолога. Выготский (глава 4) прославился во многом благодаря тому, что приложил марксистскую идеологию к когнитивному и языковому развитию детей. Хомский (гла
ва 8) внес свою лепту в понимание языкового развития детей за счет своей подготовки в лингвистике, а Роджеру Брауну (Roger Brown, глава 9) в работе, посвященной языку ребенка, помогла подготовка автора как социального психолога. Подобно Брауну, Бандура (глава 14) был социальным психологом и поэтому исследовал детскую агрессию как социально усваиваемый феномен. И, наконец, Гиллиган (Gilligan, глава 15) революционизировала детскую психологию, а возможно, и всю социальную науку благодаря своей феминистской точке зрения.
Протест. В исследованиях, революционизировавших ту или иную область, имеется тема, которая привлекает особое внимание, — тема протеста. Многие из исследований, описанных в этой книге, оказали революционное влияние на детскую психологию именно потому, что они выступили с протестом против существующего положения дел. Мишенью многих из этих револю-* ционных исследователей была поведенческая психология. Например, Фэнц (глава 5), Хомский (глава 8), Харлоу и Харлоу (глава 10), Бандура, Росс и Росс (глава 14) и Томас, Чесе и Берч (глава 16) в своей работе были постоянно побуждаемы их неприятием доминирующей поведенческой психологии.
Другие исследователи были более избирательны в том, против чего они протестовали. Например, Байержо (глава 6) попыталась опровергнуть Пиаже. Хомский (глава 8), помимо своего отрицания бихевиористов, также старался опровергнуть Пиаже. В свою очередь, Брауном (глава 9) двигала его неудовлетворенность теорией Хомского. Напротив, чета Харлоу (глава 10), Боулби (глава И), Томас, Чесе и Берч (глава 16) «держали под прицелом» теорию Фрейда, тогда как феминистская теория нравственного развития Гиллиган (глава 15) была во многом обусловлена «маскулинной» теорией нравственного развития Колберга.
От моллюсков к малышам биологические принципы и психологические идеи
Имя Пиаже знакомо любому, кто знает хотя бы немного о детской психологии. Первый вопрос, который я задаю своим студентам (не считая вопроса: «Нет ли среди вас тех, кто не записан на курс детской психологии?»): «Многие ли из вас слышали о Пиаже?» Почти все тотчас же поднимают руки вверх! Это само по себе интересно, поскольку студенты еще не слушали курс детской психологии, но, тем не менее, припоминают его имя. Затем я спрашиваю: «Многие ли из тех, кто поднял руку, помнят, что сделал Пиаже?» Почти столь же быстро все руки опускаются вниз! После примерно 10-секундной паузы кто-то неуверенно поднимает руку и говорит: «Не он ли проделал что-то со стадиями?»
Ну, конечно, стадии. Хотя Пиаже и его коллегами написаны сотни книг и статей, единственный факт, который студенты, скорее всего, вспомнят, — это то, что старый чудак «проделал что-то» со стадиями. Это забавно потому, что, на мой взгляд, его вклад в идею стадий развития является одной из наименее интересных вещей, которые он совершил. Однако школьники и студенты по всей стране узнают из раздела, посвященного детской психологии, что, согласно Пиаже, дети проходят в своем
развитии через четыре последовательные и качественно различные стадии — до наступления подросткового возраста, после чего их развитие, по всей видимости, прекращается. Если вы собираетесь сказать, что основной заслугой Пиаже являются «стадии», то с таким же успехом можете назвать Сикстинскую капеллу, расписанную Микеланджело, «картиной». Пиаже внес в науку намного-намного более значимый вклад. Я бы даже заявил, что итогом работы Пиаже является, возможно, самая энергичная, согласованная, всеохватывающая теоретическая интеграция всех наук о жизни, которую мир когда-либо знал!
Сказав это, я все-таки могу понять, почему студенты помнят только стадии Пиаже. Во-первых, понятие стадий легко запоминается; и Пиаже предложил лишь четыре стадии. Преподавателям детской психологии намного легче перечислить четыре стадии, чем рассказать об исчерпывающей интеграции всех наук о жизни. Во-вторых, труды Пиаже настолько глубокие и слож-" ные, что вызывают благоговейный трепет даже у самого эрудированного обладателя докторской степени в области детской психологии. Учась в аспирантуре, я думал, что книги Пиаже такие трудные потому, что являются переводами с французского, пока не узнал, что люди, читающие французские первоисточники, находят их столь же трудными! Попытка дать изучающим детскую психологию исчерпывающее представление об идеях Пиаже потребует, наверное, несколько месяцев. Поскольку типовой текст по детской психологии обычно отводит Пиаже только одну главу, которая соответствует примерно трем 50-минутным учебным часам, полное освещение идей этого человека, очевидно, нецелесообразно. Учитывая ограничения пространства, обзор четырех стадий по Пиаже является, по-видимому, более реальной целью. Но при этом теряется сущность гениальных идей Пиаже; и вместо того чтобы ценить Пиаже как прекрасного интегратора, студенты вспоминают о нем только в связи со стадиями.
На следующих страницах я намерен избрать промежуточный вариант. Я опишу два «блюда» из полного набора «пиажетиан-ских» яств. Первым делом я обрисую цели и задачи, которые Пиаже преследовал при проведении исследований психологического развития детей. А затем перейду непосредственно к исследовательской методологии и выводам, содержащимся в его книге The Origins of Intelligence in Children («Истоки интеллекта у детей»), вышедшей в 1952 году. Именно эта книга получила наибольшее число голосов и оказалась на первом месте в моем списке 20 ведущих исследований, которые революционизировали
QT ^пллюсковк малышам
29
етскую психологию. Боюсь, что давая обзор этих двух тем, я буду вынужден несколько отклониться от своей цели — отвести одному исследованию одну главу. Материал о Пиаже я представлю в двух главах. Первая посвящена Пиаже-теоретику; она содержит информацию о том, что этот человек собой представлял. Из нее вы узнаете, что двигало Пиаже, откуда он родом, и почему его идеи были столь исчерпывающе интеграционными. Вторая глава больше соответствует тому паттерну, которому я следую в остальной части книги, — описание одного исследования и революционного влияния, которое оно оказало на область детской психологии. Учитывая глубину и широту влияния Пиаже на данную область в целом, мне кажется, совершенно справедливо, что ему отведено целых две главы.
Пиаже: юный биолог
Позвольте мне вернуться к моему утверждению, что усилия Пиаже были, в сущности, направлены на интеграцию всех наук о жизни. Чтобы уяснить эту мысль, вам необходимо осознать, что Пиаже был, прежде всего, биологом. Его первоначальные интересы лежали в области биологии, он получил профессиональную подготовку по биологии, и большинство его ранних научных публикаций касаются иных биологических организмов, нежели человек. Когда я говорю «ранние», то вкладываю в это слово буквальный смысл. На рубеже XX века в городе Невша-тель, Швейцария, Пиаже опубликовал свою первую научную работу — посвященную воробью с частичным альбинизмом, которого он однажды наблюдал, играя в местном парке, — когда ему было только 10 лет! В возрасте 12 лет Пиаже начал проявлять большой интерес к собиранию моллюсков, а в зрелом 13-летнем возрасте он уже трудился в качестве ассистента Поля Годе, директора музея естественной истории, расположенного рядом с его домом. За помощь в работе Годе дарил Пиаже различные виды моллюсков, пополнявшие его коллекцию. Годе подружился с Пиаже и разделял с ним общее увлечение наукой и систематизацией огромного множества моллюсков и ракушек, находившихся в собрании музея. В детстве Пиаже провел много Дней за измерением, регистрацией и классификацией раковин моллюсков. То, что ребенок посвящает свое свободное время созерцанию и классификации моллюсков, может показаться вам невероятным педантизмом. Но Пиаже двигали, по меньшей мере, Две побудительные силы.
Во-первых, по словам самого Пиаже, у него было трудное детство, главным образом, из-за его отношений с глубоко религиозной и психически больной матерью. Учитывая поразительные успехи Пиаже в науке, а также его восхищение отцом, который занимался историей и был совершенно равнодушен к религии, с точки зрения сохранения семейной гармонии его уклонение от интеллектуальных поединков с матерью было, вероятно, не самым плохим решением. Для Пиаже собирание моллюсков и работа в музее были бегством от трудной жизни. И я предполагаю, с учетом всех обстоятельств, что форма бегства, которую избрал Пиаже, была намного менее дисфункциональной, чем другие формы избежания, которые он мог предпочесть.
При этом несправедливо называть Пиаже педантом. Его интерес к классификации моллюсков отражает, в сущности, не более чем естественную тенденцию всех живых организмов разбивать на категории свое окружение. Вы сами занимаетесь этим, начиная с младенческого возраста. Малыши постоянно кладут предметы себе в рот. Когда они делают это, создается впечатление, что им известна некая примитивная категория «вещей, которые можно пососать». Спросите своих родителей, сколько различных вещей вы клали себе в рот, когда были маленькими. Назвали бы вы себя маленьким педантом только потому, что посвящали свое время разделению мира на объекты, пригодные для сосания? Дети постарше также любят классифицировать предметы. Когда моей дочери Рейчел было 3 года, у нее появилась странная идея, что ей нужно собрать вместе все ее желтые игрушки и сложить их в одну аккуратную маленькую кучку. Красным и синим игрушкам вход был воспрещен. Она бегала взад-вперед по лестнице с радостным криком, собирая все желтые вещи, какие только могла найти. Когда она закончила, то села и стала с восторгом смотреть на свой золотистый конгломерат. Суть здесь в том, что классификация предметов является естественной, основополагающей, и мы прибегаем к ней на протяжении всей своей жизни. А если мы осуществляем ее целенаправленно и систематически, то называем это наукой. Почему какой-нибудь маленький мальчик, похожий на Пиаже, не может заниматься собственными научными изысканиями, если они доставляют ему такое удовольствие?
Прошло немного времени, и в раннем подростковом возрасте, после изучения множества раковин моллюсков, Пиаже начал делать собственные научные открытия. Я не уверен, что здесь он продемонстрировал какую-то исключительную гениальность. Мне кажется, что любой человек, который изучал достаточное
QT ^пппюсковк малышам
31
количество ракушек в течение достаточно длительного времени начнет замечать паттерны подобия и различий. Но Пиаже, подбадриваемый Годе, обнародовал свои наблюдения. Он представил свою работу многим ученым обществам того времени ('тем, в которые его вводил Годе), и вскоре приобрел такую известность в научном мире, что ему предложили стать хранителем коллекции моллюсков в Музее естественной истории в Женеве! Люди, предложившие Пиаже эту должность, даже не знали, что ему было всего 15 лет! Вероятно, Пиаже посчитал, что ему лучше сначала повзрослеть, и потому отклонил предложение. Как бы то ни было, Пиаже прекрасно разбирался в биологических науках задолго до своего поступления в университет, и неудивительно, что его личный взгляд на смысл жизни вобрал в себя основные положения биологии.
Пиаже пропагандирует эволюционную теорию
Из программы естествознания восьмого класса вы должны помнить, что основным руководящим принципом биологических наук является теория эволюции путем естественного отбора. И получилось так, что Пиаже использовал этот принцип сполна в своих концепциях психологического развития детей. Он твердо придерживался этих взглядов. Идея, что какие-то части естественного мира развиваются согласно одному ряду законов, а другие части — согласно другим законам, была для Пиаже лишена смысла. Он считал, что все живое должно следовать одним и тем же законам развития, будь это простейший моллюск или наделенный интеллектом человек. Для него была также лишена смысла идея, что интеллектуальное развитие может чем-то отличаться от физического. Он, опять же, полагал, что любое биологическое развитие должно протекать согласно одному и тому же ряду правил.
Поэтому для Пиаже разница между биологией и психологией была в некоторых отношениях произвольной и второстепенной. Для него теория эволюции путем естественного отбора была подобна работодателю, предоставляющему равные возможности, а изучение психологического развития детей было не более чем отражением его постоянного интереса к биологическим наукам. Но это тем не менее не объясняет, почему Пиаже перестал изучать моллюсков. Лично я не удивился бы, если ему просто наскучила все эта затея с моллюсками. Но почему его так заин
тересовало изучение психологического развития детей? Почему из множества предметов, которые он мог выбрать в качестве своей следующей исследовательской темы, он остановился именно на детях? Причина была не в том, что его очаровали собственные дети, поскольку когда он впервые познакомился с психологией, их у него еще не было. По-видимому, инициатором смены интересов у Пиаже стал его крестный отец, который считал, что Пиаже занимается слишком узкой темой. В конце концов, нормально ли, что ребенок поглощен исключительно раковинами моллюсков? Поэтому чтобы расширить горизонты Пиаже, его крестный отец Самюэль Корню подарил ему книгу по философии, написанную человеком по имени Бергсон. Этот относительно невинный поступок имел далеко идущие последствия: он привел к тому, что наука о психологическом развитии детей изменилась отныне и навсегда.
Книга, которая так взволновала Пиаже, была посвящена эпистемологии. Но постойте, что такое эпистемология? Эпистемология — это отрасль философии, которая занимается смыслом и истоками знания. Эпистемологи отвечают на вопросы: «Что представляет собой знание? Откуда оно происходит? Что можно знать и можно ли знать что-то наверняка? Постоянно ли знание или изменчиво?» Очевидно, благодаря Бергсону, Пиаже начал размышлять о том, подчиняется ли развитие человеческих знаний принципам эволюции путем естественного отбора. Логика Пиаже могла быть следующей. Если эволюция путем естественного отбора является фундаментом биологии, если люди суть биологические организмы, и если развитие знаний является продуктом этих биологических организмов, значит, само развитие знаний должно подчиняться принципу эволюции путем естественного отбора. Нет оснований полагать, что ментальное чем-то отличается от биологического.
Причина, по которой организмы эволюционируют, состоит в том, что это помогает им приспосабливаться к окружающей среде лучше, чем их предшественникам. Если вы вытащите рыбу из воды и бросите ее на дно лодки, она помечется немного и, в конце концов, задохнется. Причиной смерти рыбы является лишь то, что в результате эволюции рыбы научились извлекать кислород из воды и чувствуют себя не столь хорошо, когда им приходится извлекать его из воздуха. Рыбы адаптировались к жизни в водной среде. Как можно предположить, человеческий интеллект эволюционировал во многом по той же причине: чтобы позволить людям лучше приспосабливаться к своей среде.
Проблема, с которой Пиаже столкнулся при изучении эволюции человеческого интеллекта, была достаточно серьезной. Эволюция протекает в течение сотен тысяч поколений, причем для эволюции более сложных видов, таких как homo sapiens sapiens, требуется особенно большое количество поколений. Хотя Пиаже был великим ученым, он не обладал бессмертием. У него была только одна жизнь, чтобы разобраться в вопросе эволюции интеллекта. Он не мог проследить эволюцию человека на протяжении нескольких миллионов лет. Чтобы разрешить эту проблему, он начал со старинного изречения: «Онтогенез есть краткое повторение филогенеза». Хотя эта фраза звучит витиевато, она означает лишь то, что развитие индивидуума (онтогенез) является зеркальным отражением развития вида (филогенез). Поэтому Пиаже посчитал, что для изучения развития интеллекта у вида гомо сапиенс ему достаточно изучить развитие интеллекта у индивидуального человека. Кроме того, поскольку интеллект появляется в младенчестве, или, возможно, даже до рождения, имеет смысл изучать психологическое развитие детей. Другими словами, дети представляют собой идеальный отправной пункт для понимания эволюции интеллекта. Примитивное интеллектуальное функционирование современных детей, вероятно, отражает примитивное мышление взрослых в древности. Как бы то ни было, я надеюсь, вы поняли, почему интересы Пиаже переместились с моллюсков на детей. Обе эти разновидности организмов, моллюски и дети, служили для него в качестве средства изучения одних и тех же общих принципов эволюции, которые являлись основополагающими для его взгляда на мир.
Эволюция
в интеллектуальном развитии детей
Теперь мы можем рассмотреть интерес Пиаже к интеллектуальному развитию более подробно. Вспомним, что ключевым результатом эволюции является адаптация. Чтобы вид или индивидуальный организм выжил в данной среде, он должен суметь адаптироваться к изменениям в ней. Вид, который не может адаптироваться, вымрет. Если среда меняется медленно, скажем в течение тысяч или миллионов лет, тогда эволюция путем естественного отбора может себя проявить. Но если среда меняется очень быстро или радикально, тогда велика вероятность, что
исчезнут целые группы видов. Согласно одной из популярных теорий исчезновения динозавров, в нашу планету врезался огромный метеорит и поднял такую большую пыльную бурю, какой Земля еще не знала. Поскольку динозавры не умели извлекать кислород из частиц пыли, они погибли, и произошло это, по всей видимости, достаточно стремительно. Однако иногда среда может меняться быстро, но не радикально. Когда это происходит, некоторые представители вида могут погибнуть, а другие могут выжить. Уцелевшие представители вида доживают до лучших времен и, что важно, размножаются. Если потомки этих особей обладают теми же характеристиками, что и их родители, они также могут быть способны к выживанию в изменившихся условиях. Именно поэтому данный процесс и называют естественным отбором: происходит какой-то природный катаклизм, и одни выжившие организмы «избираются» для дальнейшего существования, а другие — нет.
Люди обладают хорошими возможностями выжить в случае достаточно радикальных перемен в окружающей среде. Многие ли другие виды растений или животных могут жить и размножаться при 50-градусной жаре в Африке, 70-градусном морозе в Антарктиде, в безвоздушном космическом пространстве и в глубинах океана? Столь успешно переносить подобные резкие внешние изменения людям помогает их интеллект. Интеллект людей позволяет им создавать орудия. Они могут использовать орудия с приложением дополнительных интеллектуальных усилий для возведения технологически совершенных зданий и других конструкций. И они могут использовать эти здания и другие конструкции, опять же наряду с приложением дополнительных интеллектуальных усилий, для создания такой климатически устойчивой среды, которая им необходима. Конечно, младенцы не способны создать подобную среду, как не были способны на это взрослые люди, жившие в доисторические времена. Тогда каким же образом эти современные младенцы, чей интеллектуальный потенциал сводится к умению пускать изо рта пузыри, способны превращаться в интеллектуально развитых взрослых? Для Пиаже ответ был прост: благодаря интеллектуальной адаптации.
Идею интеллектуальной адаптации Пиаже можно представить как своего рода ускоренный вариант эволюции путем естественного отбора. Но вместо эволюции вида в целом эволюционирует интеллект индивидуума. Параллели между интеллектуальной эволюцией и эволюцией вида поразительны. Подобно тому как плохо адаптирующиеся представители вида могут по
ибнуть ПрИ столкновении с враждебной средой, могут умереть чьем-то уме плохо адаптирующиеся идеи, когда они сталкивается с логическими противоречиями. Поэтому для Пиаже задача объяснения интеллектуального развития детей сводилась к наблюдению условий, в которых идеи либо умирают, либо выбивают.
Пиаже полагал, что почти все в интеллекте человека является следствием уникальной истории взаимодействия этого человека с разнообразными условиями среды. Он считал, что в процессе жизни индивидуума, особенно в раннем детстве, абсурдные или неадаптивные идеи обречены на «вымирание», тогда как идеи, оказавшиеся полезными и помогшие индивидууму справиться с самыми разными обстоятельствами, остаются «в живых». В младенчестве является хорошей идея, что грудь матери следует сосать, поскольку эта идея помогает малышу насытиться, когда он голоден. Поэтому нет сомнений, что малыш найдет идею сосания груди адаптивной, и, скорее всего, сохранит ее в своем собрании жизненно важных идей — по крайней мере в течение некоторого времени. Но если малыш будет хранить эту идею слишком долго, скажем, до позднего детства, он, вероятно, подвергнется насмешкам со стороны своих друзей, и в конце концов ему придется от нее отказаться.
Сохранение хороших идей и избавление от плохих составляет сущность того, что Пиаже понимал под адаптацией интеллекта. Пиаже представлял себе интеллектуальную адаптацию как равновесие между воздействием организма на среду и влияниями среды на организм. В случае человеческого интеллекта интеллектуальное равновесие означает, что люди стараются удостовериться в том, что их интеллект находится в равновесии с окружающей их средой. Сосание груди в младенчестве обеспечивает надежный источник питания, и поэтому благодаря этой идее ребенок находится в равновесии со средой. Сосание груди в позднем детстве является большой странностью, вызывая определенный антагонизм со стороны среды, возможно, в форме насмешек, и поэтому свидетельствует о нарушении равновесия между ребенком и средой.
Тем не менее не все интеллектуальные способности можно приобрести посредством опыта. Пиаже полагал, что должны также существовать некоторые важные врожденные характеристики, своего рода отправная точка. В конечном счете другие биологические системы присутствуют и функционируют на момент рождения, или до рождения, зачем тогда делать какое-то исключение для интеллекта? Пиаже предполагал, что отправная точ
ка интеллектуального развития подобна отправным точкам других развивающихся биологических механизмов. К примеру, мы знаем, что в биологическом развитии имеются уже существующие структуры и врожденные процессы. Так, если взять биологический процесс пищеварения, то на момент рождения имеется множество структур, которые помогают малышу в извлечении питательных элементов из среды и использовании их. У нас есть рот, желудок, толстая и тонкая кишка и целый набор желез, выделяющих жидкие вещества. Также уже присутствует целый ряд процессов, которые способствуют извлечению питательных элементов из среды. Вот некоторые из них, которые первыми приходят на ум: глотание, перистальтика (проталкивание пищи по пищеварительному тракту) и секреция ферментов. Эти пищеварительные процессы используют уже существующие пищеварительные структуры (такие, как желудок и железы) с адаптивной целью извлечения питательных элементов из окружающей среды и включения их в биологическое функционирование индивидуального организма. Конечно, пищеварение — не единственный биологический механизм. Биологический акт дыхания также предполагает уже существующие структуры (легкие, диафрагму) и уже существующие процессы (сокращение мышц диафрагмы, извлечение кислорода из легочных капилляров). Обратили ли вы внимание на слова структура и процесс в нескольких предыдущих предложениях? Я часто использовал их и даже выделил курсивом, ибо понимание и структур, и процессов, а также различий между ними является решающим для овладения теорией Пиаже.
Вернемся к основной идее. Пиаже полагал, что этот базовый паттерн уже существующих процессов, воздействующий при биологической адаптации к среде на уже существующие структуры, должен также лежать в основе интеллектуального приспособления к среде. Вспомним, что целью Пиаже было показать, что интеллектуальное развитие является лишь еще одним проявлением базовых принципов, лежащих в основе всей биологии. Однако между биологической и интеллектуальной адаптацией имеется одно большое различие, с которым Пиаже пришлось столкнуться. Оно сводится к следующему: хотя можно легко увидеть базовые структуры и процессы биологической активности при пищеварении и дыхании, непросто увидеть базовые структуры и процессы биологической активности интеллекта. Поэтому Пиаже пришлось их в той или иной степени «изобретать». (Если быть точным, он их не изобрел, а позаимствовал у американского психолога Джеймса Марка Болдуина (James
IVlark Baldwin), но в популярных описаниях теории Пиаже об этом факте обычно забывают.) В итоге Пиаже принял в качестве наиболее фундаментальной структуры интеллектуального развития понятие схемы, а в качестве фундаментальных процессов интеллектуального развития — ассимиляцию и аккомодацию. Рассуждения Пиаже о схеме носят скорее абстрактный характер и трудны для понимания; но основная причина здесь в том, что у вас еще нет схемы для понятия схемы! Поэтому давайте таковую создадим.
Схемы, ассимиляция и аккомодация
В некотором смысле схема относится к интеллекту так же, как желудок — к пищеварению. Подобно тому как цель питания — доставить пищу в ваш желудок, с тем чтобы могло произойти пищеварение, цель научения — наполнить вашу схему информацией, с тем чтобы могла осуществляться интеллектуальная деятельность. И при пищеварении, и при интеллектуальной деятельности желудок и схема присутствуют еще до рождения. Но на этом сходства заканчиваются. Например, при пищеварении у вас имеется только один желудок, а при интеллектуальном развитии — сотни и тысячи схем. И если ваши базовые пищеварительные структуры остаются во многом одними и теми же на протяжении всей вашей жизни (разве что они могут увеличиваться в размерах), то ваши базовые интеллектуальные структуры постоянно меняются. Обычно схемы становятся больше, но могут также уменьшаться. Они могут делиться на части, подобно клеткам тела, могут собираться в одно целое, подобно пищевым добавкам на поверхности молока в вашей утренней тарелке с овсянкой, или могут поглощать друг друга, подобно персонажам популярной видеоигры, проглатывающим «таблетки силы» во время своего продвижения по лабиринту. Схема может быть рефлексом, таким как чихание или моргание, или очень сложным понятием о субатомных частицах, подобных кваркам или нейтрино. Но с чем бы вы ни сравнивали интеллектуальное развитие, оно происходит, когда базовые, примитивные схемы, которые присутствуют еще до рождения, эволюционируют в очень сложные и тесно связанные между собой схемы, которые существуют в наших мыслительных процессах взрослого уровня. Вопрос, которым Пиаже задался, причем на поиск ответа у него ушла значительная часть оставшейся жизни, был следующим: как происходит эта эволюция?
Развитие детского интеллекта
Пиаже начал с допущения, что прежде чем происходит научение чему-то новому, должны присутствовать некоторые базовые схемы знания. Без этих базовых схем организму будет некуда включать самую первую информацию, с которой он столкнется. Это подобно случаю, когда ребенок ест, но не имеет желудка, куда можно было бы направить пищу. Поэтому Пиаже должен был выдвинуть какую-то гипотезу в отношении возможного характера первых схем. Ответ на этот вопрос Пиаже нашел в базовых рефлексах. Уверен, вы знаете, что такое рефлексы, особенно если вам приходилось в жизни кашлять, чихать или пугаться. Если давать более строгое определение, то можно описать рефлексы как более или менее генетически обусловленные, организованные паттерны поведения, которые обычно проявляются в ответ на какое-то событие в среде. Сосательный, хватательный, ориентировочный рефлекс — вот лишь некоторые из десятков рефлексов, которые малыши приносят в мир вместе с собой. Именно посредством этих базовых рефлексов они и начинают понимать мир.
Так что первое восприятие мира младенцами — это не «хаос цветов и звуков», как предположил некогда психолог Уильям Джеймс. Скорее, малыши от рождения готовы понимать мир с точки зрения того воздействия, которое их рефлексы могут на него оказывать. Помните, как я выше говорил о природной предрасположенности малышей к разбиению мира на категории вещей, которые можно и нельзя сосать? В этом сущность идеи, которую пытался найти Пиаже! Рефлексы — это первые схемы малышей. Хотя младенцы делают это ненамеренно, они проводят значительную часть времени, рефлексивно реагируя на события, которые происходят вокруг них. Проходит немного времени, и малыши начинают модифицировать свои рефлексы. Как только малыш выясняет, что рефлексивная схема не слишком хороша в том или другом случае, он начинает немного ее изменять. Сосание автомобильных ключей требует несколько иного положения губ, чем сосание груди, а оба эти действия требуют иного движения языка и положения губ, нежели сосание пальца. Несмотря на то, что эти отличия очень незначительны, процесс видоизменения существующих схем так, чтобы они лучше соответствовали требованиям окружающей среды, является, согласно Пиаже, самой сутью интеллектуального развития. Приспособление своих схем к среде — это также отражение той са
мой эволюционной адаптации, благодаря которой, как полагал Пиаже, интеллектуальное развитие полностью согласуется с общими принципами биологии.
Следующим шагом должно стать объяснение того, как происходит регулировка схем. Ключ к пониманию этого вида интеллектуальной адаптации — в понимании взаимодополняющих процессов ассимиляции и аккомодации. Эти процессы происходят вместе, и их общая цель — обеспечение того, чтобы внутренние схемы индивидуума в отношении внешнего мира находились в балансе с фактическим внешним миром. К сожалению, термины ассимиляция и аккомодация очень часто путают. Они тесно связаны друг с другом по смыслу и описывают очень абстрактные понятия, которые можно редко наблюдать в реальной жизни и которые даже трудно себе представить. Я попробую проиллюстрировать различие между ними, вернувшись к своей любимой аналогии — пище.
Представьте, что вы хотите сделать сэндвич с ореховым маслом (лакомство моей младшей дочери!). Первым делом вы намазываете ореховое масло на ломтик хлеба. Теперь обратите внимание на три особенности этой обыденной операции. Во-первых, вы намазываете масло на хлеб — не на свой нос, не на банан, не на экран телевизора. Сама идея приготовления сэндвича с ореховым маслом требует, чтобы масло было положено на хлеб. Если бы вы клали его на что-то другое, у вас вместо сэндвича с ореховым маслом был бы, к примеру, «нос с ореховым маслом» или «телевизор с ореховым маслом». Во-вторых, после того как вы намажете масло на ломтик хлеба, хлеб перестает быть просто хлебом — это хлеб с ореховым маслом. Суть здесь в том, что кусок хлеба изменился отныне и навсегда. Разумеется, хлеб по-прежнему на месте, но это уже не тот хлеб, каким он был без орехового масла. Ореховое масло навсегда изменило сущность куска хлеба. Хлеб перестал быть просто хлебом; он стал частью сэндвича с ореховым маслом. В-третьих, отметьте, что вы не можете намазать ореховое масло на хлеб без того, чтобы на хлебе также не было намазано какое-то количество орехового масла.
Если вы следите за причудливым ходом моей мысли, тогда должны понять основные принципы ассимиляции и аккомодации. Теперь я попробую объяснить их с точки зрения того, как они могут быть приложены к интеллектуальному развитию. Ассимиляция и аккомодация — это процессы, гарантирующие, что понимание малышом мира согласуется с тем, что он переживает в этом мире. И помните, что первый шаг в понимании малышом
мира обеспечивается базовыми схемами, которыми он обладает. Всякий раз, когда малыш пытается понять новые элементы мира, он сначала старается применить схемы, которые у него уже имеются. В случае очень маленьких детей это может означать попытку пососать новый предмет. Если малыш пытается пососать какой-то предмет, который он никогда раньше не брал в рот, например собачье печенье, тогда мы можем сказать, что он ассимилирует собачье печенье в свою схему сосания. Благодаря акту сосания собачьего печенья он в самом буквальном смысле узнает о собачьем печенье, и в данном случае он узнает о нем путем ассимиляции его в свою схему сосания (а не в какую-то другую из существующих схем). Если бы он попытался ассимилировать собачье печенье в какую-то иную схему, тогда он бы его не сосал. Отметьте, что это условие подобно требованию, гласящему, что для приготовления сэндвича с ореховым маслом необходимо положить масло на хлеб. Если вы положите ореховое масло на что-то иное, вы будете делать не сэндвич с ореховым маслом. Чтобы сделать сэндвич с ореховым маслом, масло должно быть в той или иной степени ассимилировано в хлеб.
Но когда малыш начинает сосать собачье печенье, сама сосательная схема претерпевает постоянные изменения. Это более не сосательная схема, которой не известно, что такое сосание собачьего печенья; это сосательная схема, у которой есть опыт сосания собачьего печенья. Этот опыт превращает сосательную схему в своего рода ветерана сосания собачьего печенья. Малыш, которому приходилось сосать собачье печенье, обладает более сложной сосательной схемой, чем схема малыша, который никогда не пробовал сосать собачье печенье. Тот факт, что схема слегка меняется всякий раз, когда сталкивается с чем-то новым, демонстрирует идею аккомодации. Когда малыш сосет собачье печенье, он ассимилирует печенье в свою сосательную схему (но не в хватательную схему); но в то же время сосательная схема аккомодируется под новую информацию о мире, которую несет с собой собачье печенье. Тот факт, что существующая схема постоянно меняется за счет каждого нового элемента информации, который ассимилируется в нее, в некотором отношении подобен тому, как хлеб в сэндвиче с ореховым маслом постоянно меняется благодаря маслу, намазываемому на него. Если сформулировать эти идеи в более сжатом виде, то ассимиляция происходит, когда новая информация включается в существующие схемы, а аккомодация — когда существующие схемы изменяются, с тем чтобы включить эту новую информацию. Чтобы сделать сэндвич с ореховым маслом, вы должны намазать ореховое
асло на хлеб, но сам акт намазывания масла на хлеб изменяет хлеб, превращая его из просто хлеба в часть чего-то большего, qe]Vf он сам, — часть сэндвича с ореховым маслом.
Поступательное развитие
Весь этот разговор о примитивных схемах рефлексов, ассимиляции и аккомодации — всего лишь отправной пункт. Сказать, что малышам присущи такие интеллектуальные структуры, как схемы, и такие интеллектуальные адаптивные процессы, как ассимиляция и аккомодация, значит только сказать, что у малышей имеются некоторые базовые средства, которые они могут использовать с самого начала для познания мира. И даже говоря, что у малышей имеются эти средства, мы сообщаем не слишком много о том, как малыши ими пользуются. Именно в этот момент часто вводят понятие стадий. Стадии — это способ описания того, как далеко малыши продвинулись в развитии своих схем.
Перед тем как следовать дальше, я хочу спросить тех из вас, кто помнит, что Пиаже «проделал что-то со стадиями»: считаете ли вы правильным, что посвятив целую главу Пиаже, я только сейчас заговорил о стадиях? Я поступил так потому, что, как уже говорил, стадии являются не самой интересной частью его теории. По-моему, наиболее интересные ее части — те, которые связывают интеллектуальное развитие с базовым биологическим функционированием и эволюционной теорией.
Тем не менее я полагаю, что должен сказать несколько слов о стадиях, поскольку в большинстве студенческих учебников отводится столь много места их описанию. Сначала я бы хотел указать на то, что стадиям придается слишком большое значение. Стадия — это всего лишь краткий способ описания какого-то одного момента времени. Но, как можно себе представить, описание момента времени лишено особого смысла, если вы не знаете, что произошло ранее и что случится потом.
В качестве примера повторите про себя буквы алфавита. Добрались ли вы уже до К? Теперь остановитесь. Могу объявить, что вы находитесь на «стадии К» повторения алфавита. Вы в восторге? Думаю, нет, поскольку пребывание на стадии К не приносит вам особой пользы. Алфавит хорош не тем, что где-то на оси имеется буква К, а тем, что его можно очень продуктивно использовать при коммуникации с другими людьми посредством письма. Аналогичным образом, польза от интеллектуального развития детей не в том, что на его оси имеются точки, дойдя до
которых можно перестать вести счет и сказать, что ребенок находится на определенной стадии. Полезно другое: интеллектуальное развитие как целое можно использовать при попытке объяснить то, каким образом ребенку удается познавать мир ц выживать в нем.
Тем не менее, будучи специалистами по детскому развитию, мы склонны относить развитие детей к одной из основных стадий Пиаже — сенсомоторную, дооперациональную, конкретных операций или формальных операций, а то и на одну из более мелких под стадий. (Помните высказанную мною ранее мысль о нашей склонности к классифицированию?) Но вот способствует ли разговор о стадиях прогрессу детской психологии — вопрос спорный. Да, Пиаже говорил о стадиях и подстадиях. Но мнения в отношении того, насколько большое значение он им придавал, сильно расходятся. Создается впечатление, что мы, американцы, зациклились на стадиях. Я даже слышал, как полемику о важности стадий называют «американской проблемой». Последователи Пиаже, которые обучались у него в традициях женевской школы (т. е. люди, которые работали с ним в его собственной лаборатории в Женеве), считают, что стадии как таковые менее важны, чем структуры и процессы, которые способствуют интеллектуальному развитию. Тем не менее абсолютно верно, что если вы сделаете снимок интеллектуального развития в какой-то конкретный момент времени, он покажет, что ребенок находится на определенной стадии развития. Полагаю, здесь мы подошли к концу стадии «Глава 2» этой книги!
Библиография
Beilin, Н. (1992). Piaget's enduring contribution to developmental psychology.
Developmental Psychology, 28, 191-204. Cairns, R. B. (1992). The making of a developmental science: The contributions
and intellectual heritage of James Mark Baldwin. Developmental Psychology,
28,17-24.
Ginsburg, H. P., & Opper, S. (1988). Piaget's theory of intellectual devehpment.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Messerly, J. G. (1996). Piaget's conception of evolution. Lanham, MD: Rowman
& Littlefield.
Piaget, J. (1950). The psychology of intelligence. London: Routledge & Kegan Paul.
Piaget, J. (1952). Piaget. In E. G. Boring, H. S. Langfeld, H. Werner, & R. M.Yerkes (Eds.), A history of psychology in autobiography. Worcester, MA: Clark University Press.
Vidal, F. (1994). Piaget before Piaget. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Вопросы для обсуждения
\ Было бы влияние Пиаже на область детской психологии иным,
не получи он подготовку в биологии? 2 Выглядела бы сегодня детская психология иначе, если бы Пиаже
имел более хорошие отношения со своей матерью? Почему да или
почему нет?
3. Почему важно, чтобы законы психологии соответствовали законам биологии? Насколько важно в целом, чтобы законы в группе научных дисциплин соответствовали друг другу?
4. Ментальную схему не видел никто и никогда, и маловероятно, что это кому-то удастся. Учитывая этот факт, может ли понятие схемы принести хоть какую-то научную пользу?

С чего начинается мышление
БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: THE ORIGINS OF INTELLIGENCE IN CHILDREN. Piaget J. (1952). New York: International University Press.

Должен признаться с самого начала, что, включив эту книгу, написанную в 1952 году, в свой список 20 исследований, которые произвели революцию в детской психологии, я поступил не совсем честно с хронологической точки зрения. Нет, я не ограбил книжный магазин в студенческом кампусе и не сделал ничего в этом роде. Но помните, что цель моей книги — представить революционные исследования в детской психологии, которые были проведены после 1950 года. Хотя книга The Origins of Intelligence in Children (далее просто Origins) действительно появи-
ь в своем английском варианте в 1952 году, она первоначаль-
Л вышла на французском в 1936 году. Фактически же данные,
Н°иведенные в Origins, были собраны в 1920-х годах. Так нужно
, бито включать ее в мой список, начинающийся с 1950 года?
ли vDlJl „ ^
/Тля этого имеются, по меньшей мере, три причины; выберите
из них любую, какая вам больше нравится. Во-первых, это моя книга, и я могу делать с ней все, что захочу. Во-вторых, я — представитель американской элиты, и для меня научная работа не является таковой, пока она не переведена на английский язык (шутка). И, в-третьих, Origins была чаще всего называемым исследованием в моем эмпирическом опросе. Фактически, ее назвали почти все ученые, которые вообще упоминали Пиаже, поэтому очевидно, что члены сообщества исследователей детской психологии считают эту книгу по-настоящему важной.
Почему же они считают эту книгу столь важной? Мне кажется, что значительная доля популярности этой книги обусловлена тем, что именно в ней Пиаже подытожил свои наиболее значимые теоретические идеи в отношении раннего интеллектуального развития. При этом он объединил свои теоретические утверждения с наблюдениями реальной жизни, которые помогли ему высказать и подкрепить их. В отличие от других эпистемологов того времени, многие из которых были кабинетными философами, Пиаже, будучи выдающимся представителем науки, осознавал необходимость подкрепления своих взглядов научными данными. Я полагаю, книгу сделало популярной также то, что она была первой в трилогии Пиаже, которая произвела фурор на американской сцене как раз в то время, когда американские психологи развития пытались высвободиться из двойных удушающих объятий фрейдистской психосексуальной теории и бихевиоризма Уотсона/Скиннера. Для многих ученых общий биологический подход Пиаже, который был широко представлен в его первой работе, явился поистине освежающим глот-•ком воздуха!
Введение
Поскольку я отвел значительную часть предыдущей главы описанию факторов, вызвавших к жизни теорию Пиаже, наряду со многими важными принципами теории, в сущности, я уже пред-, ставил вам введение к этому исследованию. И поэтому у меня осталось намного больше места для рассмотрения выводов Пи-^е. Но давайте очень кратко подытожим основные моменты
предыдущей главы в строго логическом порядке. (1) Пиаже был эволюционным биологом. (2) Поэтому он полагал, что все организмы должны адаптироваться, чтобы выжить. (3) На видовом уровне адаптация происходит филогенетически. (4) На индивидуальном уровне она происходит онтогенетически. (5) Биологические организмы обладают интеллектом. (6) Следовательно, интеллект — биологический процесс. (7) Значит, интеллект проходит адаптацию. (8) Поскольку интеллект проходит онтогенетическую адаптацию, мы должны суметь пронаблюдать ее в развитии детей. (9) Онтогенетическая адаптация интеллекта у детей может быть хорошей аппроксимацией филогенетической адаптации интеллекта, которая протекала у человеческого вида на протяжении, по меньшей мере, 300 тысяч лет.
Так что общая теоретическая база у Пиаже была во многом уже заложена. Но кропотливая работа по поиску фактов в поддержку его идей только начиналась. Все, что ему требовалось сделать, — это собрать данные. В Origins Пиаже приступил к задаче определения отправной точки всего этого предприятия. И одним из самых первых вопросов, на которые Пиаже должен был найти ответ, был следующий: «С чего начинается интеллект?» Или, если выражаться в более биологически ориентированной манере: «Когда начинается интеллектуальная адаптация?»
Метод
Участники
Участниками, за которыми Пиаже наблюдал перед написанием этой книги, были две девочки и один мальчик, все сиблин-ги. Пиаже обычно наблюдали за детьми несколько раз в день, почти каждый день, начиная с рождения и примерно до 2-летнего возраста. Жаклин родилась в 1925 году, Люсьен — в 1927, а Лоран появился в 1931. Так что, начиная с рождения Жаклин и до того времени, когда Лорану исполнилось 2 года, Пиаже делал подробные и достаточно регулярные записи как минимум об одном ребенке в течение 3000 дней! Хотя эти усилия можно сравнить с геркулесовыми, работа Пиаже несколько облегчалась тем, что три сиблинга были его собственными детьми. По крайней мере все участники его исследования жили в одном доме! И даже мадам Пиаже помогала при случае. Говорят, что она носила с собой маленькую записную книжку, привязанную к ее колье, с тем чтобы при необходимости можно было записывать результаты наблюдений за детьми.
Процедура
Поскольку Пиаже был пионером научных исследований развития детей, и поскольку он имел дело с очень-очень юными малышами, в его распоряжении было немного методологий, кото-ые он мог бы использовать для оценки мыслительных способностей детей. Эта проблема осложнялась тем, что, как это ни печально, с одномесячными младенцами очень трудно вести разговор. Это означает, что почти все методы, использовавшиеся Пиаже для оценки мыслительных способностей малышей, являлись его собственным творением. Слышали ли вы поговорку: «Необходимость — мать изобретения»? Так вот, Пиаже изобрел десятки методов для проверки своих многочисленных гипотез, значительная часть которых используется и по сей день. К сожалению, у меня нет возможности описывать все методы наблюдений, разработанные Пиаже, но я могу, по крайней мере, привести пару примеров. Ни одна из задач не была особенно замысловатой — не было никаких компьютеров и не использовалось никаких высоких технологий. Но никто никогда не говорил, что эксперименты с малышами должны отличаться сложностью. Великий философ и бейсбольный тренер Йоги Берра как-то сказал: «Вы можете увидеть многое, всего лишь наблюдая».
Инструментально-целевая задача. В типовой инструментально-целевой задаче наблюдают, могут ли малыши совершить одно действие с целью выполнения второго. Второе действие является обычно более желанным. Когда необходимо какое-то действие для совершения второго действия, мы называем это инструментально-целевой последовательностью. Эта последовательность крайне важна для нашего существования, и мы постоянно выполняем ее. К примеру, вы проделываете инструментально-целевую последовательность действий всякий раз, когда . снимаете крышку с бутылки прохладительного напитка, чтобы сделать глоток. А спустя 30 минут после опорожнения бутылки вы выполняете такого рода последовательность, когда открываете дверь, чтобы войти в туалет. Инструментально-целевая последовательность необходима для интеллектуального функционирования взрослых, она позволяет нам строить планы на будущее. Но с точки зрения развития можно поинтересоваться, когда эта последовательность появляется впервые. Поэтому в. различных случаях и возрастных периодах Пиаже использовал
со своими детьми разные формы инструментально-целевых задач.
Например, когда Жаклин было чуть более 12 месяцев, Пиаже клал серию объектов на шаль, так что объекты были вне досягаемости. Но хотя Жаклин не могла дотянуться до объектов, шаль была достаточно близко от нее. Каждый раз, когда объект помещался перед Жаклин, она сначала пыталась дотянуться до него рукой. Но она быстро поняла, что лучший способ получить объект в свое распоряжение — просто потянуть за шаль. Таким образом, подтягивание шали к себе было инструментом, или средством, достижения цели — получения объектов. В наши дни инструментально-целевая задача не слишком популярна в качестве оценки интеллектуальной компетентности, но в течение многих лет она использовалась в качестве стандартной оценки интеллектуальной деятельности. Фактически, многие исследователи считали, что выполнение инструментально-целевой задачи является хорошим индикатором младенческого IQ, хотя следует сказать, что выполнение этой задачи никогда сильно не коррелировало с «реальными» оценками IQ в более позднем детстве.
Задача на постоянство объектов. Задача на постоянство объектов является, в сущности, развитием инструментально-целевой задачи, но используется в более узком плане для выявления того, насколько хорошо дети понимают, что объект продолжает существовать, даже когда они не могут его видеть. Возможно, вы слышали о постоянстве объектов у себя в школе или на вводном курсе психологии. Его базовой идеей является то, что, как взрослые, мы функционируем исходя из допущения, что вещи продолжают существовать, даже когда мы более не ощущаем их присутствия. Мы допускаем, что наша кровать будет на месте, когда мы вернемся домой после утомительной 12-часовой рабочей смены. Мы допускаем, что индейка, которую мы кладем в духовку в 6 часов утра в День Благодарения, по-прежнему будет там, когда мы придем в час дня, чтобы ее вынуть. Фактически, трудно представить себе, на что был бы похож мир, если бы мы не понимали, что объекты продолжают существовать, когда мы их не видим. Аналогично нашей способности использовать определенные средства для достижения определенных целей, наше взрослое понимание постоянства объектов очень адаптивно. Но опять же, перед нами встает вопрос, когда у малышей впервые появляется это понимание.
Еще раз проявив изобретательность, Пиаже вновь продемонстрировал, что вам нет необходимости использовать высокотехнологичную процедуру для оценки постоянства объектов. В сущ
ности, он лишь закрыл вызывающую любопытство игрушку тряпкой, так что она перестала быть доступной органам чувств малыша. Ключевой вопрос состоял в том, удалит ли ребенок тряпку, с тем чтобы вернуть себе игрушку. Если да, тогда можно допустить, что малышу присуща определенная форма понимания постоянства объектов. Если нет, тогда, вероятно, к этому случаю применимо выражение: «С глаз долой, из сердца вон».
результаты
Результаты Пиаже в Origins не были подытожены в особом, сжатом разделе «Результаты», как это обычно бывает в профессиональных журнальных статьях. Они были в значительной степени разбросаны по книге в разных разделах и подразделах, и пускались в ход, когда Пиаже было необходимо обозначить какой-то теоретический момент в отношении интеллектуальной адаптации. Ему понадобилось 419 страниц, чтобы изложить все свои данные. В своем намного более коротком описании его результатов я попытаюсь обрисовать основные выводы в том же порядке, в котором их представил автор.
Вспомним, что в Origins Пиаже исследовал интеллектуальное развитие малышей, начиная с рождения до примерно 2-летнего возраста. Поэтому его результаты представлены в хронологическом порядке, начинаясь с интеллектуальных адаптаций новорожденных и оканчиваясь адаптациями двухлеток. Он разбивает эту 2-летнюю базу на шесть разных подстадий. (Вспомним, что Пиаже называет первую основную стадию развития сенсомоторным периодом. Но в этой книге он разбивает этот большой период на более мелкие этапы развития, которые мы можем назвать подстадиями.) Описывая каждую из этих подстадий, Пиаже сосредоточивается на одном или нескольких основных достижениях развития, продемонстрированных его детьми в течение этой временной базы. Хочу повториться, что, на мой взгляд, интересной особенностью этого повествования о развитии является не то, что дети достигают определенных стадий и в конечном итоге проходят их, а то, что их интеллектуальное Функционирование отражает адаптацию путем естественного отбора, подобно тому, как это бывает во всех остальных аспектах биологии.
На нижеследующих страницах я «пробегусь» по этим шести подстадиям, выделенным Пиаже. В процессе этого я хочу дать вам почувствовать аромат писательской манеры Пиаже, поэто
му приведу отрывки из наблюдений, которые он сделал в отношении своих детей. Вы их не найдете в типовом тексте по вводному курсу детской психологии. Но, я полагаю, это поможет вам лучше понять, что Пиаже думал о происходящем. Во всех этих отрывках вы увидите ссылки на возраст детей во время определенных наблюдений; это ссылки такого рода: 1;4 (14). Эта стенографическая запись Пиаже указывает, что ребенку был 1 год 4 месяца и 14 дней. Очевидно, Пиаже был настоящим приверженцем деталей. Причем множество раз он делает записи об одном и том же поведении по несколько дней подряд.
Первая подстадия: использование рефлексов. В некоторых отношениях достоверность всей теории Пиаже зависела от того, насколько хорошо он мог объяснить мышление детей, каким оно было в первые несколько дней жизни. Несложно сказать, что корни зрелого мышления можно проследить в детском мышлении; но в этом случае приходится трудную проблему на одном уровне (зрелость) переносить на другой уровень (детство). И поскольку нам может захотеться сдвигать проблему ко все более ранним периодам в детстве человека, например, следуя от позднего детства к раннему детству, затем от раннего детства к началу хождения и т. д., в конце концов, нам придется за это расплачиваться. В какой-то момент нам придется объяснять самые первые мыслительные процессы. Но это подобно проблеме «курица или яйцо». В этой старинной загадке мы не можем получить курицу без яйца, но для этого курице требуется отложить первое яйцо. Аналогичным образом, у вас не может быть мышления без первой мысли, но и не может быть первой мысли, если вы при этом не помыслите. Поэтому Пиаже столкнулся с очень трудной интеллектуальной задачей в попытке объяснить самый первый мыслительный процесс. Давайте посмотрим, как он ее разрешает.
Если вы помните из предыдущей главы, проблема Пиаже в действительности сводилась к объяснению того, откуда берутся первые схемы детей. Схемы — это структуры знаний, которые лежат в основе всего мышления, и поэтому он должен был объяснить самые первые схемы. Без сомнений, одно важное достижение имело место, когда Пиаже осознал, что нет необходимости в том, чтобы ранние схемы были близким подобием взрослых схем. Фактически, самые ранние схемы могли сильно отличаться от более поздних. Ключевые сходства между первыми и последующими схемами нужно было искать не в структурах, а в их функциях, в том, что они позволяют малышу делать. Вспомним,
что мышление является биологическим процессом, который помогает организму адаптироваться к миру. Пиаже требовалось понять, что малыши приносят с собой в мир такого, что позволяет им к нему адаптироваться. Пиаже решил эту проблему просто: РЕФЛЕКСЫ!
Хотя все рефлексы, в сущности, «встроены» в мозг, они восприимчивы к внешнему опыту. Фактически, для самого существования многих рефлексов требуется среда. Одним из рефлексов, о которых Пиаже говорил чаще всего, был сосательный рефлекс. В одной из своих самых ранних записей в дневнике он отмечает: «Наблюдение 1. Начиная с рождения, можно наблюдать движения, напоминающие сосательные: импульсивное движение и выпячивание губ, сопровождаемое перемещениями языка, с одновременными неправильными и более или менее ритмичными жестами рук и наклонами головы в сторону... Наблюдение 3. На третий день Лоран добивается прогресса в адаптации к груди. Все, что ему нужно было сделать, чтобы открытым ртом нащупать конечную цель, — это коснуться губами груди или окружающих кожных покровов. Но он ищет и на неверной, и на верной стороне, т. е. на той, где ранее имел место контакт».
Вы уже можете видеть, что Пиаже подчеркивает «прогресс» в адаптациях рефлексов к среде; в данном случае сосательного рефлекса. Сосательная схема не остается неизменной в течение длительного времени; она адаптируется к среде с самого начала. В пределах нескольких недель дети начинают согласовывать сосательную схему с информацией, поступающей от других органов чувств. Например, на последующих подстадиях зрение играет ключевую роль в способности малышей обеспечить срабатывание сосательного рефлекса. Рассмотрите следующую запись: «Наблюдение 27. Жаклин в 0;4 (27) и последующие дни, открывает рот, как только ей показывают бутылку. Смешанное кормление началось только в 0;4 (12). В 0;7 (13) я замечаю, что она открывает рот по-разному в зависимости от того, предлагают ли ей бутылку или ложку. Люсьен в 0;3 (12) перестает плакать, когда видит, как мама расстегивает свое платье для кормления. Лоран также между 0;3 (15) и 0;4 реагирует на визуальные сигналы. Когда после обычного одевания перед самым кормлением он оказывается у меня на руках в положении для сосания груди, то смотрит на меня и затем оглядывается вокруг, смотрит на меня и т. д. — но не пытается сосать. Когда я передаю его на руки матери, но так, чтобы он не касался ее груди, он смотрит на нее и тотчас же широко открывает рот, плачет, двигается из стороны
в сторону, короче говоря, реагирует совершенно иначе. Следовательно, отныне сигналом является зримая ситуация, а не одно положение тела». То есть суть здесь в том, что со временем и опытом сосательный рефлекс перестает быть тактильной стимуляцией и становится намного более чувствительным к визуальной стимуляции. Это хорошо иллюстрирует зрелость развития схемы сосания.
В виде отступления я бы хотел привлечь ваше внимание к одной невероятной детали в дневниковых записях Пиаже. Могли бы вы представить себя сидящим и наблюдающим за движениями своих детей лишь для того, чтобы увидеть, не принимает ли их рот перед сосанием бутылки несколько иную форму, чем перед сосанием ложки? Мне любопытно, нельзя ли увидеть истоки внимания Пиаже к этому уровню детализации в его детстве, когда он весь день разглядывал раковины моллюсков?
Вторая подстадия: первые приобретенные адаптации и первичные циркулярные реакции. По мнению Пиаже, первая подстадия продолжается очень недолго — около месяца, поскольку рефлексы малышей начинают быстро адаптироваться к окружающей среде. Как только рефлекс меняется в результате контакта со средой, пусть даже самым незначительным образом, он уже не тот, каким был ранее. Другими словами, мы можем сказать, что рефлекс аккомодировался. Наблюдая за своими детьми, Пиаже заметил, что иногда, начиная примерно со второго месяца, они используют свои схемы, очевидно, для того, чтобы насладиться самим процессом. Эти модели поведения показывали, что действия более не были чисто рефлекторными, поскольку вокруг не было ничего, что бы их стимулировало. Казалось, что их действие было самопроизвольным. Например, сосание часто можно было наблюдать даже при отсутствии какого-либо стимула, вызывающего рефлекс, т. е. без того, чтобы какой-то объект касался губ. В наблюдении 14 Пиаже пишет: «Во второй половине второго месяца, т. е. после научения сосанию большого пальца, Лоран продолжает забавляться своим языком и сосать, но с перерывами. С другой стороны, его навыки нарастают. Так, в 0;1 (20) я замечаю, что он делает гримасы, когда помещает язык между деснами и губами, и при выпячивании губ, а также издает причмокивающий звук, когда быстро закрывает рот после этих операций». Здесь мы можем видеть, как Лоран, по-видимому, получает удовольствие просто от игры со своим ртом и мышцами языка. Ничто в среде не заставляет его приводить в действие свои мышцы; Лорану, по-видимому, интересно активизировать их самому.
Примерно в это же время Пиаже также заметил, что его дети часто пытаются активизировать свои рефлекторные схемы, стимулируя их другими частями собственного тела. Сначала они обычно делали это случайно. К примеру, когда они махали наобум руками, их кисти иногда шлепали их по лицу и эпизодически контактировали с их губами. Их пальцы попадали им в рот, и дети их сосали. Конечно, в этом случае сосание первоначально активизировалось рефлекторно, когда пальцы попадали в рот «без приглашения». Но если пальцы оказывались снова вне рта, малыши, по-видимому, пытались «согласовать» сосательный рефлекс с движениями руки, как бы стараясь повторить случайное событие. «Наблюдение 20. В 0;1 (5) и 0;1 (6) Лоран пытается схватить большой палец, как только пробуждается ото сна, но не достигает в этом успеха, когда лежит на спине. Его рука шарит по лицу, не находя рта. Однако когда он оказывается в вертикальном положении... то быстро находит свои губы». Вы можете ясно увидеть, что сосательная схема более не является рефлекторным «островком», пассивно реагирующим на стимуляцию из среды, а находится в координации с другими действиями тела ребенка. И тот факт, что дети часто повторяли первоначальную случайную встречу, показывает, что имела место определенная доля цикличности. То есть действие происходило случайно, малыш, по-видимому, находил его интересным, и поэтому он пытался повторить его снова. По этой причине Пиаже назвал данный вид координации между существующими схемами и телесной активностью «циркулярной реакцией». Но поскольку следующая под стадия также включала эти виды циркулярной активности, Пиаже решил разграничить виды циркулярных реакций, в которых участвовало только собственное тело малыша, и те, в которых участвовали другие объекты. Поэтому те виды циркулярных реакций, которые связаны только с собственным телом ребенка, Пиаже назвал «первичными»; и, таким образом, объединяя все эти термины вместе, мы получаем введенный Пиаже термин первичная циркулярная реакция. Эти реакции чаще всего отмечаются в период примерно с 1-месячного возраста до 4-месячного. Но затем их частота уменьшается, и дети начинают демонстрировать вторичные циркулярные реакции.
Третья подстадия: вторичные циркулярные реакции и процедуры, призванные продлить интересные внешние события.
Когда дети достигали возраста примерно 4 месяцев, Пиаже наблюдал, как они не только пытались снова проиграть интерес
ные события, имевшие место с их собственным телом, но и часто старались включить внешние объекты в свои схемы. Если подумать, то невелика разница в том, как вы можете применять свои схемы: либо к собственному телу, либо к другим объектам. Не все ли равно вашему сосательному рефлексу, активируется ли он вашими пальцами или связкой автомобильных ключей? Поэтому мы говорим, что сосательная схема функционально инвариантна, т. е. она срабатывает независимо от того, сосет ли малыш свои пальцы или куклу Барби. Но в целом, как установил Пиаже, попытки малышей включить внешние объекты в существующие схемы, как правило, отмечаются на более позднем этапе. Вот почему Пиаже ввел третью подстадию, которая во многом подобна второй, за исключением того, что фокусом схем теперь являются внешние объекты.
Хотя я сконцентрировал внимание на сосательной схеме как первичном средстве, которое малыши узнают в связи с окружающим миром, эта схема была только одной среди многих, о которых говорил Пиаже. Еще одним важным элементом в первичных знаниях младенцев было зрение или, как мы назвали его в предыдущей главе, ориентировочный рефлекс. Вот пример того, как малыши согласовывают свой ориентировочный рефлекс с внешними объектами. Пиаже заметил, что его дети часто совершали какое-то действие, опять же, обычно случайное на первых порах, и это действие оказывало какое-то воздействие на окружающую среду, которое дети наблюдали. Затем они пытались воссоздать это интересное событие. Так, в наблюдении 94 говорится: «В 0;3 (5) Люсьен раскачивает свою плетеную кроватку, неистово двигая ножками (сгибая, разгибая их и т. д.), что заставляет трястись тряпичные куклы, подвешенные к балдахину. Люсьен смотрит на них, улыбаясь, и сразу же повторяет это действие. Эти движения лишь сопровождают ее радость. Когда Люсьен испытывает большое удовольствие, она экстернализует его в виде такой общей реакции, как движения ног». То есть здесь вы видите, что случайное движение тела заставляет двигаться какой-то внешний объект, который Люсьен видит (а это означает, что она включает его в свою визуальную ориентировочную схему), и она старается вызвать это событие еще раз. Это циркулярная реакция второго вида, но включающая зрение. Аналогичный тип реакции можно наблюдать со слуховой схемой Люсьен: «Наблюдение 102... В 0;4 (15) Люсьен хватает ручку погремушки в форме целлулоидного шарика. Движения руки при хватании погремушки приводят к ее раскачиванию и вызывают внезапный и громкий звук. Люсьен сразу же двигает всем своим
телом, в особенности ногами, чтобы продлить звук. Весь ее обезумевший вид выражает смесь страха и удовольствия, но она продолжает свои действия».
Во всех этих примерах целью Пиаже было доказать, что схемы присутствуют на момент рождения в форме рефлексов, и что они медленно, но уверенно включаются во все более сложные паттерны поведения, которые обеспечивают малышам более полное и лучшее понимание мира. Развитие не следует принципу «все или ничего». Оно происходит постепенно — по мере того как последующие схемы выстраиваются на более ранних схемах, — с каждым преходящим переживанием, которое испытывает ребенок. Но включение телесных действий и опыта взаимодействия со средой в уже существующие схемы — только начало. По-настоящему серьезные сенсомоторные интеллектуальные адаптации начинают появляться на четвертой подстадии. До подстадии 3 включительно малыши делают нечто случайным образом и стараются вызвать повторение события. Вспомним, что мы говорим о циркулярных реакциях. Но на подстадии 4 малыши начинают демонстрировать, что они могут делать что-то целенаправленно. Тут они начинают проявлять намерение! И именно здесь мы начинаем видеть, как некоторые схемы включаются, с тем чтобы обслужить другие схемы. Впервые малыши демонстрируют способность к инструментально-целевому действию.
Четвертая подстадия: координация вторичных схем и их приложение к новым ситуациям. На подстадии 4, которая, по мнению Пиаже, начинается примерно в 8 или 9 месяцев, малыши делают большой интеллектуальный рывок. До этого они все время формируют индивидуальные, изолированные схемы, которые наполняются информацией благодаря обратной связи от среды. У них имеются схемы для рассматривания объектов, прислушивания к ним, сосания, хватания, раскачивания, притягивания их и нанесения по ним ударов. Но до сих пор малыши не координировали две или более схемы с целью выполнить какое-то запланированное действие. Пока малыши лишь, главным образом, реагировали на объекты. Но на подстадии 4 вместо того, чтобы просто проявлять реакции, малыши становятся проактив-ными. Они начинают намеренно воздействовать на мир, с тем чтобы чего-то добиться.
Рассмотрим следующий пример: «Наблюдение 124. В 0;8 (8) Жаклин пытается схватить свою целлулоидную утку, но я так
же хватаю ее в тот самый момент, что и она. Тогда она крепко сжимает игрушку в правой руке и отталкивает мою руку своей левой рукой. Я повторяю эксперимент, хватая только кончик утиного хвоста: она опять отталкивает мою руку. В 0;8 (17) после принятия первой ложки микстуры она отталкивает руку своей матери, которая предлагает ей вторую ложку. В 0;9 (20) она пытается прислонить утку к решетке кроватки, но ей мешает веревка в правой руке, и тогда она сдвигает веревку влево от левой руки (руки, которая держит утку) и, соответственно, туда, где она более не является препятствием». Пиаже описывает здесь, как Жаклин может использовать одну схему, что-то вроде схемы отталкивания, с тем чтобы помочь себе в реализации другой схемы, чего-то вроде схемы протягивания руки. Это наиболее оптимальная интеллектуальная адаптация — получение того, что вам нужно! Она также демонстрирует серьезное интеллектуальное преимущество перед ранним поведением. Прежде малыши только пытались воспроизвести действия, которые ранее происходили случайно; это так называемые первичные и вторичные циркулярные реакции. Однако теперь малыши могут использовать старые схемы новыми способами. Старые схемы активизируются не ради самих себя, а ради того, чтобы сделать возможными другие схемы. Когда малыши убирают в сторону препятствие, чтобы достать интересную вещь, такую как целлулоидная утка, они не просто стараются воспроизвести интересный эффект, который уже наблюдали. Скорее, они подходят новаторским образом к проблеме, с которой столкнулись в первый раз!
Мы также видим на этой подстадии признаки исследования объекта ради «понимания» объекта. Когда малыши на этом этапе развития сталкиваются с каким-то новым объектом, они пытаются, по возможности, включить объект в как можно большее количество существующих схем. Они как будто говорят себе: «Гм, могу ли я это полизать? Могу ли я это схватить? Могу ли я это потрясти? Могу ли я по этому ударить?» «Наблюдение 138. Люсьен в 0;8 (10)... изучает новую куклу, которую я повесил на балдахин ее кроватки. Она смотрит на нее в течение долгого времени, прикасается к ней, затем ощупывает ее, касаясь ног, одежды, головы и т. д. Затем она отваживается схватить ее, из-за чего балдахин начинает раскачиваться. Затем она тянет за куклу, наблюдая при этом за эффектами ее движения. Потом она снова обращается к кукле, держит ее в одной руке, ударяя при этом по ней другой, сосет ее и покачивает ее, держа ее над собой, и, наконец, покачивает ее, двигая ее за ноги». Кажется, что малыши могут не только последовательно использовать одну схему для об-
уживания другой, как мы видели это выше в инструменталь-С -целевом поведении, но также образовывать вместе целую ^бойму схем, возможно, пять или шесть подряд, чтобы лучше понять новый объект.
Пятая подстадия: третичная циркулярная реакция и нахождение новых средств путем активного экспериментирования.
Поступательное развитие интеллекта на первых четырех подста-диях более или менее предполагало приложение знакомых схем к новым ситуациям. На подстадии 2 рефлекторные схемы прилагаются к случайным контактам с собственным телом и воспроизводятся, чтобы сделать эти контакты продолжительными. На подстадии 3 те же самые схемы прилагаются к случайным контактам с внешними объектами, но по-прежнему воспроизводятся, чтобы вызвать их продолжение. На подстадии 4 знакомые схемы координируются между собой ради достижения каких-то новых целей. На подстадии 5 появляется новый импульс использовать старые знания для достижения новых результатов — на еще более высоком уровне. На этот раз существующие схемы используются в погоне за самой новизной. Эта третичная циркулярная реакция является паттерном поведения, которое Пиаже часто наблюдал у собственных детей, когда им было между 12 и 18 месяцами.
Циркулярные реакции подстадии 5 во многом похожи на циркулярные реакции подстадий 2 и 3 в том, что они повторяются снова и снова. Но на более примитивных подстадиях циркулярные реакции в значительной мере просто воспроизводят каждый раз один и тот же интересный эффект. На подстадии 5 циркулярные реакции, с другой стороны, нацелены каждый раз на продуцирование какого-то иного интересного эффекта. В этом случае прилагается старая схема, например, бросание, — но она воспроизводится не просто для того, чтобы достичь эффекта, который только что имел место. Скорее, цель — произвести серию новых эффектов. Верно, что снова и снова проигрывается одна и та же общая схема, но разнятся конкретные детали. Рассмотрим поведение Лорана: «Наблюдение 141.ВО; 10(11) Лоран лежит на спине и возобновляет свои эксперименты предыдущего Дня. Он хватает последовательно целлулоидного лебедя, коробКУ и т. д., вытягивает руку и позволяет им упасть. Он явно варьирует направление падения. Иногда он вытягивает руку вертикально, иногда держит ее наклонно, перед собой или в стороне °т себя. Когда объект падает, оказываясь в новом положении (например, на подушке), он позволяет ему упасть еще два или три
раза на то же самое место, как будто для того, чтобы изучить про^ странственные отношения; затем он видоизменяет ситуацию».
Представляется, что цель — не просто узнать о новом объекте, как это было на стадии 4, но выяснить то, как объект взаимодействует с миром, узнать об отношениях между объектами. И отличный способ выяснить, как объект взаимодействует с множеством аспектов мира, — поменять способы, какими объекту предоставляется возможность взаимодействовать с различными аспектами мира. На этой подстадии малыш становится маленьким ученым! Он бросает объект из разных положений, фиксируя различные перемещения объекта всякий раз, когда тот падает. Он узнает не только о поведении объекта в связи с миром, но также о мире в связи с объектом. В процессе этого малыш узнает о гравитации (когда объект падает), трении (когда объект скользит по другому объекту), твердости (когда один объект сталкивается с другим), упругости (когда один объект отскакивает от другого), массе (когда большой объект приходит в соприкосновение с меньшим по размеру) и т. д.
На подстадии 5 зачаточный разум малыша делает огромный скачок. Если вдуматься, то он узнает о многих из тех тем, которые проходят на уроках физики в средней школе. Однако имеется, по меньшей мере, одно важное различие между интеллектуальными способностями 15-месячных и 15-летних. Понимание малышами объектов мира сводится к тому, что они могут делать с ними в данный момент. К примеру, они не могут помыслить о том, что произойдет, прежде чем это произойдет. Они также не могут представить себе, как это произойдет, в отсутствие реальных объектов. Подобные способности начинают появляться не раньше подстадии 6.
Шестая подстадия: изобретение новых средств путем ментальных комбинаций. Самая выдающаяся инновация, происходящая на этой стадии, которую Пиаже отнес примерно к 18-месячному возрасту, — интернетизация схем, которые прежде должны были проигрываться физически. Другими словами, схемы становятся ментальными. Это достижение обеспечивает ряд адаптивных преимуществ перед предыдущими моделями поведения. Прежде всего малышам нет необходимости фактически совершать действие, с тем чтобы узнать что-то о мире. Они могут в большей или меньшей степени предвосхищать, что произойдет, представив это. Пиаже назвал этот процесс «предвидением». Посредством предвидения малыши могут вычислить, как разрешить определенные проблемы, не прибегая к методу проб и оши-
бок Один из моих любимых примеров этого типа мышления демонстрирует Люсьен Пиаже по наблюдению 180. Жан Пиаже пишет: «Здесь начинается эксперимент, который мы хотим выделить. Я кладу цепочку обратно в коробок и уменьшаю отверстие до 3 мм. Понятно, что Люсьен не сознает того, как происходит открытие и закрытие спичечного коробка, и не видела, как я готовил эксперимент. У нее имеются лишь две предшествующие схемы: переворачивание коробка, с тем чтобы лишить его содержимого, и засовывание пальца в щель, с тем чтобы извлечь цепочку. Разумеется, именно эту последнюю процедуру она пробует совершить первой: просовывает палец внутрь и старается достать цепочку, но терпит полную неудачу. Следует пауза, во время которой Люсьен демонстрирует очень любопытную реакцию.
Эта реакция свидетельствует не только о том, что ребенок пытается обдумать ситуацию и представить себе путем ментальной комбинации те операции, которые надо совершить, но также о роли, которую играет имитация в генезисе представления. Люсьен имитирует расширение отверстия. Она смотрит на отверстие с огромным вниманием, затем несколько ряд подряд открывает и закрывает рот, раскрывает губы сначала ненамного, а затем все шире и шире! Очевидно, Люсьен сознает о существовании полости, расположенной под отверстием, и хочет увеличить эту полость».
Это наблюдение настолько отчетливо иллюстрирует переход от внешнего мышления к мышлению внутреннему, что, мне кажется, Пиаже не мог бы передать этот момент лучше даже с помощью моментального снимка «Полароидом». Давайте подытожим. Во-первых, у Люсьен имеется проблема, к которой надо адаптироваться. Ей нужно достать маленькую цепочку из частично открытого спичечного коробка. Чтобы разрешить эту проблему, она сначала пытается использовать пару добрых старых схем, которые помогали ей в прошлом: свои схемы «переворачивания» и «засовывания пальца». Но на этот раз эти схемы ее подвели. Цепочка по-прежнему оставалась внутри коробка. Поэтому Люсьен сделала пару шагов в своем интеллектуальном развитии и представила проблему иным образом — используя свое воображение. Как только она перевела проблему из физической формы в ментальную, то смогла придумать решение, которое ранее было невозможно. Она представила, что ее рот — это щель спичечного коробка. Проиграв этот ментальный образ, Люсьен смогла манипулировать этим образом по-новому. В частности, °на смогла сымитировать открытие и закрытие коробка, открыв и закрыв свой рот. И как только она сумела это сделать, то сооб
разила, что для извлечения цепочки из спичечного коробка eft лишь необходимо открыть коробок шире, чем ранее. Ура, удача!
Итак, к концу сенсомоторного периода интеллект более не привязан к воздействиям на мир вкупе с сенсорной обратной связью, которую они вызывают. Наиболее адаптивными схемами на этом этапе являются те, которые можно представить ментально, — высвобожденные из «здесь и сейчас». Поскольку схемы можно вызывать ментально без обязательного воздействия на объекты реального мира, дети на шестой подстадии обладают некоторыми серьезными интеллектуальными преимуществами перед детьми, находящимися на более примитивных подстади-ях. Прежде всего им не нужно фактически проделывать операции, с тем чтобы обрести знание; вместо этого они могут узнать что-то, просто представив себе эти операции. Обеспечивает ли умение пользоваться своим воображением адаптивное преимущество? Вне всяких сомнений! Подумайте, к примеру, сколько времени понадобилось бы вам для усвоения весовых различий, если вам по-прежнему приходилось бы физически поднимать дыню и апельсин, с тем чтобы узнать, что из них тяжелее. Второе преимущество превращения своих схем в ментальные состоит в том, что они позволяют вам изобрести решения, которые иначе не удалось бы найти. Именно здесь вступает в игру фраза Пиаже: «Изобретение новых средств путем ментальных комбинаций». Ментально схемы можно комбинировать друг с другом такими способами, которые ранее не были возможны в реальности. Например, можно представить себе полет на автомобиле «Вольво-740» к озеру Эри на рыбалку за китами и акулами. Конечно, ничто из этого не может произойти в действительности, но зато все это очень легко может быть совершено в ментальном мире! Очевидно, как только схемы становятся ментальными, появляется целый ряд новых возможностей для интеллектуальной адаптации к миру. Пиаже считал, что стоит схемам стать представленными ментально, и они могут ассимилировать друг друга не только быстро, но и спонтанно — почти автоматически.
Итоги
Единственной целью Пиаже в Origins было приведение данных, чтобы показать, что имеет место интеллектуальная адаптация в результате опыта, и что она происходит в манере, согласующейся с базовыми положениями эволюционной теории. В стремлении к этой цели Пиаже разработал основу для описания того, как адаптируется интеллект малышей, и эта основа оказалась
инаково хорошо приложимой ко всему периоду младенче-°гва — от самых ранних, наиболее примитивных, рефлекторных <мыслей» новорожденных к наиболее продвинутым ментальным комбинациям 2-летних. Ключами к его теории были «функционально инвариантные» роли, исполняемые адаптивными процессами ассимиляции и аккомодации. Под «функционально инвариантными» адаптивными процессами я понимаю то, что хотя специфические элементы, которые ассимилировались и произвели аккомодацию, могут меняться со временем, сами процессы работают одинаково, независимо от того, какими были элементы, или сколько лет ребенку. Неважно, ассимилируете ли вы автомобильный ключ в свою сосательную схему или открытие спичечного коробка в свою схему открывания рта, ассимиляция есть ассимиляция.
Заключение
Как я упоминал раньше, идеям Пиаже отведено так много места в этой книге потому, что он занимал столь значимое место в области психологии. Пиаже раскрыл карты перед всеми и, сделав это, установил стандарт, в соответствии с которым пришлось жить каждому. И, в сущности, 1960-е и 1970-е годы стали золотым веком Пиаже. Все проверяли те или другие гипотезы, порожденные теорией Пиаже. И сам старый мастер был еще жив и здоров, делая все возможное для более глубокого понимания когнитивного развития детей.
Но, как вы можете представить себе, когда вы являетесь вождем великой революции в той или иной области, проходит немного времени, и другие люди начинают пересматривать свое отношение к вашему лидерству. Так появился и стал набирать силу ряд «антипиажетианских» движений. Бихевиористы, остававшиеся в 1950-х и 1960-х годах громогласными оппонентами идеи внутреннего ментального развития, которое Пиаже столь явно обозначил, делали выпады по любому поводу. А Ноам Хомский (см. главу 8), который был антибихевиористом, как и Пиаже, был также антипиажетианцем, подобно бихевиористам. Хомский (Chomsky) считал, что Пиаже придал слишком большое значение собственным усилиям детей в конструировании их ментального мира. Как мы увидим в главе 8, Хомский был твердым сторонником врожденности структуры для овладения языком; поэтому, с его точки зрения, просто не оставалось места для пи-^етианской идеи, согласно которой дети являются авторами собственного метального развития.
Через два десятилетия после смерти Пиаже (в 1980 г.) его теория остается мишенью для многих психологов. Например, как мы увидим в главе 6, Рене Байержо (Renee Baillargeon) мало что оставила от гипотезы Пиаже, согласно которой постоянство объектов полностью формируется не раньше 18-24-месячного возраста. Но результатом подобных атак часто была лишь демонстрация того, что Пиаже мог ошибаться относительно того, когда появляется конкретная когнитивная способность, но не того, существует ли она вообще. В конце концов, именно благодаря прозрению, изобретательности и широте охвата, проявленным Пиаже, его теория остается в центре современной детской психологии. Хотя, возможно, эта теория более не привлекает внимание всей области, как ранее, но его идеи занимают настолько центральное место в современной детской психологии, что стали практически неразличимы.
Вопросы для обсуждения
1. Каковы недостатки теории когнитивного развития, опирающейся на наблюдение лишь за тремя детьми?
2. Каковы достоинства теории когнитивного развития, опирающейся на наблюдение лишь за тремя детьми?
3. Сравните понятие развития с понятием дифференциации, как они прилагаются к базовым рефлекторным схемам.
4. Почему для теории развития важно понятие функциональной инвариантности?

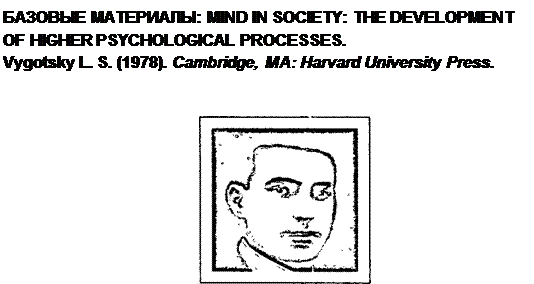
Марксистская революция в психологии
Второй среди самых революционных исследований в детской психологии, опубликованных с 1950 года, финишировала известная работа русского психолога, которого все мы знаем и любим — Льва Семеновича Выготского! Что? Вы никогда не слышали о Выготском? Ладно, не вы одни. Выготский так редко фигурировал в большинстве учебников, если о нем вообще упоминали, что вы окажетесь в меньшинстве, если действительно
о нем слышали. Могу поспорить, что некоторые психологи далее не знают этого имени. Поэтому несколько удивительно, что ра~ бота Выготского была сочтена такой революционной столь мно~ гими детскими психологами, что выше оценили только работу Пиаже. Прежде всего книга Выготского Mind in Society («Мышление и общество») доступна англоязычным читателям всего лишь в течение примерно двух последних десятилетий, а это означает, что она «стартовала» на 26 лет позже книги Пиаже. Более того, Выготский умер около 70 лет назад! И ему не довелось тесно контактировать с интеллектуальной элитой.
Пиаже дожил до преклонного 84-летнего возраста и имел возможность пересмотреть и усовершенствовать свои теории до 1980 года. Так что какой бы революционный огонь Выготский ни зажег, он сделал это с помощью половины тех спичек, которые были у Пиаже. Тем не менее в последние годы Выготский просто-таки ворвался на психологическую сцену.
Подобно Пиаже, интересы Выготского в действительности простирались намного дальше мира детской психологии. В своей докторской диссертации он особенно интересовался правом и литературой. Фактически, прежде чем он начал свои исследования детей, он удостоился степени в области права и стал писать докторскую диссертацию, посвященную известной трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет».
Нет сомнений, Выготский был хорошо начитан! Но даже когда он приступил к своим исследованиям ментального развития детей, то неизменно подходил к ним с философско-политиче-ской позиции теорий Карла Маркса о государстве и трудовых отношениях. В сочинениях Маркса систематически подчеркивалась значимость людей внутри общества, работающих ради большего, общего благосостояния. Маркс считал, что общего благосостояния можно достичь посредством кооперативного труда с использованием орудий труда. Идея состояла в том, что если все будут работать сообща на благо общества, то последнее выиграет намного больше, чем в том случае, когда индивидуальные члены общества конкурируют друг с другом, преследуя собственные индивидуальные интересы. Выготский полагал, что идеи Маркса следует приложить также к научной психологии. К сожалению, во времена Выготского психология была ориентирована на рассмотрение именно индивидуума. Поэтому он решил произвести кардинальные изменения в психологии, создав науку, в которой индивидуальное развитие неизменно рассматривается в контексте физического и социального окружения индивидуума.
Сравнение взглядов Выготского и Пиаже
прежде чем погрузиться в работу Выготского, я бы хотел указать на ряд схожих мест у него и Пиаже. Возможно, поняв, что их объединяло, мы сможем оценить, что требуется для того, чтобы прославиться в области детской психологии. Во-первых, и Выготский, и Пиаже были юными гениями. Последователь Выготского Джеймс Вертш (James Wertsch) пишет, что когда Выготский был подростком, он со своими приятелями разыгрывал вымышленные дискуссии между знаменитыми историческими деятелями, такими как Аристотель и Наполеон. Учитывая эту склонность к розыгрышам, мне кажется, что если бы Выготский и Пиаже встретились друг с другом на игровой площадке, что было теоретически возможно, поскольку оба родились в 1896 году, между ними могла завязаться большая дружба! Обоим, по-видимому, нравилось «выкидывать» странные вещи. Стоит также отметить, что Выготский, подобно Пиаже, работал без устали и много публиковался с очень молодого возраста. На момент своей преждевременной смерти от туберкулеза Выготский уже опубликовал или написал свыше 180 научных работ. К сожалению, для остального мира многие из его трудов оставались «спрятанными» от англоязычной общественности в течение многих десятилетий благодаря длинным щупальцам сталинского коммунистического режима. Только в последние 20 лет или около того собрание сочинений Выготского стало общедоступным, включая выпуск многотомной серии, опубликованной в середине 1980-х годов.
Вторым и, возможно, более важным сходством было то, что Выготский и Пиаже рассматривали вопросы намного более широкие, чем детская психология. В то время как Пиаже исходил из дарвиновской теории эволюции, Выготский опирался на теорию государства и трудовых отношений Карла Маркса. Тем не менее меня изумляет, что хотя Выготского и Пиаже оценили как Двух самых революционных ученых в детской психологии, ни Для одного из них детская психология не была объектом первичного интереса! Оба ученых рассматривали ее только как малую, пусть важную, часть намного более сложных вопросов, над которыми они работали.
Другое интересное сходство состоит в том, что книга Mind in Society Выготского, подобно Origins Пиаже, была впервые написана в различных формах задолго до 1950 года. Только после перевода трудов Выготского на английский язык, что сделало их доступной американскому психологическому сообществу, его
3 Двадцать i
великих открытий в детской психологии
идеи начали брать штурмом область детской психологии. И по-еле этого работы Выготского стали привлекать такое же внимание, как продавцы мороженого в жаркий летний день. Одного взгляда на базу данных PsycINFO достаточно, чтобы увидеть что количество статей, написанных о Выготском и его теориях за последние 5 лет, превышает число всех остальных написанных о нем статей в совокупности.
Важно указать, что Mind in Society не является прямым переводом русской версии той же книги. Скорее, как отмечают ее редакторы, книга представляет собой компендиум ряда больших отрывков из сочинений Выготского. Они были умело объединены редакторами, чтобы поведать о психологической теории Выготского остальному миру. И, подобно Пиаже, стилистика Выготского была очень трудной, поэтому редакторы признаются, что проявили определенные вольности с частями его работы, с тем чтобы представить его намерения оптимальным образом, не исказив при этом смысла. Так что же вызвало весь этот шум? Давайте посмотрим.
Введение
В начале книги Выготский показывает, что целью любой отрасли психологии должно быть объяснение отношений между людьми и окружающей их средой. Здесь вы можете увидеть влияние Маркса. Людям (и психологам, которые их изучают) приходится иметь дело с двумя типами среды. Во-первых, существует физическая среда. Физическая среда состоит из всех тех объектов, с которыми люди приходят в соприкосновение: деревьев, камней, прудов, стульев, отверток и т. д. Во-вторых, и это, возможно, намного важнее, существует социальная среда. По самой своей природе люди являются социальными созданиями. Выготский считал, что этот факт следует признать в качестве базового положения психологии. Психология, которая не способна принять во внимание социальную природу людей, обречена. Понимание природы людей без учета их «социальности» подобно игре в бейсбол без баз. А язык является одним из аспектов социальной среды, которая играла для Выготского особенно важную роль, прежде всего с точки зрения развития того, что он назвал высшими психическими функциями.
Отметьте также, что когда Выготский в начале 1900-х годов разрабатывал свою теорию, психология как наука была еще очень юной. Психологи всего мира еще только пытались определить,
психология должна заниматься и каким образом. Поэтому /Г^о множество различных мнений о том, как лучше всего зани-сЯ этой наукой. Согласно Выготскому, имелся, по меньшей ое один путь, каким не следовало заниматься психологией. Путь, каким не следует ею заниматься, — это начать с изолирования исследовательского предмета от окружающей его среды. Другими словами, вы не должны никого приводить в лабораторию.
К сожалению, именно так большинство исследователей в области детской психологии и предпочитали действовать. Эти психологи хотели изучать детей в лаборатории, поскольку полагали, что человеческая среда слишком обширна, сложна и многообразна, чтобы можно было достаточно точно понять, как дети ведут себя в ней. Они полагали, что проведение психологических исследований подобно поиску иголки в стоге сена, где человеческое поведение является иглой, а среда — стогом сена.
Выготский называл этих психологов «искусственниками», поскольку они занимались конструированием искусственной среды в лаборатории и вырывали детей из их естественного окружения. Тем не менее задачи таких психологов не были лишены определенного смысла. Например, пытались ли вы когда-либо слушать какую-либо радиостанцию на средних или длинных волнах? Иногда трудно услышать даже, какая песня звучит, если только сигнал не достаточно силен в сравнении с шумовыми фоновыми помехами. Так вот, целью психологов-«искусствен-ников» являлось снижение «шумовых помех» среды и усиление сигнала, выраженного человеческим поведением. В результате чего, полагали такие психологи, будет намного легче выявить истинную человеческую природу. И, фактически, эта логика была типичной для ученых во всех прочих научных дисциплинах. Возьмите биолога, который выращивает культуру бактерий в чашке Петри. Хотя бактерии могут развиваться во многих других местах, легко культивировать специальные бактерии в искусственных, хорошо контролируемых условиях, которые создаются в чашке Петри. Не разумно ли психологам также использовать подобные испытанные методы?
Так вот, Выготский решительно отверг этот подход. Он полагал, что любая психология, которая искусственно удаляет объект своего исследования из его естественного окружения, обречена на ошибку. Чтобы психология была истинной, доказывал он, нужно принять во внимание не только самих людей, но и то, где °ни живут, что едят, с кем встречаются и как они разговаривают друг с другом. Люди должны быть изучены внутри их естествен
ного окружения, прежде чем станет возможной валидная психология.
Орудие и символ в детском развитии
Выготский начал свою базирующуюся на марксизме психологию с попытки идентифицировать те виды данностей, которые являются уникально и истинно человеческими и которые обеспечивают благосостояние человеческого общества. Одной из этих данностей является связь между использованием орудий и речью. Под «использованием орудий» Выготский понимал способность использовать какую-то часть среды для разрешения определенной проблемы. Под «речью» Выготский подразумевал символы и знаки, которые люди используют для коммуникации друг с другом, касающейся идей, а также объектов и событий в мире. Выготский полагал, что использование орудий и речь необходимы для развития человеческих обществ в целом и поэтому стремился изучить их влияние на развитие индивидуума.
Выготский был очарован работой некоторых из его современников с обезьянами — шимпанзе. Он полагал, что шимпанзе являются для психологии очень интересной и важной группой сравнения. С одной стороны, шимпанзе, подобно людям, способны использовать орудия для совершения определенных операций. Например, давно известно, что шимпанзе втыкают тонкие ветки в термитники, с тем чтобы извлечь из последних скопления очень вкусных термитов. С другой стороны, шимпанзе не владеют речью. Поэтому, как бы ни были схожи между собой шимпанзе и люди в использовании орудий, люди обошли обезьян за счет своей способности использовать речь. Поэтому анализ сходств и различий между шимпанзе и детьми (до и после появления речи) может пролить свет на истинно и уникально человеческие формы интеллекта.
Конечно, дети появляются из утробы, не прибегая к помощи орудий и слов. Их способности развиваются только после нескольких месяцев постнатального опыта — после того как ребенок немного созреет физически и накопит много знаний о своем физическом и социальном окружении. Используют ли малыши орудия? Еще как! Мы уже рассмотрели один пример использования малышами орудий. Помните инструментально-целевую задачу Пиаже? В этой задаче младенцы способны притянуть один объект (например, подушку), чтобы достать другой объект, находящийся на нем (например, колокольчик). В данном случае подушка используется в качестве орудия.
Выготский полагал, что хотя способности к использованию удий и речи следуют у малышей относительно независимыми °л/тями развития, когда ребенок овладевает обеими этими способностями, происходит нечто магическое. Когда использующий пудия младенец становится использующим речь дошкольником, он возносится на совершенно новый уровень интеллектуального функционирования. Выготский назвал этот новый уровень интеллектуального функционирования высшими психическими функциями. Высшие психические функции — это то, чего могут достичь только люди. Выготский заметил: «Самый значимый момент в ходе интеллектуального развития, который дает начало чисто человеческим формам практического и абстрактного интеллекта, имеет место, когда речь и использование орудий, две ранее совершенно независимые линии развития, соединяются».
Выготский посвятил много времени изучению способностей детей к решению проблем, по мере того как их речь становится более искусной. Он полагал, что способности еще не говорящих детей к решению проблем более или менее подобны способностям шимпанзе. Но когда дети овладевают речью, они покидают низший мир шимпанзе и вступают в мир высшего психологического функционирования. Почему речь так важна? Прежде всего она дает начало совершенно новому уровню интеллектуального функционирования. Благодаря речи, говорят ли они вслух или нет, дети могут разговаривать об объектах, которые не существуют, они могут строить планы на будущее и могут припоминать ошибки, которые совершили в прошлом. Поскольку слова являются внутренними элементами, используемыми для обозначения внешних предметов мира, дети могут с помощью слов мыслить о предметах, которые они обозначают словами, в отсутствие самих предметов. Еще не говорящие дети, подобно шимпанзе, могут мыслить о предметах, только воздействуя на них непосредственно. Здесь видно поразительное сходство с идеей Пиаже о сенсомоторном интеллекте. Речь также наделяет детей средством «проговорить» проблему, прежде чем применить специфические стратегии, необходимые для ее решения. Не говорящие создания в большей или меньшей степени привязаны к «здесь и сейчас». Они находятся в плену ограниченной информации, поставляемой им их органами чувств в конкретной ситуации, и поэтому они во многом могут разрешать проблемы только посредством метода проб и ошибок.
Выготский обнаружил, что один из первых способов, каким Речь помогает детям использовать орудия, — это случай, когда
после неудачи в самостоятельном решении проблемы они обра, щаются за внешней помощью. Чтобы получить помощь от дру. того человека, детям часто приходится описывать проблему вербально. Данный процесс Выготский назвал межличностной функцией речи, и это означает, что для решения проблемы необходима речь между двумя людьми. Но по мере того как дети приобретают большой опыт ведения разговоров с другими, они, в конце концов, становятся способными разговаривать с собой. Тогда они могут использовать собственную речь как подспорье в решении проблемы. Выготский назвал это внутриличностной функцией речи; говорят, что в этот момент речь интернализиру-ется. Благодаря этому так называемому внутреннему голосу, дети переходят к совершенно новому уровню психологического осознания; они обретают способность к высшим психическим функциям, которые доступны только людям. Кратко подытожим это с помощью собственных слов Выготского: «Знаки и символы служат детям, прежде всего, как средства социального контакта с другими людьми. Когнитивные и коммуникативные функции языка, таким образом, становятся у детей базисом новой и высшей формы деятельности, отграничивая их от животных».
Речь и знаки
Внутриличностная функция речи оказывает очень сильное влияние на ряд психологических способностей. Выготский приводит примеры того, как внутренний голос обогащает детское восприятие окружающей среды, их воспоминания о прошлом опыте и их способность проявлять внимание. Но если отметить самую суть, то причина того, почему интернализованная речь преображает интеллектуальное функционирование детей, не столько в специфике используемой речи, сколько в обозначающей функции, которой служат индивидуальные слова и предложения. Согласно Выготскому, слова — это разновидность знаков. А знаки важны тем, что они что-то обозначают. Обратили внимание, что слово обозначать происходит от слова знак? Важно не столько то, какие знаки мы используем для передачи идеи, сколько сама идея. Все различия в мире обусловлены способностью использовать знаки для обозначения идей.
На днях я ехал на нашем автофургоне со своей младшей дочерью Сарой, аккуратно пристегнутой к заднему сиденью. Мы остановились на красный свет рядом с местным полицейским участком, и через несколько секунд Сара сказала: «Смотри, папа, у нее пушистый управляющий центр». Разумеется, я не понял, что Сара хотела сказать, как и то, кто такая эта «она», и начал
лед0Вать взглядом все четыре стороны перекрестка, с тем что*? понять, могу ли я хоть краешком глаза увидеть, насколько viuhct этот управляющий центр. Очевидно, Сара пыталась по-елиться со мной какой-то идеей, хотя я и не мог догадаться, чем она заключалась. В конце концов, я проследил за взглядом Сары и заметил, что она смотрит на водительницу соседнего автомобиля. Быстро «отсканировав» салон автомобиля, я понял, что Сара использует знаки «пушистый управляющий центр» для обозначения ворсистого чехла рулевого колеса, который был у родительницы этого автомобиля. Конечно, когда один человек использует знак, понятный другому человеку, это помогает, но дети фактически могут использовать первые попавшиеся знаки.
Выготский полагал, что когда дети овладевают способностью использовать слова для обозначения чего-то, важно не то, что они используют слова, а то, что они пользуются произвольными символами, относящимися к другим объектам. Если подумать, то когда мы произносим слово, мы в действительности всего лишь создаем определенный паттерн звуков. Это паттерн звуков обозначает основополагающую идею. Безразлично, каков специфический паттерн звуков. К примеру, возьмите слово «автомобиль» (саг). Звуки, которые мои произносим, когда говорим «автомобиль», не связаны со смыслом этого слова. В разных языках используются разные паттерны звуков для обозначения понятия «автомобиль». По-испански мы скажем «ауто» (auto), по-немецки — «ваген» (Wagen), по-японски «курума» (kuruma), а на суахили это слово будет звучать как «гари» (gari). Тот факт, что дети говорят, важен потому, что они достигли этапа, на котором могут использовать произвольный паттерн звуков, относящийся к чему-то. Если нечто столь простое, как паттерн звуков, может передавать идею, тогда идею можно передать и с помощью других объектов. В данный момент, когда вы читаете эти слова, вы видите перед собой паттерны черной печатной краски на белом фоне. Очевидно, что эти паттерны черной краски, подобно звуковым паттернам, о которых мы только что поведали, что-то обозначают. В черных линиях, закорючках и точках нет особого смысла; он целиком в том, что их можно использовать для обозначения чего-то. Короче говоря, когда дети начинают прибегать к знакам, относящимся к объектам, они вступают в мир высших психических процессов.
В эксперименте, который я собираюсь описать, Выготский решил исследовать, насколько хорошо произвольные знаки позволяют детям функционировать в мире, особенно когда эти знаки можно использовать для расширения базовой памяти. Здесь
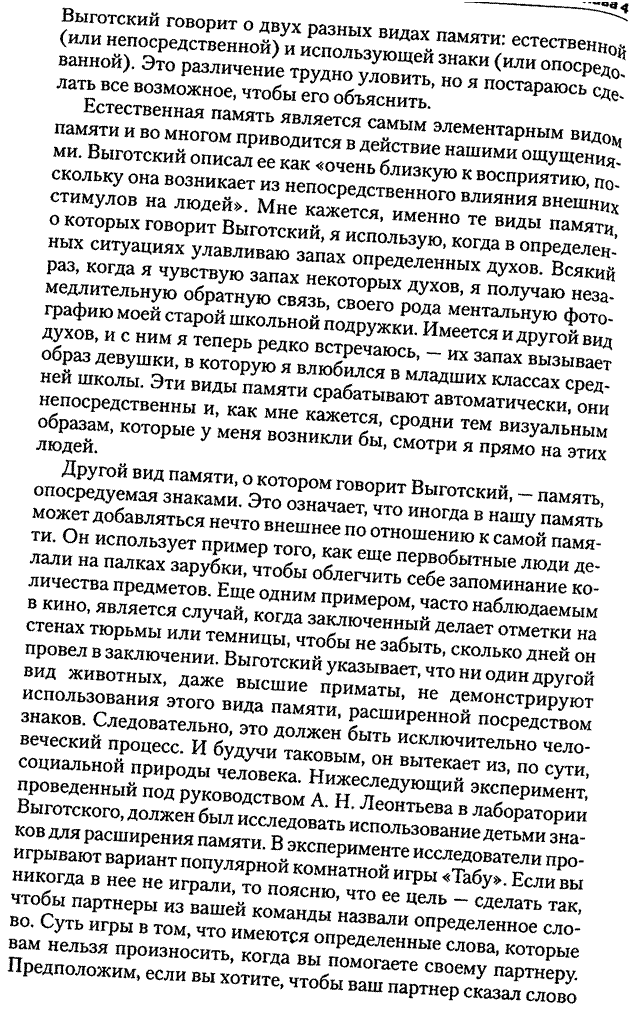
<ключ», вам нельзя говорить слово «замок» или «выключатель зясигания». Вариант этой игры, использованный в лаборатории Выготского, был изменен лишь ненамного. Экспериментаторы задавали детям серию вопросов, ответами на некоторые из которых были слова, обозначающие цвета. Вот пример вопроса: «Какого цвета пол?» Ожидалось, что дети дадут ответ, хотя в некоторых случаях им говорили, что определенные «цветные» слова использовать нельзя. Так, если пол был зеленого цвета, и ребенок использовал для ответа на вопрос экспериментатора табуи-рованное слово «зеленый», этот ответ ребенка признавался ошибочным. Выготскому и Леонтьеву хотелось узнать, поможет ли выдача детям цветных карточек уменьшить количество устных ошибок, которые они в итоге совершат. В сущности, вопрос стоял таким образом: воспользуются ли дети цветными карточками в качестве внешних знаков, помогающих им правильно ответить на вопрос?
Метод
Участники
Выготский не приводит деталей об участниках исследования. Но мы знаем, что участвовали, по меньшей мере, четыре возрастные группы. Было 7 участников 5-6-летнего возраста, 7 человек — 8-9-летнего возраста, 8 человек — 10-13-летних и 8 взрослых участников (22-27 лет).
Материалы
Единственным материалом, необходимым для этого эксперимента, был набор из 9 цветных карточек. Карточки имели черный, белый, красный, голубой, желтый, зеленый, лиловый, коричневый и серый цвета.
Процедура
Описание Выготским процедуры было достаточно простым, поэтому я приведу именно это описание здесь для вас: «Детей просили сыграть в игру, в которой они должны были ответить на несколько вопросов, не используя при этом определенные слова. Как правило, каждому ребенку предлагали три или четыре задания, которые разнились по ограничениям, налагавшимся на ответы, и видам потенциальных вспомогательных стимулов, которыми мог воспользоваться ребенок. В каждом задании ребенку задавали 18 вопросов, семь из которых имели отношение
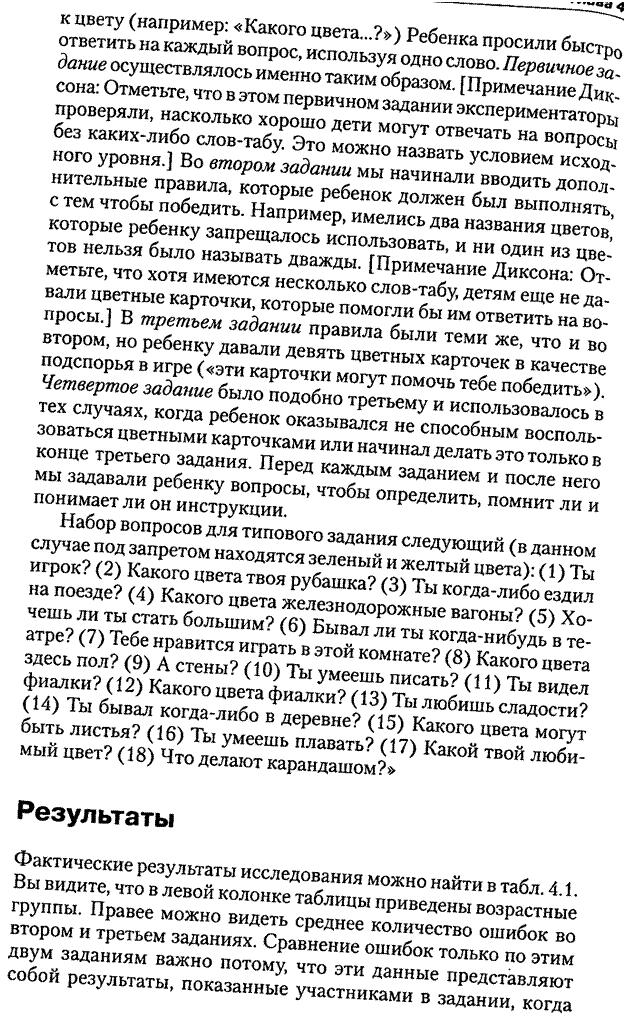
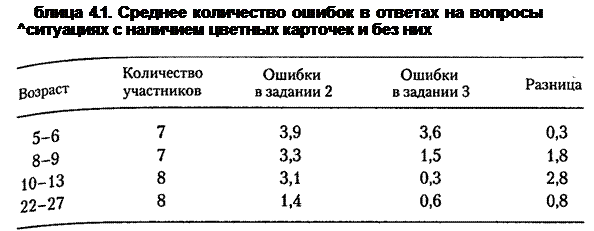
цветные карты не использовались, и в задании, когда они использовались. Вспомните, что исследовательский вопрос был следующим: повышает ли способность детей отвечать на вопросы наличие знаков (цветных карточек)? В самой правой части таблицы можно видеть разницу между показателями, когда цветные карточки использовались и не использовались. Отметьте, что в случае всех возрастных групп наличие под рукой цветных карточек помогало участникам совершить меньше ошибок, чем тогда, когда карточек не было.
Поскольку Выготский подытожил результаты в очень ясной форме, я снова прямо воспользуюсь его словами: «Посмотрев сначала на данные по заданию 2, мы видим небольшое уменьшение количества ошибок для возраста от 5 до 13 лет и резкое его снижение во взрослой группе. В задании 3 самое резкое снижение имеет место между группами 5-6-летних и 8-9-летних. Разница между показателями в заданиях 2 и 3 мала для дошкольников и взрослых. [Примечание Диксона: «Дошкольники» у Выготского соответствуют тем, кого мы сегодня называем детьми детсадовского возраста и первоклассниками.] Самая большая разница — у детей школьного возраста».
Обсуждение
Согласно Выготскому, результаты этого исследования показывают, что в развитии опосредованной памяти существуют три базовые стадии. Для самых маленьких детей наличие цветных карточек совсем не улучшало память. (Мне следует указать, что хотя показатели улучшились на 0,3 балла, когда эти самые маленькие дети пользовались карточками, эта разница, очевидно, была для Выготского не важна.) На этой стадии внешние знаки не использовались с выгодой для себя и не помогали памяти. На
второй стадии развития, когда дети были в возрасте между 8 ц 13 годами, наличие карточек намного улучшало память. То есть дети обретали способность использовать цветные карточки в качестве внешних знаков. Количество ошибок у детей на этой стадии заметно снижалось. Отметьте, что в табл. 4.1 количество ошибок у этих детей (10-13 лет) уменьшилось на 2,8 балла, когда им разрешалось пользоваться цветными карточками в качестве внешних знаков, в сравнении с тем условием, когда им не разрешалось пользоваться карточками. Наконец, на третьей стадии возможность пользоваться цветными карточками опять не помогала улучшению показателей. Посмотрите на данные взрослых. Наличие карточек практически не помогло им показать результаты лучшие, чем в том случае, когда карточек не было. С чего бы это? Очевидно, потому, что показатели взрослых были высокими с самого начала. По-видимому, взрослые не нуждались в карточках. Они как будто от начала пользовались собственными внутренними ментальными знаками. Поскольку у них уже были собственные интернализованные ментальные знаки, наличие цветных карточек не давало взрослым какого-то особого преимущества. Выготский пишет: «Внешний знак, который требуется школьникам, превратился во внутренний знак, используемый взрослым в качестве средства припоминания».
Данные, полученные в этом эксперименте, подтвердили идею Выготского, что развитие высших психических функций является следствием прогрессирующей интернализации знаков, которые первоначально доступны только извне, посредством социальной коммуникации. Конечно, одним из недостатков этого исследования является следующее обстоятельство: мы не можем быть уверены в том, что взрослые действительно пользовались ментальными знаками. Тем не менее результат эксперимента согласуется с тем, который мы ожидали бы, если бы взрослые были способны к использованию внутренних знаков для помощи, или опосредования, памяти.
Другие заслуги Выготского (или практические повседневные приложения теории Выготского)
Эксперимент, который я только что описал, был сфокусирован лишь на очень малой части объемной теории развития индивидуума внутри более крупного социального контекста, разработанной Выготским. Другим вопросом, о котором Выготский размышляет в книге, и который также принес ему немалую славу, было понятие зоны ближайшего (проксимального) развития. Это понятие непосредственно отражает интересы Выгот-
ого, касающиеся приложения теоретических идеи к ситуаци-0 п0вседневной жизни. Современные педагоги до сих пор придают много усилий по включению зоны ближайшего развития в свои педагогические программы.
Так в чем же суть этой зоны? Элементарно ее можно определить как разрыв между тем, что вы можете делать самостоятельно, и тем, что вы можете делать с помощью кого-то. Мы уже упомянули об этой идее вкратце, когда говорили о том, как маленькие дети могут обращаться за помощью к взрослым при разрешении проблем, которые они не могут разрешить самостоятельно. В этом отношении зона ближайшего развития является интерпсихологическим процессом. Но давайте исследуем некоторые из возможностей этой зоны.
Предположим, что у вас два 8-летних ребенка, которые учатся кататься на скейтборде. Закария и Джошуа никогда ранее не катались на роликовой доске, но они играли много раз в видеоигры со скейтбордом на своих «игровых станциях» (playstations) фирмы «Сони» и готовы попытаться сделать это в реальной жизни. Предположим, вы видели, как они стараются выучить какие-то движения при езде на роликовой доске, упражняясь у местной библиотеки, после того, как вы только что сдали обратно последнюю книгу из серии про Гарри Поттера. Вы замечаете, что ни один из них не добивается особых успехов в выполнении тех приемов, которые они осваивают. Хотя они поняли, как нужно стоять и балансировать на своих досках, и им хорошо удается оттолкнуться от земли, с тем чтобы заставить доски двигаться, ни один из них не может совершить поворот на 360° или сделать прыжок «Олли», и ни один не способен перескакивать через препятствие — «размолоть» ограждение вдоль пандуса для инвалидных колясок (все это типовые движения скейтбордистов). Как можно понять, оба ребенка ведут себя в соответствии со своим возрастом и делают это достаточно хорошо, но ни один не отваживается на выполнение каких-либо трюков.
Теперь представьте, что мимо проходит еще один мальчик, который примерно в два раза старше Закарии и Джошуа. Мальчик также несет роликовую доску, и вам кажется, что он несколько поопытнее, чем два других мальчика. Разумеется, старший мальчик поражает и очаровывает двух малолеток всевозможными трюками, прыжками и поворотами. Ему хочется помочь маленьким мальчикам в освоении одного простого трюка, и поэтому он начинает учить их некоторым базовым приемам того, как нужно «размалывать» край одной из расписанных стен библиотеки. Джошуа понимает суть этого движения и начинает «размалы-
вать» практически все, у чего имеется край. С другой стороны Закария добивается намного меньшего успеха. Он начинает немного лучше балансировать и поэтому держится на своей доске дольше. Но всякий раз, когда он пытается что-то «размолоть» то падает. Закария не демонстрирует того навыка, которым овладел Джошуа. Вскоре Закария разбивает себе колено и решает уйти домой.
Этот пример демонстрирует одну из фундаментальных особенностей зоны. Во-первых, вначале оба мальчика находились во многом на одном и том же уровне функционирования. Они оба могли держаться и кататься на своих досках, но ни один не умел делать ничего другого. Выготский назвал бы эти первичные способности «актуальным уровнем развития» детей. Актуальный уровень развития — это уровень результатов, которых ребенок способен достичь самостоятельно, без помощи взрослых или более опытных сверстников. Во-вторых, отметьте, что Закария и Джошуа добивались большего под руководством 16-летнего подростка. Выготский назвал бы это их «потенциальными уровнями», которые соответствуют уровню результатов, которых ребенок может достичь под руководством другого человека. Выготский называет это повышение способности интерпсихическим процессом (поскольку он предполагает взаимодействие между двумя людьми). Разницу между тем, что дети делают самостоятельно, и тем, что они делают с чьей-то помощью, или интервал между их актуальным и потенциальным уровнями Выготский назвал зоной ближайшего развития. Чем шире эта зона у ребенка, тем лучше он подготовлен для перехода к более высоким уровням. «То, что сегодня является зоной ближайшего развития, завтра будет актуальным уровнем развития». В нашем примере зона Джошуа была намного больше, чем у Закарии, и поэтому он был готов продвигаться более быстрым шагом, чем Закария, по крайней мере, в области скейтборда. Так что, хотя вы, вероятно, предположили бы, что Джошуа и Закария находятся на одном и том же фактическом уровне развития (на основании наблюдения за ними, когда им не помогали старшие сверстники), но ведь между ними имелось заметное различие с точки зрения их потенциала развития.
В наши дни зона ближайшего развития представляется довольно элементарной, интуитивной идеей. Но в свое время она подняла ряд важных вопросов и до сих пор вызывает у педагогов немалое беспокойство. Возьмите, к примеру, стандартизированные тесты. По-видимому, американские политические круги охвачены навязчивыми мыслями постоянно предлагать амери-
неким школьникам стандартизированное тестирование. Пои тики полагают, что если давать детям такие тесты на регулярной основе, тогда американские налогоплательщики могут быть уверены, что дети получают то образование, которого заслуживают. Президент Джордж У. Буш выказывает намерение регулярно подвергать американских детей стандартизированному тестированию. И в тот момент, когда я пишу эти слова, законодательное собрание штата Огайо планирует удвоить количество ежегодных стандартизированных тестов, которые будут проводиться со всеми детьми, посещающими государственные школы в Огайо. Парадоксально то, что педагоги и психологи выступают против такого тестирования.
Что же плохого в стандартизированном тестировании? Еще 70 лет назад у Выготского имелся ряд причин возражать против него. Прежде всего стандартизированные тесты придают слишком большое значение достижениям, которых дети уже добились. Когда мы используем стандартизированное тестирование, то в действительности оцениваем только актуальные уровни развития детей. Мы оцениваем, чего они уже достигли. И когда школа готовит своих учеников к прохождению стандартизированных тестов, она нацелена на то, чтобы помочь детям запомнить вероятное содержание теста. А не было бы намного разумнее, как мы видели это в случае с Закарией и Джошуа, измерить потенциал развития детей? Не было бы правильнее оценить, чего дети способны достичь в своем социальном контексте? Выготский поступил бы именно так. Мы не должны задавать вопрос: «Каковы фактические уровни развития американских детей?» Мы должны спросить: «Каков у американских детей потенциал достижения успеха?» Зона ближайшего развития, игнорируемая стандартизированными тестами, отражает такую интеллектуальную подготовленность, которая реальна, важна и, вероятно, имеет большее значение для успешной адаптации детей к своей среде, чем актуальные уровни развития, оцениваемые стандартизированными тестами.
Идея зоны также имеет большое значение для того, как должно проводиться обучение. Когда школьный учитель наставляет ребенка, то работает внутри зоны ребенка. Он расширяет ее, главным образом, за счет повышения уровня потенциального развития ребенка. Случалось ли вам, сдавая экзамены на одном из курсов, обнаружить, что вы не понимаете какой-то вопрос в такой степени, как вам следовало бы? Этот фрустрирующий случай демонстрирует ваш личный опыт с зоной ближайшего развития. То, что вы прекрасно понимали в аудитории, когда рядом
находился преподаватель, вы понимаете очень неважно, когда он не направляет вас. Вот другой пример. Я часто даю своим сту. дентам домашнее задание на курсе статистики. В день, когда до* машнее задание должно быть сдано, ко мне обязательно подойдет какая-нибудь студентка с незавершенным заданием, говоря что она понимала, что я объяснял в аудитории, но была совершенно сбита с толку, когда пыталась работать самостоятельно.
Очевидно, люди могут добиваться большего, когда работают с другими людьми, — идея, являвшаяся центральной для Маркса, а, следовательно, и для Выготского. И американская образовательная система может выиграть, если пересмотрит свою педагогическую практику соответствующим образом. Вместо того чтобы фокусироваться на состязательных, индивидуализированных академических достижениях, мы, возможно, должны сосредоточиться на кооперативном, групповом обучении. К счастью, в наши дни происходят значимые изменения в том, как осуществляется образование в системах и начального, и среднего звена. Образование все больше удаляется от подхода, центрированного на учителе, — когда тот знает и объясняет все, а ученик копирует слова учителя, — к подходу, центрированному на ученике, когда тот самостоятельно открывает знания, работая с учителями или с группами своих сверстников. Начальные, неполные средние и средние школы давали намного более качественное обучение, основанное на открытии, чем колледжи. Но в наши дни и многие колледжи начинают практиковать подобное обучение, основанное на открытии. Не замечали ли вы в последнее время более широкого распространения учебных упражнений, основанных на групповой работе? В прошлом вам могли дать задание, которое вы должны были завершить самостоятельно. Оно могло быть трудным, и, возможно, вам приходилось встречаться с преподавателем несколько раз, чтобы получить дополнительные указания по выполнению. Затем в итоге вы могли испытать приятные или неприятные чувства к себе, в зависимости от того, насколько удачно вы справились с заданием в сравнении с остальными студентами. В случае обучения, основанного на открытии и групповой работе, задание получает группа студентов, которая несет ответственность за его выполнение. Базовая идея, стоящая за подобным обучением, заключается в том, что каждый член группы может внести нечто важное в функционирование группы. Поэтому когда индивидуальный член группы не способен завершить самостоятельно все части задания, другие участники группы могут компенсировать эти недостатки, и группа как целое действует на более высоком уровне, чем
любой ее индивидуальный член. Работая в группе, ее индивидуальные члены могут выиграть благодаря сильным сторонам других членов группы. Суть здесь в том, что обучение, основанное на групповой работе и открытии, является зоной ближайшего развития Выготского в действии.
Заключение
Нет сомнений, что Выготский оказал значимое влияние на область детской психологии. Его работа одинаково важна как тем, что он указал этой области новый способ осмысления психологических исследований, так и конкретными научными открытиями, которые он делал. Он познакомил мир с марксистской альтернативой стандартным европейским и американским путям психологических исследований. И что важно, его акцент на рассмотрение человеческого поведения в естественном контексте был предвестником теоретических подходов, предложенных рядом других авторов, описанных в этой книге.
Например, Выготский, вероятно, был бы очень доволен работой Джона Боулби (глава 11). Боулби (John Bowlby), как исследователь детской психологии, изучал отношения матери с младенцем. Он был хорошо известен своей идеей, согласно которой отношения мать—младенец можно лучшего всего понять с точки зрения среды, в которую они погружены. Боулби доказывал, что хотя притяжение матерей и их малышей друг к другу обусловлено тысячелетиями эволюции, сила этого взаимного притяжения зависит от их среды. Боулби указывал, что расстройства привязанности вероятны сегодня более, чем когда-либо ранее, поскольку доисторическая среда, в которой отношения привязанности первоначально эволюционировали, имела мало общего со средой, в которой оказываются современные матери и дети. Соответственно, когда матери и младенцы оказываются в необычных или незнакомых ситуациях, таких как больница или тюрьма, и когда матери не имеют возможности реагировать на сигналы своих малышей тем или иным образом, расстройства привязанности становятся весьма реальными.
Я думаю, Выготского также порадовала бы теория Ури Брон-фенбреннера (Urie Bronfenbrenner, глава 22). Подобно Выготскому, тот полагал, что глупо проводить исследования на детях без одновременного принятия во внимание влияний среды на Детей. Однако он пошел на один шаг дальше Выготского. Он предположил, что существует несколько различных уровней
среды, а следовательно, и несколько разных уровней влияния среды на детей. Например, на поведение детей влияет не только то, имеется ли у них много игрушек для игры, но также то, живут ли они в свободном, демократическом обществе. Поэтому Бронфенбреннер считал, что влияния среды простираются от прямых, непосредственных воздействий до косвенных, долговременных.
Жаль, что Выготский рано умер и не застал того всплеска в детской психологии, который произошел во второй половине XX века. После смерти Выготского было сделано так много многообещающих и захватывающих открытий, касающихся способностей младенцев и детей, что можно только догадываться о том, чего Выготский мог добиться, знай он о них.
Библиография
Miller, Р. Н. (1993). Theories of developmental psychology. New York: W. H. Freeman and Company.
Newman, E, & Holzman, L. (1993). lea Vygotsky: Revolutionary scientist. London: Routledge.
Wertsch, J. V. (1985). Vygotsky and the socialformation of mind. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Вопросы для обсуждения
1. Какую роль играет государство в проводимых научных исследованиях? Какую роль играет наука в работе, осуществляемой государством?
2. В каком фундаментальном аспекте подход Выготского к детской психологии отличается от подхода Пиаже?
3. Если мы собираемся использовать стандартизированные тесты в качестве способа оценки наших детей, как мы можем модифицировать процедуру, чтобы сделать ее более совместимой с подходом Выготского (в особенности с его идеей зоны ближайшего развития)?
4. Считаете ли вы, что шимпанзе способны достичь в своем развитии области высших психических функций? Почему да или почему нет? Каким может быть сдерживающий фактор, согласно Выготскому?
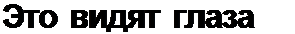 | |||
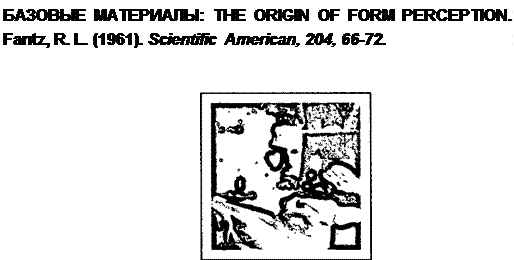 | |||
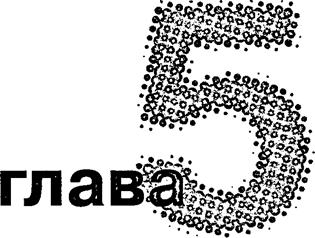
Сногсшибательно! Абсолютно гениально! Это не гиперболы (вспомните, что значит гипербола). Если и есть на свете исследование, выступающее в роли краеугольного камня для развития современных исследований познавательных способностей детей, то это именно оно. И оно было краеугольным камнем во многих отношениях. Во-первых, Роберт Фэнц (Robert Fantz) оказался в определенном смысле бунтарем: в то время когда его исследования осуществлялись, они удостоились крайне враждебного приема со стороны его коллег-психологов. Помните, как из вводного курса нашей науки вы узнали о группе ученых-психологов под названием бихевиористы, которые царили в сфере
психологии с начала 1910-х годов до начала 1960-х? Видите ли, тогда быть сторонником тех же взглядов, что и бихевиористы, обычно означало даже не заговаривать о теме врожденных мыслительных способностей. Собственно говоря, о мышлении вообще нельзя было говорить! Рьяные бихевиористы интересовались только поведением человека. К несчастью для Фэнца, бихевиористский подход прочно укоренился в американской психологии конца пятидесятых — начала шестидесятых годов, когда Фэнц только начал свою карьеру, и этот подход, предполагавший отрицательное отношение к иным взглядам, не сделал исключения для области исследований Фэнца — восприятия. По моим предположениям, Фэнц должен был чувствовать себя как Снитч без звездочки в компании имеющих звезды Снитчей (по иронии судьбы, это классическое произведение д-ра Сойсса (Dr. Seuss) было опубликовано почти одновременно с работой Фэнца)*.
Однако в конце концов бихевиористский подход сошел на нет, а Фэнц остался, получив возможность «повернуть штурвал» и проводить свои исследования, изучая развитие психологических процессов у детей.
Конечно, по-настоящему важным в деятельности Фэнца было не то, что он выстоял в битве с бихевиористами, а то, что именно его исследования позволили ученым общаться с маленькими детьми и получать от них информацию. Однако хотя вклад Фэн-ца-новатора явно выходит за рамки его собственных исследований, Фэнц-ученый по-настоящему интересовался только одним вопросом: приобретаем ли мы способности восприятия только в процессе обучения? Возбуждал любопытство Фэнца и непосредственный вывод из этого вопроса: обладают ли дети врожденной способностью восприятия?
| * Речь идет о популярных детских персонажах — забавных существах придуманного д-ром Сойссом народца. Иметь от рождения звезду на животе считалось у Снитчей быть признанным, полноценным, «нормальным» представителем своего народа; те же, у кого не было таких звезд, считались ущербными, они подвергались насмешкам, их не принимали в игру и т. п. — Примеч. ред. |
Чтобы найти ответ на эти вопросы, Фэнц выдвинул совершенно банальное предположение: может быть, можно что-то выяснить о мыслительных способностях новорожденных детей, если просто приглядеться к тому, как и на что они смотрят? Из этого предположения напрашивается вывод: поскольку младенцы смотрят на окружающие предметы не одну тысячу лет, и поскольку взрослые столько же времени наблюдают за этим процессом, следовало бы уже давно выяснить, можно ли по взгляду
ебенка понять что-то о ходе его мышления. Всем известно, что Проследив за взглядом взрослого человека, можно сказать, на что именно этот человек смотрит, а также предположить, о чем он в этот момент думает. Так почему же люди так редко обращают внимание на взгляд грудного ребенка? Полагаю, для такой невнимательности существует несколько серьезных причин. Во-первых, мне кажется, что нашим предкам просто не приходило в голову, что во взгляде грудного ребенка может быть какой-то смысл. Представителям многих культур было свойственно считать, что младенцы неразумны и не обладают душой — только рефлексами. Кроме того, психология сама по себе — молодая наука (она возникла менее 125 лет назад), а до ее появления ученые не привыкли подходить с научными методами к психологическим проблемам. А когда психология, наконец, пришла в наш мир, в Америке лидирующее положение быстро заняли бихевиористы (особенно в периодических изданиях и в учебных заведениях), и господствовали в этой области шестьдесят лет. По какой бы то ни было причине, только после публикации работ Фэнца в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов его революционные идеи укоренились в среде других исследователей детской психологии. Так что же такого «крутого» сделал Фэнц? Давайте посмотрим.
Исследования, про которые я буду говорить, впервые были описаны самим Фэнцем в 1961 году в статье под названием «The Origin of Form Perception» («Истоки восприятия формы»), опубликованной в журнале Scientific American. Собственно говоря, Фэнц опубликовал ряд статей на эту тему и в других изданиях, вроде The Psychological Record и Perceptual and Motor Skills, но статья, которую я буду рассматривать, снискала наибольшую популярность (или дурную славу, как сказали бы вы, если бы были в то время бихевиористом). Как я уже упоминал, общей целью исследований Фэнца было установить, появляются ли дети на свет с врожденной способностью воспринимать «форму», или такие способности восприятия развиваются в результате обучения. Фэнц знал, что дети постарше и взрослые люди способны говорить о различиях между круглыми и квадратными предметами, между темными и светлыми, и между большими и маленькими. Но он не мог сказать, когда же появляется перцептивная способность к различению.
Возможно, конечно, что дети учились распознавать форму предметов, их цвет и размер постепенно, по мере того, как познавали мир. Это была явная ошибка. Из-за предвзятости мнений бихевиористы объясняли любую способность человека
к обучению опытом жизни в окружающем мире. Однако если бы Фэнц смог продемонстрировать, что способность распознавать форму различных предметов присуща детям от рождения, он сделал бы воистину революционное открытие. Это значило бы показать, что имеет место, скорее, психологическое развитие, чем развитие поведения, и что дети приходят в этот мир биологически готовыми его воспринимать («подключенными» к этому миру, если пользоваться современным языком).
Перед тем как искать ответы на вопросы относительно способности восприятия, Фэнцу предстояло разобраться с еще одной небольшой проблемой: за всю историю человечества никому не удавалось успешно поддерживать полноценный диалог с новорожденным младенцем! А ведь понять, что именно воспринимают новорожденные, не имея возможности спросить их об этом, весьма непросто. Фэнц нашел-таки ответы на свои вопросы. Однако для этого ему пришлось изобрести способ общаться с грудными детьми, что, на мой взгляд, было гораздо более важным для детской психологии, чем найденные им ответы! Далее я привожу описание исследований Фэнца, в которых он описывает свой подход, подробно рассматривая ряд своих опытов.
Введение
Во введении к своей статье Фэнц рассматривает более ранние исследования, которые он и другие психологи проводили с животными. Результаты этих работ сами по себе были довольно любопытными. Например, Фэнц рассказывает об одном исследовании, в ходе которого он изучал, как вела себя, клюя зерна, тысяча цыплят, которых содержали в полной темноте с того момента, как они вылупились из яиц. Фэнца интересовало, что произойдет, если дать цыплятам что-то, что они смогут увидеть, — психологи назвали бы это визуальным стимулом (стимул — это то, что психологи предъявляют участникам исследования или подопытным, чтобы посмотреть, как они будут на него реагировать). Поэтому ученый и его коллеги дали цыплятам, поместив их при свете, 100 предметов «различной формы и с разным количеством углов, от шара до пирамиды». Любопытно, но Фэнц обнаружил, что цыплята «в десять раз чаще клевали круглые предметы, чем пирамидки», и что они чаще клевали именно шары, а не плоские круглые диски. Поскольку в ходе этого опыта цыплята в первый раз оказались в условиях освещения, Фэнц посчитал, что они не могли научиться выбирать шары из предыдущих экспериментов с едой, и пришел к выводу, что цыпля-
с самого начала предпочитают клевать предметы, похожие на съедобные! Конечно, цыплята не слишком похожи на грудных етей, но результаты этого исследования повышают шансы на т0 что и дети, возможно, обладают некими врожденными способностями различать форму предметов. Как бы то ни было, перед фэнцем по-прежнему стояла проблема, как расспросить детей об их пристрастиях — ведь дети не клюют зерна.
Ключ к возможному решению проблемы нашелся в ходе исследований, которые Фэнц проводил с детенышами шимпанзе в лабораториях Йеркса (Yerkes) по изучению биологии приматов в0 Флориде. Шимпанзе тоже не клюют зерна, но они похожи на человеческих детей в том, что тоже смотрят на окружающие предметы. Поэтому Фэнц и его коллеги сконструировали так называемую «камеру для смотрения», в которую они помещали детеныша шимпанзе. Камера напоминала детскую кроватку, с той лишь разницей, что у нее был потолок и довольно крепкие стенки. Фэнц помещал на потолок камеры два предмета, один справа от шимпанзе, а другой слева. Он пишет: «Через отверстие в потолке камеры мы могли видеть крошечные отражения предметов в глазах детеныша. Когда отражение одного из предметов оказывалось в центре глаза, над зрачком, то мы понимали, что шимпанзе смотрит прямо на этот предмет» (сегодня такая процедура известна под названием «техника отражения на роговице»).
После этого только оставалось определить, смотрели ли шимпанзе на какой-нибудь предмет дольше, чем на другой. Если бы это было так, то напрашивались два вывода: во-первых, что шимпанзе были в состоянии определить разницу между предметами, и, во-вторых, что по какой-либо причине они предпочитали смотреть на один предмет дольше, чем на другой. Фэнц и его коллеги обнаружили, что шимпанзе действительно рассматривали некоторые предметы охотнее, чем другие. Более того, Фэнц установил, что это было свойственно и тому детенышу шимпанзе, которого, как и вышеупомянутых цыплят, с момента рождения держали в полной темноте. Таким образом, исследователь доказал, что шимпанзе и цыплята обладали способностью различать форму предметов, даже не обладая никаким зрительным опытом. Фэнц объяснил эти результаты врожденной способностью распознавать форму предметов.
Я особенно хочу подчеркнуть, что изобретя эту простую «камеру для смотрения», Фэнц сделал открытие, которое не смогли сделать бесчисленные поколения исследователей до него. Он открыл способ, позволяющий задавать детям вопросы на
понятном для них уровне, и в то же время позволяющий детям общаться с исследователями на уровне, понятном последним. После этого только оставалось определить, будут ли новорожденные дети вести себя в «камере для смотрения» так же, как шимпанзе. В своей статье в Scientific American Фэнц описал ряд исследований, в ходе которых он изучал поведение детей в этой камере. Я предлагаю ознакомиться с подробностями экспериментов в том виде, в котором они собраны в этой статье.
Эксперимент 1
Методика исследования
Участники
Тридцать детей в возрасте от одной недели до пятнадцати еженедельно подвергались обследованию в «камере для смотрения»
Материалы
Детям показывали четыре пары фигур различной сложности. Если перечислить типы фигур по мере возрастания сложности, список будет выглядеть так: первая пара состояла из набора горизонтальных полосок и большого круга (фигуры «бычий глаз», a bull s-eye design); вторая — из фигуры в форме шахматной доски и двух одноцветных квадратов разной величины; в третьей паре противопоставлялись круг и крест; четвертая состояла из двух одинаковых треугольников.
Ход эксперимента
Детей по одному помещали в «камеру для смотрения» и показывали им одну из пар, предъявляемых в случайном порядке. Общее количество времени, в течение которого дети смотрели на каждую из фигур, старательно фиксировалось, что позволило Фэнцу, во-первых, определить общее количество времени, затраченное на отдельную фигуру и на их совокупность, и, во-вторых, установить, на какую фигуру из пары ребенок смотрел дольше.
Результаты
Фэнц обнаружил, что на фигуры сложной формы дети обычно смотрели гораздо дольше, чем на простые фигуры. Так, на фигуры из первой и второй пар они затратили больше времени, чем на более простые фигуры. Еще одним важным выводом стал тот
факт, Что дети явно выказывали предпочтение определенным типам фигур. Например, в случае со второй парой они дольше смотрели на «шахматную доску», чем на одноцветные квадраты. Первая пара фигур тоже нравилась детям, но любопытно, что выбор предмета, который они предпочитали, зависел от их возраста: в более раннем возрасте дети охотнее смотрели на полоски, а в два месяца большинству нравился круг.
Обсуждение
Тот факт, что дети затрачивают на различные фигуры разное количество времени, позволил Фэнцу сделать один очень важный вывод. Он писал: «Обнаружив, что новорожденные дети способны воспринимать форму предметов, мы тем самым опровергли известное заблуждение, согласно которому новорожденные дети из-за особенностей строения глаз способны видеть только светлые и темные пятна». Однако Фэнц не остановился на этом и доказал также, что дети предпочитают предметы определенной формы другим предметам! Он чувствовал, что эти предпочтения каким-то образом связаны с врожденной способностью восприятия. Впрочем, эти открытия не исключали возможности того, что способности восприятия формы продолжают развиваться по мере развития ребенка. Они свидетельствовали только о том, что новорожденные дети, очевидно, в состоянии как-то воспринимать видимый мир сразу после появления на свет. Далее Фэнц описал свои попытки установить, как развивается и изменяется острота зрения у новорожденных младенцев, то есть насколько хорошо они могут видеть окружающее.
Эксперимент 2
Методика исследования
Участники
Количество занятых в эксперименте детей и их возраст точно не обозначены. Однако поскольку Фэнц упоминает о поведении как полугодовалых детей, так и детей в возрасте меньше месяца, можно, по крайней мере* предположить, что в эксперименте были заняты дети именно этих возрастов.
Материалы
Детям показывали наборы фигур в черно-белую полоску в паре с серыми квадратами такой же степени яркости.
Ход эксперимента
Как и в предыдущем эксперименте, детей по одному помещали в «камеру для смотрения» и показывали им пары фигур-стимулов. При каждом успешном опыте в следующий раз детям предлагали фигуры со все более тонкими полосками. Логика Фэнца была безупречна: «Поскольку мы уже знаем, что дети охотнее и дольше смотрят на предметы более сложной формы, а не на простые, ширина полосок на фигуре более сложной формы, которую ребенок предпочел серому квадрату, является показателем степени остроты зрения». Как и в первом эксперименте, Фэнц точно фиксировал количество времени, затраченного детьми на разглядывание каждого стимула из предложенной пары.
Результаты
Фэнц выяснил, что «к полугоду дети в состоянии видеть полоски толщиной 0,04 см с расстояния 25 см под углом 5 минут математической дуги или у градуса (показатели взрослого человека равнялись одной минуте дуги или {/т градуса). Даже в возрасте до одного месяца дети способны видеть полоски толщиной 0,3 см с расстояния 25 см под углом чуть меньше 1 градуса». Фэнц писал: «Это слабые показатели по сравнению с результатами взрослого человека, но это ни в коей мере не полное отсутствие способности воспринимать форму предмета».
Обсуждение
С помощью этого эксперимента Фэнц смог доказать, что дети обладают определенной остротой зрения уже в месячном возрасте, и результаты его исследований позволяли предположить, что с течением времени острота зрения повышается. (Эксперимент 1 также показал это.) Тот факт, что острота зрения продолжает развиваться, свидетельствует и в пользу того, что созревание и/ или опыт ребенка играют определенную роль в развитии способностей зрительного восприятия. Бихевиористы бы ликовали по этому поводу. Однако ни одно из предыдущих исследований не касалось того, что, по мнению Фэнца, было самой сутью проблемы: обладают ли дети некой врожденной способностью «создавать порядок из хаоса»? Другими словами, действительно ли новорожденные дети видят «расплывающиеся, дрожащие пятна» (если воспользоваться столь часто цитируемой фразой
Уильяма Джеймса), или же они способны различать формы и воспринимать объекты целиком? Опыт с птенцами свидетельствует о том, что, по крайней мере, новорожденные цыплята способны отличать съедобные предметы от несъедобных. Существуют ли у детей подобные категории, позволяющие упорядочить хаос и адекватно воспринимать окружающий мир?
Эксперимент 3
Чтобы ответить на этот вопрос, Фэнц сначала попытался выяснить, какая способность предположительно помогает детям выжить в окружающем мире. В случае с цыплятами можно было говорить, что решающим для них было умение находить съедобные предметы, тогда как в случае с детьми, по предположениям фэнца, наиболее важными, очевидно, являлись социальные стимулы. Особое внимание исследователь уделял возможной роли человеческого лица. «Лицо — самый важный отличительный аспект личности, позволяющий наиболее точно отличить одного человека от другого и узнавать его впоследствии. Поэтому, возможно, предъявив паттерн «человеческое лицо», мы можем ожидать, что обнаружим избирательность восприятия, если таковая существует». В ходе этого опыта Фэнц снова использовал изобретенную им методику, позволяющую перевести его «взрослый» вопрос на язык, понятный даже новорожденному ребенку. Этот вопрос был очень простым: «Нравится ли тебе смотреть на лица больше, чем на все остальные предметы?»
Методика исследования
Участники
В исследовании были заняты 49 детей в возрасте от четырех дней до полугода.
Материалы
Стимулами послужили «три плоских объекта, по форме и размерам совпадающие с головой человека». На одной «голове» черной краской на розовом фоне были нарисованы рот, нос, глаза, так, чтобы это действительно было похоже на лицо. На второй модели были нарисованы те же черты лица, но расположенные беспорядочно, так, чтобы эта модель не походила на лицо. Что касается третьего стимула, черной краски на него было потрачено столько же, сколько и на каждый из предыдущих, но
вместо лица в верхней части модели было просто нарисовано черное пятно. Изображения на всех трех моделях были достаточно большими, чтобы их могли различить даже самые маленькие дети, у которых зрение было еще слабым.
Ход эксперимента
Детям, помещенным в «камеру для смотрения», показывали все парные комбинации, которые можно образовать из трех стимулов. Как и в предыдущих исследованиях, время, затраченное на рассматривание каждой модели в ходе каждого опыта, тщательно фиксировалось.
Результаты
Фэнц обнаружил, что дети несколько дольше смотрели на модель, похожую на лицо, чем на модель с беспорядочными чертами лица, но что этой последней они отдавали предпочтение перед моделью с черным пятном. Это было справедливо для детей всех возрастов.
Обсуждение
Хотя предпочтение, оказанное детьми модели в форме лица перед другими моделями, было не очень явным, той склонности, которую они все же обнаруживали, было достаточно, чтобы Фэнц сделал следующий вывод: «Дети, как и цыплята, от рождения обладают неразвитой, примитивной способностью восприятия формы». Эта фраза Фэнца является ключевой. Он нигде не утверждает, что дети рождаются специально для того, чтобы смотреть на лица окружающих людей — по крайней мере, не так, как цыплята появляются на свет, чтобы клевать предметы, съедобные по виду. Однако, как я расскажу чуть ниже, часто считается, что Фэнц утверждал именно это.
Эксперимент 4
При описании этого опыта я не буду пользоваться моим обычным планом изложения, поскольку сам Фэнц описывал данный эксперимент достаточно кратко. В ходе эксперимента Фэнц несколько отступил от обычной процедуры и показывал детям не два стимула, а только один. По его предположениям, по количеству времени, затраченному детьми на рассматривание каждого предмета, можно было бы судить о значимости этого предмета.
фэнц показывал детям наборы плоских дисков шириной приблизительно пятнадцать сантиметров, на каждом из которых были различные изображения. На трех дисках были изображены различные конфигурации (лицо, «бычий глаз» и отрывок печатного газетного текста, выглядевший как вырезка из газеты), ДРУгие ТРИ были одноцветными (красный, флюоресцирующий желтый и белый). Фэнц опять зафиксировал количество времени, затраченного детьми на каждый из предметов. Как и в эксперименте 1, он обнаружил, что дети дольше смотрели на стимулы с изображениями, чем на одноцветные, даже если эти стимулы не были объединены в пару. Как и в эксперименте 3, из всех стимулов наибольшее предпочтение дети отдавали модели в форме человеческого лица, если судить по затраченному на рассматривание времени. По мнению Фэнца, эти результаты свидетельствовали: социальные стимулы могут иметь для детей огромное значение, вплоть до того, что дети, возможно, биологически предрасположены с самого рождения смотреть на лица окружающих людей.
Обсуждение
Гений Фэнца проявился во многих отношениях, и его новаторства признаются специалистами во многих сферах. Фэнц не только разработал методику, позволяющую исследователям «беседовать» с новорожденными детьми и «слушать», что они Отвечают, но и рискнул в одиночку бросить вызов бихевиористам, которые ограничивали изучение детского развития только исследованием поведения. Разумеется, Фэнц тоже изучал поведение — он исследовал его зрительные проявления. Но, не пытаясь объяснить развитие этих проявлений самих по себе, Фэнц воспринимал разницу между ними как отражение различий между основными способностями детей к восприятию. Он дерзнул предположить, что дети представляют из себя нечто большее, чем просто совокупность полученного ими опыта, и заключил: «Наши результаты на сегодняшний день доказывают, что необходимо отвергнуть ту точку зрения, согласно которой новорожденному ребенку или детенышу животного приходится с самого "старта" учиться видеть и упорядочивать образцы стимулов».
Еще один вклад Фэнца в науку заключается в том, что результаты его опытов предопределили программу подавляющего большинства исследований в области детской психологии на протяжении четырех десятилетий! Например, концепция, что человеческое лицо является главным социальным стимулом,
способным привлечь и удержать внимание ребенка, затрагивала души исследователей детской психологии в 1960-х и 1970-х годах. Основной сущностью теории был вопрос, является ли мозг ребенка еще до его рождения нацеленным на поиск и восприятие лиц других людей, или же дети охотно смотрят на лица окружающих, потому что такие черты им нравятся. Этот вопрос имел важные последствия при формулировании Джоном Боулби его теории привязанности (Bowlby, глава 11). В частности, Боулби обсуждал то положение, что дети и матери были в результате эволюции биологически приспособлены воспринимать друг друга. Матери реагируют на сигналы, которые издают дети; дети, в свою очередь, реагируют на сигналы, полученные от матерей. Если бы Фэнц был прав, единственным стимулом, способным привлечь внимание ребенка, стало бы лицо его матери!
Методика Фэнца предоставила базу и для исследователей, определяющих уровень интеллекта ребенка. Работавший на протяжении долгого времени вместе с Фэнцем Джозеф Фэйган (Fagan) даже разработал тест для определения уровня интеллекта ребенка, основанный на подходе Фэнца (эта методика, соответственно, носит название «Тест Младенческого Интеллекта по Фэйгану») (the Fagan Test of Infant Intelligence — FTII). FTII основан на предположении, согласно которому дети способны зрительно улавливать различия между двумя показанными им предметами. В ходе теста детям показывают одно изображение на протяжении некоторого отрезка времени (его продолжительность зависит от возраста ребенка), а затем предъявляют уже два изображения, одно — то, которое дети уже видели, а другое новое и незнакомое. Дети, которые дольше смотрят на новое изображение (психологи называют это «предпочтением новизны»), впоследствии, как правило, обнаруживают более высокий уровень интеллекта. Дети, которым несвойственно «предпочтение новизны», впоследствии рискуют получить диагноз «задержка умственного развития».
Заключение
Усилия Фэнца воистину указали путь сотням других исследователей детской психологии, которые выстроились в очередь, будучи просто не в силах ждать, и желая задать новорожденным детям сотни вопросов, но не зная точно, как их сформулировать. Новейшие исследования в этой сфере теперь позволяют спросить, воспринимают ли дети разницу между категориями — например, между «мальчиками» и «девочками», между эмоция-
ми — например, радостью и печалью, или даже между категориями скорости — например, между «быстро» и «медленно». Мы можем спрашивать себя, не зависит ли степень способности детей воспринимать такие категории от их способности понимать такие абстрактные социальные представления, как пол и расовая принадлежность, и такие физические понятия, как время и пространство, или же она зависит от их способности говорить и понимать язык. Теперь вместо пар отдельных неподвижных предметов мы показываем детям сложные, происходящие в реальном времени действия, как подлинные, так и вымышленные. Со времен Фэнца были проведены сотни исследований, результатами которых явились тысячи страниц, подтверждающих потрясающую интенсивность развития мыслительных способностей маленьких детей. И все это возникло оттого, что Фэнц, в отличие от большинства, отказался считать то, на что любят смотреть дети, простым и не заслуживающим внимания. Любопытно, не так ли?
Библиография
Fagan, J. Е, III. (2000, June). Visual perception and experience in early infancy: A look at the hidden side of behavioral development. Paper presented at the biennial meetings of the International Conference on Infant Studies, Brighton, England, UK.
Fagan J. E, III, & Detterman, D. K. (1992). The Fagan Test of Infant Intelligence: A technical summary. Journal of Applied Developmental Psychology, 13, 173-193.
Вопросы для обсуждения
1. Фэнц предположил, что дети, возможно, биологически предрасположены с самого рождения смотреть на лица окружающих людей. Но что если детям просто нравится смотреть на какие-то черты, которыми по случайности обладают и лица? Если так, уменьшает ли это значимость открытий Фэнца?
2. Совершил бы Фэнц такой огромный переворот в детской психологии, если бы его работы были опубликованы на десять лет раньше? Почему да или почему нет?
3. Многие утверждали, что Фэнц сделал свои открытия в области зрительного поведения детей только потому, что чуть более пристально взглянул на очевидные вещи. Справедливо ли считать Фэнца гением, если он только обратил внимание на очевидное? Объясните вашу точку зрения.
4. Почему так важно выяснить, присуще ли восприятие формы детям от рождения, или оно появляется в результате обучения?
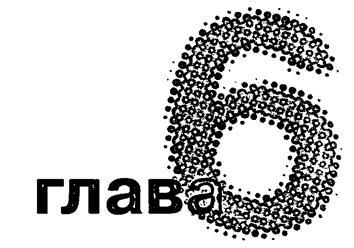
«Принцип разводного моста»
БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: OBJECT PERMANENCE IN 3,5- И 4,5-MONTH-OLD INFANTS.
Baillargeon, R. (1987). Developmental Psychology, 23, 655-664.

Очень часто исследователи, проводящие научный опыт, сталкиваются с необходимостью выполнить описание событий на языке общепринятой научной терминологии. Такое исследование уже выходит за рамки простого получения данных опытным путем и их фиксирования — оно уже вторгается в социально-политическую среду всего научного сообщества. Чтобы уловить атмосферу подобного исследования, приходится иногда обращаться к другим областям науки, например, гуманитарным дисциплинам или искусствам, при помощи которых можно найти единственно правильные термины. Работа Рене Байержо (Renee Baillargeon) 1987 года относится к числу таких исследований.
а работа, уже знаменитая сама по себе, в то же время является легорией известной библейской истории о Давиде и Голиафе /хотя и без кровопролития), а также олицетворением французского импрессионизма.
Аллегория с Давидом и Голиафом уместна, поскольку Байержо в своих опытах действительно уподобилась юному молокососу-пастушку, чьей веры оказалось достаточно, чтобы победить громадную, подавляющую силу великана-филистимлянина Голиафа. В случае с Байержо роль Голиафа исполнил Пиаже. Сравнение с картиной французского импрессиониста также справедливо, поскольку чтобы полностью понять работу Байержо и воспринять ее как единое целое, необходимо как бы отойти на несколько шагов и бросить взгляд со стороны. Если же смотреть на детали с близкого расстояния, картина потеряет свою целостность. Кроме того, будучи по происхождению канадской француженкой, д-р Байержо обладает чудесным французским акцентом, который, когда она говорит по-английски, производит на собеседников воистину чарующее впечатление (что тоже навевает ассоциации с французским импрессионизмом — вы понимаете меня?)
Концепция постоянства предметов у Пиаже. Чтобы понять, от чего отталкивается Байержо в этой работе, необходимо сначала немного узнать о концепции постоянства предметов Пиаже, которая как раз явилась объектом активного выступления Байержо. Хотя мы достаточно подробно рассматривали труды Пиаже в главах 2 и 3, но почти не упоминали об этой концепции, поэтому я вкратце обрисую, в чем она заключается.
Основная идея концепции постоянства предметов заключается в том, что предметы продолжают существовать, даже когда становятся недоступными для восприятия. Став взрослыми, мы легко воспринимаем этот постулат. Когда я кладу шоколадный батончик с арахисом в ящик стола, я знаю, что он там будет в следующий раз, когда мне снова потребуется порция сладкого. Если же батончика не окажется на месте, это будет значить только то, что моя дочь украдкой стянула его, пока я не видел. По мнению Пиаже, концепция постоянства предметов не присуща нам от рождения. Понимание ребенком того, что предметы существуют независимо от нашего восприятия, развивается со временем, и обычно полностью проявляется только к полутора годам, хотя зачатки его возникают еще в девять месяцев. Осознание постоянства предметов исключительно важно для того, чтобы выжить в нашем мире, поскольку без этой уверенности мы бы не смогли ни планировать будущее, ни помнить о про
шлом. Мы даже не могли бы сказать, какие продукты лежат у нас в холодильнике.
Пиаже основывал свои рассуждения относительно понима* ния постоянства предметов на ряде новаторских экспериментов которые он проводил при участии собственных детей. Он при» думывал различные методики исследований, прятал один пред. мет за другой и наблюдал, как будут вести себя дети различного возраста. Вот один из примеров: Пиаже брал игрушечного резинового утенка и накрывал его носовым платком с монограммой. Если ребенок не мог понять, куда девалась игрушка, Пиаже приподнимал платок, чтобы тот увидел хвостик утенка, и т. д. Если дети Пиаже не могли отыскать утенка, он считал, что у них еще недостаточно развито восприятие постоянства предметов. Согласно результатам опытов Пиаже, дети младше 9 месяцев не пытались отыскать спрятанный предмет, потому что еще не понимали, что, во-первых, предметы существуют сами по себе, а, во-вторых, что они продолжают существовать и тогда, когда становятся недоступны для восприятия. Девять месяцев считались решающим периодом, поскольку именно в это время дети начинали искать предметы, недоступные взгляду. Именно этот момент и стал отправной точкой для революционного исследования Байержо.
Введение
Байержо начинает свою статью с той же информации, которую я только что предоставил вам — с того, что, по мнению Пиаже, восприятие постоянства предметов начинается не раньше возраста девяти месяцев. Однако, продолжает Байержо, многие исследователи полагают, что Пиаже неверно истолковал поведение своих детей в ходе опытов. Основная ошибка Пиаже, по мнению этих исследователей, заключается в том, что поставленные им задачи требуют наличия двух совершенно независимых друг от друга умений. Представьте себе, что вы — участник поставленного Пиаже эксперимента. Вам дают очень заманчивую игрушку, например, фигурку из набора игрушечных человечков Fisher-Price Little People. Вы смотрите на нее, колотите ею по столу, засовываете в рот (не забывайте, вам только полгода от роду!). А теперь представьте, что Пиаже отбирает ее у вас, кладет в центр стола и накрывает носовым платком. Что необходимо сделать, чтобы получить игрушку обратно? Разумеется, сначала необходимо осознать, что она продолжает существовать. Если вы поняли это, у вас наличествует восприятие постоянства
едметов. Но если после этого вы продолжаете спокойно си-ть на своем стульчике, никто не узнает, что оно у вас наличествует, разве не так? Вам придется сделать что-то, чтобы продемонстрировать, что восприятие постоянства предметов у вас действительно есть. Вам придется дотянуться до платка и сдернуть его с фигурки. Следовательно, Пиаже не может узнать, воспринимаете ли вы постоянство предметов или нет, до тех пор, пока вы не дотянетесь до платка и не сдернете его. Таким образом, для окружающего мира ваша способность воспринимать постоянство предметов зависит от вашей способности дотянуться до платка. Если вы не способны сдернуть платок и схватить игрушку, никто даже не заподозрит, что на самом-то деле вы воспринимаете постоянство предметов.
Именно в этом и заключается главное возражение Байержо. Пиаже в своих опытах требовал от детей целых двух умений (умения воспринимать постоянство предметов и умения дотянуться до спрятанного предмета и взять его), прежде чем поверить в одно (восприятие постоянства предметов). По мнению Байержо, задание Пиаже было чересчур сложным, а, следовательно, нечестным, и поэтому не позволяло точно определить степень восприятия постоянства предметов.
Пиаже, как считала Байержо, не сумел определить действительную степень восприятия детьми постоянства предметов, поскольку его опыт требовал от них умения понимать соотношение цели и средств ее достижения. Как вы помните из главы 3, это соотношение подразумевает, что требуется совершить одно действие, чтобы совершилось другое. Вы открываете бутылку пепси-колы для того, чтобы ее выпить. Это и есть соотношение цели и средств. Когда Пиаже требовал от детей откинуть платок и взять игрушку, он требовал от них понимания соотношения цели и средств. По мнению Байержо, это более сложное умение, чем умение воспринимать постоянство предметов. Если это так, то требовать от ребенка умения понимать соотношение цели и средств для того, чтобы он сумел постичь постоянство предметов, значит серьезно недооценивать способности ребенка к последнему.
Задачей Байержо было разработать более простой способ проверить уровень восприятия ребенком постоянства предметов, чтобы обнаружить, когда дети действительно осознают это постоянство. По крайней мере, она хотела, чтобы этот тест не требовал от детей понимания соотношения цели и средств. Но здесь Байержо столкнулась с одной маленькой проблемой: другого теста, кроме теста Пиаже, просто не существовало. Поэто
му Байержо, как все отважные юные революционеры, придут ла свой путь, оказавшийся гениальным. Воспользовавшись д0, стижениями хорошо известного способа изучения зрительного поведения детей (см. главу 5, посвященную опытам Роберта Фэнца), она разработала метод, позволяющий определить ур0, вень восприятия постоянства предметов, и от детей требовалось лишь немногим больше, чем просто смотреть на предметы. Именно по зрительному поведению детей Байержо собиралась определять уровень их развивающейся способности осознавать постоянство предметов. Она считала, что это будет гораздо проще, и детям, по крайней мере, не потребуется осознавать еще и соотношение цели и средств.
В своей революционной статье Байержо описала три собственных взаимосвязанных эксперимента. Эксперимент 1 должен был выявить, могут ли дети четырех с половиной месяцев демонстрировать понимание постоянства предметов. Эксперимент 2 предполагал установить то же самое в отношении детей трех с половиной месяцев, а эксперимент 3 — трехмесячных детей.
Эксперимент 1
Методика исследования
Участники эксперимента
В эксперименте принимали участие двадцать четыре нормально доношенных ребенка в возрасте от четырех месяцев двух дней до пяти месяцев двух дней. Половина детей проходила испытание в экспериментальных условиях, вторая половина — в контрольных условиях. В отношении еще пятерых детей исследователи вынуждены были отклонить их участие, поскольку эти дети очень нервничали (три случая) или вели себя слишком вяло (один случай); и в одном случае оказалось неисправным оборудование. Родителям детей было предложено возмещение расходов на дорогу.
Материалы
Установка. Для своих экспериментов Байержо использовала специально сконструированную экспериментальную установку. Описать принцип ее действия будет довольно трудно, поскольку я могу пользоваться только словами. Если бы я мог просто показать вам видеозапись, она стоила бы тысячи слов, но вместо этого придется положиться на лучшее, что у нас есть, — на воображение.
Установка Байержо немного походила на сцену кукольного театра. С некоторого расстояния она выглядела как большая дере-рЯнная коробка величиной приблизительно с кухонную плиту, с отверстием в середине передней стенки, чтобы наблюдать за представлением». Если у вас есть окошечко в дверце плиты, вы леГко получите представление об устройстве Байержо, только в нем окошечко было больше.
Если заглянуть через это окошко внутрь устройства, можно было увидеть серебристый экран из картона, закрепленный на металлической оси. Особенность этого экрана заключалась в том, что он мог поворачиваться на своей оси на 180°, как по направлению к наблюдателю, так и прочь от него. Если проследить его движение во время поворота на 180°, то это выглядело бы так: сначала экран находился в горизонтальном положении, затем начинал подниматься, пока не вставал полностью вертикально, потом переворачивался, а затем снова опускался, отворачиваясь от зрителя, пока снова не ложился горизонтально. Можно привести следующий пример: если вы положите эту книжку на твердую горизонтальную поверхность и перевернете страницу, она будет двигаться по дуге в 180°, а если при этом вы будете двигать страницу взад и вперед, вы полностью сымитируете движение серебристого экрана. Хотя я знаю, что некоторые из вас до дрожи боятся цифр и математических обозначений, я все-таки и дальше буду пользоваться обозначением «180°», упоминая движение экрана в установке Байержо от одной горизонтальной позиции до другой.
Еще одно приспособление, использовавшееся в установке Байержо, — деревянная коробка величиной приблизительно с футбольный мяч, которая была выкрашена в желтый цвет, и на ней было нарисовано лицо клоуна. Коробка стояла за картонным экраном, так что когда экран поворачивался в сторону зрителя, ее можно было увидеть, а когда экран отворачивался от зрителя, то коробка исчезала из вида. Как вы можете представить, если бы экран продолжал свое движение, пока коробка стояла за ним, то, столкнувшись с нею, он бы остановился — по крайней мере, этого можно было бы ожидать. Однако под коробкой имелась маленькая дверца с откидной крышкой, в которую коробка проваливалась и полностью скрывалась в отверстии, когда экран доходил до нее. Таким образом, экран, не останавливаясь при столкновении с коробкой, мог описать полную дугу в 180°. Если он все же останавливался, описанная дуга составляла только часть от полной — Байержо специально подсчитала, что она составляла только 112°.
Три способа использования установки. Использовать эту установку можно было тремя способами. Во-первых, дети могли смотреть только на движущийся экран, без коробки с клоу. ном. Байержо назвала этот способ использования стадией озна* комления, потому что в ходе его дети знакомились с тем, как может двигаться экран. Когда добавлялась коробка, в действие вступал один из двух оставшихся способов. С одной стороны, экран мог двигаться взад и вперед, каждый раз касаясь коробки. Этот вариант Байержо назвала стадией возможного; в ходе этого опыта экран двигался только по дуге в 112° и останавливался каждый раз, когда сталкивался с коробкой. С другой стороны, экран мог описывать полную дугу в 180°, и, казалось, магическим способом проходил прямо сквозь коробку. Этот вариант Байержо назвала стадией невозможного, поскольку, как правило, твердые предметы не могут проходить сквозь другие твердые предметы. Разумеется, невозможное в этом случае стало возможным только благодаря маленькой дверце в нижней части установки, через которую коробка незаметно проваливалась вниз каждый раз, когда экран приближался к ней.
Ход эксперимента
Дети, занятые в эксперименте Байержо, сидели на коленях у мам прямо перед установкой, откуда было прекрасно видно все, что будет происходить внутри. Мам просили не разговаривать с детьми в ходе опыта. Перед каждым «показом» детям давали посмотреть и поиграть деревянную коробку с клоуном, так что они могли запомнить, как она выглядит. Мне кажется, самым важным, что они могли понять, был тот факт, что коробка сделана из твердого дерева, а не из мягкого, рыхлого вещества.
Два ассистента наблюдали через отверстия в установке за направлением взгляда ребенка. Очень важным для точности наблюдения было использовать именно двух ассистентов. По результатам наблюдений двух человек Байержо могла подсчитать процентное соотношение указанного ими времени. Если процент совпадения был достаточно высок, она могла быть уверенной, что проведенные наблюдения оказались точны. В ходе этого эксперимента результаты обоих наблюдателей в значительной степени совпали (примерно на 88%).
Экспериментальные условия. В ходе эксперимента каждый ребенок сначала проходил через стадию ознакомления. Как вы помните, этот способ использования установки применялся только для того, чтобы ознакомить детей с движением экрана. Дети смотрели на повороты экрана очень долго, до тех пор, пока
это не начинало им надоедать. Как Байержо узнавала, что им это ^ад0ело? Очень легко: они просто переставали смотреть на эк-н Как только детям становилось скучно, Байержо прибегала ic оставшимся способам использования: стадии возможного и стадии невозможного. Эти две стадии Байержо чередовала таким образом, что дети сначала проходили через одну, потом через ДРУГУЮ>а потом снова возвращались к первой. Что касается стадии возможного, в установке появлялась коробка с клоуном, экран двигался, пока не сталкивался с коробкой, а затем начинал двигаться обратно (по дуге в 112°). В стадии невозможного тоже появлялась деревянная коробка, но экран двигался по полной дуге — через то место, где должна была быть коробка. Описав полукруг, экран начинал двигаться в обратную сторону (по дуге в 180°).
Контрольные условия. Детям, принимавшим участие в контрольных испытаниях, показывали в точности то же самое, что и детям, занятым в обычном эксперименте, но с одной существенной разницей — коробка с клоуном ни разу не появлялась внутри устройства. Таким образом, сначала дети проходили стадию ознакомления и смотрели на повороты экрана, пока не начинали скучать, а затем Байержо попеременно прибегала к двум оставшимся стадиям, но поскольку коробка с клоуном не использовалась в эксперименте, эти стадии нельзя было назвать стадиями возможного и невозможного. Поэтому она назвала их стадией 180° и стадией 112°. Если вы внимательно читали предыдущий текст, вам сразу станет ясно, что «стадия 180°» полностью совпадает со стадией ознакомления.
Прогнозы. По моему мнению, перед тем как переходить к изложению результатов эксперимента 1, нам, чтобы лучше их понять, стоит принять во внимание некоторые прогнозы относительно того, что может случиться непосредственно в ходе эксперимента, а также при контрольных испытаниях. Главной зависимой переменной является время, в течение которого дети смотрели на экран. Байержо, главным образом, интересовало, как изменяется взгляд ребенка, когда он сталкивается со стадией невозможного. Она считала, что если восприятие детей сродни восприятию взрослого человека, то когда начнется стадия невозможного, они удивятся. Кроме того, выказывая удивление при виде происходящего, дети, как и взрослые, будут смотреть на экран гораздо дольше. По крайней мере, предположительно, они должны были дольше смотреть на экран в ходе стадии невозможного, чем в ходе стадии возможного. Обратите внимание, что, в первую очередь, от детей требовалась способность уди-

виться, то есть понять и признать, что стадия невозможного де$» ствительно предполагает невозможное. По мнению Байеру чтобы осознать это, дети должны были понять, что, во-первых деревянная коробочка с клоуном продолжает существовать, да^е когда они ее не видят, а, во-вторых, что два твердых предмета не могут существовать одновременно в одной и той же точке материального пространства. Другими словами, чтобы удивиться в ходе стадии невозможного, дети должны были обладать способностью воспринимать постоянство предметов.
С другой стороны, если бы дети не восприняли стадию невозможного как «невозможную», они бы, скорее всего, не выказали к ней особого внимания. Если уж на то пошло, они бы не проявили к ней особого интереса, поскольку экран в этом случае поворачивается на 180°. Вспомните, что от этого зрелища они уже устали на протяжении стадии ознакомления. Более вероятно, что дети проявят больше внимания, если экран будет поворачиваться только на 112°. С их точки зрения, этот вариант интереснее, потому что он новый.
Эксперимент 1: результаты и обсуждение
Как вы можете предположить, Байержо выяснила, что дети четырех с половиной месяцев действительно дольше смотрели на экран в ходе «стадии невозможного». Когда дети знакомились с первой стадией исследования, и им надоедало смотреть на вращающийся экран, они, согласно временным показателям, гораздо дольше смотрели на него в ходе «стадии невозможного». При «стадии возможного» показатели почти не менялись.
Тот факт, что дети дольше смотрели на экран в ходе стадии невозможного, представлял значительный интерес. Он доказывал справедливость предположения Байержо — детям было ясно, что деревянная коробка будет существовать даже тогда, когда они не смогут видеть ее за экраном. Однако тот факт, что они, согласно временным показателям, не проявляли повышенного интереса к стадии возможного, также представляет интерес. Давайте разберемся, почему. Согласно нашим прогнозам, дети должны были заинтересоваться поворотом на 112°, поскольку он отличался от поворота на 180°, к которому они уже привыкли на стадии ознакомления. Однако они больше заинтересовались стадией невозможного, в ходе которой экран тоже поворачивался на 180°, несмотря на то, что к такому повороту они уже успели привыкнуть. Создавалось впечатление, что их интерес к стадии
невозможного перевешивал интерес к другой траектории движения экрана.
На основании этих данных Байержо сделала следующий вывод: «Вопреки утверждениям Пиаже, дети уже в возрасте четы-еХ с половиной месяцев понимают, что предмет продолжает существовать, даже когда он скрыт от их взгляда». Словосочетание «скрыт от взгляда» используется вместо слова «спрятан».
Эксперимент 2
Методика исследования
Эксперимент 2 был разработан с целью проверить, обладают ли дети младше четырех с половиной месяцев способностью понимать постоянство предметов. Эксперимент 2 полностью совпадал с экспериментом 1, только дети, принимавшие в нем участие, были младше — в возрасте, в среднем, около трех месяцев и трех недель.
Участники эксперимента
Возраст детей составлял от трех месяцев пятнадцати дней до четырех месяцев трех дней. В исследовании принимали участие сорок детей. Как и в предыдущем случае, половина детей проходила испытание в экспериментальных условиях, вторая половина — в контрольных условиях. Еще шесть детей не принимали участие в эксперименте, поскольку слишком нервничали (пять случаев) и были вялыми (один случай). Байержо писала, что ей потребовалось большее количество участников, поскольку дети этого возраста демонстрировали разнообразные варианты зрительного поведения. Некоторые дети вообще не могли смотреть на одно и то же в течение длительного времени, другие, наоборот, могли.
Материалы и ход эксперимента
Как я уже упомянул, материалы и ход исследования полностью соответствовали эксперименту 1.
Эксперимент 2: результаты и обсуждение
В отличие от детей, принимавших участие в первом эксперименте, никто из детей, занятых во втором, согласно временным показателям, не проявлял такого интереса к стадии невозможного в противоположность стадии возможного. Хотя Байержо имела
полное основание отказаться от борьбы и признать, что в таком возрасте у детей еще не развито восприятие постоянства предметов, она не ограничилась очевидными выводами и сделала интересное наблюдение. Байержо заметила, что дети, которым очень быстро надоедала стадия ознакомления, в точности повторяли модель поведения детей постарше, то есть больше внимания и времени уделяли стадии невозможного, а не стадии возможного.
Дети, у которых процесс ознакомления занимал больше времени, не отдавали стадии невозможного предпочтения перед стадией возможного. Байержо назвала детей, которые не могли подолгу смотреть на происходящее (и которым быстро надоедала стадия ознакомления) быстро привыкающими, а детей, у которых стадия ознакомления занимала больше времени — медленно привыкающими. Почему-то степень привыкания к стадии ознакомления в некоторой степени была связана с тем, выказали ли дети удивление в ходе стадии невозможного.
Эксперимент 3
Методика исследования
Интересно, что Байержо решила провести еще один эксперимент. Отчасти ей хотелось продвинуться дальше и узнать, способны ли воспринимать постоянство предметов дети еще более младшего возраста. Однако читая ее собственное объяснение, можно предположить, что она, возможно, удивилась результатам своих предыдущих опытов и хотела удостовериться, что они останутся таковыми и при повторном эксперименте. Она писала: «Если учитывать неожиданность и возможную значимость сведений, полученных в экспериментальных условиях в ходе эксперимента 2, представлялось очень важным их подтвердить. В ходе эксперимента 3 мы попытались исследовать поведение детей в возрасте трех с половиной месяцев».
Участники исследования
В эксперименте принимали участие 24 ребенка в возрасте от трех месяцев шести дней до трех месяцев двадцати пяти дней. Средний возраст составил три месяца пятнадцать дней.
Материалы и ход исследования
Устройство, задействованное в эксперименте, и ход всего эксперимента в основном совпадали с двумя предыдущими вариантами, за исключением одной любопытной детали. Вместо
маленькой деревянной коробки с клоуном Байержо использовала куклу — «мистера Картошку» (Mr. Potato Head). «Мистер Картошка» был меньше, чем использованная в предыдущих исследованиях деревянная коробочка, поэтому картонный экран до столкновения с ним поворачивался не на 112, а на 135°.
Эксперимент 3: результаты и обсуждение
Так же как и в эксперименте 2, Байержо обнаружила, что дети в возрасте трех с половиной месяцев не отдавали предпочтения стадии невозможного перед стадией возможного. Однако, опять-таки как в эксперименте 2, быстро привыкающие и медленно привыкающие дети вели себя по-разному. Быстро привыкающие дети смотрели на происходящее в ходе стадии невозможного дольше, чем на происходящее в ходе стадии возможного. Это вновь позволило предположить, что они были удивлены, увидев, как серебристый экран проходит прямо сквозь старину мистера Картошку.
Подведение итогов
Основным результатом всех трех исследований стало установление того факта, что дети в возрасте четырех с половиной месяцев, трех месяцев трех недель и трех с половиной месяцев заметно дольше смотрели на происходящее в ходе стадии невозможного, чем на происходящее в ходе стадии возможного. Это свидетельствует о том, что детям свойственно как понимание того, что предмет продолжает существовать, даже если они уже его не видят, так и осознание того, что два предмета не могут существовать в одном и том же месте в одно и то же время. Конечно, эти результаты можно объяснить по-разному. Может быть, детям просто больше нравилось смотреть на то, как в ходе стадии невозможного серебристый экран описывает полную дугу в 180°, а не на то, как он поворачивается на 112 или на 135° в ходе стадии возможного. Однако такое объяснение Байержо не устраивает, поскольку дети в контрольной группе не выказывали особенного интереса к повороту на 180° по сравнению с поворотом на 112 или 135°.
На основании этих результатов Байержо бросает вызов Голиафу-Пиаже по нескольким поводам одновременно. Во-первых, она оспаривает мнение Пиаже относительно возраста, в котором проявляется восприятие постоянства предметов. Как мы помним, Пиаже полагал, что это происходит не раньше, чем в девять
месяцев. Однако результаты опытов Байержо доказали, что понимание постоянства предметов свойственно детям уже в три с половиной месяца, — по крайней мере, некоторым детям. По мнению Байержо, она сумела выяснить этот факт благодаря тому, что не требовала от детей выполнить ряд сложных действий, чтобы они доказали свою способность воспринимать постоянство предметов. Следовательно, она оспаривает и предложенный Пиаже тест. Считая, что задача, поставленная Пиаже, слишком сложна для детей, Байержо обозначила очень важное различие между способностью детей понимать, что предмет спрятан, и отыскивать спрятанный объект. Зачем нам принуждать их отыскивать спрятанную вещь, если все, что нам нужно знать, — это понимают ли они, что предмет спрятан?
Ответить на этот вопрос можно так: «Это зависит от того, кого об этом спрашивать». Не стоит отмахиваться от идей Пиаже. Он не верил, что можно отделить понимание от действия. По сути дела, он создал целую теорию, согласно которой дети познают мир, воздействуя на него. Поэтому неудивительно, что его тест требовал от детей умения найти спрятанный предмет, чтобы продемонстрировать понимание того, что он действительно спрятан. Его теория не предполагала, что дети могут знать о спрятанном предмете, не пытаясь при этом его найти.
Нэтивистский подход
Итак, поскольку Байержо не ограничивалась теорией Пиаже, она не была связана свойственным ему убеждением, что необходимо воздействовать на что-то, чтобы это что-то понять. Но возможно ли предложить другой вариант? Если не обязательно воздействовать на предмет, как же еще о нем узнать? Или, говоря конкретно, если детям не надо разыскивать спрятанный предмет, чтобы о нем узнать, то как же им о нем узнать? Байержо предложила два варианта ответа, причем оба были настолько радикальными, что для нее было бы безопаснее ткнуть палкой в осиное гнездо.
Первое предположение Байержо звучало очень просто: может быть, восприятие постоянства предметов присуще всем детям от рождения. Убежденность в том, что знание или способность присущи детям от природы, называется нативизмом, так что предположение Байержо можно было бы назвать нативист-ским. Если бы оно оказалось верным, то причина, по которой Байержо удалось обнаружить проявления восприятия постоянства предметов уже у детей в возрасте трех с половиной месяцев, заключалась бы именно в том, что это умение присуще им
оТ рождения. Заметьте, что с этой точки зрения восприятие постоянства предметов не зависит от опыта — оно свойственно детям изначально.
Второе предположение Байержо было несколько более сложным, но также склонялось в сторону нативизма. Если понимание постоянства предметов не является врожденным, рассуждала она, то, возможно, дети от природы способны быстро обучаться этому навыку, что позволяет им осознать постоянство предметов в очень раннем возрасте и при минимальном опыте. Такое свойство можно было бы назвать «умением постигать постоянство предметов». В доказательство справедливости такого подхода Байержо обращала особое внимание на результаты исследований других специалистов по детской психологии: дети в возрасте младше четырех месяцев часто тянутся к предметам, которые видят. Считается, что эти движения предшествуют возникновению умений дотянуться до предмета и схватить его, которые в этом возрасте еще только развиваются. Байержо отмечала, что если дети тянутся в направлении предмета, они, без сомнения, видят, как предмет скрывается под их собственными ручками, а также как их ручки скрываются под предметом. Возможно, этот опыт — все, что необходимо ребенку для развития умения постигать постоянство предметов.
Обсуждение: палка в осином гнезде
В библейской истории про Давида и Голиафа, после того как первый победил последнего, армия филистимлян поджала хвост и удрала с поля боя. Давид же, как известно, стал королем. Однако после того как Байержо предприняла столько усилий, чтобы развенчать выводы Пиаже, события разворачивались совсем не так. Попытка опровергнуть даже крошечную часть теории Пиаже повергла специалистов по детской психологии в бешенство. На методику Байержо и на ее объяснения посыпался град ожесточенных нападок. Правда, нападки касались не столько лично Байержо, сколько выдвинутых ею нативистских предположений. Разумеется, у Байержо появился и ряд сторонников. Однако поскольку ее эксперимент оказался настолько выдающимся (ему было присуждено пятнадцатое место в ряду наиболее революционных исследований за последние пятьдесят лет), он вызвал неоправданно яростную критику.
Нападки на утверждения Байержо велись с двух сторон. С теоретической стороны ее критиковали за предположение, что
восприятие постоянства предметов может быть врожденным а с методологической стороны — за то, что она при разработке своего устройства с вращающимся экраном упустила из виду несколько незначительных моментов восприятия. Давайте по очереди рассмотрим все поводы для возражений.
Проблема врожденности
Можно держать пари, что все исследователи, критиковавшие нативистские предположения Байержо, столь же сурово отнеслись бы к любому другому нативистскому объяснению того, как знания попадают в головки детей. Нельзя сказать, что такие критики вовсе не верят во врожденные способности; они просто полагают, что врожденными способностями пытаются объяснить слишком много моментов. Антинативисты считают нативистские объяснения наличия мыслительных способностей у детей в лучшем случае беспомощными, а в худшем — ошибочными и сбивающими с толку. «С какой стати Байержо утверждает, что восприятие постоянства предметов является врожденным, — могли бы заявить они, — если каждому ребенку, занятому в ее исследовании, было, по крайней мере, три месяца от роду?» Как отметила критик Элизабет Бэйтс (Bates), в активе трехмесячных детей «девяносто дней жизни, приблизительно девятьсот часов бодрствования и пятьдесят четыре тысячи минут зрительной и слуховой активности». К тому времени, как дети принимают участие в экспериментах Байержо, они уже далеко не новорожденные, и, следовательно, ни о какой врожденности не может идти речи.
Но что, если Байержо все-таки права? Что если восприятие постоянства предметов действительно присуще детям с момента появления на свет? Можем ли мы тогда назвать его врожденным? Может быть и так. Однако критики нативистского подхода возразили бы на это, что назвать восприятие постоянства предметов врожденным означает ничего не дать науке. На самом деле они даже сказали бы, что назвать восприятие постоянства предметов врожденным значит вовсе не дать никакого объяснения. В лучшем случае такой вариант приведет к тому, что восприятие постоянства предметов придется объяснять на другом уровне, не в период после рождения ребенка, а в период еще до его рождения, что все равно ничего не объяснит. «Остановиться только на одном уровне анализа — неважно, насколько хорошо мотивирован такой подход, — недостаточно, если мы хотим понять, как же на самом деле происходит перемена; если мы хотим понять ее настолько полно, чтобы суметь изменить цепь случай-
лостей так, как это необходимо нам. Прекратить рассматривать суть реальных явлений тоже "не слишком полезно" для психологии развития ребенка», — пишет критик Линда Смит (Smith). Таким образом, даже если восприятие постоянства предметов действительно присуще ребенку еще до рождения, специалистам по психологии развития надо будет потрудиться, чтобы это объяснить, начиная, возможно, даже с изучения внутриутробного развития ребенка.
Опровержение «принципа разводного моста»: следование принципу экономии
Критике подверглись не только нативистские предположения Байержо. Ряд нападок вызвала и ее методика. На протяжении нескольких лет исследования с использованием вращающегося экрана подвергались самому пристальному вниманию. Иногда эти исследования получали симпатичное название «принцип разводного моста», поскольку вращение экрана напоминало движения такого моста. Однако некоторые исследователи стараются опровергнуть достижения Байержо и по сей день.
Собственно говоря, проблема заключается в следующем. В науке мы привыкли следовать определенному правилу — так называемому принципу экономии. Суть этого принципа заключается в том, что если две разные теории одинаково хорошо объясняют поведение детей, предпочтение отдается более простой теории. Согласно теории Байержо, благодаря пониманию постоянства предметов дети уделяли больше времени стадии невозможного. Однако в последние годы другие исследователи начали рассматривать вероятность того, что в ходе ее экспериментов дети дольше смотрели на экран в ходе стадии невозможного по какой-то другой причине, не имеющей с восприятием постоянства предметов ничего общего. «Не было ли другого фактора, — рассуждали они, — из-за которого дети дольше смотрели на экран, поворачивающийся на 180°, чем на экран, поворачивающийся на 112°»? Может быть, в повороте экрана на 180° было что-то, что вызывало интерес детей, и это что-то не имело ничего общего с восприятием постоянства предметов? (Разве не любопытно, что и через пятнадцать лет после публикации работы Байержо исследователи все еще о ней спорят? Да, революционные исследования обладают способностью поражать воображение людей!)
В одной из недавно опубликованных работ Томас Шиллинг (Schilling) рассмотрел такую возможность. Сначала он «оправдал» Байержо «за недостатком улик» и признал, что получен
ные ею данные безупречны. Он был готов признать, что дети действительно дольше смотрели на экран в ходе стадии невозможного, чем в ходе стадии возможного. Однако он не собирался следовать проторенному пути и признать, что это означало способность детей воспринимать постоянство предметов. Напротив, он полагал, что это было как-то связано с тем, как именно дети смотрят на предметы, то есть с обработкой визуальной информации. Чтобы лучше понять, что имел в виду Шиллинг, необходимо немного вернуться назад и ознакомиться с концепцией обработки информации.
Когда мы с вами на что-нибудь смотрим, нам надо сначала «обработать» это, чтобы понять. В психологии термин «обработать» просто означает, что мы получаем от этого предмета какую-либо информацию: узнаем его, воспринимаем его форму и цвет или даже понимаем, что никогда не видели ничего подобного. Все, на что мы обращаем внимание, оказывается определенным уровнем «обработки» предмета. Иногда мы многое узнаем благодаря обработке, иногда нет.
Давайте рассмотрим следующий пример с обработкой информации. Представьте, что вы идете на вечер с угощением и танцами где-то в середине или в конце декабря. В итальянском ресторане официантка усаживает вас за столик, откуда вы прекрасно можете видеть крупного мужчину белой расы, сидящего на другом конце комнаты. У этого мужчины большая белая борода и усы, на нем надето красное бархатное пальто, отороченное белым мехом, у него пухлые румяные щеки и большой живот, который трясется, как желе, когда он хохочет. Заинтересовало бы вас такое зрелище? Особенно если все это происходит в канун Рождества? Полагаю, что наряд этого человека так восхитил бы вас, что вы бы глаз от него не отвели! Впрочем, положа руку на сердце, его манера одеваться впечатлила бы вас и в любой другой день в году. А теперь представьте, что вы оказались в точно такой же ситуации, но мужчина за соседним столиком обычного среднего роста, на нем надет свитер, вполне подходящий для раннего зимнего вечера, щеки у него не румяные, а живот не трясется. Заинтересовал бы вас такой человек? Полагаю, если он будет выглядеть так обыкновенно (во всяком случае, по меркам Соединенных Штатов), вы даже не обратите на него внимания, разве что в ресторане кроме вас и него больше никого не будет.
А теперь ответьте на вопрос: почему человек с внешностью Святого Николаса привлек ваше внимание? И почему вы, скорее всего, смотрели бы на него дольше, чем на человека с обычной внешностью? Потому что вы узнали в человеке в красной
бархатной шубе Санта Клауса? Или потому что его одежда и борода выглядели необычно? Если объяснить ваше поведение с позиций Байержо, получилось бы, что человек привлек ваше внимание именно потому, что, на ваш взгляд, выглядел как Санта Клаус. Но если использовать более экономичное (то есть более простое) объяснение, получилось бы, что вы обратили внимание на этого человека именно из-за одежды и бороды. Почему это объяснение оказывается более простым? Да потому что люди, представления не имеющие о Санта Клаусе, все-таки смотрели бы на этого человека с любопытством из-за одного его внешнего облика. Знать, кто такой Санта Клаус, значит, обладать дополнительным уровнем знания, следовательно, это объяснение будет более сложным.
Вернемся к эксперименту Шиллинга. Исследователь полагал, что дети трех с половиной месяцев, принимавшие участие в опытах Байержо, уделяли больше внимания стадии невозможного, чем стадии возможного, не из-за невозможности происходящего, а именно из-за того, что экран поворачивался на 180°. Из описания эксперимента вы помните, что Байержо сначала показывала всем детям, как экран поворачивался на 180° без коробки, и показывала это раньше, чем появлялась коробка. Хотя первая стадия позволяла детям достаточно хорошо ознакомиться с движением экрана на 180°, они, возможно, все же не успевали полностью обработать информацию. Шиллинг утверждал, что ребенок, не успевший полностью что-то рассмотреть, захочет еще раз посмотреть на это, когда ему представится такой шанс — возможно, так он сумеет получить об этом предмете или явлении более полное представление. Однако если ребенок с первого раза достаточно хорошо с ним ознакомился, ему бол? ше не понадобится на него смотреть, чтобы закончить обработку информации. По мнению Шиллинга, дети в эксперименте Байержо дольше смотрели на экран в ходе стадии невозможного не потому, что понимали невозможность происходящего, а потому, что не успели полностью обработать информацию о повороте экрана на 180° в ходе стадии ознакомления. Стадия невозможного, когда экран снова поворачивался на 180°, позволяла им получить недостающую информацию, и именно поэтому они дольше смотрели на экран.
Чтобы проверить это предположение, Шиллинг в точности повторил эксперимент Байержо, с той только разницей, что он варьировал количество поворотов, за которыми наблюдали дети в ходе стадии ознакомления. У Байержо дети смотрели на экран, пока не теряли к этому интерес и не начинали бросать взо-
ры по сторонам, поэтому количество поворотов экрана, которые они видели, каждый раз менялось. Однако Шиллинг уделил точному количеству поворотов, увиденных детьми, гораздо больше внимания. В ходе его эксперимента половине детей показали, как экран повернулся на 180°, только шесть раз, а другой половине — двенадцать раз. Результаты такого опыта также представляли собой немалый интерес. Только те дети, у которых стадия ознакомления оказалась короткой, действительно дольше смотрели на экран в ходе стадии невозможного, когда экран также поворачивался на 180°, но проходил «сквозь» деревянную коробку, тогда как детей, у которых стадия ознакомления была долгой, больше заинтересовала стадия возможного! Шиллинг заявил, что дети, смотревшие на поворот экрана на 180° двенадцать раз, полностью обработали полученную информацию и хотели посмотреть на что-нибудь новенькое, следовательно, стадия возможного, когда экран поворачивался на 112°, заинтересовала их больше. В отличие от них, дети, смотревшие на поворот экрана на 180° только шесть раз, обработали информацию не полностью, и поэтому предпочли стадию невозможного, так-как она позволяла им понаблюдать еще и получить недостающую информацию.
Если Шиллинг прав, справедливость выводов Байержо относительно того, что дети трех с половиной месяцев воспринимают постоянство предметов, оказывается под вопросом, полученные данные обусловлены исключительно особенностями ее методики, а внимание детей к стадии невозможного зависит не от восприятия постоянства предметов, а от того, на сколько градусов поворачивается экран. Может, это еще один вариант притчи про Давида и Голиафа, только в роли Голиафа теперь выступает Байержо?
Однако Байержо вовсе не спешит сдать позиции. В статье, опубликованной в том же номере журнала, что и статья Шиллинга, Байержо успешно защищает свою точку зрения, указывая на ряд слабых мест в «копировании» Шиллинга. Во-первых, отмечает она, в ее эксперименте у детей была возможность потрогать коробку и поиграть с ней до начала опыта. В эксперименте Шиллинга этого не было. Одного этого факта было бы достаточно, чтобы объяснить разницу результатов. Возможно, из-за этого отличия дети, занятые в эксперименте Шиллинга, не поняли, что коробка была твердым предметом, обладающим длиной, шириной и высотой, и что она вполне могла помешать движению экрана. Однако в опыте Шиллинга были и другие несовпадения. У Байержо на коробке был нарисован клоун, у Шил-
Анита — нет. Кроме того, коробка Байержо была больше. Эти два момента могли способствовать тому, что дети проявили больше интереса к коробке Байержо, чем к коробке Шиллинга, что могло бы в первом случае помочь им понять, что экран не может пройти сквозь коробку. В итоге всех этих несовпадений между двумя исследованиями оказалось достаточно, чтобы поставить под сомнение возражения Шиллинга.
В основном благодаря многочисленным откликам на свои исследования, как обвинительным, так и хвалебным, Рене Байержо, наряду с Пиаже, завоевала роль лидера в среде специалистов, изучающих детскую психологию. Она достигла этого, настояв на необходимости перепроверить способ оценки восприятия постоянства предметов, предложенный Пиаже. С ее стороны было очень смело нападать на Пиаже, поскольку в 1987 году, когда была опубликована ее работа, она только шесть лет как закончила университет и даже еще не получила степени адъюнкт-профессора. Однако она приняла вызов — и совершила в детской психологии настоящий переворот.
Библиография
Baillargeon, R. (2000). Reply to Bogartz, Shinskey, and Schilling; Schilling; and Cashon and Cohen. Infancy, I, 447-462.
Bates, E. (1999). Nativism versus development: Comments on Baillargeon and Smith. Developmental Science, 2,148-149.
Schilling, Т. H. (2000). Infants' looking at possible and impossible screen rotations: The role of familiarization. Infancy, 1,389-402.
Smith, L. (1999). Do infants possess innate knowledge structures? The con side. Developmental Science, 2,133-144.
Вопросы для обсуждения
1. Что важнее: доказать, что дети обладают способностью, или что они могут продемонстрировать эту способность? Почему? В чем разница между этими понятиями?
2. В чем преимущество признания врожденности способности или поведения? Прогрессивно ли объяснять особенности поведения тем, что они врожденные?
3. Пиаже утверждал, что способность восприятия постоянства предметов полностью развивается у ребенка только к полутора-двум годам. По мнению Байержо, это происходит уже в три с половиной месяца или даже раньше. Почему так важно выяснить, когда же возникает эта способность?
4. «Дебют» Байержо на ниве науки состоялся очень рано, однако многие ученые так и не признали ее успех. Как вы считаете, от каких факторов зависит известность и положение ученых?

«Знаете ли вы, что знаю я?»
БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: DOES THE CHIMPANZEE HAVE A THEORY OF MIND?
Premack, D., & Woodruff, G. (1978).
The Behavioral and Brain Sciences, 1, 515-526.
Когда дело касается ментальных состояний, люди обнаруживают весьма интересную привычку играть в языковые игры. Под «ментальными состояниями» я подразумеваю такие составляющие душевного мира, как убеждение, знание, хотение и размышление. У всех нас есть ментальные состояния. У всех нас есть убеждения, знания, желания и мысли. Когда я говорю что-то наподобие «Я вам верю», я использую слово верить для описания внутреннего ментального состояния, возникающего в ответ на сказанные вами слова. В данном случае «Я вам верю» означает, что я принимаю сказанное вами за чистую монету. Также я мог бы сказать «Я вам не верю», и это означало бы, что мое внутреннее ментальное состояние является состоянием неверия, когда ваши слова не кажутся мне правдивыми. Употребление мною в данном случае слов о состоянии — это прием, посредством которого я даю вам знать, что я думаю о сказанном вами.
То есть достаточно просто использовать одно слово о состоянии для того, чтобы говорить об одном ментальном состоянии. Мне абсолютно несложно построить предложение, содержащее одно такое слово, а вам абсолютно несложно его понять. В качестве примера можно привести предложение «Я люблю вас».
мог бы даже слегка повысить уровень сложности, совместив два подобного рода слова в одном предложении, например, таком как «Я хочу вам верить». В данном случае я не говорю, что я вам верю, и не говорю, что не верю. Я говорю о том, что у меня есть желание принять ваши слова за чистую монету. Когда предложение содержит сразу два слова о состояниях, нам становится немного труднее уловить его смысл, но, тем не менее, мы постоянно пользуемся этим приемом. Вам нужно лишь внимательнее следить за моими словами. Но что, если я еще больше усложню задачу, добавив в предложение третье такое слово? Как бы вы обошлись с предложением наподобие этого: «Я думаю, что хочу вам верить»? В данном предложении я не говорю, что хочу вам верить, и не говорю, что не хочу. Я лишь говорю, что склоняюсь к тому, чтобы хотеть вам верить. Хотя данное предложение является усложненным, я уверен, что немного над ним подумав, вы все равно можете его понять.
Языковые правила накладывают совсем небольшие ограничения на то, сколько слов о состояниях мы можем свести вместе. Вероятно, мы ограничены лишь количеством внутренних ментальных состояний, которые способны переживать. Мы можем совмещать такие слова самым разным нелепо усложненным образом. Мы начинаем подходить к границам нашего понимания, вероятно, не раньше, чем достигаем порядка четырех ментальных состояний. Как бы вы поняли мои слова, если бы я сказал что-то подобное: «Я неуверен, думаю ли я, что хочу вам верить»? С точки зрения грамматики, в этом предложении нет ничего неправильного; оно абсолютно приемлемо. Но чтобы понять смысл предложения, несомненно, требуется дополнительная работа мозга. Когда я вырос, то понял, что моя мать являлась мастером использования подобных слов. Она всегда тратила целые часы на телефонные разговоры с родственниками и друзьями. Будучи ребенком, я никогда не был уверен в том, что именно было сказано человеком на другом конце провода. Но, поразмышляв, я понял, что у меня не было уверенности также и в том, о чем именно говорила моя мать. Она, бывало, строила такие предложения, которые и по сегодняшний день ставят меня в тупик. Она легко могла сказать что-то вроде: «Я просто не думаю, что Мардж знает, что Джеффри верит в то, что Кэрол хочет услышать извинения», или «Я искренне надеюсь, что Тед понимает, что его босс верит в то, что Хелен не знала, что Тед думал о последних пожеланиях Хелен». Ну, как? Думаю, мне нужна наглядная схема.
Будучи людьми, мы занимаем уникальное положение среди остальных видов, выражающееся не только в осознании внут-
ренних ментальных состояний, но и в способности сообщать 0 них другим людям посредством использования языка. Мы ис~ пользуем специальные слова для того, чтобы говорить о своих мыслях, взглядах и желаниях, но мы также наделены способностью понимать что-либо о мыслях, взглядах и желаниях других людей и говорить об этом. Более того, мы можем использовать язык, чтобы сообщать о том, как наши собственные ментальные состояния соотносятся с ментальными состояниями других людей. Произнося такую простую фразу, как «Я знаю, о чем вы думаете», я сообщаю вам о том, что мое ментальное состояние подсоединено к вашему ментальному состоянию. Возможно, мы являемся единственным видом на планете, обладающим данной способностью!
Считается, что современные детские психологи, изучающие то, как дети узнают о ментальных состояниях, занимаются изучением детских theories of mind — концепций о душевном мире. Такие концепции есть у всех взрослых. Это означает, что мы обладаем способностью понимать как собственные ментальные состояния, так и ментальные состояния других людей, и что мы можем использовать наше знание о ментальных состояниях для того, чтобы предугадывать возможные действия других людей, исходя из того, какие ментальные состояния, как мы думаем, они переживают. Если я знаю, что вы хотите конфет, то, исходя из моей концепции о том, что же означает чего-то хотеть, я могу предвидеть, что вы предпримете какие-то действия для того, чтобы достать конфеты. Таким образом, концепция о душевном мире во многом похожа на научную теорию. Научные теории используют абстрактные идеи для составления прогнозов в отношении того, что должно произойти, когда это должно произойти и при каких условиях. И наши личные концепции о душевном мире используют наше абстрактное понимание ментальных состояний для составления прогнозов в отношении того, что другие люди собираются делать, когда они это собираются делать и при каких условиях они это будут делать. Конечно же, если взрослые способны иметь такие концепции, то детскому психологу хочется знать, способны ли к этому дети. И если нет, то когда развивается эта способность? В наши дни исследования концепций о душевном мире крайне популярны. Эта тема столь актуальна, что ей в 1997 году предоставили официальное место в Тезаурусе базы данных PsycINFO. О, это большое упущение, что данная теория не включена в список на фондовой бирже NASDAQ! Я снял бы все деньги со счета в своем пенсионном фонде и вложил их в это дело!
Цо по интересному стечению обстоятельств статья, которая, как казалось, начиналась с рассмотрения вопросов, посвященных развитию присущих детям концепций о душевном мире, была вовсе даже и не о детях. Она была о шимпанзе, и шимпанзе эТу звали Сара. В своей работе 1978 года, признанной одной из самых революционных в детской психологии с 1950 года (20 место), исследователи шимпанзе Дэвид Премак (David Pre-mack) и Гай Вудрофф (Guy Woodruff) открыли новую эру исследований, посвященных пониманию детьми ментальных состояний. Они начали с простого вопроса: есть ли у шимпанзе ментальная жизнь?
Введение
Премак и Вудрофф начали свою статью с разговора о хорошо известных способностях шимпанзе к решению задач. Например, шимпанзе способны составить коробки друг на друга, чтобы достать подвешенный к потолку фрукт, или они могут соединить две короткие палки в одну, достаточно длинную для того, чтобы подтащить ею пищу, расположенную за пределами клетки. И они могут решить обе эти задачи при первом же предъявлении, без предварительного обучения решению. Это выглядит как возникновение внезапного инсайта о том, какие манипуляции произвести с окружающей средой для удовлетворения собственных желаний.
Хотя это отличные примеры способностей шимпанзе манипулировать физическим миром, Премак и Вудрофф были более заинтересованы тем, что шимпанзе знают о психологическом мире. Они хотели понять, возможно ли, что у шимпанзе есть theories of mind. Авторы писали: «Говоря о том, что у индивида есть концепция о душевном мире, мы имеем в виду, что индивид приписывает себе и другим ментальные состояния. Система выводов подобного рода правомерно рассматривается как теория, во-первых, потому что такие состояния недоступны прямому наблюдению, и, во-вторых, потому что систему можно использовать для составления прогнозов, в особенности в отношении поведения других организмов».
Премак и Вудрофф предупредили своих читателей о том, что было бы преждевременным задаваться вопросом, находятся ли концепции о душевном мире у шимпанзе на том же уровне, что и у людей. Другими словами, им было неважно, «хороша или совершенна теория шимпанзе, (и) делает ли шимпанзе выводы обо всех ментальных состояниях, о которых делаем выводы мы,
и делает ли шимпанзе это так же точно... именно в тех же случаях, что и мы». Для них было достаточно лишь разобраться с тем приписывают ли шимпанзе ментальные состояния вообще. (Попутно замечу, что слово приписывать имеет в большей или меньшей степени значение вменять. Если я говорю «Вы счастливы» то я вменяю, или приписываю вам ментальное состояние счастья). Как мы уже видели, даже у людей имеются когнитивные ограничения, когда дело доходит до вопроса о том, сколько ментальных состояний они могут одномоментно переживать. Проблемы у людей начинают возникать тогда, когда происходит совмещение четырех ментальных состояний, как, например, в такой фразе: «Мэри думает, что Джон верит в то, что Френсин счастлива, поскольку Джиму известна правда» (хотя я думаю, что у моей матери с этим предложением затруднений не возникло бы). Таким образом, Премаку и Вудроффу было достаточно лишь разобраться с тем, может ли шимпанзе приписывать одно ментальное состояние.
Далее я привожу описание трех взаимосвязанных исследований, проведенных Премаком и Вудроффом с целью изучения сущности концепций о душевном мире, присущих шимпанзе. Хотя в действительности авторы описывают большее количество исследований, но те три, о которых пойдет речь, служат прекрасной иллюстрацией набора методик, использованных в попытках понять диапазон имеющихся у шимпанзе концепций о душевном мире.
Эксперимент 1
Методика исследования
Участники
Как я уже говорил, в данном исследовании был лишь один участник. Сара была четырнадцатилетней, родившейся на воле самкой африканского шимпанзе. Она была задействована и в ряде других работ, проведенных Премаком, и приобрела международную славу за участие в эксперименте, когда ее учили «разговаривать» при помощи пластмассовых символов на магнитной доске; тогда ей было всего лишь около пяти лет. Хотя у Сары не было предшествующего опыта решения задач, использованных в данном эксперименте, но на протяжении последних 10 лет жизни 5 раз в неделю Саре предлагалось решать разнообразные
когнитивные задачи. Для этого исследования важно также и то, чГ0 у Сары был большой опыт просмотра коммерческих телевизионных каналов!
Материалы
Материалы, использованные для изучения того, что же за концепции о душевном мире есть у Сары, включали в себя четыре 30-секундные видеозаписи, на которых был запечатлен человек-актер внутри клетки, похожей на клетку Сары. В каждой видеозаписи было показано, как находящийся в клетке актер прилагает усилия, чтобы достать несколько бананов, расположенных вне пределов его досягаемости. Видеозаписи различались между собой тем, как изображались бананы, находящиеся вне пределов досягаемости актера.
Видеозапись 1: Бананы были прикреплены к потолку и расположены вертикально, так что человек не мог до них дотянуться.
Видеозапись 2: Бананы находились за пределами клетки и были расположены горизонтально, так что человек не мог до них дотянуться.
Видеозапись 3: И снова бананы находились за пределами клетки, но на этот раз в пределах досягаемости. Проблема заключалась в том, что внутри клетки у стенки стоял ящик, выступавший препятствием, мешающим достать бананы.
Видеозапись 4: Обстановка та же самая, что и в видеозаписи 3, за тем лишь исключением, что на ящик поставлены тяжелые бетонные блоки.
Помимо видеозаписей, Премак и Вудрофф сделали также фотографии актера, предпринимающего действия, с помощью которых можно решить каждую из задач. Для видеозаписи 1 была сделана фотография актера, забирающегося на ящик. Для видеозаписи 2 — фотография, изображающая лежащего на боку актера и просовывающего через прутья клетки палку. Для видеозаписи 3 была сделана фотография актера, отодвигающего ящик в сторону. И для видеозаписи 4 была сделана фотография, изображающая актера, снимающего с ящика бетонные блоки.
Ход исследования
Чтобы исследовать, как Сара понимает каждую из задач, ей показывали видеозапись, останавливая ее буквально за 5 секунд
до окончания. После чего Саре давалась пара фотографий. На одной из фотографий изображался актер, демонстрирующий правильное решение задачи, на другой — актер, демонстрирующий одно из неправильных решений. Каждая видеозапись была показана в общей сложности шесть раз, и каждый раз сопровождалась предъявлением фотографии правильной и фотографии неправильной. Интересным было то, каким образом Премак и Вудрофф выдавали Саре пары фотографий. Они не просто подавали ей фотографии, а клали их в коробку. Помещая фотографии в коробку, они избегали тем самым того, чтобы давать Саре какие-либо непреднамеренные социальные сигналы о том, какое из изображений представляет собой правильный выбор.
Задача Сары заключалась в том, чтобы вытащить обе фотографии, произвести выбор между ними и положить ту фотографию, которая, по ее мнению, содержит правильный ответ, рядом с телевизором. После того как выбор был сделан, она звонила в колокольчик, сообщая, что задача решена. Это был ее способ сказать «Окончательный ответ». Затем в помещение входил тренер и говорил: «Хорошо, Сара, это правильно», или «Нет, Сара, это неправильно», используя при этом такой тон голоса, «который мы бы использовали в общении с маленьким ребенком». По окончании каждого сеанса тренер давал Саре йогурт, фрукты или другую любимую ею пищу.
Результаты
Сара нашла правильное решение в 21 случае из 24. Сара всегда допускала ошибки в случае демонстрации видеозаписи, где фигурировали бетонные блоки. Премак и Вудрофф сделали забавное наблюдение, что для взрослого шимпанзе такого, как Сара, перемещение блоков было, вероятно, совсем необязательным шагом, предшествующим отодвиганию ящика в сторону. Лишь тщедушные люди столь слабы, что не могут отодвинуть в сторону ящик, если на нем лежат бетонные блоки. Поэтому, с точки зрения Сары, к данной видеозаписи ей предлагались две фотографии, обе описывающие неправильные решения!
Обсуждение
Конечно же, вопрос заключается в том, почему Сара столь часто давала правильные ответы? Было ли это потому, что у нее есть концепция о душевном мире? Была ли она достаточно умна, что-
бы понимать, чего хотел актер? На данные вопросы можно ответить по-разному. Если бы у Сары была упомянутая концепция, то это означало бы, что Сара способна приписывать (и снова здесь это слово) актеру два ментальных состояния. В таком случае она знала бы: 1) что у актера есть намерение и 2) что актер знал, как решать задачу. Несомненно, это было бы потрясающим открытием. Такое положение дел доказывало бы, что если касаться знаний о ментальной жизни, то люди в этом мире не одиноки. К сожалению, существовало еще одно, намного менее интересное объяснение поведения Сары. Второе объяснение Премак и Вудрофф назвали «классическим ассоциа-низмом».
За объяснением в духе классического ассоцианизма стоит примерно следующая логика. Когда человек или разумное животное наблюдает за знакомым действием того или иного рода и видит, что это действие прервано, его естественное побуждение состоит в том, чтобы завершить действие. Если у животного есть ранее полученный опыт решения задачи, то оно знает не только то, что происходит в начале действия, но и то, как действие должно завершаться. Другими словами, животное научилось ассоциировать первую часть действия с конечной частью.
Премак и Вудрофф допускают, что у Сары был большой опыт решения задач подобного рода, хотя она никогда ранее не видела, чтобы они решались человеком. Поэтому когда Сара увидела, что актер столкнулся с задачей доставания бананов, ей было известно, каким должно быть ее решение. Соответственно, когда она выбирала фотографию, описывающую правильное решение, она могла делать это, основываясь исключительно на собственном опыте того, «что за чем идет».
Если это именно то, что делала Сара, тогда в действительности ей не требовалось ничего знать о ментальных состояниях актера.
Чтобы решить, на каком из объяснений — классическом ас-социанизме или наличии концепции о душевном мире — остановить выбор, Премак и Вудрофф провели второе исследование. Целью второго исследования было расширение первого посредством увеличения круга задач. Все задачи, представленные Саре в первом исследовании, были построены вокруг актера, пытающегося достать некоторую пищу (бананы). Во втором исследовании был представлен ряд менее знакомых задач, где решение не вращалось вокруг темы доставания пищи.
Эксперимент 2
Методика исследования
Участники
Сара.
Материалы
Снова в ход пошли видеозаписи, на которых был запечатлен человек-актер. Актер сталкивался с четырьмя разными задачами.
Видеозапись 1: Показывается, как актер пытается выбраться из запертой клетки.
Видеозапись 2: Показывается, как актер пинает чуть теплящуюся печь, смотрит на нее с кривой улыбкой и, поеживаясь, обхватывает себя руками.
Видеозапись 3: Актер пытается прослушать аудиозапись при помощи не подключенного к розетке проигрывателя (Премак и Вудрофф называли последний «фонографом», но я не уверен, знаете ли вы, что это такое).
Видеозапись 4: Актер пытается вымыть грязный пол, но шланг не подсоединен к водопроводному крану.
Кроме того, снова были сделаны фотографии «правильных решений», но на этот раз на них не был запечатлен актер, предпринимающий какие-либо действия. Вместо этого были сфотографированы предметы, которые могли бы быть использованы для решения задач. Для видеозаписи 1 правильным ответом являлась фотография ключа. Для видеозаписи 2 правильным ответом была свернутая подожженная бумага (которую мы бы стали использовать, чтобы поддержать еще не окрепший огонь в печи). Для видеозаписи 3 правильным ответом была фотография электрического провода, воткнутого в розетку на стене. И для видеозаписи 4 правильным ответом была фотография шланга, верно присоединенного к водопроводному крану.
ПоСле проверки умения Сары решать задачи с использованием этих фотографий Премак и Вудрофф провели исследование еще раз, но уже с использованием второго набора фотографий. Второй набор был предназначен для увеличения сложности задачи. Вместо того чтобы давать шимпанзе задание просто сделать выбор среди фотографий с изображением ключа, свернутой подожженной бумаги, воткнутого в розетку электропровода или прикрепленного к крану шланга, Премак и Вудрофф
предлагали Саре несколько версий каждого правильного решения. К видеозаписи 1 были сделаны три фотографии ключей: кдюч неповрежденный, ключ согнутый и ключ сломанный. К видеозаписи 2 были сделаны три фотографии свернутой бумаги: бумаги горящей, бумаги еще не подожженной и бумаги уже сгоревшей. К видеозаписям 3 и 4 были сделаны фотографии, соответственно, электрического провода или шланга, либо воткнутого в розетку (или прикрепленного к водопроводному крану), либо в розетку не воткнутого (или не прикрепленного к водопроводному крану), либо в розетку воткнутого, но перерезанного (или прикрепленного к водопроводному крану, но перерезанного).
Процедура исследования
Процедура была той же самой, что и в первом эксперименте. Сара просматривала каждую видеозапись полностью, за исключением последних пяти секунд. Затем ей давались на выбор две фотографии. Одна фотография расценивалась в качестве правильного решения задачи; другая — неправильного. В случае с первым набором фотографий неправильная фотография была просто одной из оставшихся трех (являвшихся правильными ответами к трем другим задачам). Но в случае со вторым набором на неправильной фотографии был изображен правильный предмет, но в неправильном состоянии. Например, к фотографии, где изображался неповрежденный ключ, прилагалась и фотография с изображением сломанного ключа.
Результаты
В случае с первым набором картинок «Сара не допустила ни одной ошибки». По-видимому, данный набор фотографий был для Сары слишком прост. Вот почему Премак и Вудрофф продолжили работу и прибегли ко второму набору.
Второй набор фотографий был таков, что Саре предстояло делать намного более сложный выбор. Например, просмотрев видеозапись 1, она не могла просто выбрать картинку с изображением ключа, поскольку ей всегда предлагалось на выбор два разных изображения ключа. Чтобы решить эту задачу, Саре нужно было знать не только то, что правильным ответом является фотография ключа, но и то, какое именно из изображений ключа является правильным ответом. Забавно, что несмотря на возросшую сложность задачи, Сара допустила лишь одну ошибку. И когда она допустила эту ошибку, вероятно, это произошло по
причине плохого качества фотографии. Делая фотографии, Премак и Вудрофф уменьшали их с размеров 8 х 10 до размеров 3 х 4. По -видимому, качество фотографии с изображением согнутого ключа было не очень хорошим, поэтому он весьма сильно походил на неповрежденный ключ, и из-за этого Сара выбрала в качестве правильного ответа фотографию с изображением согнутого ключа.
Обсуждение
Результаты второго исследования Премак и Вудрофф приняли за доказательства, опровергающие объяснение в духе классического ассоцианизма, поскольку картинки, среди которых Сара должна была выбирать, не изображали человека-актера, выполняющего какие-либо действия. На картинках лишь были запечатлены трехмерные предметы. Это увеличивает вероятность того, что Сара действительно обладала концепцией о душевном мире и знала, что хотел сделать актер. Но, возможно, что когда Сара выбирала правильные картинки, она делала выбор, исходя из собственных индивидуальных предпочтений. Другими словами, можно предположить, что она не понимала, что правильные картинки являются решениями задач. Напротив, быть может, правильные картинки ей просто больше нравились. Но Премак и Вудрофф отвергли подобную возможность, поскольку в противном случае возникает вопрос, почему произошло так, что Саре нравились исключительно правильные фотографии? Это кажется не слишком правдоподобным. Таким образом, у Према-ка и Вудроффа осталось весьма реальное объяснение, что Сара делала выбор на основе своего знания о желаниях актера. Возможно, Сара все же обладала примитивной концепцией о душевном мире.
Далее у Премака и Вудроффа возник вопрос, не делала ли Сара выбор на основе своего желания видеть, как актер достигает успеха в некотором деле. Оказалось, что актером, изображенным на всех видеозаписях, был парень по имени Кит, являвшийся одним из любимых тренеров Сары. Возможно, как только Сара понимала, чего хочет Кит на каждой из видеозаписей, она выбирала правильные фотографии потому, что хотела видеть, как он успешно справляется со своим заданием. Тут возник вопрос, связанный с тем, а что Сара стала бы делать, если бы ей нужно было находить решения для кого-то, кто не нравился бы ей столь же сильно? Данная возможность была проверена Премаком и Вудроффом в третьем эксперименте.
Эксперимент 3
Методика исследования
Эксперимент 3 был организован так же, как и эксперимент 1, за исключением того, что был изготовлен новый набор видеозаписей и фотографий с участием нового актера, которого Премак и Вудр°ФФ назвали «Биллом» (имена были изменены с целью соблюдения права на анонимность участия), дополнивший прежний набор видеозаписей и фотографий. Билл был настоящим тренером в повседневной жизни Сары, но нельзя было сказать, что он ей особенно нравился. Чтобы проверить, станет ли Сара выбирать разные решения задач для хорошего Кита и плохого Билла, Премак и Вудрофф в сложившейся ситуации использовали два типа фотографий. На фотографиях из первого набора было запечатлено то, как актеры реализуют успешные решения, и их Премак и Вудрофф назвали «благоприятными» исходами. А на фотографиях, вошедших во второй набор, было показано, что актерам не удается достичь желаемого решения, и в некоторых случаях они даже расстраиваются по этому поводу. «Хорошие» фотографии состояли из тех же самых фотографий, которые использовались в эксперименте 1, за исключением того, что на части фотографий был запечатлен Билл. «Плохие» фотографии будут описаны далее.
Участники
Сара.
Материалы
В данном эксперименте использовался исходный набор видеозаписей, на которых был изображен Кит в четырех проблемных ситуациях, но, кроме того, был изготовлен новый набор из четырех видеозаписей, представляющих Билла оказавшимся в тех же самых четырех проблемных ситуациях. Напоминаю, что на видеозаписях было показано, как либо Кит, либо Билл: 1) пытается достать висящие над головой бананы; 2) пытается достать лежащие за пределами клетки бананы при помощи палки; 3) пытается достать лежащие за пределами клетки бананы при условии, что путь ему преграждает ящик; и 4) пытается достать лежащие за пределами клетки бананы при условии, что путь ему преграждает ящик, а на ящике лежат бетонные блоки.
Четыре фотографии «благоприятного исхода» были того же самого типа, что и фотографии, использовавшиеся в эксперимен-
те 1: 1) показывалось, как либо Кит, либо Билл забирается на ящик, чтобы достать бананы; 2) показывалось, как либо Кит либо Билл лежит на боку и просовывает через прутья клетки длинную палку для того, чтобы достать бананы; 3) показывалось как либо Кит, либо Билл отодвигает ящик в сторону; и 4) показывалось, как либо Кит, либо Билл снимает с ящика бетонные блоки.
Четыре фотографии «неблагоприятного исхода» появились в эксперименте 3 впервые, на них было представлено, как либо Кит, либо Билл оказывается в ситуации, предполагающей переживание некоторой неудачи. Для видеозаписи 1 неблагоприятный исход представляла фотография, на который был запечатлен актер, рассеянно перешагивающий через ящик. Для видеозаписи 2 неблагоприятный исход был представлен фотографией актера, лежащего на боку и пытающегося достать бананы при помощи палки, которая слишком коротка. Для видеозаписи 3 неблагоприятный исход представляла фотография, на которой было изображено то, как актер спотыкается о ящик. И, наконец, для видеозаписи 4 неблагоприятный исход был представлен фотографией актера, лежащего на полу под свалившимися бетонными блоками.
Ход эксперимента
Процедура исследования была той же самой, что и в эксперименте 1. Каждая видеозапись с каждым из актеров показывалась Саре практически до конца, за исключением последних пяти секунд. После остановки видеозаписи Сару просили выбрать между фотографией с благоприятным исходом и фотографией с неблагоприятным исходом для каждого из актеров. По окончании очередного сеанса в комнату возвращался тренер и давал Саре награду за любой сделанный ею выбор. Другими словами, вариантов, которые расценивались бы как неправильные, не было.
Результаты и обсуждение
Удивительно, но когда в качестве актера выступал Кит, который был любимым тренером Сары, она в восьми случаях из восьми выбрала для него благоприятный исход. Но когда в качестве актера выступал Билл, она в шести из восьми случаев выбрала для него неблагоприятный исход. Это было практически так, как если бы она задавала себе вопрос: «Хм, чего бы я хотела, чтобы произошло с человеком, который мне нравится, и с человеком,
который мне не нравится?» В целом, кажется, что Сара способна понять, что хочет сделать актер, то есть у нее есть некоторые знания о ментальном состоянии актера. Но, кроме того, по-видимому, У нее есть также некоторые идеи о том, чего бы ей хотелось, чтобы произошло с человеком, в зависимости от того, как сильно он ей нравится.
Общее обсуждение
Результаты данных экспериментов позволили Премаку и Вуд-роффу прийти к весьма гипотетическому выводу, что шимпанзе могут обладать способностями к формированию, по меньшей мере, очень простой концепции о душевном мире. Хотя этот вывод о ментальной силе шимпанзе далеко неоднозначен, ученые проявляют заведомую осторожность, когда речь заходит о смелых революционных заявлениях. Премак и Вудрофф порекомендовали, прежде чем делать более основательные выводы, сначала провести ряд необходимых дополнительных исследований. К сожалению, здесь нет места для обзора всех их работ. Но большая часть этих исследований предвосхитила многие исследовательские работы, проводимые современными детскими психологами с целью изучения концепций о душевном мире.
Например, Премак и Вудрофф написали о том, как их методику можно легко адаптировать для того, чтобы выяснить, знают ли шимпанзе что-нибудь о ментальном состоянии знания. Как мы уже видели, их исследование с участием Сары позволяет предположить, что у шимпанзе есть способность приписывать людям-актерам ментальное состояние желания. То есть Сара знала, что Кит и Билл хотели сделать. Но данное исследование ничего не говорит о том, знала ли Сара, что же знали Кит и Билл. Поэтому Премак и Вудрофф предложили провести в будущем исследование, при помощи которого можно было бы проверить, может ли шимпанзе ощутить разницу между знанием взрослого и знанием ребенка о ситуации, требующей решения. Например, если шимпанзе увидит, что довольно-таки маленький ребенок увлечен решением задачи поиска бананов, то будет ли шимпанзе более предрасположен к ожиданию неудачи, чем в случае, если бы этот шимпанзе увидел, что решением той же задачи поиска бананов занят взрослый? Если это так, то мы получили бы доказательства того, что шимпанзе знают о том, что дети знают не столь же много, сколько взрослые. Подобное открытие могло бы означать также и то, что шимпанзе знают кое-что о том, как знание развивается]
Двадцать великих открытий в детской психологии
Кроме того, Премак и Вудрофф показали, как можно проверить, знают ли шимпанзе о том, является ли человек лгуном или он просто неосведомлен (liar or just a fool — термины авторов) Ко времени публикации их статьи в 1978 году Премак и Вуд-рофф были заняты изучением знания шимпанзе о лжи. Суть их методики состояла в том, что шимпанзе пыталась отыскать контейнер, в котором находилась награда, среди 100 светонепроницаемых контейнеров. Хитрость заключалась в том, что перед тем как шимпанзе делала выбор, либо «лгун», либо «неосведомленный» советовал ей, какой контейнер выбирать. «Правильным» контейнером был контейнер, в котором лежала награда (правда, в точности неизвестно, что именно использовалось в качестве награды). Разница между лгуном и «неосведомленным» в данном исследовании была в том, что шимпанзе знала, что лгун знает, в каком из контейнеров лежит награда, поскольку шимпанзе видела, что лгун присутствовал там, где пряталась награда. Шимпанзе было также известно о том, что «неосведомленный» не знает, в каком из контейнеров лежит награда, поскольку она видела, что этот человек не присутствовал там, где пряталась награда. Как лгун, так и «неосведомленный» высказывали шимпанзе неправильные предположения о том, какой из контейнеров следует выбирать; лгун давал неправильные советы в 100% случаев, а «неосведомленный» — в 99% (поскольку ему иногда случайно везло). Важным был следующий вопрос: «Разовьются ли у шимпанзе разные установки по отношению к двум этим людям?» Очевидно, что так оно и оказалось. Премак и Вудрофф описали это так: «Уже после двух или трех опытов с участием [лгуна], агрессивные проявления [Сары] в его адрес были такими, что мы посчитали опасным продолжать эксперимент. Игрушки и прочие объекты, лежащие рядом с клеткой, многие из которых были острыми и тяжелыми, стали проноситься на опасно больших скоростях мимо [лгуна], едва его не задевая».
Имея такие результаты, сложно не прийти к выводу, что Сара знала, что лгун знал, и начинала злиться, когда лгун поступал так, как если бы он не знал.
Выводы
Хотя сложно определить точное место, с которого современные исследования концепции о душевном мире стали занимать видное положение, практически нет никаких сомнений в том, что где бы это ни произошло, опубликованная в 1978 году статья
Лремака и Вудроффа должна находиться где-то поблизости. ^ склонен считать эту статью самой созидательной статьей, исходя из того, что столь много специалистов в области детской психологии называют ее одной из самых революционных исследовательских работ и выбирают ее в таком качестве. Но не принимайте мои слова просто на веру; что уж я вообще знаю? Известный историк и исследователь концепции о душевном мире Джон Флейвелл (John Flavell) также считает, что статья Према-ка и Вудроффа явилась истоком волны исследований по рассматриваемой проблеме.
Но также понятно, что и другие исследования были движущей силой, вносящей вклад в формирование ажиотажа вокруг концепции о душевном мире. Главным среди них было знаменитое исследование, проведенное австрийскими психологами Джозефом Пернером и Гейнцем Виммером в 1983 году (Josef Perner and Heinz Wimmer). Их классическая работа, вероятно, столь же искусная, что и исследование Премака и Вудроффа, была построена вокруг одного простого вопроса: «Что думают дети о том, что думают другие дети?» Флейвелл тонко описывает исследование Пернера и Виммера:
Психолог показывает пятилетнему ребенку коробку из-под печенья, на которой нарисовано печенье, и спрашивает у него, что находится внутри нее. «Печенье», — ответ тут же готов. Затем ребенок заглядывает в коробку и, к собственному удивлению, обнаруживает, что на самом деле там лежат карандаши, а не печенье. «А что бы думал другой ребенок, который еще не открывал коробку, о том, что в ней лежит?» — спрашивает экспериментатор. «Печенье!» — говорит ребенок, забавляясь над шуткой. Экспериментатор пытается провести туже самую процедуру с трехлетним ребенком. В ответ на первый вопрос звучит уже ожидаемое слово «печенье», но ответ на второй вопрос неожидан: «Карандаши». Что еще более удивительно, ребенок также настаивает на том, что он с самого начала думал, что в коробке лежат карандаши».
В этом типичном сценарии пятилетний ребенок способен понять, что другой ребенок был бы обманут изображением печенья на крышке коробки. Он также понимает, что другой ребенок придерживался бы о содержимом коробки другого представления, которое отличалось бы от собственного, полученного в итоге опыта, представления первого ребенка. То есть первый ребенок знает, что знает (или в данном случае не знает) другой ребенок. А трехлетний ребенок, напротив, по-видимому, не спосо
бен отделить свои собственные представления от представлений другого ребенка. По-видимому, он не понимает, что у другого человека может быть ментальное состояние, отличное от его собственного, или что у другого человека может не быть тех знаний, которые есть у него самого. Что еще более интересно, так это то, что он, как кажется, не понимает, что его актуальное состояние знания отлично от его прежнего состояния знания. Хотя первоначально он думал, что в коробке лежит печенье, но, по-видимому, он забыл тот факт, как в один прекрасный момент он обнаружил, что на самом деле в коробке лежат карандаши.
То, что описывает Флейвелл, широко известно как «задача наложное представление» («false-belief task»). Исследователей, изучающих концепцию о душевном мире, задача на ложное представление привлекает так же, как мед — пчел. В 1999 году опубликована обзорная статья, подытоживающая все проведенные к тому времени исследования по проблеме ложных представлений; в ней имеются данные о том, что в 77 опубликованных исследовательских статьях представлены сведения о 177 проведенных исследованиях, содержащих 591 условие задачи на ложное представление! Задача на ложное представление занимает у исследователей концепции о душевном мире столь важное место, поскольку открывает путь к пониманию того, что, по мнению детей, думают другие люди. При помощи задачи на ложное представление вы можете привести в действие своего рода физическую трансформацию, свидетелем которой будет лишь ребенок, а затем проверить, что он думает по поводу того, что подумают другие люди, не присутствовавшие при данном событии. Задача на ложное представление может принимать самые разные формы и размеры. В одной из ее самых известных версий (той, которую использовали Пернер и Виммер), двоих детей приводят в помещение, где находятся два контейнера. Оба ребенка наблюдают за тем, как экспериментатор кладет в один из контейнеров игрушку. Затем один из детей выходит из комнаты, и после его ухода экспериментатор забирает игрушку из первого контейнера и кладет ее во второй. Конечно же, оставшийся ребенок наблюдает за перемещением игрушки. Ключевой вопрос, задаваемый ребенку, присутствовавшему при трансформации, таков: «Где другой ребенок станет искать игрушку?» Тут обнаруживаются те же самые возрастные различия. Лишь начиная с пятилетнего возраста, дети думают, что другие дети будут думать, что игрушка лежит все еще в первом контейнере. Дети более младшего возраста думают, что другие дети будут думать, что игрушка находится на своем новом месте. Открытые закономер
ности позволили исследователям прийти к выводу, что где-то меЖДУ тремя и пятью годами дети начинают формировать личные концепции о душевном мире, по меньшей мере, концепции, включающие в себя уверенность как одно из ментальных состояний, которые дети способны приписывать другим.
А как бы с задачей на ложное представление справились шимпанзе? На основе работы Премака и Вудроффа мы знаем о том, что шимпанзе способны приписывать другим что-то наподобие желания или намерения. Но способен ли шимпанзе понять, что кто-то другой может разделять ложное представление? Премак попытался ответить на данный вопрос на страницах опубликованной им в 1988 году книги. Клетка Сары была оснащена таким образом, что к одной из стен крепился шкаф с выдвижными ящиками. В левой стороне этого шкафа хранились разнообразные вкусные вещи, в частности пирожные, которые Бонни, бывшая тренером Сары, съедала вместе с ней во время дневного чаепития. В правой стороне шкафа хранились всевозможные «плохие вещи», включая резиновых змей, порченую отвратительно пахнущую резину и старую чашку. Эксперимент был устроен таким образом, что прежде чем Бонни могла открыть какую-либо из сторон шкафа, Сара должна была нажать на кнопку. Каждый день на протяжении 18-ти дней Бонни подходила к левой стороне шкафа и ждала, когда Сара нажмет на кнопку, после чего Бонни уже могла достать пирожные и начать их есть вместе с Сарой. Среднее время реакции Сары, затрачиваемое на нажатие кнопки, было равно семи секундам. В один прекрасный день «злодей», одетый в специальный костюм и маску, пробрался в комнату Сары, при помощи лома взломал шкаф, и поменял местами содержимое левой части шкафа и содержимое правой части. Пятнадцать минут спустя, когда наступило обычное для чаепития время, пришла Бонни. Что станет делать Сара, зная о перемещении содержимого шкафа? Понимает ли она, как понимают пятилетние дети, что Бонни ничего не знает о перемещении содержимого шкафа? Откажется ли она нажать на кнопку, чтобы Бонни не смогла открыть шкаф и испытать омерзение, увидев его содержимое? Увы, нет. Когда Бонни вошла в комнату, Сара не обнаружила абсолютно никаких изменений в своем поведении. Либо Сара не понимала, что знание Бонни отличается от ее собственного, либо она это понимала, но не проявила заботы. Понятно то, что поведение Сары не предлагает никаких доказательств того, что шимпанзе способны использовать уверенность в рамках своей концепции о душевном мире, какой бы она ни была.
Со времени совместной с Вудроффом публикации статьи в 1978 году у Премака появилась возможность поразмышлять над той научной революцией, которая произошла с его помощью десятью годами ранее. В одной из глав опубликованной в 1988 году книги он вновь возвращается к вопросу о том, можно ли считать, что шимпанзе обладают концепцией о душевном мире. В уклончивой манере автор сделал вывод о том, что если у шимпанзе и есть концепции о душевном мире, то эти теории обязательно должны быть слабее даже тех, которые обнаруживаются у пятилетних детей. Теории шимпанзе построены, вероятно, на основе более элементарных состояний, таких как смотрение, хотение и ожидание. Шимпанзе могут знать, что видят другие, и способны делать прогнозы в отношении поведения других людей, исходя из этого знания, но, по-видимому, они не способны понять, в чем уверены другие люди. Уверенность может быть совершенно отличным ментальным состоянием — состоянием, которым наши ближайшие родственники в животном царстве просто не способны наслаждаться.
Опубликованная в 1978 году статья Премака и Вудроффа была революционной, поскольку она, будь то отчасти или полностью, инициировала развитие целого нового движения в детской психологии. На научных конференциях по проблемам детской психологии довольно легко можно получить впечатление, что все заняты исследованием концепции о душевном мире. У этой теории есть привкус никогда не умирающего увлечения. Флейвелл приравнивает доминирующее положение, занимаемое сегодня в детской психологии учеными, изучающими концепцию о душевном мире, к доминирующему положению, занимаемому поколением назад учеными, являвшимися приверженцами теории Пиаже. Чем можно объяснить столь большой интерес к концепциям о душевном мире, имеющимся у детей? Вероятно, это объясняется тем, что ментальная жизнь имеет грандиозное значение, когда дело касается определения того, что значит быть человеком. Представьте себе, что бы было, если бы мы не приписывали другим людям ментальные состояниям Флейвелл приводит пример того, как эту возможность любит изображать другой теоретик, изучающий концепцию о душевном мире, Эли-сон Гопник (Alison Gopnik): представьте себе, на что бы это было похоже, если бы вы читали лекцию слушателям, но понятие о ментальных состояниях у вас отсутствовало бы. Слушатели могли бы представляться вам наполненными мясом мешками с двумя маленькими дырочками наверху. Вы видели бы эти мешки, и то, как что-то блестящее в их дырочках бегает туда-сюда
в непредсказуемой манере, которая сбивает вас с толку и ужасает, хотя, конечно же, вы не понимаете, что сбиты с толку и ужасаетесь, потому что у вас нет никакого представления о том, что такое ментальные состояния.
Библиография
Flavell, J. Н. (2000). Development of children's knowledge about the mental world. International Journal of Behavioral Development, 24,15-23.
Hughes, C. (2001). Essay Review: From infancy to inferences: Current perspectives on intentionality./owrrcfl/ of Cognition and Development, 2, 221-240.
Premack, D. (1988). «Does the chimpanzee have a theory of mind?» revisited. In R. W. Byrne & A. Whiten (Eds.), Machiavellian intelligence: Social expertise and the evolution of intellect in monkeys, apes, and humans. New York: Oxford University Press.
Вопросы для обсуждения
1. Каким образом обладание концепцией о душевном мире может обеспечить людям имеющее ценность для выживания преимущество перед другими видами?
2. Почему у шимпанзе возникают сложности, когда дело касается уверенности других людей, хотя они, как кажется, хорошо справляются с распознаванием намерений других? В чем разница между уверенностью и намерением*?
3. У шимпанзе Премака Сары было две части жизни, которые она прожила в качестве испытуемой. В первой половине жизни Сара прошла через интенсивное обучение языку, составленному из пластмассовых символов. Во второй части жизни ее исследовали на знание о ментальных состояниях других. Возможно ли, что во второй жизни на показанные ею результаты в ходе исследования концепции о душевном мире повлияло обучение языку, проведенное в первой жизни? Почему? Какие другие результаты, отличающиеся от результатов Сары, могли быть показаны другими шимпанзе в ходе исследования концепции о душевном мире?
Языковое развитие и «Теория Большого Взрыва»
БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: SYNTACTIC STRUCTURES. Chomsky, N. (1957). The Hague: Mouton.

Это довольно сложное дело — быть революционером в какой-либо научной дисциплине. Для осуществления революционных преобразований в некой области необходимо, чтобы множество обстоятельств сложились совершенно определенным образом. Вы должны первым найти вдохновляющую и соблазнительную идею, но эта идея должна вдохновлять и соблазнять также и других людей, а не только вас. Если в вашей идее заключена новая теория, то последняя должна йметь смысл для всех уже существующих данных, но объяснять их лучше, чем все предыдущие
теории. Ваша теория должна открывать множество новых путей для исследований и быть способной придать смысл любым данным, которые могут быть получены в будущем. Но для революционности недостаточно лишь хорошей идеи. Вы сами как личность должны обладать определенными качествами. Вы должны быть достаточно уверены в себе, чтобы поверить и в то, что другим интересна ваша идея. Вы должны быть достаточно настойчивы, чтобы помочь вашей идее выстоять перед закрывающимися «перед ее носом» дверями. И вы должны быть достаточно хладнокровны, чтобы отражать множество нападок на вас, вызванных вашей идеей. Нужно признать, что революции не являются революциями просто потому, что играют партию первой скрипки и заставляют всех вскакивать со своих мест. Они являются таковыми потому, что смеются над несвоевременными, устаревшими идеями, а порой и над людьми, которые в них верят. Чтобы совершить революцию, необходимо быть сильной личностью. Но вдобавок к революционной идее и сильной личности вам необходимо правильно выбрать время. Ваша теория должна быть представлена тогда, когда умы готовы ее принять. Если революционная идея появится слишком рано, никто не признает ее гениальности. Если она появляется слишком поздно, то ваши лавры, скорее всего, уже кому-то достались. Дарвин выдвинул свою теорию эволюции за десятилетия до того, как почувствовал, что настало время ее обнародовать. Он тогда даже и не был полностью готов опубликовать ее; но другой ученый по имени Альфред Рассел Уоллес готовился обнародовать ту же самую идею, поэтому Дарвин решил поспешить.
Опубликовав свою работу под названием «Синтаксические структуры», Ноам Хомский (Noam Chomsky) не только совершил революцию в области детской психологии (книга «Синтаксические структуры» занимает пятое место в рейтинге всех революционных исследований), но также заронил семя грядущих революций в полдюжины других областей! Работа Хомского повлияла на столь различные области, как антропология, искусственный интеллект, науки о познавательной деятельности, лингвистика, неврология и философия. И если этого недостаточно, то у него есть также работы, революционным образом влияющие на политологию.
Представляя вам работы Хомского, я немного отклонюсь от того заглавия, которое дано его основному труду. В данной главе я относительно мало концентрируюсь на вопросе «Синтаксических структур». О, конечно же, идеи, вспыхнувшие благодаря «Синтаксическим структурам», поистине революционные, и им
действительно удалось внести оживление в область психологии развития. Но давайте смотреть на вещи реально: разговор о синтаксисе языка не так волнует кровь, как, например, описываемые хорошим автором юмористические эпизоды из жизни транссексуала. Держу пари, что вам больше понравится смотреть даже на засохшие краски, чем читать «Синтаксические структуры» (никому не говорите, что я это сказал). Но это ни в коем случае не умаляет важности книги. Проблема в том, что предмет данной книги настолько эзотеричен, настолько далек от чего бы то ни было имеющего значение в вашей жизни, что я не вижу пользы в трате времени на попытки заинтересовать вас синтаксисом. Я думаю, что лучше посвятить время рассмотрению радикальных идей Хомского, которые появились в последующие десятилетия после издания «Синтаксических структур». В целом эти идеи оказали глубокое влияние на детскую психологию, но все началось с «Синтаксических структур».
Предпосылки
Открытия Хомского касались природы человеческой речи. Человеческий язык по-детски прост и в то же время энциклопедично сложен. По-детски прост он потому, что создать язык очень легко — каждый ребенок это может. На самом деле каждый ребенок это и делает! В любом уголке мира каждый ребенок с нормальным мозгом и минимально предрасположенный к речи, в конце концов, создаст свой язык. Другими словами, возникновение языка универсально. Универсальная история развития речи у ребенка выглядит примерно так: дети начинают понимать первые слова в возрасте около восьми месяцев; свои первые слова они произносят приблизительно в возрасте тринадцати месяцев; начинают комбинировать первые слова в простые предложения в возрасте около двадцати месяцев; и в возрасте около двадцати четырех месяцев начинают добавлять в предложения грамматические элементы. Таким образом, обычно в возрасте около двух лет, и уж точно — к трем годам большинство детей имеют хотя бы поверхностное представление о языке той культуры, к которой они принадлежат.
Но как объект изучения, язык в то же время очень сложен. Например, подсчитайте все те системы правил, которые вам необходимо усвоить, чтобы бегло разговаривать на каком-либо языке. Таких систем существует, по крайней мере, пять, и каждая из них подразумевает определенный уровень использования
языка. Первая — система фонологических правил — имеет дело со звуками и комбинациями звуков, которые составляют слова. Чтобы освоить систему фонологических правил, вам необходима способность различать звуки, характерные для вашего языка, воспроизводить эти звуки (или их близкое подобие), а также различать, какие звуковые комбинации допустимы в вашем языке, а какие являются незаконными. Например, в английском языке активно используются как звук Д/, так и звук Д/, но фонологические правила этого языка говорят, что данные звуки могут сочетаться лишь в определенных условиях. Например, сочетание звуков Д/ и Д/ может быть в начале слова (как, например, в слове star) или в конце слова (как, например, в слове fast). Но в обратном порядке, то есть Д/ + Д/, такое сочетание может появиться лишь в конце слова (как, например, в слове rats). Вы не можете начать английское слово с сочетания Д/ + Д/. Или же если вы все-таки встречаете слово, начинающееся с сочетания Д/ + /s/, то не знаете, как его произносить (как, например, в словосочетании tsetse fly — муха цеце). Поэтому, вероятно, вы не сможете произнести слово, обозначающее машину в китайском языке — che (произносится по-английски «tsir» — что-то вроде «цё»).
Также существует система морфологических правил, которая определяет, как и когда вы должны комбинировать префиксы и суффиксы с корнем слова, чтобы образовывать новые слова. (Префиксы, суффиксы и корни слов в целом называются морфемами, что отражается в слове морфологические.) Например, в английском языке для образования множественного числа, как вы знаете, существует стандартный способ. Например, /саг/ + /образователь множественного числа/ = cars, или Дгее/ + + /образователь множественного числа/ = trees. Но вы знаете также, что множественное число можно образовать другими, нестандартными способами: /man/ + /образователь множественного числа/ = men, но /deer/ + /образователь множественного числа/ = deer. Если вы скажете «I saw two mans walking across the street yesterday», вы нарушите систему морфологических правил*.
Например, (машина) + (образователь множественного числа) = машины, или (мужчина) + (образователь множественного числа) = мужчины. Но вы знаете также, что множественное число можно образовать другими, нестандартными способами: дерево + (образователь множественного числа) = деревья, но (болото) + (образователь множественного числа) = болота. Если вы скажете: «Я видел вчера, как двое мужчинов переходили улицу», вы нарушите систему морфологических правил. — Примеч.
Поэтому вам приходится не просто выучить основные правила комбинации морфем, вам также приходится выучить все исключения. Вершиной вашего мастерства должна быть способность обобщить усвоенные морфологические правила (такие, как образование множественного числа) и перенести на те слова, которые вы еще ни разу не слышали. Иногда это очень легко. Вспомните знаменитый пример Жана БеркоТлизона (Jean Berco-Gleason): «Вчера у меня был один wug, а сегодня —
два. У меня два__________ ». В этом случае большинство людей,
говорящих по-английски, скажут wugs, потому что хотя они и
не встречались с таким словом раньше, но его все же можно со-
поставить с другими похожими по звучанию словами, уже зна-
комыми им, например bug —» bugs или hug —» hugs. Но рассмот-
рим такой случай: «Вчера у меня был один Sony Walkman (пле-
ер фирмы Sony)у а сегодня — два. У меня два__________________ ».
Большинству носителей английского языка будет сложно образовать множественное число от Sony Walkman, потому что хотя у слова man есть известная форма множественного числа, здесь это слово используется не в стандартном смысле. Всемирно известный ученый/лектор Стивен Линкер (Steven Pinker) использует этот пример в курсе своих лекций и замечает, что корпорация Sony нашла удобное решение этой головоломки. Для них множественное число от Sony Walkman — это просто «Sony Personal Stereo Systems» (персональные стереосистемы Sony).
| * В английском языке слово fly имеет много значений, в том числе, «муха» и «крыло» (автомобиля). Вариант для русского языка: «Штирлиц стоял у окна — из окна дуло. Штирлиц закрыл окно — дуло исчезло»). |
Система семантических правил определяет, каким образом вы должны комбинировать слова сообразно их значениям. Фактически слово «семантика» означает «смысл, значение». И снова, существуют законные с точки зрения смысла предложения, вроде этого: «Мужчина видел, как грабитель вырвался из банка, унося два мешка с деньгами». Но также существуют предложения, которые разрушают систему семантических правил, например: «Слепой видел, как грабитель вырвался из банка, унося два мешка с деньгами». Вы понимаете, что второе предложение семантически незаконно-, так как значение слова слепой исключает возможность способности видеть. Вы также мбжете порадоваться тому, как работает система семантических правил для создания юмора, причудливо используя слова с двойным значением. Вопрос: У чего есть восемь колес и крылья? Ответ: У мусорного грузовика. Поняли? Ха!*
Система прагматических правил включает в себя указания по поводу того, как нам следует использовать язык, учитывая природу конкретной социальной ситуации. Конечно же, всем вам знакомы большинство правил из прагматической системы, хотя, возможно, вы этого и не осознаете. Посмотрите, насколько будет отличаться ваша речь в следующих двух социальных ситуациях. В ситуации 1 вы сидите вокруг костра с друзьями и разговариваете о том, как у вас идут дела в школе. В ситуации 2 вы сидите за обеденным столом с родителями вашей девушки/молодого человека, и ко всему прочему они пригласили на обед семейного священника/духовника/рабби. Находясь в компании близких друзей, вы используете неформальный язык и не особенно следите за словами. Вы можете не произносить слов должным образом и использовать сленг, понятный только вам и вашим друзьям. Но в обществе родителей девушки/молодого человека, то есть людей, на которых вы хотите произвести впечатление, вы должны говорить подобающе. Ваш язык будет более точным. И, вероятно, вы не будете использовать сленговые словечки, зная, что родители не поймут их значения. Если бы вы использовали сленг, то нарушили бы систему прагматических правил. Вы также нарушили бы систему прагматических правил, если бы подошли к священнику/духовнику/рабби и сказали бы: «А ну-ка, попробуй меня схватить!» Конечно, если бы, по случаю, этот священник/духовник/рабби не оказался вашим другом или братом, с которым вам привычно было бы общаться в форме дразнилок и нападок. В любом случае все то, что вы делаете и не делаете, отражает ваше знание прагматики.
И, наконец, у нас есть система правил, называемая синтаксисом. Как вы, возможно, могли догадаться по названию книги, это — система правил, больше всего привлекавшая внимание Хомского. Синтаксис определяет правила комбинации слов на основе грамматики языка. Согласно грамматике английского языка, например, в стандартном виде предложение должно содержать подлежащее, сказуемое и дополнение. Сначала идет подлежащее, затем — сказуемое; и дополнение, если оно есть, идет в конце. Если вы, к примеру, не выполнили задание вашего учителя, вы можете сказать: «Моя собака съела мою домашнюю работу» (My dog ate my homework). В этом случае собака будет подлежащим, съела — сказуемым и домашняя работа — дополнением. Если вместо этого вы скажете «Моя собака реферат съела!» (My dog essay ate!), носители английского языка поймут, что вы говорите неправильно. Они также могут подумать, что английский язык не родной для вас, так ужасно вы говорите, или же вы
находитесь под влиянием какого-то вещества, так как вы не можете говорить правильно. Хотя синтаксическая схема подлежащее-сказуемое-дополнение является стандартной для английского языка, другой порядок также возможен, если вы хотите произвести особый эффект. Например, предложение, где необходимо сделать особое ударение, может иметь другую схему — дополнение-подлежащее-сказуемое «Домашнюю работу съела моя собака, а не печенье!» Но это будет нестандартное предложение, которое вы редко встретите в английском языке. В других языках существует другой стандартный порядок слов. В японском языке, например, вам действительно придется сказать предложение, подобное данному: «Моя собака реферат съела!» с глаголом в конце предложения. Комбинируя в разном порядке подлежащее, сказуемое и дополнение, мы получаем шесть возможных вариаций для шести тысяч языков мира: ПСД, ПДС, СПД, СДП, ДСП и ДПС. Но как оказывается, в 90% языков мира предпочтение отдается только трем из возможных шести вариантов: ПСД, ПДС и СПД. Заметьте, что во всех трех вариантах подлежащее предшествует дополнению, а это значит, что в 90% языков мира отдается предпочтение порядку: подлежащее ДО дополнения. В более редких случаях в некоторых языках допускается предшествование дополнения подлежащему в стандартном порядке. Как сообщает нам Дэвид Кристал (David Crystal), примеры порядков СДП, ДСП и ДПС обнаружили в малагасийском языке и языках хикскариана (Hixcaryana) и джа-мади (Jamadi). Кристал с юмором приводит в пример Йоду, знаменитого мастера джедаев (Yoda, the Jedi master), чья речь состояла из предложений с порядком дополнение-полежащее-ска-зуемое: «Больным я стал», «Силою я своею силен», «Твой отец он есть».
Так почему же так сложно объяснить овладение языком?
Дилеммой, встающей перед каждым, кто начинает изучать процесс появления речи у детей, является тот факт, что все дети легко схватывают язык, несмотря на его сложность. Как же так? К тому времени, когда на горизонте научной области появился Хомский — в 1950-х годах, о процессе овладения речью детьми говорили в основном бихевиористы, такие как Б. Ф. Скиннер. Вы можете вспомнить из материала других глав, что, согласно бихевиористской теории Скиннера, все виды поведения формируются с помощью подкрепления и наказания. И говорение так
^е не является исключением. Фонологический тренинг, например, п0 все** видимости, возникал уже в раннем младенчестве, когда родители начинали хвалить детей за то, что те издают звуки, характерные для их родного языка. А если ребенок начинал издавать нехарактерные для родного языка звуки, то следовало неудовольствие взрослых — наказание. Звук «уууууу» (oooooh) у английского ребенка может подкрепляться улыбкой или хлопаньем в ладоши у безумно любящих дитя родителей, но если тот же ребенок вдруг начнет издавать щелкающие звуки, родитель может выразить неодобрение, нахмурившись. Щелкающие звуки важны в некоторых африканских языках, но не используются в английском. С другой стороны, звук «уууу» используется в английском. На протяжении длительного отрезка времени с помощью подкрепления и наказания у детей формируются и оттачиваются звуки, составляющие фонологию, соответствующую языку. Другие системы правил, как морфология, семантика, прагматика и синтаксис, точно так же вырабатываются у ребенка. С помощью такого обусловливания дети в совершенстве овладевают языком.
Реакция Хомского на бихевиористскую теорию овладения языком была следующей: «Чепуха!» Для тридцатилетнего Хомского было делом принципа бросить вызов всему бихевиористскому движению, потому что оно стало основным для всей нации, и главным центром бихевиористов являлся престижный Гарвардский университет; но особенно потому, что это было нападение на психологию из его родной научной области — лингвистики. Междисциплинарная основа атаки Ноама Хомского на Б. Ф. Скиннера подобна атаке Альберта Эйнштейна на теорию эволюции Чарльза Дарвина. Бросая вызов Скиннеру, Хомский на самом деле бросал вызов силе интеллекта столь же мощной, что и его собственная. И в знаменитой, весьма задиристой статье 1959 года под названием «Обзор "Вербального поведения"» он провел такую атаку, и об откровенном и мощном отвержении Хомским бихевиоризма узнал весь мир. («Вербальное поведение» — это книга Скиннера, посвященная изучению языка.)
Сутью аргументов Хомского было то, что развитие речи просто происходит слишком быстро, чтобы вписаться в рамки бихевиористского объяснения. Растянутый на столь долгое время процесс ее появления и формирования, о котором говорят бихевиористы, лишь за десятилетия помог бы ребенку столь совершенно овладеть языком. Если бихевиористы были правы, тогда каждое грамматически верное выражение, воспроизведенное ребенком, должно подкрепляться на каком-то этапе его раз-
вития. И за каждое грамматически неверное выражение должно следовать наказание. На это уйдет слишком много времени. Более того, дети всегда говорят нечто очень необычное, что до этого они никогда не слышали, и как тогда они могли этому научиться? Если говорить об английской морфологии, то здесь дети часто неправильно употребляют окончание прошедшего времени правильных глаголов для неправильных глаголов. Они говорят так: «We goed to the zoo yesterday» или «The doggy bited me». Конечно же, существуют такие предложения, которые им никто никогда не говорил. Что касается семантики, то моя дочь до сих пор говорит мне: «Поверни мне телевизор, действительно!» (Turn the TV to me really). Этой фразой она с двух лет просила нас повернуть телевизор к ней экраном. Но почему она добавляет слово действительно к своей просьбе — до сих пор для меня загадка. Она никогда не слышала, чтобы мы произносили его, и мы никогда не хвалили ее за это слово. Суть в том, что совершенно явно ребенок четко произносит предложения, прежде им не слышанные, и продолжает их произносить при отсутствии подкрепления.
Учитывая подобные данные, Хомский делает вывод о том, что за развитие речи отвечает нечто, отличное от подкрепления и наказания. Если речи нельзя научиться из окружающей среды, думал он, тогда она должна развиваться внутри самого ребенка с самого начала. Но утверждение, что язык присутствует в самом ребенке с самого начала, ведет за собой пару следствий. Во-первых, язык должен быть как-то встроен в структуру мозга (а иначе где ему быть, в локтях, что ли?). Во-вторых, язык должен быть отдельно представлен в генетической структуре (потому что именно из нее проявляется все, заложенное внутри). Поэтому Хомский сделал сверхрадикальное заявление о том, что источник речи ребенка лежит не в окружающей среде, а в ДНК!
Взгляды Хомского
Именно в «Синтаксических структурах» Хомский впервые публично описал свои нативистские взгляды на развитие речи, и таким образом они стали своего рода краеугольным камнем всей теории. Но самые важные части его нативистских воззрений на самом деле не были подробно представлены в этой работе. Они описаны в течение последующих десятилетий в ряде других публикаций. (По иронии судьбы, «Синтаксические структуры» были опубликованы в тот же год, что книга Скиннера «Вербаль
ное поведение», которая, как мы уже отмечали выше, была, образно говоря, подвергнута бичеванию со стороны Хомского). Тем не менее «Синтаксические структуры» возымели свое действие, й в этой книге Хомский изложил основу объяснения того, почему нативистская теория языка должна стоять на первом месте.
Сами видите: сказать, что речь является врожденной, — это не объяснение. Каждая чего-то стоящая теория должна также говорить о том, что именно является врожденным. Более того, любое упоминание того, что является врожденным, должно быть обоснованным. Безосновательно полагать, к примеру, что все шесть тысяч (или более) мировых языков изначально встроены в мозг каждого ребенка в мире. Во-первых, это не объяснит, каким образом будущие дети придумывают языки, которых до сих пор не было, а лингвистам хорошо известно, что новые языки появляются все время. Нет, у Хомского была более тонкая идея. Он полагал, что если язык — действительно врожденный, встроенный в мозг ребенка, то он должен быть встроен весьма и весьма основательно. Тогда должен быть некий универсальный язык, и он должен быть достаточно распространен, чтобы поддерживать развитие всех языков мира. Фактически, довольно верным является понимание, что универсальный язык Хомского — это как бы семена языка. И именно эти семена языка наследуются нами через гены. И из этих семян появились все прошлые, настоящие и появятся будущие языки мира. Какой именно язык вырастет из семени — зависит от того, в какой языковой среде ребенок находится в процессе воспитания.
Это было удивительное революционное предположение. Во-первых, оно устраняло необходимость подкреплений и наказаний. Но как мы уже убедились, их наличие и так бесполезно. Во-вторых, появилась основа для исследования того, как детям удается так легко подхватывать родной язык. Хомский отвечает, что дети его не подхватывают — что касается говорения, язык уже здесь. В-третьих, обозначилась прямая связь языка и мозга. Язык больше не рассматривался как нечто пришедшее извне, из окружающей среды. Теперь он мог рассматриваться как нечто, присутствующее внутри головы и непосредственно связанное с психической деятельностью. И, наконец, таким образом объяснялось, почему люди — это единственные, существа, которым дана способность речи: семя языка было составной частью человеческого генома. Хотя у других животных есть своя коммуникативная система, только людям удалось создать правила языка.
Наличие этого лежащего в основе, генетически заданного семени языка гораздо приятнее, чем предположение о том, что все
шесть тысяч и более языков заложены в гены каждого. Также эту теорию гораздо легче защищать из-за ее экономичности. (Экономичность, то есть простота, является очень ценным качеством любой теории.) Но для самого Хомского его теория казалась все же слишком урезанной. Ему еще предстояло определить механизмы, или переключатели, или звонки, или свистки, или что-то еще, что ответственно за подпитку или взращивание каждого из шести тысяч и более разных языков, на которых говорят люди мира. По правде говоря, существует относительно мало комбинаций подлежащего-сказуемого-дополнения, которые может произвести семя языка. Но существует огромное количество странных маленьких частичек, уникальных для каждого конкретного языка. Возьмем, например, системы изменения по числам и родам в испанском и английском языках. Хотя и в английском, и в испанском языках существует порядок ПСД, но в испанском по числам и родам изменяются существительные и определения, тогда как в английском изменению подвергаются только существительные, и только по числам. В английском можно использовать артикль the для обозначения существительных как в единственном, так и во множественном числе; вы можете сказать «the dog» (собака), «the dogs» (собаки), «the windows (окно) или «the windows» (окна). Но в испанском существует четыре варианта «the» (el, la, los и las), в которых отражаются комбинации существительных мужского и женского рода с единственным и множественным числом. Какое «the» вы используете в испанском, зависит от рода и числа существительного. Поэтому вы скажете «el регго» (the dog, мужской род, единственное число) или «los perros» (the dogs; мужской род, множественное число), но вы скажете «1а ventana» (the window; женский род, единственное число) или «las ventanas» (the windows; женский род, множественное число).
Как бы то ни было, но в системе Хомского автору все еще необходимо было объяснить, как семя языка определяет, во что ему следует вырасти — в язык, где слова изменяются по родам, по числам, по родам и числам или ни по тому, ни по другому. Род и число являются лишь двумя из миллиарда других качеств, которые семя языка должно в себя вмещать. На самом деле миллиард — это переоценка; экономичность обращает наш взгляд на достаточно небольшое число синтаксических правил или принципов, которые могут быть применимы для всех языков.
Для связи семени языка и реального языка, на котором говорят дети, Хомский применил следующую тактику: он предположил существование двух уровней синтаксиса. У каждой идеи,
которую хочет передать человек, существует начальный, базовый уровень, который Хомский назвал глубинной структурой, и конечный, выражаемый уровень, который Хомский назвал поверхностной структурой. Глубинная структура более или менее укореняется на уровне семени языка, и обладает неопределенной формой. Поверхностная структура — это форма, которую мы создаем, облачая идеи в слова. И тогда остается лишь проблема того, каким образом мы переводим глубинную структуру в поверхностную, когда говорим, и переводим поверхностную структуру в глубинную, когда слушаем. Хомский предположил, что должен существовать ряд правил, которым мы следуем, возможно, бессознательно, в процессе перевода из глубинной структуры в поверхностную, и наоборот. Разговаривающие на одном языке используют одну систему правил, говорящие на другом языке — другую. Люди, говорящие на английском языке, будут использовать английскую систему правил, а говорящие на испанском — испанскую систему правил. Возможно даже некоторое совпадение между разными наборами правил в разных языках. Например, в английском и испанском языках общим является правило, определяющее порядок подлежащее-сказуемое-дополнение в поверхностной структуре.
Таким образом, когда дети овладевают языком, они на самом деле изучают правила перевода из глубинных структур в поверхностные, характерные для их языка. В этом заключалась идея. Хомский доказывал, что приемлемый набор правил перевода должен обладать тремя неотъемлемыми качествами. Во-первых, этот набор должен создавать все возможные структуры для данного языка. Люди могут создать неопределенное множество предложений, поэтому правила перевода должны быть способны создать неопределенное множество поверхностных структур. Во-вторых, правила перевода должны создавать лишь грамматически верные поверхностные структуры, а это значит, что они не могут создавать такие поверхностные структуры, которые нарушают систему синтаксических правил этого языка. И, в-третьих, должен существовать относительно небольшой, конечный набор правил перевода (экономичность в действии). Не было бы смысла говорить о правилах перевода, если бы их было так много, как и возможных поверхностных структур предложений. Хомский фокусировался на вопросах развития набора правил для создания всех возможных поверхностных структур, поэтому его теория иногда называется теорией производительной грамматики.
В «Синтаксических структурах» Хомский начал с малого и сосредоточил внимание, в основном, на введении понятия набора правил перевода (грамматики) для описания того, как работает английский синтаксис. Хотя я и говорю «с малого», на самом деле английский синтаксис является огромной областью для изучения. Но она меньше, чем весь английский язык, в который входят также фонология и морфология. Хомский намеревался доказать, что используя минимальное количество правил перевода, грамматика английского языка может создавать все возможные с ее точки зрения предложения и не может создавать грамматически неправильные предложения. В конце своей книги/ Хомский дает очень хорошее описание английской грамматики, которая отвечает всем трем критериям. Но помните, что его главной целью не было понимание английской грамматики как таковой. Напротив, он использовал английской язык как объект, на котором можно проверить, возможно ли открытие правил перевода вообще. Если английский язык пройдет испытание, то, возможно, остальные языки также пройдут его.
В «Синтаксических структурах» Хомский выделил ряд правил перевода для английского языка. Разрабатывая эти правила, которые называются правилами структуризации предложения, он также создал новую систему записи. Он использовал символы типа ФС и Г для указания на определенные части речи (ФС — фразы существительного, Г — глагол) и стрелку (—») для обозначения перевода предложения из одного состояния в другое. Типичный набор правил структуризации предложения для перехода от основанной на семени языка глубинной структуры предложения конкретно к английской поверхностной структуре мог выглядеть следующим образом (сопровождаю краткими пояснениями). Заметьте, что здесь необходимы лишь шесть правил структуризации предложения.
1. Глубинная структура предложения —» ФС + ФГ. («Чтобы составить английское предложение, вначале вам нужно разобрать глубинную структуру на фразу существительного и фразу глагола».)
2. ФС -> Оп + С.
(«Чтобы составить фразу существительного, вам вначале необходимо поставить определение перед существительным».)
3. ФГ->Г+ФС.
(«Чтобы составить фразу глагола, вы берете глагол и ставите его перед другой фразой существительного».)
4. On —> a, the.
(«Определение в английском языке может быть с а или the).
5. С —» человек, мяч, собака, дом, кресло и т. д. («Существительным в английском языке может быть любое из вышеперечисленных слов».)
6. Г —»бить, брать, есть, гнаться и т. д.
(«Глаголом в английском языке может быть любое из вышеперечисленных слов».)
Чтобы составить поверхностную структуру предложения «The man hit the ball (Человек ударил по мячу)», нам следует шаг за шагом придерживаться правил структуризации предложения, применяя лишь одно в конкретный момент времени.








