Самойлов Анатолий Михайлович
Я Самойлов Анатолий Михайлович родился в гор. Симферополе Крымской обл. ул. Рабочая №5. Очень хорошо помню во время оккупации фашистской Германией в 1944г., что на площади Ленина, а раньше была Фонтанная, так там был круглый бассейн с четырьмя львами и в бассейне была вода на этой площади. В 12:00 привозили военную кухню и прикармливали нас, детей. Кормили кашей, но если кто-то хотел вынести домой, то немец выбивал из рук миску и ногами топтал, чтобы никому не досталось. На ул. Павленко стояла военная часть немецев, и я каждый день подходил к окну казармы и просил «брода». Один немец открывал окно, брал меня на руки и показывал фотографию. На ней он и его жена на стульях, а по бокам стояли мальчик и девочка. Он плакал, меня по головке гладил и говорил: « Киндер, киндер». Я уходил через окно с полной пазухой еды, бутербродом и куском сахара. Иногда немцы на мотоцикле гонялись за детьми, я не убегал, как некоторые мальчишки бежали по дороге. Я заскочу на три ступеньки, которые были на углу Казанской и угол Павленко, и пережидаю. Очень запомнился один день. Мои дедушка и бабушка жили на Казанской №27 и у нас жил немец, капитан. В один прекрасный день этот немец сказал, чтобы меня никуда не выпускали, что завтра будет облава на детей. Я рвался, потому что кашу привозили. А он мне жизнь спас.
Очень больно на сердце у меня. Я жил на Рабочей улице, №5. Утром лазил по дереву вместо зарядки. Вдруг я увидел машину, груженную раздетыми трупами, заброшенными как собаки, совсем голые руки и ноги торчали. Этот день запомнился на свою жизнь: плач, крики людей, лай собак. Я поднялся на дерево и увидел массу людей. Выбежал на улицу Калинина и увидел, что на тротуарах одни женщины. Они выли, плакали и кричали. По улице вели молодых ребят в морской форме, у некоторых руки сзади были обвязаны колючей проволокой и застывшая кровь на руках. На всю жизнь мне запомнился парень двухметрового роста, очень молодой с гордо поднятой головой. Люди кидали в толпу хлеб и всё, что можно кушать. Их вели немцы, одетые в серо-голубую форму с автоматами и свирепыми овчарками. В один день немцы сбежали город затих. Мародёры и предатели нашей Родины стали грабить народ. В одну ночь спалили школу № 45 на ул. Дзюбанова и Сперо, авторемонтный завод. Там были мотоциклы и велосипеды, сгорел и табачный завод на ул. Элеваторной. Была весна 1947 года. Трое суток мы с мамой и крошки во рту не держали, а у нас всегда жила кошка. Мы сидели на порожке в коридоре. Вдруг кошка наша несёт общипанную курицу к нам в комнату. Вот уже был у нас праздник! И кошка была сыта, и мы потихоньку три дня ели и пили бульон. Так нельзя сразу кушать, а то мы бы умерли. Конечно, не дай Бог это видеть! Пусть живут все люди в мире и свободе. Ваш Самойлов Анатолий Михайлович.
Сафиуллина Алена
Пропавшее детство Толи Литвинова
Детские воспоминания – самые сильные. Захочешь забыть – не получится. И всю жизнь мальчики и девочки, у которых ранним июньским утром 1941 года отняли детство, вынуждены помнить то, что не всякому взрослому пережить под силу.
Сейчас всем, кто хоть что-нибудь помнит о войне, уже за семьдесят, но они до сих пор не могут понять, за что на их долю выпало столько страданий, и как они смогли это вынести. Потомственному керчанину Анатолию Федоровичу Литвинову тогда было около 10 лет, но и сегодня он все помнит, как вчера. Эти воспоминания трогают душу, заставляют задуматься.
Если бы до Великой Отечественной войны меня спросили, где я живу, я бы просто ответил: «Напротив Микича». Тогда все керчане знали, что это начало улицы Ленина, а Микич был хозяином пекарни, расположенной на углу Ленина, 1. При пекарне был хлебный магазин. Здесь всегда пахло свежим хлебом, хрустящими булочками и бубликами, обильно посыпанными маком. Рядом с пекарней находился продовольственный магазин, был и лоток «детских радостей», как мы его называли. Здесь продавали разные конфеты: маковки, орехи в глазури на палочке, длинненькие, сахарные, посыпанные разноцветной стружкой и лимонные дольки. Торговала ими наша соседка Маня Лазарева. А рядом стояла повозка с газированной водой и колбы с разными сиропами: вишневым, лимонным, крем-сода, грушевым. Стакан сладкой воды стоил 3-5 копеек, простой – 1 копейка. Пей хоть два стакана!
Семья Литвиновых получила квартиру осенью 1936 года на Ленина, 2. По соседству во дворе проживало еще около 20 семей, среди них – семья Володи Дубинина. Там прошло детство и юность Анатолия Федоровича. Там он встретил начало и конец Великой Отечественной войны с ее двумя оккупациями, холодом, голодом и смертью отца…Для каждого, кто прошел войну, она вспоминается по-разному.
Для Толика – мальчишки, начало войны возвращается в память первой бомбардировкой города. …Я тогда учился в третьем классе школы имени Шмидта и в тот день был на уроках. Немцы среди белого дня бомбили морской порт. Одна из бомб тогда попала в пароход с боеприпасами. Взрыв был токай силы, что на месте зданий этого района образовалась огромная воронка. От взрывной волны вылетели стекла даже в нашем доме. Тогда Керчь понесла первые жертвы. Много погибло людей, многие были ранены. Школу закрыли и переоборудовали под госпиталь. Нас перевели в другую, которая ныне носит имя Володи Дубинина. Тем временем бомбежки повторялись все чаще, ожесточеннее. Керчь становилась прифронтовым городом, – рассказывает Анатолий Литвинов, – вскоре началась эвакуация. В городе оставались женщины, старики и дети, которых сейчас называют дети войны. Среди них был и я. До последних дней до самой оккупации керчане работали на производствах города, невзирая на постоянные бомбежки. Город разрушался на глазах, горел каждый день, нес огромные человеческие потери. Нам с матерью предложили уйти в Старокарантинские каменоломни. Там нас встретили тусклый свет от трактора, который работал на освещение, и сырость. Нам показали место работы. Это была большая выработка в камне из ракушечника, ограниченная перегородкой из такого же камня. Здесь же стояло несколько машин с ножным приводом. За ними не покладая рук работали женщины: латали солдатские шинели, гимнастерки, брюки. Видно было, что некоторые дыры пробиты пулями, осколками снарядов и мин… Никто даже думать не смел, что трудно или о том, чтобы отказаться от работ, все понимали их значимость. Проработала мама там недели две. Как-то пришли трое мужчин с красными ленточками на головных уборах. Они сдержанно и угрюмо сообщили нам, что немцы близко и готовится партизанский отряд. Поэтому женщины и дети могут идти домой. Когда мы вышли из каменоломен, день был пасмурный, моросил мелкий дождь. Пахло полынью, чабрецом и другими степными травами. До сегодняшнего дня помню запах этого свежего воздуха, после пещерной сырости его невозможно забыть.
Шли, как в ад, напрямик, по бездорожью: город бомбили немецкие самолеты, один из них, видимо, попал в нефтесклад, и черный дым покрывал город. Повсюду раздавался грохот зениток. «Раз город грохочет, значит, он обороняется, значит он жив», – подумалось тогда Анатолию Федоровичу. Детское сердце отчего-то не чувствовало страха, оказалось, что к страху тоже привыкаешь. «Мама, а если я надену на голову подушку, осколки не пробьют?», – спросил он у матери. «Нет», – ответила она и погладила сына по голове. Когда мы добрались домой, уже стемнело. Двор был пуст. Некоторые соседи эвакуировались, другие шли на окраины города или к родственникам. Первая ночь прошла спокойно. Нас разбудил грохот зениток. Немцы бомбили окраину ближе к морю. Соседка, Наталья Лазарева, показала матери щель под горой Митридат, там мы прятались от осколков. Через некоторое время немцы вошли в наш город. Но наши войска отважно защищали каждый дом, каждую улицу. Несколько оккупантов подошли к нашему укрытию, они были в касках, с автоматами наготове. Один из них под дулом автомата приказал нам показать свое жилище, чтобы убедиться, что там нет русских военных. Нам пришлось открывать каждую дверь в квартирах, заглядывать в шкафы и под кровати, доказывая фашистам, что во дворе ни души. «Прочесав» этот двор, немцы шли дальше, всюду слышались короткие очереди автоматов, выстрелы из пистолетов, редкие разрывы гранат. Началась первая оккупация города. Оккупанты создали полицию, назначили голову и его помощников. Военнопленных заставляли убирать камни с дорог, ограждать разбитые бомбами дома, засыпать воронки на дорогах. На досках объявлений стали появляться первые приказы комендатуры. Анатолий Федорович вспоминает, что первый приказ о комендантском часе гласил: «Зарегистрироваться всем евреям и носить на груди шестиугольные звезды». В конце всегда следовала угроза: за невыполнение – расстрел. Вскоре беда пришла и в наш двор: из очередного приказа следовало: за грабеж немецкого продовольственного склада повесить Николя Лазарева, Карпа Андрияшина и еще двоих, среди них была девушка по имени Мария. Их повесили на территории тюрьмы. «Было ребятам не больше 17 лет, - переводит дух Анатолий Литвинов и продолжает, - нашего соседа, уже пожилого мужчину, немец убил его же палкой, за то, что он защитил свою дочь, Нину, от насилия… Деда похоронили на другой день.» Через некоторое время появился новый приказ: всем евреям собраться на Сенном базаре, взяв с собой необходимые вещи и еды на 3 дня. Наш сосед Хафуз служил в Советской Армии, а его семья не успела эвакуироваться. Жене с маленькой дочерью Лилей ничего не оставалось, как идти к месту сбора – в Багерово. По пути женщина отдала ребенка русской женщине. Саму ее расстреляли, как сотни других в Багеровском рву…
Эти чудовищные картины на протяжении всей жизни всплывают перед его глазами. До сих пор снятся ужасы оккупации, хоть и прошло много лет. Сегодня на месте того дружного и уютного двора расположен четырехэтажный жилой дом и институт, а улица носит имя Пирогова. Но все равно память человеческая сильна, ей не дано стереть плохое: ужас войны, послевоенный голод, безотцовщину в перешитых из военных шинелей и гимнастерок наряды. Это было, и мы должны это помнить…
Свечникова Лидия Николаевна
Я, Свечникова Лидия Николаевна, родилась в 1939 году 9 октября в Ростовской области в городе Миллерово. Это узловая станция, через которую шли эшелоны с солдатами, военным грузом, углем на Кавказ, Сталинград. Бомбили наши эшелоны. После каждой бомбежки жители бежали на станцию, запасались питанием, углем, хватали мешки с чем придется, несли домой, а на пороге удивлялись, как дотащили неподъемную ношу. Приходили наши, мы продукты отдавали солдатам. Немцы забирали сами насильно, находя в подвалах, закопанные в огородах и т.д. В огороде были вырублены все сады, съеден скот, птицы. Чтоб не голодать, люди за 4-5 км от огорода садили картошку: надеялись осенью закончится война. Но, увы, немцы забирали урожай или не давали собирать под страхом смерти. Тайком накрывали ее мороженую ночью. Оттаивали в холодной воде, уже сладкую ели. Летом ели траву: лебеду, крапиву, «калачики», цвет белой акации. Семья была большая: дедушка, бабушка, мама, двое нас с братом, тетя с двумя детьми. Их 2 сына, наши отцы, были на фронте. Мы жили во времянке с подвалом, где сидели во время бомбежки, а в хате жили немцы, итальянцы, румыны. Когда уходили наши, мы прятались в подвале, чтоб не пускать постояльцев. А однажды нас захватили в хате и начали стрелять по окнам, чтобы мы открыли. Мы были очень перепуганы, плакали. Молодых женщин и девушек эшелонами вывозили в Германию. Мою тетю еле отбили. Она шла с мамой, ее приняли за еврейку. Показав паспорт, что они сестры, отпустили, а у мамы двое детей. Евреев и тех, кто ехал в разбомбленном эшелоне, собирали и вывозили в яр, за городом. Расстреливали, не закапывая. Жители ночью ходили, чтоб найти живых и своих. Только после прихода, наших забирали своих хоронить, а из других поселков и других мест закопали на месте. После ухода немцев, появилось в городе много маленьких фрицев, рудольфов. Побросав на дедушек и бабушек, их мамы выехали в Германию, но доехали туда или нет - неизвестно. Очень жаль, но мы дразнили их, не любили, презирали их и матерей. Во время войны голодали, не мылись, были вши, ходили босыми с ранней весны до снега с морозами. Зимой сидели дома в холоде и голоде, если мама не принесет угля с путей. Просевали уголь из тендеров, откуда выбрасывают отходы из топки паровозов. Нам давали пайки (талоны) за отца. Занимали очередь ночью в 2 часа и стояли до тех пор, пока не получим; если не хватает хлеба, то считают очередь. Если детей в это время не будет, то очередь пропала. Хотим спать, плачем от горя и голода. Ходили бледные, худые, рахитные. Падали в обмороки. Были вши на головах, в одежде. Еле, еле освободились. Мать свою пайку делила на нас. Сама меняла на еду кое-что из одежды, вещей домашних, ложки алюминиевые, кастрюли старые, которые дедушка запаивал. Уходила в села, деревни и оставляла нас на свою сестру. А какая беда, когда я потеряла все карточки на всю семью. Целый месяц нас подкармливали соседи, знакомые. Спасибо им. Макуха (это жмых от подсолнечных семечек) нам был как шоколад. За 3-4 км от города был огород. Мать впрягалась в тележку на колесах, а мы сзади ее толкали. Сажали подсолнухи, картофель, горох и др. Масло из подсолнуха били на маслобойке. Прислал отец письмо, что едет домой. Каждый день ходили на станцию встречать. Но его эшелон ушел на Дальний Восток на войну с Японией. Только в 1947 мы его увидели, он был офицером. Вернувшись, отец привез кусковой сахар и щипчиками откусывал маленькие кусочки. Ели его с подсолнечным маслом – это было полное счастье! Отец с нами и такие сладости!!! У многих отцы, деды, братья не вернулись. Но нищета, полуголод еще долго были с нами. В школу пошла, но часто сидела дома. Одни сапожки были на троих. Вместо портфеля – матерчатая сумка, учебник один на 20 человек. Школа в развалинах, в классах холодно, чернила в чернильницах замерзло. Вот такое наше нелегкое детство было.
Синеговская Лидия Кузьминична
Родилась 10.06.1940 г. в России. Воспоминания о войне для меня такая трагедия, что мне тяжело об этом писать! Наш отец пропал без вести на фронте в 1942 г. Воспоминания о детстве, юности – это годы голода и тяжелых драм. До 1948 г. мы не знали, что такое хлеб. А чтобы мы не умерли от голода, мама пекла черные лепешки, неизвестно из чего (травы, мякины, макухи). Два моих брата умерли от голода. Мама попала под машину. В больнице сделали три операции и наложили 37 швов на голове. Чтобы как - то выжить, я после школы ходила убирать у людей за еду, которую несла домой накормить маму и сестру, у которой был врожденный порок сердца. Детства у нас не было. Город был разрушен. Одежды не было, у нас с сестрами была одна одежда на троих. Не было игрушек, книг. Был один учебник на весь класс. Но мы учились хорошо, несмотря на то, что в маленькой комнате, где жило 10 человек, один стол и на краю стола, при свете свечи делала уроки. Училась потом заочно.
Начала работать простым рабочим и дослужилась до заместителя директора большого стекольного комбината. Стаж работы 50 лет.
2013г.
Синица Галина Петровна
Я, Синица (Макляк) Галина Петровна, родилась 16 февраля 1939 г. в Керчи. Родители мои, Макляк Дарья Дмитриевна, и отец, Макляк Петр Филиппович, проживали по улице 23-го Мая, номер дома и квартиры я не помню. Когда началась война, отец ушёл на фронт, мама осталась с нами. Нас было пять человек: четыре сестры и брат, а самая маленькая родилась только 30 июня 1941 г. Когда фашисты захватили Керчь, мама меня и младшую сестру посадила на тачку, а сёстры постарше и брат шли пешком, мы вынуждены были покинуть город, так как немцы выгоняли всех жителей из города. Добрались мы до деревни Новониколаевка. Можете себе представить мою мать, которая с нами маленькими прошла почти 40 км. В Новониколаевке проживал наш дедушка, Макляк Филипп, отчества его я не помню, потому что для нас он всегда был просто дедушка и, благодаря ему, мы просто выжили в это страшное время.
Во время налёта вражеской авиации старшую сестру Елену и её соседку, спрятавшихся в погребе соседнего двора, прямым попаданием бомбы убило. В погребе с ними было ещё несколько наших солдат, так что ни от них, ни от моей сестры не осталось даже тел, так просто сгребли их останки и похоронили в общей могиле. Знают ли родители, где и в какой земле погибли их дети, я не знаю. Но наши родители всегда в поминальные дни приносили на эту могилу цветы, и, как положено в эти дни, приносили что-нибудь из еды. Прошло много лет, а я до сих пор помню место их захоронения, хотя могила вряд ли сохранилась. Когда закончилась война, мы не сразу вернулись в Керчь, так как отец пропал без вести. Вернулся он в 1946 г. Во время боя был ранен и попал в плен.
Мы оставались жить в деревне. Мама работала в колхозе, я пошла в школу. Детьми мы помогали колхозу как могли: всей школой пропалывали поля от сорняков, собирали колоски. Брат в 10 лет на подводе от комбайна на ток возил зерно. В 1949 г. вернулись в Керчь. Дедушка продал свой домик молочной ферме, и мы на эти деньги купили небольшой домик по улице Маяковского. Я пошла учиться в школу № 4 им. А. С. Пушкина, она находилась по Вокзальному шоссе. Закончила 7 классов, дальше учиться не могла, так как в то время с 8-го класса нужно было платить за обучение, а мама не могла себе это позволить. Не хватало её зарплаты ни на еду, ни на одежду, да ещё и ремонт дома делать. Отец от нас ушёл, и она нас всех растила одна. В 14 лет я пошла работать на овощную базу, которая находилась на улице Ленина в подвалах.
Когда мне исполнилось 16 лет, устроили на кондитерскую фабрику. Я пошла учиться в вечернюю школу и закончила 10 классов. Поступила заочно в торговый техникум, но не закончила, так как перенесла тяжёлую операцию.
Пишу вам, как мы восстанавливали любимый город, расчищали завалы под музыку с весёлым молодым азартом. Когда начали расчищать место под строительство кинотеатра «Украина», радовались, что у нас будет такой кинотеатр, не хуже, чем в других городах, а затем под наблюдением сапёров расчищали место под строительство театра им. Пушкина. Это был наш театр и по ценам доступен для всех желающих посмотреть спектакль или послушать концерт. После кондитерской, где я проработала 5 лет, перешла работать в магазин, где тоже проработала 5 лет.
Вышла замуж. Муж работал в торговом порту, я устроилась работать туда же, где и проработала 37 лет. Сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе. Рассказываю внукам, как мы жили в трудное послевоенное время, но были духовно намного богаче, чем они, может быть, потому что у нас была работа, мы были уверены в завтрашнем дне, а у наших детей при такой жизни нет ни будущего, ни настоящего.
 Суханова Галина Васильевна
Суханова Галина Васильевна
Родилась я 3.02 1937 г. в старинном городе Торжок, (ныне Терской области). Когда началась война, мне было 4 года, а моему брату – 2 года. В то время смысл «война» до нас не доходил. Мама, Елена Григорьевна, работала в госпитале. Ночевали, где придется. Бабушка не могла ходить и говорила, что скоро умрет. Так и случилось. Приютила нас женщина. Пришел милиционер, и ночью мы уже были в поезде. Оплакивали бабушку. Приехали в г. Кимры, Калининской оставались с бабушкой дома. Когда немцы начали бомбить город, бабушка уводила нас на огород и заставляла ложиться на землю и закрывать голову. Дом разбомбили, и мы остались без жилья. Ходили по деревням, просили мил области. Нас определили в детприемник. Там была кое - какая еда. Дети постарше ходили в госпиталь, пели детские песни, читали стихи для раненых, они давали кусочек сахара. Стали распределять детей по детским домам. Брат заболел. Без него я не хотела уезжать, но меня уговорили, что после болезни его привезут в детский дом, туда, где я буду. Но с ним я встретилась лишь через12 лет. В 1 класс меня не пустили из - за болезни. Закончилась война. Стали находиться родители. Ждала и я. В 1947 или 1948г. получила от мамы письмо. Училась в первом классе. Летом меня отвезли к маме в Ялту. С продуктами было тяжело. Я устроилась с одной девочкой на работу садоводом в санаторий «Золотой пляж» в Ялте, где работала мама. Вставали рано утром, поливали, высаживали рассаду, рыхлили землю. Работали до 8 часов вечера. За три месяца заработали по 1000 рублей. Мама сумела мне все купить к школе. Потом она стала болеть и отправила меня к бабушке отца, чтобы у нее я закончила 7 классов. Там было жить очень трудно. Дед все ворчал, что ем чужой кусок хлеба. После окончания школы работала и училась на курсах золотошвейки в Торжке, в ателье. Жила на квартире. Вот так и началась моя трудовая жизнь. Через 2 года моя мама умерла в Ялте. Я выучилась на механизатора в Калининской области. Работала в МТС. Потом работала в г. Куйбышеве в строительной организации маляром. Тогда призывали комсомольцев на уборку урожая на целину. Поехала по комсомольской путевке на три месяца. Пока было тепло, жили в вагончике. По окончании уборки лучших работников наградили Почетными грамотами, объявили благодарность и вручили денежные подарки. Вот так проходила моя молодость. Я продолжала жить и работать дальше в городах Крыма: Бахчисарае, Керчи, Симферополе. В 55 лет вышла на пенсию. Теперь тружусь в Крымской Республиканской общественной организации «Дети войны» с 2006 года. В настоящее время являюсь членом Правления. Принимаю активное участие в жизни коллектива. Имею награды «Ветеран труда», «За верность ветеранскому движению», Почётные грамоты. Стаж работы 45 лет. Жизнь продолжается.
Тимошенко Лилия Яковлевна
родилась я в Керчи , 20.04.1940г.
Уже наукой доказано, что события, произошедшие с маленькими детьми, как картинки вспыхивают в памяти детей. В моей памяти осталось несколько эпизодов. Это куда - то плыли в небе самолеты, рев двигателей и животный страх, бомбили сверху, с неба, там были и наши самолеты и самолеты фашистов. Со слов мамы мы последние покидали Керчь. Три баржи вывели в море и шли в Севастополь. В барже были старики, дети. Во время бомбардировки давали белые тряпки, что б люди махали, а женщины поднимали вверх детей. Баржа шла на Севастополь. До сих пор я не могу слышать рев двигателей самолетов, боюсь, летать. Я гуляла во дворе, когда началась бомбардировка. Мама сказала, что в дом попала бомба, он рухнул. Я оказалась под завалом. Меня откопали. Это дом по ул. В. Дубинина № 13. Когда слышу звук от самолетов, хочется убежать, спрятаться. Помню маленький длинный дом, и маленькие окна, в конце двора ручей, вода бежит по камешкам. Я с ними играю, рукам холодно, и мама ругает. Со слов мамы из трех барж в Севастополь пришла одна наша баржа. Немцы нас высадили на скамью. Через недели две за нами приехали и увезли в горы, в район Альмы. Нас поселили к сестре председателя колхоза, мама с собой взяла швейную ручную машинку. Это давало ей возможность шить и зарабатывать на еду для меня и бабушки. А мой братик умер через 3 дня. Помню сырые стенки, яму, тесно, темно, очень страшно, но я не плакала, мама запретила. До сих пор я очень боюсь замкнутого пространства, лифтов. Входя в них, я трогаю автоматически стены, и молюсь, чтоб скорее выйти. Мама объяснила, что в деревню привезли 4 семьи из Керчи. Татары послали родителей в лес за хворостом и показали схроны, где они прятали продукты для партизан и керчан. Однажды, при поджоге леса, немцы вошли в деревню, остановились в доме учителя, там жила наша керчанка с маленькой дочкой. Она выпивала с немцами и проболталась о том, что русские носят в лес продукты. Это услышал председатель колхоза. Он успел послать подростков татар, чтобы предупредить русских и вывести их из деревни. Так и сделали. И то, что я помню, меня и бабушку закопали в яму, где на зиму закладывают овощи, вот там и я сидела. Родителей учителя повесили. Нас не нашли, немцы ушли, нас откопали. Помню дорогу широкую, а вокруг лес и гул. Машины едут, а мама, тетя Надя и тетя Женя плачут и смеются. Мне очень было интересно. Я выскочила на дорогу и увидела машину. Она остановилась, я была в красном пальто и красной шапочке. Дядя взял меня на руки, мы поехали. Мама сказала, что татары сказали, что Керчь освободили наши. Все бросились на дорогу и там нас подобрали военные. Мы приехали в Керчь 12 апреля, город горел, было страшно, но наш двор на ул. В. Дубинина, №13 и все квартиры сохранились. Помню, как я пела и плясала, а вокруг много людей. Но они почему-то лежали. Мама сказала, что у нас во дворе был госпиталь. Мама ездила к татарам, которые нас приютили, и они дали продукты. А у меня от голода был рахит, в госпитале меня подкармливали. Есть хотелось, и я с такими же детьми лазила по развалинам и собирала траву, калачики, молодые одуванчики, щавель, чтобы только поесть. Ели макуху или рабочие давали по кусочку масла с завода, а потом дикие боли в животе. Я и сейчас продукты не выбрасываю, знаю, что такое голод. Помню, как дежурила возле магазина, на руке химическим карандашом писала номер очереди, чтобы получить по карточкам продукты. Однажды во двор пришла женщина, старенькая худая, и двое детей. Она просила милостыню, а я только получила по карточкам продукты и отдала ей кусочек хлеба, крупы и пол кусочка мыла. Слезы текли из глаз этой женщины. Я бы и больше дала, но зашла соседка и тетя Вера они стала меня ругать. Я очень боялась, что мне мама скажет. Она пришла с работы т. Вера ей рассказала, она меня обняла, заплакала и сказала, что ничего страшного, главное, что мы живы. Нам ведь также люди помогали, надо помогать и другим. Помню, как мама ходила на разбор завалов. Все керчане ходили, и мы, дети, в тачки складывали мелкие камни, а взрослые возили, стаскивали доски, деревья, помогали чем могли в восстановлении нашего города Когда я пошла в школу, постоянно ходили на высадку деревьев в нашем городе. Мы и мысли не допускали, о том, что кто-то другой должен это делать. Это наш город, наш дом, я своими глазами видела, как он горел во время бомбежки. И кто, как не мы, должны были принимать участие в его восстановлении. У нас, детей войны, чувство любви к своему Отчеству, родному городу передавалось с молоком матери, близкими, учителями. И мы многое помним о войне. Но знаю точно то, что мы перенесли, хоть и не были на войне, это страшно. Никому не пожелаешь. Мы ,поколение, которое было лишено детства. Но мы делали все, чтоб наши дети были счастливы.
Триполитов Владлен
ветеран вооруженных сил
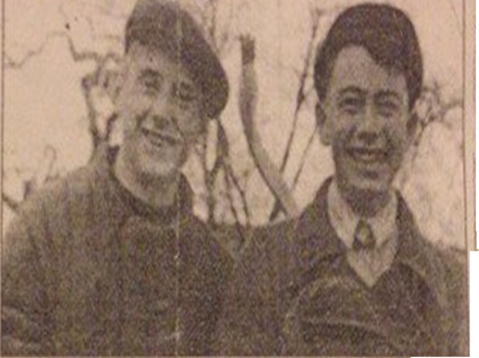 Слева направо: автор этих строк и Алексей Воловиков перед отправкой в армию.
Слева направо: автор этих строк и Алексей Воловиков перед отправкой в армию.
Лето 1941 г. выдалось очень жарким. Кончились школьные заботы, позади три класса. Учительница, ведущая наш класс, как обычно провела с нами беседу и благословила на хороший летний отдых. Некоторые ребята из нашего дружного класса отправились в пионерлагерь в Камыш-Бурун (он после войны назывался «Чайка»), другие с родителями поехали на отдых к родственникам на Украину, кто-то остался дома, в Керчи... Дружная стайка ребят под предводительством Пети Котельникова бегала на «скатик», так называли небольшой участок у морского торгового порта — излюбленное место детворы, живущей около порта. В нашем дворе и на улице в 16-м квартале (сейчас ул. Гудованцева) проживали семьи разной национальности, но никому до этого не было дела, жили все одной интернациональной семьей. Помню фамилии и имена своих товарищей — все 1930-32 гг. рождения. Это Инна и Эдик Радько (украинцы), Виктор, Зина, Женя и Петя Майер (немцы), Клава и Петя Хрисифи (греки), Мося Горовай (еврей), Земфира Джулай (татарка), Петя и Виктор Котельниковы (русские). Мы искренне дружили друг с другом, и все мальчишки были влюблены в красивую девочку Земфиру, которая жила у своего дедушки Джулая (любимец всей нашей детворы).Так вот жили и играли до 22 июня 1941 г. Утро того дня выдалось солнечным, и все мальчишки и девчонки нашего «интернационала» побежали на «скатик» загорать. Где-то после 12 часов к нам прибежал Петя Котельников и объявил: «Война с немцами. Выступал Молотов». Мы со смехом ответили, мол, ничего, наши им покажут. Мы тогда прекрасно знали, что наша армия самая сильная и смелая и что нам ничего не грозит, если на нас нападут враги. Патриотическое воспитание в то время было на очень высоком уровне. На следующий день утром мы все уже были в школе, нас построили и объявили, что надо собирать бутылки и отвозить их на завод им. Войкова, там будут делать из них противотанковые гранаты. И еще объявили, что в городской гостинице и в школе Шмидта организуются госпитали. У кого есть лишнее постельное белье, марля и бинты, приносите туда. А учеба начнется как всегда 1 сентября. Наша учительница, Мария Степановна Федорова, плакала, мы первый раз видели ее такой. Всей группой окружили ее, она нас гладила по головам и говорила: «Дорогие мои, мы, конечно, разобьем фашистов, но война — это страшно, я это знаю». Мы принялись собирать бутылки и на трамвае (тогда он ходил по городу) отвозили их на завод. Однажды наш класс перевыполнил план по доставке бутылок (велся учет), и нам позволили посмотреть на строящийся бронепоезд. Нашу экскурсию вел дядя Сережа Черкес, он нам все показал и заверил, что мы обязательно победим фашистов. 27 октября 1941 г. немцы впервые бомбили город. Мы только собирались идти в школу на занятия, когда над нашими головами появились на низкой высоте 9 «юнкерсов», которые стали сбрасывать бомбы на торговый порт. Мы еще не знали страха, стояли и смотрели, как отделялись бомбы от самолетов и по инерции летели на порт. В порту было много транспорта с боеприпасами, которые привезли для доставки на фронт, который уже проходил на Перекопе. Началось что-то страшное и невообразимое. Самолеты улетели, но начали разрываться боеприпасы на широком молу торгового порта. В страшный ад превратился участок около порта: все горело, солнечный день превратился в сплошную темень. Пастухи гнали скот, и все это блеяло, стонало, на улице лежали убитые люди. Нас спасло то, что жители нашего дома затащили нас в щель, которая была вырыта в центре двора с укрытием. Около 5 часов дня взрывы утихли, и мы вышли из щели. В нашем дворе все квартиры были разрушены. Дедушка Джулай погиб, его жена кричала на весь двор, мы опешили. Никогда не думали, что наш любимый дедушка погибнет в первый день бомбежки. Заводы и фабрики горели, что могли — спасали, отвозили на Кубань. В школе занятия прекратились. Многие ребята уехали с родителями в эвакуацию. Моя мама была военнообязанная и работала хирургической медсестрой в госпитале в школе Шмидта. Госпиталь тоже должны были эвакуировать, поэтому я ждал, когда заберут и меня. А пока что мы ходили в госпиталь. Писали письма и читали их раненым, ходили с записками от них в магазин (нам даже водку для них давали). 10 ноября мы выехали на Кубань, а 16 ноября немцы вошли в Керчь. 30 декабря начался десант на Керчь и Феодосию. Уже 15января госпиталь вернулся в Керчь, оставив раненых в Краснодаре. Приехав в Керчь, мы узнали о подвиге нашего пионера Володи Дубинина. По-мальчишески завидовали ему, его смерти героя, о своей смерти как-то не думалось. День и ночь с переправы шли войска и техника на фронт, который проходил у Владиславовки. Были сильные морозы, и пролив замерз, техника и люди шли по льду в Керчь. В апреле 1943 немцы опять стали жестоко бомбить город. В одну из бомбежек в начале мая мою маму убило (отец погиб еще в 1933 г) и я жил с ее сестрами, Ириной и Марией. Маму похоронили на горкладбище, а меня приютила её сестра Ирина, которая относилась ко мне, как к родному сыну. Когда в город пришли немцы, три дня мы боялись выйти на улицу. Пьяные, они стреляли по собакам и кошкам, заходили во дворы и стреляли в кур, гусей и свиней. Тети увезли меня под Симферополь, где мы пробыли до возвращения нашей армии. В 1944 г. в мае мы вернулись в Керчь. Город лежал в руинах. На ул. К. Маркса мы нашли в разрушенном доме комнату без окон, дверей и пола. Там и стали устраиваться. Встретил своих школьных друзей — Котельниковых Петра и Виктора, Колю Юрьева, Жорика Цареградского, Алексея Воловикова и др. Объявили, что в городе создаются школы: мужская № 13 (им. Дубинина) и женская № 2 (им. Желябова). Мы, мальчишки, пошли устраиваться в школу, которая была наполовину разрушена. Её директор, Дора Моисеевна Пеккер, просила нас тогда активно помогать бригаде, выделенной от судоремонтного завода для восстановления школ. Мы ежедневно приходили и помогали в силу своих физических возможностей. Конечно, было трудно, всегда хотели есть (250 грамм хлеба для растущего организма — всё, что имели). Правда, директор школы доставала талоны на обед. Председатель горсовета Евгений Завгородний (ходил в военной форме) оказывал нашей школе особое внимание. Горсовет получал одежду, в которую нас одевали, так что рездетыми не были. Вообще, советская власть не кинула нас, сирот, на произвол судьбы. Я получал пенсию за маму, не голодал. Как мы не старались, а школа была готова только к октябрю, тогда мы и начали регулярно заниматься. Учителя, не считаясь со временем, уделяли много внимания нашему обучению. Такие люди, как А.Наумова, В.Буслер, О.Смирнова и другие, дали нам капитальные знания, позволившие в последствии без проблем поступать в вузы. Словом, нам, детям войны, не смотря на все трудности и невзгоды, дали хорошую путевку в жизнь.
Устинова Мира Аркадьевна
Здравствуйте! Заранее прошу прощения за такое письмо, но я просто очень плохо вижу, очки не помогают, а не откликнуться на вашу передачу о детях войны я не смогла. Писать можно много, но как все уместить на нескольких листах бумаги, не знаю.
Когда началась война, я перешла в 4 класс. Родилась в семье хирургов. 22 июня, ночью, когда ещё не подали сигналы тревоги, к нам постучал посыльный из военкомата и потребовал, чтобы мама и папа немедленно собрались и поехали с ним. Во дворе стояла лошадь, запряженная в линейку (такой был гражданский транспорт). Мама поцеловала меня, наказала бабушке никуда не ходить и ждать. Потом завыла тревога, послышались взрывы: бросали бомбы на металлургический завод. В небе весь день кружил разведчик, издавал характерные для него прерывистые звуки: у-у-у. Родителей не было двое суток. Потом мы узнали, что нашу школу (3 этажа) заполнили ранеными. Их было столько, что на всех не хватало места. Мама прибежала на несколько минут, отдала распоряжение бабушке, увела с собой свою сестру (она была тоже медсестра), а ее детей – двух мальчиков – 1,5 года и 7 лет, привели к нам. Из магазинов молниеносно пропали продукты, за получением хлеба с утра стояли на улице, писали фамилии. Так доставляли хлеб. Когда начался учебный год, нас разместили в бараке, туда снесли парты. Часто занятия прерывались тревогами, и мы все бежали и прятались в траншеи, вырытые рядом со школой. Бомбили часто, потом весь госпиталь погрузили вместе с оборудованием в товарные вагоны. Долго не подавали паровоз и только тогда, подали, когда немецкие войска появились на окраине города. Вдоль сплошной толпы во время бомбежки все прятались под вагонами. 29 октября 1941 года мы двинулись в путь. В вагонах тесно. Те, кто понахальнее, сразу отгораживали себе побольше места. Тут и варили, и горшки детские стояли, и плакали, и песни пели. 52 дня нас катали по разным станциям, давая дорогу военным эшелонам. И лишь 3.12.41 г. мы приехали в г. Лузу Кировской области. Нас встречали жители, добротно одевая (мороз -45) и разбирали по своим помещениям, мы в легких платьях, кофточках, многие не имели ничего взятого с собой. Нас взяли к себе супруги Варькиневич – тетка Юля и дед Епифан. Сразу «взули» (так там говорят) сапоги и накормили (ведь у нас в то время ничего не было). Трещал огонь в печи, и их маленькая комнатная спальня стала нашей на три года. Мамину сестру с детьми устроили в общежитие на военном заводе. Потом они потребовали, чтобы мы перебрались к ним. Моя мама была сильной женщиной и никогда не теряла духа. Потом начался голод, хлеба давали все меньше и меньше. Сушили ягоды и грибы, которые мы собирали в лесу. Потом умер от голода мой братишка (2,5 г.), потом бабушка. И папа пошел в военкомат с просьбой, чтобы перевели в другой район. Мы переехали в с. Небажево, там вздохнули свободнее. Были хорошие урожаи картофеля, лесных ягод и грибов. В школе 1 раз в неделю давали 50 гр. хлеба, к нему чайную ложку сахара. Но это я несла домой, так как у меня был маленький двоюродный братишка. Но все равно было здесь немного легче.
Родителей не видели по трое суток. В школе мы организовали бригаду, ходили в госпиталь, читали газеты раненым бойцам, пели, рассказывали стихи. Нас очень хорошо принимали. Мы настолько привыкали к своей работе в госпитале, что пропадали там целыми днями (учились мы в третью смену). Привыкали к бойцам, что когда их выписывали, мы рыдали, провожая их. В школе старались хорошо учиться, помогать тем семьям, где было много детей или дети без родителей. В это время меня приняли в комсомол. 30 октября 1943 г. О! Какая это была гордость! Летом, вернее, в конце августа и сентября нас посылали на уборку урожая в колхоз. Под проливным дождем или перед первыми заморозками мы выкапывали картофель, свеклу брюкву. Работали у молотилок, веялок, на уборке ,не гнушались ничем. Спали на сеновале. В день получали 1 раз стакан молока, ломоть хлеба и какую-нибудь похлебку. Но зато мы раньше были дружные, сейчас так не дружат.
Я проработала 60 лет в школе в Гаспре (около Ялты). Часто своим ученикам рассказывала о войне, о тягостях ее, о голоде, который в течение 5 лет сводил нам животы. Да и потом было несладко. Мы вернулись в разрушенный Донецк. С мылом мылись 1 раз в месяц, спали под открытым небом. И снова голод, мало хлеба и картошки. Не вынесла мама, умерла в 1946 г. в августе. Немного болел папа, но работал, так как надо было помогать мне и маленькой сестре. Да разве все опишешь? Это надо прочувствовать и пережить. Детей у меня трое. Старший Александр – полковник, лауреат государственной премии, живет в Туле, учит молодых военных. Дочь Ирина – математик в школе. Работает в ней 21 год. Младший (45 лет) – Роберт – классный водитель. Я горжусь ими и очень люблю. К. Гаспра, 8, ул. Мира, 4-20,
Халецкий Вячеслав Иванович
1.01.1937 г. рождения
К началу войны мне было 4,5 года. Очень тяжелые воспоминания у меня сохранились о годах оккупации и первых послевоенных годах. До начала войны наша вполне благополучная и счастливая семья жила в Симферополе. Отец и мать работали, я ходил в детский сад при заводе «Серп и молот». Бабушка присматривала за строительством нашего дома по ул. Лермонтова. К июню 1941 года дом не был полностью построен, но мы уже там жили. Эта улица находилась в пригороде Симферополя. Наш район назывался Бахчи – Эль. В народе «Бахчель». Всё, что находилось за маленьким базарчиком, так раньше назывался Куйбышевский рынок, было Бахчи – Элью, а ул. Куйбышева переходила в ещё один пригород под названием Красная Горка. Далее поселение Сергеевка, позднее Свобода. За ним фруктовый сад и далее село Чокурча (Луговое). Всё это сейчас в черте г. Симферополя.
Мой отец был призван в Красную Армию в июне 1941 года и ушёл на фронт. Мама была беременна на восьмом месяце, в августе у меня родился брат. Началась оккупация. С двух сторон нашего двора были дома еврейских семей. Жители их эвакуировались, и дома стояли пустыми. Сразу же их заняли немецкие солдаты. Зима 1941 – 1942 г. была очень суровая. Немцы сожгли в печах всё что можно было сжечь. В первую очередь заборы между нашими дворами. Спилили и сожгли деревянные столбы трамвайной линии, которая проходила по нашей улице на Красную горку. Немецкие пехотинцы были вооружены короткими карабинами с плоскими штыками. Они обязательно носили противогазы в круглых жестяных банках. У всех были маленькие раскладные нагреватели, в которых на сухом спирте они грели себе еду. Одеты были в короткие тонкие шинели и в пилотки, не по - нашему крымскому климату, потому и утеплялись, как могли. На постах стояли, обвязавшись платками и соломенными пучками на ногах. Техники у немцев было много: грузовики и автобусы, очень много мотоциклов. Были и большие, крепко сколоченные телеги, обязательно с ручными тормозами. Лошади тоже были большие тяжеловесы. Солдаты немецкой части, расположившейся в районе ул. Лермонтова, периодически уезжали штурмовать Севастополь, а потом снова возвращались в Симферополь передохнуть. Они жаловались симферопольским жителям, как страшно воевать под Севастополем и сколько их товарищей погибло там. Мне запомнились изрешеченные пулями немецкие автомашины и автобусы. После падения Севастополя количество немецких солдат в городе уменьшилось. Осталась жандармерия и тыловые части. До войны целый большой квартал между улицами Лермонтова и Островского занимала ветеринарная клиника, в которую пригоняли лечить скот из окрестных поселений. На этой территории расположилась румынская воинская часть, которая и пробыла там до самого освобождения Симферополя. Румыны рыскали по всем окрестным улицам и грабили население. Техники у них не было, только одни лошади. К оружию относились небрежно, и мы, мальчишки, таскали или выменивали у них патроны, гранаты, запалы, которые потом подрывали в развалинах разрушенных зданий. Такие у нас были детские развлечения. Было много повешенных в людных местах города, и мама старалась оградить меня от этого зрелища. Я и бабка слонялись по городу в поисках еды. Я видел убитых людей, лежащих прямо на улице. Было страшно. Вопрос пропитания был основным. Ели всё, что только можно есть. Высаживали маленькие огородики и выращивали в основном кукурузу. У нас в доме была маленькая ручная мельничка, на которой мололи кукурузное зерно на крупу и варили и из неё кашу, пекли лепёшки. Я на всю жизнь получил отвращение к кукурузе. Вместо сахара был сахариновый порошок, вместо масла – олифа. Молоко продавалось за большие деньги, оно было разбавлено водой до синевы. Жили в постоянном страхе. На улицах висели немецкие приказы, в которых население запугивалось расстрелами за любое нарушение порядка. Во время оккупации действовал комендантский час, по которому населению не разрешалось выходить на улицу в вечернее и ночное время. Разгуливали жандармы с автоматами наперевес. Среди населения ходили страшные слухи об убитых и замученных. Очень хорошо помню весну 1944 года. Она была ранняя и очень тёплая. Оккупанты притихли, а мы ходили с предчувствием скорого освобождения. Перед отступлением немцы стали уничтожать в Симферополе всё, что можно. Я видел, как всё горело: гостиница «Европейская», все здания первой Советской больницы «ныне им. Семашко). Видел взрывчатку на мосту через реку Салгир. Подпольщики не дали мосту взорваться. Румыны при отступлении разорили ветеринарную клинику. За день до освобождения немцы открыли все ёмкости с вином на винзаводе в районе Куйбышевского рынка и выпустили вино прямо на улицу. Жители черпали вино прямо из этих ручьёв. Принесла ведро вина и моя матушка. Его мы разлили по бутылкам и на следующий день вышли встречать наших освободителей. Со стороны Феодосии шли колонны студебекеров с нашими бойцами, и мы отдавали им эти бутылки с вином. Радость освобождения была очень большая. Буквально на следующий день по дворам стали ходить красноармейцы и собирать оружие. Его у населения было много, особенно в тех семьях, где были мальчишки, которые за годы войны натаскали много оружия и боеприпасов. В 1944 году мне исполнилось 7 лет, и я пошёл в 1 класс мужской школы № 3. Учительницей была Мария Павловна Косухина, мать руководителя подпольной комсомольской организации Анатолия Косухина. Она много рассказывала нам о героических делах этой организации, так как сама помогала подпольщикам. Вместе с ней мы переживали, когда её сын в 1947 году был несправедливо оговорен и вынужден был покинуть Симферополь. Потом у неё в классе учился мой брат. Мы дружили с ней до самой её преждевременной смерти 1955 года. Послевоенные годы были тоже нелёгкие. Особенно в неурожайные 1946 – 1947 годы. Хлеб был по карточкам. Опять недоедали. Снова выручала кукуруза. Но в это тяжелое время государство не бросало своих детей, заботилось о молодом подрастающем поколении. Мы летом отдыхали в пионерлагерях. Нас при приеме и при отъезде взвешивали и записывали, на сколько килограммов мы поправились за смену. Лагерь был в лесу, где было много старых заброшенных садов. Это был наш дополнительный витаминный корм. У меня до сих пор хранится характеристика из пионерского лагеря. Шло время…
Потом была учёба в строительном техникуме города Симферополя, служба в армии с 1958 по 1962 год в Казахстане, затем работал в «Тресткрымводстрое» инженером по труду и зарплате. В 1973 – 1978 году учился в Москве в Высшей школе профсоюзного движения.
Работал после окончания учёбы начальником отдела по труду и зарплате в этом же тресте, потом освобожденным председателем профсоюзного комитета. Награжден медалью «В ознаменование 100 – летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью Жукова, Грамота ВЦСПС, «Ветеран труда», « За верность ветеранскому движению» и другими наградами.
Принимаю участие в работе Крымской Республиканской организации «Дети войны», являюсь членом Правления. Выступаю перед молодёжью и учащимися многофункционального колледжа. Трудовой стаж 50 лет.








