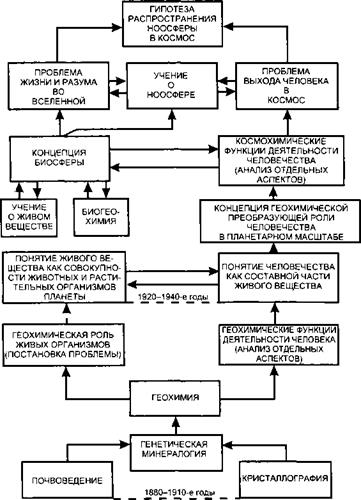26 См.: Вопросы философии. 1989. № 9. С. 82.
27 Там же.
28 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 197.»
С. 12 и след.
29 См. полемику между Морсоном и Хиршкопом в кн.: ВакЬИм
Еззауз апс! 01а1о§1ез оп Шз АУогкз. Её. Ьу С.З.Могзоп, СЫ са§о апё Ьопёоп, 1986.
30 Барт Р. Драма, поэма, роман // Называть вещи своими имг
нами. М., 1986. С. 139.
31 См. новейшие работы о Бахтине Б.Гройса, М.К.Рыклинл,
И.Н.Фридмана, В.Бейлиса и др.
32 Рпоих С. ВакЬип ёеуап1: оп ёеппёге поиз // Ыиега<:иге. N 1,
Реупег 1971. Р. 108-115.
33 Н.А.Бердяев, высланный в 1922 г. из России, познакомился
и сошелся во время пребывания в Берлине с кружком «Патмос», куда входили Бубер, Ф.Розенцвейг, О.Розенш ток и др. С этим связан пронесенный через всю жизнь ин терес Бубера и его друзей к русской религиозно-философ ской мысли.
34 Цит. по: Козепз^оск-Ниеззу. Ои(: Ы КеУо1и1лоп. Аи^оЫо^га
рЬу оГ АУез^егп Мап. ЫогинсЬ (УегтопО, Аг#о Воокз, 196!) Р. 741.
35 См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый
диалог человека с природой. М., 1986.
«Вопросы философии1993.
Яков Эммануилович Голосовкер (1890—1967)
Философ, культуролог, филолог. Оригинальный мыслитель, оказавший влияние на многих деятелей литературы и культуры 30-х, 40-х гг.
Соч.: Достоевский и Кант. М., 1963; Логика мифа. М., 1987; Сказания о титанах. М., 1993.
Н. В. Брагинская СЛОВО О ГОЛОСОВКЕРЕ
Яков Эммануилович Голосовкер — имя, вновь вернувшееся к читателю с книгой «Логика мифа» (1987), и надо отдать должное Издательству восточной литературы: оно задумало эту книгу задолго до того, как «воскрешать» имена отечественных философов, особенно репрессированных или эмигрировавших, стало правилом, а иногда и «правилом хорошего тона». Впрочем, что бы ни примешивалось к делу восстановления собственной культуры, от дела этого никуда не уйти. Применительно к собственной судьбе Голосовкер пишет в «Мифе моей жизни» о мщении духа, у которого судьбою было отнято воплощение и бессмертие. Наше общество, кажется, ощутило на себе это мщение загубленных, парализованных и неразвившихся творческих сил. Наши лихорадочные усилия издать хранившееся под замком или пылившееся в забвении напоминают попытки умилостивить грозный и опустошительный дух невоплощения. В Голосовкере я вижу человека, для которого нереализо- ванность состояла не в отсутствии публикаций (или ученых степеней, или признания заслуг). Все, что было ему нужно — это физическое существование созданных им литературных и философских трудов, ведь дважды рукописи его гибли в огне. Голосовкер не чета нам, «нынешним». В «наше» время отсутствие реализации философа или писателя — это отсутствие публикаций, трибу
ны, аудитории. В призывах писать «в стол», не требуй признания, так как все лучшее само отыщет свое место, м этих призывах, даже когда они добросовестны и чисто сердечны, как у драматурга Розова или академика Л их л чева, для «нас» заключена «историческая ложь». Писан, десятки лет в стол, подобно Я.Э.Голосовкеру, дано чело веку, исполненному изначального доверия к миру, знаю щему спокойно и даже неощутимо для себя о присутет вии и власти в этом мире абсолютного. Надрывной, на перекор обстоятельствам, упрямой «верой в идеалы» чаще наделен графоман, чей идеал — это он сам, нг усомневаемая собственная его для себя ценность. Голо совкер, почти ничего из своих философских трудов нг обнародовавший при жизни, не имевший ученых степс ней, считал себя философом и был им. «Нам», огромно му большинству потомков этого поколения, необходимы гарантии, так сказать, справки о ценности нашего твор чества, выдаваемые обществом в виде публикаций. Мы не можем писать «в стол» (пусть есть исключения, и чем больше, тем лучше), и вот-вот не сможем вообще «тво рить».
В одной из своих автобиографий Голосовкер пишет о враждебности ему стихии огня, уничтожившего его архив в конце 30-х годов и вторично в 1943 г., когда его рела загородная дача вместе с архивом и библиотекой. «Стихия огня»! Какой масштаб — космический, не соци альный. А ведь в одном случае были сожжены рукописи арестанта, в другом — сгорел загородный дом. Разве для объяснения этого нужно, как делает Голосовкер н «Мифе моей жизни», вспоминать об инфернальном художнике — хранителе архива — или о стихиях? Разве гибель рукописей в тех и других обстоятельствах нуждается в объяснении? Для «нас» — нет, для нас это более чем понятно, ведь в нашем мире правду сжигают в огне, топят в воде и объявляют за это ложью. Нет, мне не хочется иронизировать над модным ныне публикаторством. «Любовь к мертвецам» оправдана, они живее нас. Прошедшие застенки, жившие при осуществлении проекта введения единомыслия в России, люди поколения Голо- совкера были все-таки свободней нас.
Древние отмечали такие дни, когда ра1еп<: шипёиз, когда открыта преисподняя и ради обновления жизни мир предков незримо сливается с миром людей. Общество пишущих, читающих и публикующих справляет сей
час свои Анфестерии. Качество трудов, извлеченных ныне из Леты, различно, не все они гениальны, даже удачны, для нас важнее сохраненная ими энергия творчества как безусловного жизненного проявления, а вовсе не как аскезы писания в стол.
Голосовкер родился в 1890 г. в Киеве в семье известного в городе хирурга, окончил классическую гимназию, историко-филологический факультет Киевского университета по классическому и философскому отделениям. «Античность, — писал Голосовкер, — не была для меня дверью, замыкающей меня в мире классической филологии, она всегда была для меня вернейшим путем для постижения самых сложных загадок жизни и культуры и особенно законов искусства и мысли». Голосовкер имел специальное образование, но не был «специалистом». Он переводит и комментирует Ницше и Гельдерлина, папирусные фрагменты древних лириков, что всякий признает деятельностью высокопрофессиональной, не становясь специалистом «по» этим авторам. Голосовкер читал курсы античной литературы и философии, античной эстетики (до Аристотеля), теории или философии трагедии в Брюсовском институте, 2-м МГУ и на Высших литературных курсах, не становясь профессиональным педагогом. Голосовкер всю жизнь пишет стихи, романы, рассказы, трагедии, но не входит в организации писателей, не публикует своих художественных произведений. Кто же он? Сам себя Голосовкер не раз называет «один мыслитель». Мыслитель в простом и первоначальном значении слова: не величайший ум, но тот, чье призвание — мыслить. В стихотворении «Муза» (1947) Яков Эммануилович писал: «Не ищу чертогов: мне бы / Тихий уголок /, Где бы я при скромном хлебе / Честно мыслить мог». Кормили мыслителя, были его хлебом и до ареста и после — переводы, переводчиком Голосовкер и запомнился многим читателям. Голосовкер переводил философствующих поэтов, самых дорогих ему, по собственному его признанию, людей, но, как правило, переводы эти не издавались. В начале 20-х годов ритмической прозой Голосовкер перевел «Гипериона» Гельдерлина для Асаёепиа, в 30-м — стихотворную трагедию этого же автора «Смерть Эмпедокла» (издана в том же издательстве в 1931 г.), написал статьи о Гельдерлине; 1932 г. посвящен двум поэмам — «Гераклит Темный» и «Безумный Герострат»; для Аса-
ёеппа переведены две трагедии Христиана Граббе (и прозе — «Ганнибал», 1931 и в стихах — «Герцог Пи ландский», 1936), значительная часть составленного Го лосовкером сборника греческой поэзии в русских перс водах. Конец 20-х — начало 30-х годов — время созда ния романа-эпопеи «Запись неистребимая». Этот ромам именуется второй фазой мифа жизни автора, он погиб в огне, был восстановлен под названием «Сожженный роман» и снова исчез. Известно, что в 1940 г. Голосом кер передал текст «Записи неистребимой» жившему м Париже Иосифу Владимировичу Биллигу, и больше ни чего никогда не слыхал об участи этого своего произве дения. В архиве сохранилось несколько страниц: беседа вошедшего в камеру Иисуса с осужденным анархистом, затем своего рода тейхоскопия — беседа этого анархиста Орама с Иисусом на кремлевской стене перед панорамой Москвы, и рассуждения анархиста о государстве. Про цитируем этот последний отрывок.
«Они положили скота во главу угла и по-скотскому творят суд и расправу. Были до тебя и после тебя рам ные им по жестокости. Но то были только скоты-забам ники, а эти целеустремительны в мировом масштабе для конечной из конечных целей. Они экспроприировали все, что уворовали одни у других за века и века, и от дали добычу этому чудовищу, созданному мозгом че ловека — идее. Сегодня эта идея носит имя “государство”, завтра она переменит имя и будет называться иначе, но суть ее останется та же: все пожирать и властвовать.
Может быть, так и нужно.
Они провозгласили собственность воровством и экспроприировали ее, отдав ее во власть государства, этого самого прожорливого дракона-людоеда, какого породил панический страх человека перед человеком. Но собственность — это пустяк по сравнению с другими сокровищами. На самом деле они экспроприировали совсем другое: а именно — идеалы человечества, самые его высокие солнечные чаяния, все целиком, до последнего; в том числе и твою любовь. О, они хитры, очень хитры!
Они провозгласили любовь-к-человеку своей неотъемлемой и им единственно принадлежащей моральной собственностью и лозунгом, а всех прочих, не-своих, изобличили как нелюбящих человека и подлежащих уничтожению. И во имя этой своей “идеи любви”, а
вовсе не живой любви, твоей, они готовы терзать, убивать, уничтожать тысячи и миллионы людей, якобы мешающих им любить человека и основать царство одних только любящих друг друга. Пойми же, что ты сейчас гол, что ты ноль, что ты уже “безыдеен”. То “твое”, что составляло некогда тебя, у тебя было взято, по-скотски взято, но все же взято. Правда, оно взято только как “идея”, но объявлено, будто оно взято как “живое”. Это несправедливо, — но зато сильно. Да, быть может, справедливость на земле и можно только добыть силой несправедливости.
Они положили во главу угла скота и по-скотски творят суд и расправу, но держат перед собою щит, где сияют все идеалы человечества, ограбленные ими у веков, и вместе с ними там сияет твоя любовь к малым сим — простым человекам. Зная, что человек жаждет ослепления, чтобы во что-нибудь верить, они ослепляют его сиянием идеалов на своем щите, чтобы он уверовал в то, что зло можно истребить злом, уверовал так, как когда-то уверовал в то, что зло истребимо добром. Не мешай им. Дай им завершить свое дело. И вдруг им удастся то, что тебе, человеколюбцу, не удалось со всей твоей всечеловеческой любовью. Может быть, ты слишком рано пришел и слишком рано стал идеалом Совершенства, нестерпимым для земли.
Может быть, только скотам удастся осуществить то неосуществимое, что не удалось нежнейшим-из-нежней- ших и тончайшим-из-тончайших созданий, чтобы после могли существовать на земле эти нежнейшие и тончайшие — самые уязвимые ангелы земли, вознесенные мечтою на небо.
Я до этого не додумался и Ты тоже. То, что ты не додумался, это понятно. Но я! — я мог бы додуматься. Я — тоже экспроприатор. — Орам необычайно оживился:
— Знай, — я не мешаю им. Пусть выполняют. Пусть...».
В 1934 — 1935 гг. Голосовкер осуществил полный перевод всех четырех книг «Так говорил Заратустра» и даже фрагментов и планов пятой книги. Перевод был снабжен впоследствии сгоревшим комментарием «Система философии Ницше» и «Истолкования символов поэмы «Так говорил Заратустра». Перевод, окончательно отделанный, высоко оцененный Луначарским, предназначенный для Асаёепйа, ждет своего опубликования. Голосовкер вечно оказывался не ко времени — даже за
казанные ему работы, как правило, не выходили в сип Так, и Гельдерлин и Ницше занимают его, когда они начинают входить в моду в фашистской Германии. В ар хиве Голосовкера сохранилось письмо, в котором Г.Лукач тщетно убеждает издателей в том, что истории немецкой литературы не такова, какой ее представ ляп нацистская пропаганда. Не только авторов «не ум ел» выбирать Голосовкер, но и издателей. Директором Аса ёепна был Каменев, поэтому к 1936 г. многие из тех, кто сотрудничал с этим издательством, оказались вдру| «троцкистами», получили ссылку или лагерь. Такая участь постигла чуть раньше повальных арестов, п 1936 г., и Голосовкера, он получил очень небольшой срок и в 1939 г. был освобожден. Хлопотами Фадеева с Голосовкера в 1942 г. была снята судимость, и он смог бывать в Москве, но жилья не было, и Яков Эмману илович гостил на писательских дачах в Переделкино. И 50-х годах была у Голосовкера крыша над головой, не большой круг друзей и успехи: издание сборника перс водов античной поэзии и статьи о ГельДерлине, а «Ска зания о титанах» и «Достоевский и Кант», украсив «оттепель», не забылись и поныне. В конце жизни Голосовкер повторил до некоторой степени скорбный путь своих любимых героев — Гельдерлина и Ницше, и вымышленного им самим поэта Атаны, героев, чье духовное напряжение обрушивалось в конце концов в болезнь. Удивительно, что человек, сознававший и создававший свою жизнь как миф и анализировавший ее словно музыкальное или поэтическое произведение — как возникновение, сплетение и взаимодействие тем и вариаций, вначале звучащих робко и кратко, а затем разворачивающихся из мотива и образа в сюжет и композицию, — удивительно, что этот человек мог сочинить к своим стихам легенду о создавшем их поэте Атане, уже погрузившемся в безнадежное безумие. По замыслу Голосовкера, «Песни Атаны» сохранились только в черновиках, но и сами тексты стихов и предисловие от вымышленного редактора, помеченные еще 1920 — 1921 гг., представляющие собою черновики, в судьбе автора оказались черновиком, переписанным самой его жизнью. Автор... Очень важное слово для Голосовкера. Из различных своих трудов Голосовкер составлял всевозможные сборники, тематические книги, включающие эссе, исследования, переводы, иногда комментарии. Эти сбор
ники он именовал «авторскими» книгами, подчеркивая «авторство», творческую волю везде, где ей дано проявиться. Заряд авторства, вложенный Голосовкером в составление в послевоенные годы и начале 50-х годов огромной Антологии античной поэзии в русских переводах, оказался слишком велик: Антология так и не была издана.
Творческое отношение к своей жизни характерно для философов неакадемического направления, создававших свое главное произведение сюжетом и уроком собственной судьбы. Голосовкеру не дано было житейского взгляда на вещи. Например, история замужества его невесты не несла в себе в действительности ничего от литературности, проглядывающей в рассказе Голосовкера. Голосовкер воспринимал происходящее в категориях романтической поэзии и был в этом, без сомнения, искренен. Отсутствие «житейскости», преданность раз и навсегда фундаментальным ценностям этики и культуры, неприспособляемость к требованиям «момента» сделали Голосовкера вечным анахронизмом. В книге литератора, близко знавшего Голосовкера, он выводится в 1919 г. как любимый собеседник и оппонент Луначарского, и хотя Голосовкеру в ту пору не было тридцати, ему придан облик импозантного длиннобородого старца, «динозавра античности».
Мы не упомянули и малой части оставшихся в архиве после всех пожаров произведений Голосовкера — эссе, заметок, стихотворных сборников, пародий, художественных и научных произведений. Сохранились и целые реестры погибших работ и замыслов, намеченных, но не воплощенных. Вот некоторые из причудливых названий этих замыслов: «Прыжки вольнодумца», «Записки для вакуума», «Мемуары гориллы», «Кентавр, мамонт и трактор» и другие. Поражает обилие черновиков, незавершенных, брошенных на полпути вещей, в том числе таких, для которых незавершенность сделалась конструктивным принципом: философские этюды из фрагментов, так и созданных в качестве «отдельных» мыслей и кратких рассуждений, сборник «Песни Атаны», к которому присочинена легенда, будто «Песни» — это только черновик, только часть великого замысла, уничтоженного автором или неосуществленного. Так Голосовкер пытается уравновесить мощную энергию своего воображения и сравнительно скромные силы художника.
Философская эссеистика Голосовкера, с основными идеями которой можно познакомиться по «Логи кг мифа», главной своей темою имеет творчество как фено мен природный и историко-культурный. Способность ума и воображения создавать навсегда приковала к ссбг Голосовкера; она интересует философа, чем бы он ни за нимался.
И наконец, его рефлексия обращается на самый фг номен интереса, и в 1960 г. он создает эссе «Интерес ное». «Интересное» не есть общепринятая философская (эстетическая) категория. В первоначальной редакции эссе начиналось с попытки дать интересному общее он ределение в терминах профессиональной философии. Затем этот раздел переместился в конец произведения на место выводов и, наконец, оказался упразднен. Го лосовкер ведет себя как античный философ, для кото рого существует лишь родной обиходный язык и воз можность создать термин, если, обсуждая известные вещи, использовать то так, то этак «просто» слово, об катывая его в сочетании с другими словами. Эта «об катка» выглядит как нарочито скучная наукообразная классификация «интересного». Но вся она основана не на чем ином, как на языковой интуиции автора, вдумы вающегося и вслушивающегося в семантические потенции слова, но заявляющего затем о существовании таких-то родов и видов «интересного». Эссе то и дело принимает вид философской самопародии. Что-то лукавое выглядывает из-за рассуждений об интересном и скучном или о том, что из всех мундиров мыслителю не скучны только каски и облачения пожарных (вспомним судьбу рукописей нашего мыслителя!). Переводчик и ценитель литературы немецкого романтизма, античной литературы, скучных для «нормальных» людей, Голосовкер интересуется, отчего это так. И стоит задуматься о том, почему скучна почти вся прославленная литература античности: в чем тут дело — в стиле, в композиционных принципах или в «неактуальности»? Стоит задуматься о том, почему есть все-таки пылкие поклонники скучных литератур и произведений, признающие их скучность? Как в свете заданных вопросов все эти предметы делаются интересными, проблемными, притягательными? В чем отличие «глубины» субстанциальной и асубстанциальной эпохи? Почему в одном случае «глубина» — это непостижимая тайна — самое интерес
ное, а в другом — непредставимое ничто — самое скучное? Голосовкер приглашает читателя разделить с ним его трапезу — пир мудрецов, где в самом избранном обществе философов и поэтов этот человек сумел провести всю свою нелегкую жизнь.
Вопросы философии», 1989.
Сергей Леонидович Рубинштейн (1889—1960)
Философ и психолог. Член-корр. АН СССР (с 1943 г.), академик Академии педагогических наук (с 1945 г.). В 20-е, 30-е гг. развивал оригинальную концепцию творческой самодеятельности, дал философско- психологическую интерпретацию ранних работ Маркса.
Соч.: Принцип творческой самодеятельности // Ученые запис ки высшей школы г.Одессы. Т. II. Одесса, 1922; Проблемы психологии в трудах К. Маркса. // Советская психотехника Т. 7. М° 1. 1934; Основы общей психологии. М., 1940.
А. Е. Брушлинский
СУБЪЕКТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ С. Л.РУБИНШТЕЙНА (20—30-е годы)
С. Л. Рубинштейн (1889—1960) вошел в историю прежде всего как выдающийся психолог и философ, ме тодолог и теоретик, все научные труды которого представляют собой органическое единство философски фундированной теории, эксперимента и педагогической практики. Он создал самобытную философско-психологическую концепцию человека, его деятельности и психики, свободы и творчества, познания и речи, идеального, субъективного и объективного. Он выдвинул и систематически разработал субъектно-деятельностный подход в психологической науке и общефилософский принцип детерминизма (внешние причины действуют через внутренние условия). Многие его фундаментальные достижения сохраняют свою силу и актуальность для новейшей науки, особенно для человекознания. По-новому разрабатывая наиболее глубокие, в этом смысле «вечные» проблемы философии и психологии, он остается вечным современником всех, кто продвигает их дальше.
Идущая от философии проблема субъекта и его активности (деятельности, общения, созерцания и т.д.) наиболее систематически и последовательно разработана и разрабатывается в психологии главным образом на методологической основе субъектно-деятельностного подхода. Он восходит прежде всего к известной статье С.Л.Рубинштейна «Принцип творческой самодеятельности», впервые опубликованной в Одессе в 1922 г.[431].
В 1994 г. впервые напечатана очень близка по содержанию к этой статье 1922 г. рубинштейновская рукопись 1917 — 18 гг.[432]. В данной работе 28-летний Рубинштейн анализирует достижения и недостатки неокантианской философии в той ее версии, которая была создана главой Марбургской школы Г.Когеном (1842 — 1918), и развивает ряд своих идей о субъекте, его деятельности и т.д. Рубинштейн очень хорошо знал и глубоко уважал Когена как одного из своих учителей в период учебы в Марбургском университете и как одного из референтов (оппонентов?) во время защиты докторской диссертации (см. дальше). Уже тогда Рубинштейн начал прокладывать свой оригинальный путь в науке и, с благодарностью переняв у Г.Когена и П.Наторпа высокую философскую культуру, он не стал их правоверным учеником-не- окантианцем[433].
В этой своей рукописи 1917—18 гг. Рубинштейн не соглашается прежде всего со следующей основной идеей идущего от Платона и Канта когеновского идеализма: «познание становится рпиз’ом [первым, первичным, предшествующим — А.Б.] в объективно-логическом смысле, и бытие оказывается производной функцией познания»[434]. Если для Когена «бытие покоится не в самом себе», поскольку «мысль создает основу бытия», то для Рубинштейна никакой конечный комплекс понятий и определений не может исчерпать бытие. «Оно есть бесконечное Нечто, таящее в себе никаким конечным комплексом определений не исчерпаемую содержательность, которая
поэтому полагает бесконечный процесс познания, т.е. бесконечную систему знания». Рубинштейн категорически возражает против исходного фундаментального положения идеализма о том, что «бытие не существует, а полагается мыслью», что «мысли ничего не может быть дано, мысль сама порождает все свое содержание, содержание бытия». Вместе с тем он отвергает и материализм, который «совершил уже свое опустошительное шествие», а также другую, «более утонченную форму натурализма» — психологизм[435].
Отмечу еще принципиально важную трактовку Рубинштейном социальной сущности человека и его деятельности. Развивая дальше некоторые идеи Когена н ходе своего исследования данной проблемы с позиций этики, Рубинштейн писал: «Этический субъект самоопределяется, и, самоопределяясь, он впервые самоосуществляется в своих деяниях. Но этическое деяние человека предполагает другого человека как другой этический субъект (другого этического субъекта? — А.Б.). Потому что этическое деяние существует только в отношении к человеку как личности, в отношении к вещи есть лишь действие, есть лишь какой-нибудь физический или пси хический акт, но не деяние. Деяние есть лишь в отношс нии человека к человеку, и в отношении человека к че ловеку есть только деяние... Самоопределение делает аб солютно очевидным, что этический субъект не есть изо лированный индивидуум, это был бы абстрактный инди видуум, т.е. абстракция, а не индивидуум. Я не сущест вую без другого; я и другой сопринадлежны...»[436].
Всю эту систему идей о субъекте и его деяниях Ру бинштейн развивает дальше в своей вышеупомянутой статье 1922 г. В целом общая исходная позиция автора такова: существует «объективное бытие, некоторое само стоятельное целое», относительно завершенное и имею щее «в себе обоснованное существование». Задача науки состоит в том, чтобы познать бытие — «познать то, что есть, так, как оно есть». С этих позиций в статье крити куется «общая схема» идеализма, который превращает бытие только в содержание сознания, мир — только и «мое» представление.
На такой основе Рубинштейн раскрывает сложнейшую диалектику объективного и субъективного, т.е. одну из главных характеристик деятельности (прежде всего познавательной). По его мнению, необходимо, но недостаточно ограничиваться слишком общим утверждением, что объективность знания состоит в независимости его предмета от познания. Он показывает, что в «реалистической» философской системе (т.е. по существу в метафизическом материализме), например у Д.Локка, это общее утверждение ошибочно конкретизируется через соотношение вторичных (субъективных) и первичных качеств, поскольку лишь первичные относятся к объективному бытию. Рубинштейн справедливо критикует подобные неверные точки зрения за то, что они устанавливают как бы «обратную пропорциональность» между субъективным и объективным в познавательной деятельности субъекта: чем больше сфера познаваемого содержания (например, вторичные качества) обнаруживает свою зависимость от познающего субъекта, тем дальше соответственно этому отодвигается сфера объективного бытия.
В данном отношении особенно резкой критики, по мнению Рубинштейна, заслуживает позитивизм, доводящий до предела вышеуказанную обратную пропорциональную зависимость. С точки зрения позитивиста (и в частности, эмпирика), объективным может быть лишь то, что дано непосредственно, т.е. помимо познавательной деятельности субъекта, которая тем самым как бы стремится к нулю (если же знание получено в результате такой деятельности, оно признается лишь субъективным и потому неадекватным). Очень отчетливо эта позитивистская трактовка объективности выступает на примере чувственного познания. Последнее ошибочно характеризуется как чистая рецептивность, т.е. полная пассивность и антипод (отрицание) деятельности. В итоге деятельность вовсе изгоняется из познания, поскольку она, будучи всегда субъективной (т.е. осуществляемой только субъектом), якобы лишь искажает объективность знания. Но тогда неизбежен конфликт между объективностью знания и творческой самодеятельностью субъекта. Разрешение данного конфликта и является главной задачей статьи.
Таким образом, критикуя и преодолевая локковскую, позитивистскую, а затем также и кантовскую теории, Рубинштейн показывает, что все они в той или иной степе-
ни пытаются реализовать общий критерий объективности познания, но делают это неадекватно, поскольку не учи тывают подлинной диалектики объективного и субъек тивного, характеризующей любую деятельность субъек та. Иначе говоря, Рубинштейн возражает здесь не вооб ще против вышеуказанного критерия объективности зна ния, а только против ошибочных трактовок этого крите рия. Например, он справедливо критикует И.Канта за то, что для него данный критерий выступает лишь как негативный и чисто внешний — без учета сложнейших содержательных соотношений между субъектом и объек том, раскрываемых в ходе деятельности даже на уровне чувственности, не являющейся тем самым пассивной ре цептивностью. Особенно важна и до сих пор весьма ак туальна критика Рубинштейном известного кантовского положения о том, что «связь — единственное из пред ставлений, которое не может быть дано объектом». Автор преодолевает это неверное положение Канта, про . тивопоставляя ему иное, — правда, как он сам пишет, еще довольно абстрактное — понимание объективности: объективность какого-либо комплекса содержаний долж на определяться взаимоотношениями элементов того же комплекса, тем самым завершенного в своем собственном содержании. Иначе говоря, элементы его содержания не являются внешними друг для друга; напротив: они включаются друг в друга и отношения, существенные для данного объекта, не находятся вне него (вопреки Канту).
На этой основе Рубинштейн стремится преодолеть справедливо критикуемый им конфликт между объективностью знания и творческой самодеятельностью субъек та. По его мнению, между ними нет антагонизма: объективность не только не исключает, а, наоборот, предполагает творческую самодеятельность, поскольку объективное знание не должно быть пассивным созерцанием непосредственной данности; оно является конструктивным, т.е. конструируется, создается, формируется в ходе творческой самодеятельности. Тем самым между объективным и субъективным намечается как бы «прямая (а не обратная) пропорциональность»: чем более активен в своей деятельности субъект, тем более объективным становится конструируемое им знание об объекте. Рубинштейн тоже ратует за «объективизм», который познает «то, что есть, так, как оно есть», но он не отождествляет
сто с пассивизмом, который «приемлет то, что дано, так, как оно дано».
Всю эту сложнейшую проблематику Рубинштейн разработал намного более глубоко, детально и четко в своих последующих рукописях, статьях и книгах, и прежде всего в обеих своих философских монографиях «Бытие и сознание» (1957) и «Человек и мир» 0973), где были наиболее строго и точно соотнесены друг с другом онтологический (бытие) и гносеологический (объект) аспекты проблемы. По Рубинштейну, Бытие существует и независимо от субъекта, но в качестве объекта оно соотносительно с субъектом. Вещи, существующие независимо от субъекта, становятся объектами по мере того, как субъект вступает в связь с вещью и она выступает в процессе познания и действия как вещь для нас.
Зародышем всей этой философско-психологической концепции и является статья 1922 г. В конце статьи Рубинштейн раскрывает уже совсем общее понимание деятельности (не только познавательной) в соотношении с личностью и дает первую формулировку своего будущего принципа единства сознания и деятельности, вообще субъектно-деятельностного подхода: «Итак, субъект в своих деяниях, в актах своей творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; он в них созидается и определяется. Поэтому тем, что он делает, можно определять то, что он есть: направлением его деятельности можно определять и формировать его самого. На этом только зиждется возможность педагогики, по крайней мере, педагогики в большом стиле»1.
В процитированной весьма сжатой формулировке явственно содержится уже зрелый зародыш всей будущей теории Рубинштейна, которую он неотступно разрабатывал на протяжении последующих почти 40 лет. Главная идея этой теории состоит в том, что человек и его психика формируются, развиваются и проявляются в деятельности. По мнению Рубинштейна, деятельность характеризуется прежде всего следующими особенностями:
1) это всегда деятельность субъекта (т.е. человека, а не животного и не машины), точнее, субъектов, осуществляющих совместную деятельность; 2) деятельность есть взаимодействие субъекта с объектом, т.е. она необходимо
является предметной, содержательной; 3) она всегда творческая и 4) самостоятельная. Отметим пока очень кратко, что самостоятельность здесь вовсе не противосто ит совместности. Напротив, именно в совместной дея тельности реализуется ее самостоятельность. Рубинштейн уже в этой статье 1922 г. исходит из того, что, например, учение есть совместное исследование, проводимое учите лем и учениками.
Лишь при таком широком и многостороннем подходе* к деятельности можно раскрыть ее формирующую, сози дательную роль в развитии человека. «В творчестве со зидается и сам творец, — подчеркивает Рубинштейн. - Есть только один путь — если есть путь — для создания большой личности: большая работа над большим творе нием. Личность тем значительнее, чем больше ее сфера действия, тот мир, в котором она живет...»1.
Для того чтобы правильно понять и оценить все новаторство и глубину этой зарождающейся .философско-психологической концепции Рубинштейна, необходимо хотя бы кратко раскрыть тот общий исторический контекст, н котором она проходила первую стадию своего становления. Известно, что проблема деятельности как специфической активности, присущей лишь человеку, впервые глубоко и систематически была поставлена и разработана в немецкой классической философии от Канта до Гегеля. Особенно значительна в данном отношении заслуга Гегеля, который начал раскрывать сущность труда (т.е. важнейшего вида деятельности) и пришел к пониманию человека как результата его собственного труда. Однако в системе гегелевской философии человек выступает, как известно, лишь в виде духа или самосознания. Гегель исходит из «чистого» мышления, «чистого» сознания, т.е. природа и весь предметный мир, порождаемый человеческой деятельностью, являются отчуждением этого духа. Такова суть объективного идеализма. Иначе говоря, согласно идеализму, человек начинает с «чистой деятельности», определяемой лишь чисто духовным субъектом — безотносительно к материальному объекту. Эта идеалистическая трактовка деятельности неприемлема для Рубинштейна.
В статье 1922 г. он продолжает критику идеалистической (спиритуалистической) теории деятельности. В частности, он отмечает, что большие исторические религии понимали и умели ценить определяющую, формирующую роль действий и вообще деятельности. Как известно, религиозный культ и есть попытка породить у верующих соответствующее умонастроение именно путем организации ритуальных действий. Однако все подобные действия, призванные служить проводниками божественного воздействия на человека, «могли быть лишь символическими актами: как деяния они были чисто фиктивны», отмечает Рубинштейн. В противоположность этому, справедливо критикуемому им пониманию деятельности как чисто фиктивной активности, он ратует за реальную, жизненно значимую, подлинную деятельность, в ходе которой человек формируется и развивается как реально действующий субъект. Этим обусловливается подход Рубинштейна к воспитанию и самовоспитанию людей: «Организацией не символизирующих и уподобляющих, а реальных, творческих деяний определять образ человека — вот путь и такова задача педагогики»[437].
Процитированное положение Рубинштейна имеет огромное принципиальное значение. Прекрасно понимая, что символические акты и вообще символы и знаки играют, конечно, очень большую роль в жизни людей, он вместе с тем сразу же выступает против абсолютизации этой роли. Главное для него — не сами по себе символы и знаки, а именно реальная деятельность субъекта (разумеется, создающего и использующего эти символические средства в своей деятельности).
Представленный в статье 1922 г. (и отчасти в предшествующей рукописи 1917 — 1918 гг.) принцип творческой самодеятельности (зародыш будущего субъектно-деятельного подхода) Рубинштейн продолжает разрабатывать прежде всего с учетом сильных и слабых сторон немецкой классической философии. Детальный анализ гегелевской философии — во многом критический — Рубинштейн осуществил в своей докторской диссертации2, защищенной в Марбурге в 1913 г. Философская система Гегеля не оказала существенного влияния на развитие
психологической науки, однако глубоко разработанная им проблематика деятельности начинает проникать в 20 30-е годы нашего столетия в эту науку через учен иг К.Маркса, который на основе созданной им принцини ально новой философии преобразовал всю названную проблематику.
Свою философскую систему Маркс создавал в про цессе все более глубокого позитивного преодоления ос новных изъянов и идеализма, и материализма, одноврс менно развивая их достижения. В «Тезисах о Фейерба хе» (1845) он писал: «Главный недостаток всего предшс ствовавшего материализма (включая и фейербаховский) заключается в том, что предмет, действительность, чувст венность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как чувственно-человеческая деятель ность, практика; не субъективно. Поэтому деятельная сторона, в противоположность материализму, развива лась абстрактно идеализмом, который, конечно, не знает действительной, чувстственной деятельности как тако вой»[438]. Отсюда закономерно вытекает по-прежнему пер спективный, принципиально важный (и для психологии) вывод Маркса о важнейшей роли практической (и теоре тической) деятельности в формировании, самоизмене нии, саморазвитии человека и его психики.
Однако становление этого принципа деятельности и качестве исходной основы нового направления в разви тии психологической науки очень сильно осложнилось историческими и социально-политическими условиями, значительно и весьма сурово повлиявшими на судьбы многих (прежде всего гуманитарно-общественных) наук. После 1917 г. в России и затем в ряде других стран учение Маркса было превращено в государственную идеологию и даже своеобразную «религию», предельно догматизировано и во многом извращено.
После октябрьского переворота 1917 г. и окончания гражданской войны часть советских психологов, по-видимому, искренне или, напротив, под влиянием политической конъюнктуры пыталась разрабатывать психологическую науку с позиций философии Маркса. Но эти первые попытки вначале были довольно наивными и малопродуктивными; к тому же общая философская и мето
дологическая культура большинства психологов оставалась тогда невысокой.
Например, К.Н.Корнилов выдвинул в качестве марксистской психологии свое учение о реакциях («реактологию»), обобщающее его экспериментальные исследования, начатые еще до революции. Оно представляло собой эклектический синтез интроспективной концепции сознания и бихевиористской трактовки поведения человека как совокупности реакций, осуществленный в основном в рамках механистической поведенческой теории.
Иную позицию с самого начала занимал Рубинштейн. Еще до революции он хорошо знал «Капитал» и некоторые другие работы Маркса и его последователей (в частности, по своим беседам с Г.В.Плехановым, жившим тогда в Швейцарии). В своих рукописях на рубеже 10-х —20-х годов Рубинштейн учитывал и анализировал некоторые философские идеи Маркса, однако в своих немногочисленных печатных работах 20-х годов он нигде не цитирует Маркса, поскольку не видит достаточной идейной близости между его целостной философской позицией и своей общей точкой зрения. Даже в вышеупомянутой статье «Принцип творческой самодеятельности» (1922 г.), где намечается оригинальная трактовка субъекта и его деятельности, Рубинштейн в силу тех же причин не делает ссылок на Маркса, хотя они очень помогли бы тогда в конъюнктурно-прагматическом смысле.
Положение существенно изменилось, когда в 1927 — 1932 гг. впервые были опубликованы «Экономическо- философские рукописи 1844 г.», в которых отчетливо и очень подробно (в отличие от «Капитала») Маркс раскрывает свое отношение к философской системе Гегеля, свой подход к проблеме человека и его деятельности. Здесь же наиболее полно представлена и система его высказываний о психологии. Теперь Рубинштейн, будучи высококвалифицированным философом и психологом, увидел определенную идейную близость между своими и марксовыми воззрениями на сильные и слабые стороны немецкой классической философии, на проблемы субъекта и его изначально практической деятельности, на историческое развитие человеческой психики и т.д.
Поэтому в своей знаменитой статье «Проблемы психологии в трудах К.Маркса» (1933 — 1934 гг.) и в «Основах психологии» (1935 г.) Рубинштейн не конъюнктурно, а искренне, научно и аргументированно использу
ет и оригинально развивает по-новому открывшуюся тс перь марксову философию для углубления и дальнейшей разработки своего субъектно-деятельностного подхода, предложенного в статье 1922 г. и в рукописи 1917 — 18 гг.
Анализируя философские произведения Маркса, Ру бинштейн выделяет в них, принимает и использует для развития своей концепции в первую очередь те фунда ментальные положения, которые раскрывают диалектику взаимодействия субъекта с объектом — прежде всего диалектику изначально практической деятельности людей. Последняя выступает для Маркса как опредмечи вание субъекта, т.е. как процесс объективирования, объ ективного выявления и раскрытия сущностных сил чело века.
Фундаментальная идея молодого Маркса о том, что, объективируясь, проявляясь в продуктах своей деятельности, формируя их, человек вместе с тем формирует, развивает, а отчасти впервые порождает и самого себя, свое сознание и вообще психику, особенно близка Рубинштейну. Она наиболее созвучна его статье 1922 г., в которой он, еще не зная ранних работ Маркса, резко критиковал широко распространенное, закрепленное Кантом, но одностороннее понимание деятельности, согласно которому «субъект лишь проявляется в своих деяниях, а не ими также сам создается». При таком неверном понимании получается, что человек и его способности существуют уже как готовые и данные до и независимо от его деятельности, в которой они якобы только обнаруживаются. В отличие от этого Рубинштейн уже в 1922 г., развивая свой принцип деятельности, специально подчеркивает, что человек и его психика именно формируются в процессе большой работы над большим творением.
Деятельность может быть только деятельностью субъекта, и все формирующиеся в ней психический свойства и процессы являются неотъемлемыми качествами лишь целостного индивида. В данном отношении Рубинштейн также почувствовал свою идейную близость к марксовой философии, когда в статье 1934 г. он выделяет у Маркса и использует прежде всего фундаментальное и хорошо теперь известное положение о том, что все психические процессы или функции человека есть «органы его индивидуальности» как целостного субъекта. По Марксу, «человек присваивает себе свою всестороннюю сущность
всесторонним образом, т.е. как целостный человек»[439]. Опираясь на эти очень верные и важные для психологии идеи Маркса, Рубинштейн развивает дальше свои прежние положения о единстве и целостности личности, восходящие к его статье 1922 г. Он подчеркивает, что психология «не может быть, таким образом, сведена к анализу отчужденных от личности, обезличенных процессов и функций»[440]. Различные формы психики и сознания развиваются не сами по себе — в порядке автогенеза, а только как атрибуты или функции того реального целого, которому они принадлежат, т.е. личности как субъекта. Вне личности трактовка сознания могла бы быть лишь идеалистической (спиритуалистической). Вопреки Гегелю субъект, личность не сводится к сознанию или самосознанию, однако сознание и самосознание весьма существенны для личности.
С этих позиций Рубинштейн реализует в психологии основной для марксистской концепции тезис, согласно которому сознание человека есть общественный продукт и вся его психика социально обусловлена. Деятельностный, точнее, личностный подход в психологии представляет собой конкретизацию всеобщего принципа социальности человека и его психики. Данную мысль Рубинштейн формулирует с предельной ясностью и отчетливостью: «Общественные отношения — это отношения, в которые вступают не отдельные органы чувств или психические процессы, а человек, личность. Определяющее влияние общественных отношений труда на формирование психики осуществляется лишь опосредствованно через личность»[441].
С позиций рубинштейновского варианта деятельностного подхода по-новому разрабатываются прежде всего психологические проблемы личности и ее жизненного пути. Любая деятельность человека исходит от него как личности, как субъекта этой деятельности. Именно в деятельности личность и формируется и проявляется. Будучи в качестве субъекта деятельности ее предпосылкой, она выступает вместе с тем и ее результатом. Единство деятельности, объединяющей многообразные действия и
поступки, состоит в единстве ее исходных мотивов и ко нечных целей, которые являются мотивами и целями личности. Поэтому изучение психологической стороны деятельности есть изучение психологии личности н ходе ее деятельности. Тем самым деятельностный принцип и личностный подход в психологии — это не два разных принципа, а один, поскольку деятельностный подход сразу же выступает как личностный, как субъектный (деятельность, изначально практическая, осуществляется только субъектом — личностью, группой людей и т.д., а не животным и не машиной). Тот факт, что психические процессы человека суть проявления его личности, выражается прежде всего в том, что «они у человека не остаются только процессами, совершающимися само теком, а превращаются в сознательно регулируемые действия или операции, которыми личность как бы овладевает и которые она направляет на разрешение встающих перед ней в жизни задач»[442]. Например, непроизвольное запечатление развивается в сознательно регулируемую деятельность заучивания.
В ходе психологического исследования субъект и его деятельность конкретизируются для Рубинштейна прежде всего как личность, осуществляющая ту или иную деятельность (учебную, игровую, трудовую и т.д.) и формирующаяся в ней. Функционирование и развитие восприятия, мышления, речи и т.д. происходят только в ходе всего психического развития личности и вне него не могут быть правильно поняты. Применительно к человеку все в целом «психологическое развитие является качественно специфическим компонентом общего развития личности, определяемого совокупностью реальных конкретно-исторических отношений, в которые включен человек»[443]. Таков, по Рубинштейну, исходный пункт психологического изучения личности и ее деятельности.
Деятельность в строгом смысле слова присуща только человеку (но не животному). Отношение людей к условиям жизни — принципиально иное, чем у животных, поскольку эти условия не даны человеку природой в готовом виде. В ходе всей своей истории человек сам создает их своей деятельностью, изменяющей природу и общество. Иначе говоря, изначально практическая дея
тельность, производящая материальные продукты, всегда есть целенаправленное воздействие, изменение, преобразование людьми окружающей действительности в ходе взаимодействия субъекта с материальным объектом.
Свое понимание единства психики и деятельности Рубинштейн детально и систематически начал раскрывать уже в 1935 г. в монографии «Основы психологии». На всех этапах жизни человека психические свойства не только проявляются, но и формируются в деятельности. В самом педагогическом процессе так же, как в работе на производстве, они формируются и развиваются.
Практическое действие — исключительно мощное средство формирования мышления (наглядного, теоретического и т.д.). У ребенка «действие поэтому как бы несет мышление на проникающем в объективную действительность острие своем. На поле действия сосредоточивается первично самый освещенный, наиболее интел- лектуализированный участок сознания»[444].
Одним из важнейших результатов исследований, проведенных в 30-е гг., является детально разработанная Рубинштейном, а затем и Леонтьевым философско-психологическая схема анализа деятельности по ее главным компонентам (цели, мотивы, действия, операции и т.д.). Сейчас она широко применяется и совершенствуется (иногда критикуется) психологами, философами, социологами и т.д.
В монографии «Основы психологии» Рубинштейн систематизировал свои первые важнейшие достижения в реализации деятельностного принципа. Прежде всего в самой деятельности субъекта им были выявлены ее психологически существенные компоненты и конкретные взаимосвязи между ними. Таковы, в частности, действие (в отличие от реакции и движения), операция и поступок в их соотношении с целью, мотивом и условиями деятельности субъекта. Любой из этих актов деятельности не может быть психологически однозначно определен вне своего отношения к психике. Например, одни и те же движения могут означать различные действия и поступки, и наоборот, различные движения могут выражать один и тот же поступок.
Поведение человека не сводится к совокупности ре акций; оно включает в себя систему более или менее сознательных действий и поступков. По Рубинштейну, действие отличается от реакции иным отношением к объекту. Для реакции предмет есть лишь раздражитель, т.е. внешняя причина или толчок, ее вызывающий. И отличие от реакции действие — это акт деятельности, который направлен не на раздражитель, а на объект. Отношение к объекту выступает для субъекта именно как отношение (хотя бы отчасти осознанное) и потому специфическим образом регулирует всю деятельность.
Действие отлично не только от реакции, но и от по ступка, что определяется прежде всего иным отношен и ем к субъекту. Действие становится поступком по мере того, как оно начинает регулироваться более или менее осознаваемыми общественными отношениями к действу ющему субъекту и к другим людям как субъектам, и и частности по мере того, как формируется самосознание.
Всю эту систему своих идей Рубинштейн очень де тально разработал затем в 1940 г. в первом издании «Основ общей психологии». Здесь уже более конкретно раскрывается диалектика деятельности, действий и опе раций в их отношениях прежде всего к целям и моти вам. Цели и мотивы характеризуют и деятельность и целом, и систему входящих в нее действий, но харак теризуют по-разному. Единство деятельности выступает в первую очередь как единство целей ее субъекта и тех его мотивов, из которых она исходит. Мотивы и цели деятельности — в отличие от таковых у отдельных действий — носят обычно интегрированный характер, выражая общую направленность личности. Это исходные мотивы и конечные цели. На различных этапах они порождают разные частные мотивы и цели, характеризующие те или иные действия. Мотив человеческих действий может быть связан с их целью, поскольку мотивом является побуждение или стремление ее достигнуть. Но мотив может отделиться от цели и переместиться 1) на самое деятельность (как бывает в игре) и 2) на один из результатов деятельности. Во втором случае побочный результат действий становится их целью.
Например, выполняя то или иное дело, человек может видеть свою цель не в том, чтобы сделать именно данное дело, а в том, чтобы посредством этого проявить себя и получить общественное признание. Результат, со
ставляющий цель действия, при различных условиях должен и может достигаться соответственно различными способами или средствами. Такими средствами являются прежде всего операции, входящие в состав действия (на этой основе проведено существенное различие между действием и операцией). Поскольку действие приводит к результату — к своей цели в разных изменяющихся условиях, оно становится решением задач, т.е. более или менее сложным интеллектуальным актом.
Все, что человек делает, всегда имеет определенный общественный эффект: через воздействие на вещи человек воздействует на людей. Поэтому действие становится поступком прежде всего тогда, когда оно осознается самим субъектом как общественный акт, выражающий отношение человека к другим людям.
Так, в общем итоге уже в 1935-1940 гг. выступает внутри деятельности субъекта сложное соотношение ее разноплановых компонентов: движение — действие — операция — поступок в их взаимосвязях с целями, мотивами и условиями деятельности. В центре всех этих разноуровневых взаимоотношений находится действие. Именно оно и является, по мнению Рубинштейна, исходной «клеточкой», «единицей», «ячейкой» психологии. Признание действия основной «клеточкой» психологии человека не означает, что действие признается предметом психологии. Психология не изучает действие в целом, и она изучает не только действие. Признание действия основной «клеточкой» психологии означает, что в действии психологический анализ может вскрыть зачатки всех элементов психологии, т.е. зачатки у человека его побуждений, мотивов, способностей и т.д.
Этот психологический анализ деятельности и ее компонентов (действий, операций и т.д.) был потом продолжен в 1946 г. во втором, дополненном издании «Основ общей психологии». Разрабатывая дальше свою прежнюю общую схему соотнесения действий, операций и т.д., Рубинштейн, в частности, писал: «Поскольку в различных условиях цель должна и может быть достигнута различными способами (операциями) или путями (методами), действие превращается в разрешение задачи»1. И здесь Рубинштейн сделал ссылку на работы Ле
онтьева: «Вопросы строения действия специально изуча ются А.Н.Леонтьевым».
В 40-е и последующие годы Леонтьев опубликовал ряд своих статей[445] и книг, в которых обобщенно пред ставлена его точка зрения на соотношение деятельное ти — действия — операции в связи с мотивом — целью условиями. Это прежде всего его «Очерк развития пси хи&и» (1947), затем «Проблемы развития психики* (1959) и, наконец, «Деятельность, сознание, личность* (1975).
В теории Леонтьева понятие деятельности жестко со относится с понятием мотива, а понятие действия - < понятием цели. На наш взгляд, более перспективна другая, не столь жесткая схема, которая выражает связь мотивов и целей и с деятельностью, и с действия ми, но в первом случае это более общие мотивы и цели, а во втором — более частные. Впрочем, иногда Леон тьев тоже расчленяет цели на общие и частные и тогда лишь вторые из них (но не первые) непосредственно соотносит с действиями. Тем самым в данном пункте намечается определенное сближение позиций Рубинштейна и Леонтьева. Вместе с тем между ними сохраняются и существенные различия — прежде всего в трактовке субъекта и его мотивов[446]. Кроме того, Рубинштейн все время подчеркивает принципиально важную роль поступка.
В целом эта общая схема соотнесения деятельности, действий, операций в их связях с мотивами, целями и условиями является важным этапом в развитии всей психологии. Не случайно оно до сих пор широко используется рядом авторов. Вместе с тем нередко данная схема, разработанная Рубинштейном и Леонтьевым, рассматривается как чуть ли не главное достижение советской психологии в изучении всей проблематики деятельности. На наш взгляд, это, конечно, не так. В указанной проблематике наиболее существенным для психологии является вовсе не вышеупомянутая общая
схема (которую поэтому не нужно канонизировать). Наиболее существенное состоит в том, что с помощью категории субъекта и его деятельности впервые удалось глубоко раскрыть неразрывную связь человека с миром и понять психическое как изначально включенное в эту фундаментальную взаимосвязь.
Выготский Лев Семенович (1896—1934)
Психолог и философ. Его работы получили мировое признание. Широко распространено мнение о том, что он является одним из создателей новой парадигмы в науках о человеке. Профессор Института психологии в Москве.
Соч.: Этюды по истории поведения (совм. с А.Р.Лурия). М. Л., 1930; Развитие высших психических функций. 1930 (опуб ликовано в 1960); Мышление и речь. М.—Л., 1934; Психоло гия искусства. М., 1965; Собр. соч., тт. 1—6, М., 1982—1984.
М. Г.Ярошевский
Л.С.ВЫГОТСКИЙ - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
С именем Л.С.Выготского сопряжен один из важных фрагментов в летописи психологической мысли XX столетия. Отныне не только в нашей стране, но и на Западе его исследования высших психических функций (главным образом мышления и речи) признаны классическими. Их отличает сочетание новаторского воззрения на эти функции в качестве изначально порождаемых включенностью субъекта в социокультурный контекст с экспериментальным обоснованием этого воззрения и его широким применением в педагогической практике. Обращение к творчеству Выготского свидетельствует, что он не замыкался в кругу специальных «чисто» психологических проблем, но неизменно осмысливал их в «сетке» различных направлений естественнонаучного и культурно-исторического знания. На пересечении с ними возникали «точки роста» идей, перемещавших анализ поведения и его психической регуляции в новую систему координат. Но подобной междисциплинарной ориентацией не исчерпываются причины его высоких успехов на поприще одной из главных наук о человеке — психологии. Среди
многих векторов активности его исследовательского ума выделяется философская рефлексия о природе научного познания как особой историкокультурной формы, имеющей свою структуру и закономерности преобразования. Эта сторона творчества Выготского, дающая все основания считать его одним из крупных представителей отечественной философской мысли, к сожалению, не привлекла к себе должного внимания, хотя именно она сыграла, как мы увидим, особую роль в формировании его конкретно-научных психологических воззрений. Для этого требовались особые интеллектуальные качества. Но сколь талантлив ни был бы мыслитель, он всегда — дитя своей эпохи. Когда Выготский, интересы которого в дореволюционный период * поглощали проблемы литературоведения, в условиях Советской России (после революции он в течение нескольких лет работал учителем провинциальной школы) пришел в психологию, его позицию определила ситуация как в этой науке, так и в обществе.
Наука, которой он отныне посвятил жизнь, испытывала радикальные преобразования. Если прежде ее достижения усматривались в экспериментально контролируемом анализе того, как устроено и по каким законам работает сознание субъекта, то в начале XX века вера в правоту этой версии была до основания подорвана бихевиоризмом, с одной стороны, декларировавшим, что истинным предметом психологии должно стать взамен сознания — поведение, а с другой стороны, фрейдизмом, потребовавшим переориентации на скрытые под покровом сознания, но движущие человеком иррациональные силы. Наряду с этими течениями на горизонте психологии появились и другие, побудив воспринимать картину этой науки как в клочья разорванную кризисом. Так обстояло дело на Западе. Идейная атмосфера, которая воцарилась в постреволюционной России, требовала изучать человека в качестве строителя будущего, невиданного в истории социального мира с позиций марксистской философии. Тем самым, изначально и непререкаемо, утверждалась установка на противопоставление науки (названной по государственно-политическому критерию советской) множеству тех зарубежных научных направлений и школ, которым, как это постулировалось новыми официальными идеологами, марксизм чужд и в принципе должен ими отторгаться в силу их классовой буржуаз
ной сущности. Отсюда и взгляд на картину кризиса м< и хологии в странах капитализма. Ситуация кризиса 0x01 но засчитывалась в пользу голосов, требовавших мари систской перестройки психологии.
Соответственно, Выготский, сменивший в постои тябрьский период литературоведческие занятия на пси хологические, сообразовывал свои искания с этими релм циями. Ему отныне предстояло определить свою пони цию по отношению к событиям, которые происходили и новой России на фронте исследований поведения и со знания. За фундамент научной психологии он принимап (как и все советские психологи) бескомпромиссно мате риалистическое учение об условных рефлексах, считая его, однако, недостаточным для перехода к целостному учению о сознании, поскольку рефлексологи относили субъективный мир человеческой личности «по ту сторо ну» открытых ими телесных механизмов. Тем самым со знание «повисало» за пределами детерминистского объ яснения, которое, как представлялось; гарантировала опора на испытанное в лаборатории точное и прочное знание о зависимости реакций живых существ от матери альных причин. На первых порах Выготский, критикуя учение об условных (и сочетательных) рефлексах за дуа лизм поведения и сознания, объективного и субъективно го, становится на сторону реактологии — учения о реакциях в варианте, предложенном К.Н.Корниловым - одним из первых лидеров той психологии, которая присвоила себе титул марксистской. Он, вслед за Корниловым, принимает (в этот период своих исканий) за основную «единицу» построения психического мира не рефлекс, который оценивается им как узко физиологическое понятие, а реакцию. Правда, мысль Выготского продвигалась по другим рельсам. «Стрелкой», которая переключила на них, стала категория особой реакции, а именно — речевой, тогда как для Корнилова, как и всей предшествующей экспериментальной психологии, в духе которой он со времен юности был воспитан, создание являлось «безголосым». Для речевых же реакций раздражителями служили не физические стимулы, а слова — звуковые сигналы, сущность которых определяется не природой, а культурой в силу того, что их отличает изначальная насыщенность социально заданным смыслом. В то же время их рабочим эффектом выступают не мышечные движения, а движения речевых органов индиви
да, обращенные к понимающему «бестелесный» смысл этих движений собеседнику. Речевая реакция производила свою работу в сфере общения, коммуникации, диалога как своего рода «круга». В то же время, используя идею И.М.Сеченова о торможении внешнего действия как причине его превращения во внутреннее, Выготский использует указанную идею для объяснения генезиса сознания. Слово внешнее, рожденное в реальном общении, становится словом внутренним, незримым, квазииндиви- дуальным. И тогда индивид приобретает способность реагировать этим внутренним словом на внешнее поведение организма. Сознание, по определению Выготского, выступало как «реакция организма на свои же собственные реакции» (а не особый способ бытия). С этой формулой соединялись важные инновационные установки, отличавшие ее и от условно-рефлекторной концепции, и от корниловской реактологии. Ведь в роли детерминант выступали такие чуждые этим концепциям факторы, как культура (в образе исторической системы языка) и общение (как диалогическая вовлеченность реакции во взаимодействие индивидов). Однако «пуповина», соединяющая схему Выготского с этими концепциями, еще не была разорвана. Поэтому неудивительно, что в кружке Бахтина, где развивались иные воззрения на язык и духовную жизнь людей, Выготского воспринимали тогда (в середине 20-х годов) как приверженца бихевиоризма, сводящего поступки человека к стимул-реактивным отношениям организма (в качестве телесной системы) с внешними физическими раздражителями, хотя бы и интериоризи- руемыми во внутреннем устройстве этого организма.
Между тем воззрения Выготского на предметную область психологии, на события, происходящие в ней в масштабах мировой науки, на реальные перспективы ее выхода на новые рубежи стремительно менялись.
В этих воззрениях наметился в середине 20-х годов крутой поворот. Особый смысл поворота заключался в том, что Выготский, если воспользоваться современной терминологией, переключился от работы в проблемном поле психологической науки с присущей ей системой конкретных предметных представлений к изучению ме- танаучных проблем, к анализу природы и закономерностей эволюции самого психологического познания, тех приемов, которые им используются при реконструкции своих реалий, тех подходов, которым оно следует, соот
нося эмпирическое и теоретическое в этих реконструкци ях. Здесь перед ним психогностическая проблема выгту пила в совершенно новом ракурсе. Гносеологическое (по знавательное) отношение служит, как известно, консти туирующим признаком психики. Субъекта не существу г I без представленности в его актах реального или мысли мого предметного содержания. Но на метанаучном у ром не сама психика, включая ее предметно-познавательныII аспект, становится предметом познания. Причем в дай ной ситуации речь идет не о присущей высокоразвитому субъекту способности к рефлексии по поводу испытывае мых им психических процессов и состояний, в том числе имеющих познавательный индекс. Задача, над которой отныне бился Выготский, имела совершенно иной смысл Его не занимали представления конкретных субъектов о тех образах и переживаниях, о которых они способны представить самоотчет. Объектом его интереса служили совершенно другие «субъекты», а именно научные школы и научные сообщества, представляющие свои «от четы» о психике не по голосу здравого смысла и «как бог на душу положит», а с притязаниями на адекват ность этих «отчетов» исторически сложившимся рацио нальным критериям достоверности (объективности, ис тинности) добываемого знания. Превращая научное по знание в объект специального изучения, Выготский вы ступал как философ науки, ибо невозможно сколько-ни будь эффективно продвигаться в кругу избранных им методологических, логических, онтологических, гносео логических проблем, не поднявшись от частной дисцип лины, ее понятий, теорий, методик, моделей, эмпирической фактуры и т.п. к имеющему многовековые традиции высшему уровню анализа любых проявлений познава тельной активности, на каких бы объектах она ни была сосредоточена. Для Выготского, как мы только что видели, в качестве нового особого объекта выступила уже не психика, изучением которой он был занят в предшествующий период, разрабатывая соответствующие конкретные методики, выясняя связь психического с физиологическими, культурологическими и другими факторами, применяя полученные данные в практике обучения и воспитания (прежде всего аномальных детей) и т.п. Теперь он перешел в сферу философского анализа познания. Конечно, его переход не означал отказ от разработки специальных проблем конкретной дисциплины -
психологии. По-прежнему думы о ней в широком спектре его гуманитарных интересов остаются доминирующими. Но он остро осознавал, что без обращения к тому уровню рефлексии о научном познании, который издавна считался философским, невозможна работа во взорванной кризисом психологии. Конечно, это понималось не одним Выготским и не только в России. Кризис был объективным феноменом. Его ощущали и о нем задумывались многие. В том же 1927 году, когда тяжело больной туберкулезом Выготский лихорадочно работал над своим трактатом, которому дал имя «Исторический смысл психологического кризиса», вышла из печати книга известного австрийского психолога Карла Бюлера «Кризис психологии»1. Книга приобрела широкий резонанс в мировом психологическом сообществе. Через год ее автор выпустил в свет второе издание. Основная бюлеровская идея сводилась к надежде на то, что целостность психологии удастся восстановить на путях поиска интегрирующих моментов в тре, претендовавших на монополию школах: интроспективной концепции, бихевиоризма и психологии духа. Каждая, согласно Бюлеру, хороша по- своему и содержит повод призвать: «возьмемся за руки, друзья», Сравнивая бюлеровский текст со специальным трактатом Выготского «Исторический смысл психологического кризиса» нетрудно убедиться в решительных преимуществах созданного Выготским. Но его слово, в силу ряда обстоятельств, могло быть услышано только через 55 лет, когда его трактат, извлеченный из его личного архива, был передан в печать. (Издан автором этих строк2.)
Почему же Выготский отказался от его публикации? Среди вероятных причин отчетливо выделяются два обстоятельства, о которых речь шла выше. Согласно официальной идеологической версии, отступление от которой грозило остракизмом, считалось, что гуманитарное — в том числе и психологическое — знание причастно (за пределами революционной России) классовым интересам той социальной среды, в которой оно культивируется. На этом основании предполагалось, что оно неизбежно
преисполнено различных мистификаций, порождающих несовместимость с истинной наукой. Провозглашалось, что нет иного пути придать этому знанию научное досто инство кроме как возводить его на фундаменте марке и:! ма, диалектического материализма. Оба тезиса, продик тованные с позиций восторжествовавшей в обществе идеологии, воздействовали на конкретно-научную работу в различных дисциплинах с различной степенью эффек тивности. К психологии по инициативе (кстати сказать, беспартийного) К.Н.Корнилова было присоединено он ределение — марксистская. Появился учебник «Психо логия с точки зрения диалектического материализма* Что касается материализма, то особых проблем не возни кало. В России имелось мощное, сложившееся задолго до социалистической революции, восходящее к Сечено ву, а затем успешно развитое И.П.Павловым, В.М.Бех теревым и другими учеными направление, приведшее, благодаря своей естественнонаучной, в философском смысле, материалистической, ориентации к крупным от крытиям в области нейрофизиологии, в том числе прин ципиально важным для детерминистского объяснения психики. В условиях триумфа учения об условных реф лексах важную роль в сохранении психологией собствен ного научного достоинства сыграло обращение к марк сизму, никогда не отрицавшему качественное своеобра зие явлений сознания. Это позволило советским психологам противостоять редукционистским увлечениям, чуждым Павлову и Бехтереву, но соблазнительным для их последователей из молодых «радикалов». Постулат о качественной специфике сознания поддерживал версию о собственном достоинстве психологии, явно отступившей на второй план на фоне взрывной популярности учения об условных рефлексах. Однако декларативное утверждение о том, что материализм (если только он диалектический, а не примитивно-редукционистский) не считает сознание и вообще внутренний мир субъекта чем-то запредельным для научного объяснения, само по себе еще не несло рабочей нагрузки, не могло служить орудием исследования психических явлений. За некое подобие этого орудия сторонники новой марксистской психологии приняли «законы диалектики», используя представления
о переходе количества в качество, борьбе противоположностей, скачке и т.п.
Таков был простиравшийся перед умственным взором Выготского идейный фон, когда в стремлении понять кризисную ситуацию в психологии этот взор переместился из конкретно-научной плоскости в плоскость метана- учной, методологической рефлексии. Эффектом такого поворота, потребовавшего сосредоточенности на новом, согласно традиции — философском — проблемном поле, стал ряд новаторских положений, касающихся природы научного познания. Притом не только психологического.
По существу, любое изучение науки как формы деятельности и культуры продуктивно лишь когда оно укоренено в материале, почерпнутом в реальной истории преобразования знаний, консолидированных в конкретную предметную область.
Для Выготского такой областью служила психология, где ко времени написания своего трактата о кризисе он успешно вел эмпирические исследования. Повседневный непосредственный «диалог» эмпирии и теории был одной из выдающихся особенностей его научного таланта. Во всех этих случаях его теоретическая мысль была устремлена в глубины кризисов, пронизывающих реалии психической жизни (присущих, в частности, развитию ребенка как главного предмета его исследовательского труда). Обратившись же к кризису науки, Выготский столкнулся лицом к лицу с вопросом о природе самой теоретической мысли как реалии особого рода, требующей для своего освоения иных понятий и методов, чем созданные наукой для познания памяти, мышления, речи и других психических функций. Мысль о том, как обустроена научная мысль, какие силы и в каком направлении ее запускают в ход, переносила исследовательские поиски Выготского из ставшей самостоятельной дисциплиной психологии в область философии, одним из ответвлений которой эта наука веками служила. Как уже сказано, Выготский в этих поисках не был одинок. Ведь стимул к переориентации на философию придали не посторонние по отношению к укоренной в эмпирии работе на поле частной науки события, но внутринаучные обстоятельства, препятствующие эффективности этой работы (утрата прежнего предмета, конфронтация школ и др.). Потребность в том, чтобы справиться со смутой, грозившей катастрофическими последствиями, носила объективный характер. Поэтому ее ощущали и пытались откликнуться на зов времени различные умы. Не ограни
чиваясь простой констатацией кризиса (для этого достд точно было поверхностного наблюдения), они стреми лись наметить перспективу выхода из него на нормаль ный путь развития психологии, приемлемый для веет сообщества исследователей, причастных к этой области.
В руки Выготского попала книга швейцарского уче ного Людвига Бинсвангера (1881 — 1966). (В дальнейшем он приобрел известность как психотерапевт, развивши(I концепцию «экзистенциального анализа» в духе хайде! геровской феноменологической философии «бытия и мире»). Но разработке экзистенциалистской концепции предшествовала попытка Бинсвангера дать «критику психологического разума» в книге, названной им «Введе ние в проблемы общей психологии» (1922 г.)[447]). Ее отли чало кантианское понимание природы мысли. Воспитан ный на нем, Бинсвангер выдвинул проект создания осо бой отрасли, которую он назвал общей психологией. Со держание, соединенное им с термином, обозначавшим эту новую отрасль, радикально отличалось от представлен и й
о том, что наряду с частными дисциплинами типа дет ской, зоологической, патологической и других разделом психологии имеется центральная область, где должны быть собраны и обобщены богатства всех источником психологического познания. Согласно традиции общая психология считалась сводом знаний о частных психи ческих функциях и в этом отношении трактовалась как их теория. Против подобного традиционного понимания выступил Бинсвангер, призвав к тому, чтобы решительно отделить от этой теоретической психологии особую общую психологию, для которой в качестве главного вы ступает вопрос о том, как вообще создаются психологические теории. Для нее сами эти теории являются фактами.
Выготский принимает идею Бинсвангера о необходимости разработки общей психологии как особого раздела в общей структуре психологического познания. Более того, эта идея приобретает у него смысл ключевой для объяснения кризиса психологической науки. В чем коренной смысл этого кризиса, по Выготскому? В отличие от тех авторов, которые, оценивая кризис, акцентировали его негативную для прогресса роль, видели в нем процессы распада, в силу которых психологи, как писал
Н.Н.Ланге, ощутили себя «в положении Приама на развалинах Трои», Выготский рассматривал его под иным углом зрения. Он выделяет в качестве своего рода закономерности однотипный характер эволюции, проделываемой независимо друг от друга различными школами — рефлексологией, психоанализом, гештальтпсихологией, персонализмом. Каждая из школ, рождаясь из частных открытий, претендует на захват всей области психологии, а затем и человеческого бытия в целом.
Так, например, согласно Фрейду, «коммунизм и тотем, церковь и творчество Достоевского, миф и изобретения Леонардо — все это замаскированный пол»[448]. По Бехтереву, «Анна Каренина и клептомания, классовая борьба и пейзаж, язык и сновидения — все это рефлекс»[449]. Судьбой различных направлений движет одно и то же стремление утвердиться в качестве всеобщей науки
о психике. Это свидетельствует о том, что в деятельности отдельных ученых и научных групп отражается исторически назревшая потребность в общей психологии, в общей науке. Поэтому объяснить претензии различных школ на универсализм личными ошибками, злой волей, незнанием их создателей так же нельзя, «как Французскую революцию — испорченностью королей, двора»[450].
Общая психология как учение о «последних основах, общих принципах и проблемах данной области знания» имеет дело с «понятиями высшего порядка». Она призвана объяснить, что же наиболее общего у всех явлений, изучаемых психологией, что делает психологическими фактами самые разнообразные явления — от выделения слюны у собаки и до наслаждения трагедией, что есть общего в бреде сумасшедшего и строжайших выкладках математики[451].
Категории общей психологии организуют обработку знания в отдельных отраслях психологии, непосредственно связанных с практикой воздействия на человека и его преобразования посредством воспитания и обучения, выработки трудовых навыков, лечения и т.д. При этом совершается «перемещение» интеллектуальных достижений не только «сверху вниз» — от философии через
общую науку и частные дисциплины к практике, но и и обратном направлении — «снизу вверх» — от практики к различным способам ее интеграции в частных дисции линах — и далее — к общей науке, суммирующей и своем категориальном аппарате «суверенитеты» детской и педагогической психологии, патопсихологии, психоло гии труда и др.
Создать общую психологию — таково, согласно Нм готскому — веление исторической логики развития но знания. И реально происходящие в психологии процес сы, а не умозрительные построения теоретиков, докллм вают это с удивительной наглядностью.
Обсуждая обращение Бинсвангера к общей психоло гии, Выготский вступает с ним в острую полемику. Ко ренное расхождение между ними имело глубинные фило софские корни. Если Бинсвангер отправлялся от Канта, то Выготский — от Маркса.
Общая психология, согласно Бинсвангеру, призван.I критически исследовать основные понятия психологии Такой поворот от фактов и явлений к понятиям, в кото рых они воссоздаются, действительно может рассматри ваться как новое направление, открывающее путь к само познанию науки, к раскрытию ею самой собственной внутренней природы. Бинсвангер, следуя Канту, пони мал критику психологии как рефлексию над ее логичсс ким аппаратом. Предметное содержание, тем самым, от носилось к одному полюсу, логические формы, в кото рых оно дано, — к другому. Выготскому различие между общей и эмпирической наукой виделось не в том, что первая занята логическими формами, вторая — фак тами опыта, а в том, что в «понятиях высшего порядка, с которыми имеет дело общая наука, действительность представлена иным способом, чем в понятиях эмпиричес кой науки». Как бы высока ни была бы степень абстрак ции от эмпирического факта, в категориях общей науки, ее логических формах всегда содержится «сгусток, оса док конкретно-реальной действительности... хотя бы и и очень слабом растворе»1.
Здесь новаторство Выготского определялось обращением к вопросу об особой логике научного познания, отличной и от формальной, и от философской (диалекти
ческой) логики. Эта особая логика направляет работу психологического разума с любыми его объектами. Она изначально исторична и критична. Она переводит на более высокий уровень ту критическую работу, которая повседневно совершается в науке. Критика понятий, отнесенная Бинсвангером к уникальной цели философии, в действительности представляет собой неотъемлемый фактор научного творчества.
«Всякое открытие в науке, всякий шаг вперед в эмпирической науке есть вместе с тем и акт критики понятия»1.
В качестве примера приводится открытие условного рефлекса. Оно явилось критикой старого понятия о рефлексе (как о жесткой, неизменной рефлекторной дуге), но также и открытием, произошедшим при помощи старого факта (слюноотделение при виде пищи). Так обстоит дело в конкретной науке, в частной дисциплине. Но каким образом из частных понятий прорастают понятия общей науки, объясняющие психические явления в любой сфере жизнедеятельности? Ответ Выготского сводился к стратегическому указанию, что и в этих понятиях должна быть представлена реальность, хотя и в особой, «сгущенной форме».
Чтобы выйти из кризиса на новый рубеж, требовалась «путевая карта», определяющая направление и цель методологической работы. В качестве орудия этой работы Выготский выбрал аналитический метод. Слово «анализ» было опорным для многих школ. И для эмпирической психологии, занятой анализом элементов обыденного сознания, и для Фрейда, и для феноменологии Гуссерля, ищущей в чистом сознании временные и внеопытные сущности и смыслы. В России, вслед за Гуссерлем, его аналитический метод стали исповедовать Челпанов и Шпет. Критикуя их, Выготский отмечал, что общий термин «анализ» вносит путаницу. Принципы того аналитического метода, в котором нуждается новая психология, следует искать не в философии, а в опытных науках — естественных и социальных. Этот метод — по Выготскому — заключается в том, чтобы путем мысленной абстракции в совокупности явлений, во всем богатстве их связей открыть существенное, закономерное, обобщив
его в особую понятийную структуру, названную Выготским «клеточкой». По его мнению, Маркс в «Капитале*, анализируя буржуазное общество, выделяет форму то варной стоимости как клеточку, где прочитывается структура всего строя. В исследованиях мозга аналити ческий метод позволил извлечь из богатства нервных ям лений такие «клеточки», как «условный рефлекс» (Пам лов), «доминанта» (Ухтомский), «воронка» (Шеррипг тон). В физике С.Карно сконструировал идеальную па ровую машину, открыл закон, по которому из теплоты можно получить механическое движение. Сто тысяч ре альных паровых машин доказывали это не более убеди тельно, чем одна идеальная.
Стало быть, в естественных науках (физика, биоло гия) аналитический метод столь же всесилен, как и в со циальных (политэкономия). Принципиальность этого по ложения становится очевидной, если принять во внима ние, что возникшая на рубеже XX столетия и развитая неокантианством идея о двух, коренным образом раз л и чающихся методах познания — естественнонаучном (применимом в науках о природе) и социокультурном (применимом в науке о «духе») — вторглась в исследо вания человека, исключив саму возможность построения науки о нем как целостном существе.
Борьба Выготского против версии о двух психологи ях (естественнонаучной и психологии «духа») получила в данном случае «подкрепление» и со стороны метода. Ведь в основе этой версии лежало представление о том, что телесное и духовное познаются принципиально рам личными средствами и способы образования понятий о каждом из них несовместимы.
Аналитическому методу, искусно используемому для преодоления расщепленности телесного, психического и социокультурного, следовал и Выготский в своих первых попытках выделить «клеточку» психологии поведения м виде понятий о круговом речевом рефлексе как первоэ лементе человеческого сознания и эстетической реакции как главной форме общения субъекта с произведением искусства. Обе «клеточки» строились по типу естествен нонаучных моделей и вместе с тем выводили научную мысль за пределы биологии в мир культуры и социаль ного бытия. В качестве образцов применения аналитического метода в психологии Выготский выстраивал следующий ряд: «машина, анекдот, лирика, мнемоника, во
инская команда». Он называет их «ловушками для природы», как бы подчеркивая тем самым, что возводя эти феномены в ранг моделей, удастся «поймать» действие определенного закона. Что касается идеальной машины С.Карно, то посредством нее был «пойман» общий физический закон. Остальные «ловушки» касались психологических закономерностей. Одна из «ловушек» (лирическое стихотворение) была установлена самим Выготским. «Каждое лирическое стихотворение, — отмечал он, — есть эксперимент» в том смысле, что путем анализа его структуры может быть восстановлен механизм эстетической реакции на него.
Но что представляют собой другие аналитические модели — анекдот, мнемоника, воинская команда, о которых он писал? Эти образцы, при всей их видимой произвольности, отнюдь не случайно оказались в одном ряду. Выготский извлек их из наличной психологической литературы. Анализу анекдотов Фрейд посвятил специальную работу «Остроумие и его отношение к бессознательному». Анекдот послужил для Фрейда моделью, на которой рассматривались отношения между речевыми символами,, неосознаваемыми влечениями личности и психическим эффектом. К мнемонике — системе опосредованных знаками искусственных приемов запоминания — психологи (в частности, А.Бине) обращались с целью изучения процессов памяти. Воинская команда служила для П.Жане схемой построения социально детерминированных действий человека. Не случайно, конечно, Выготский поставил лирическое стихотворение, анекдот, воинскую команду и мнемонику в тот же ряд, что и техническое устройство (машину). Будучи сконструированы людьми для людей, эти создания, с одной стороны, имеют независимую от субъекта структуру, с другой — организуют его внешние и внутренние реакции. Среди таких реакций оказывались и эмоциональные (эстетические чувства), и когнитивные (память при мнемонике), и поведенческие (исполнение воинского приказа).
Зависимость индивидуальной психики от социальных отношений и форм с давних пор приковывала к себе научную мысль. Но в центре интересов Выготского, как мы знаем, неизменно выступало такое социальное, которое запечатлено в произведениях культуры (языка, искусства), имеющих собственный строй. Быть может, здесь решающую роль играла его изначальная сосредото
ченность на текстах, на знаково-символических системах, которые, освоив богатый опыт антипсихологической фор мальной школы, Выготский считал подчиненными иным правилам, чем психические реакции индивидов. Соци альное для Выготского — это прежде всего социокуль турное. Все упомянутые Выготским «ловушки» для по имки психологических законов устроены по типу такой организации, которая рассчитана на производимый по средством речевых знаков психологический эффект. И трактовке последнего опять-таки сказалось своеобразие* позиции Выготского. Подобно тому, как социальное для него — социокультурное, психическое — всегда телесно психическое, всегда сопряжено с объективным актом по ведения, будь то эмоциональный взрыв или мысль, пред варяющая движение (при исполнении команды). Отсюда и установка Выготского на неклассическую трактовку исходной «клеточки» психики. Такой «клеточкой» он не мог признать ни элементы непосредственного опыта, с которыми имела дело эмпирическая психология (ощуще ния, восприятия, ассоциации и др.), ни «гештальты» новой структурной психологии, ни стимул-реактивные отношения бихевиоризма, ни корниловскую «реакцию». Ограниченность перечисленных понятий, ядерных для различных направлений, в том, что в их внутреннем строе не были представлены социокультурные компонен ты, которые во всех психологических концепциях считались внешними и* по отношению к индивидуальному сознанию и поведению. Лирический стих, мнемоника или воинская команда с этих традиционных для психологии позиций не могли быть признаны ее фундаментальными фактами, анализ которых позволил бы сделать «прозрачным» таинственный механизм сознания. Ведь они во всех случаях трактовались как нечто, причастное иному порядку вещей, чем феномены, образующие собственный предмет психологического познания.
Выготский опирался на факты иного рода, чем те, с которыми обычно имеет дело ученый. В качестве реалий, подлежащих разбору, выступали факты, касающиеся возвышения и падения истин, кризисных явлений, теоретических дискуссий, методов, языка и т.п. Если понятия, категории, факты, в которых представлена реальность душевной жизни людей, отнести к уровню мышления «первого порядка», то изучение самих этих понятий и
фактов следует считать делом мышления «второго порядка».
Здесь выступает особая задача: саму науку превратить в объект специальной рефлексии. Именно эту задачу, требующую перехода на уровень мышления «второго порядка», Выготский решал в рукописи о кризисе психологии. До Выготского никто из советских психологов не только не принимался за эту задачу, относимую ныне к особой «науке о науке» (науковедению), но и вообще не осознавал, что подобная задача существует. Обсуждение вопросов теории и логики познания издавна относилось к философии. Для Выготского рефлексия о науке означала не ее философское исследование в его традиционном понимании, а метанаучное прослеживание событий ее реального исторического бытия.
Методологическую конструкцию Выготский мыслил как изначально историческую. Но ведь история имеет дело с неповторимыми событиями. Методология охватывает устойчивые инвариантные формы и способы анализа. Как в таком случае возможна методология на исторической основе? Ответ Выготского заключался в указании на то,, что закономерность, повторяемость присущи самому процессу познания, его историческому бытию. Из объективной логики развития процесса, скрытой за неповторимостью событий, записанных в памяти науки, извлекаются общие формулы, из которых выводимы и предсказуемы эти события. «Закономерность в смене и развитии идей, — замечает Выготский, — возникновение и гибель понятий, даже смена классификаций и т.п. — все это может быть научно объяснено на почве связи данной науки 1) с общей социально-культурной подпочвой эпохи, 2) с общими условиями и законами научного познания, 3) с теми объективными требованиями, которые предъявляет к научному познанию природа изучаемых явлений на данной стадии их исследования, т.е. в конечном счете — с требованиями объективной действительности, изучаемой данной наукой»1.
Историзм в воззрениях на науку был нераздельно связан в учении Выготского с принципом системности. Он неизменно трактовал ее как внутренне связанную систему. Каждый ее элемент, будь тот факт или термин,
методический прием или теоретический конструкт, получает свой смысл от целого, которое проходит ряд фаз, сменяющих друг друга с неотвратимостью, подобной переходу от одной исторической формации к другой. Фаза кризиса захватывает все элементы науки как цело го, в том числе ее термины, за которыми стоят понятия. Проблеме языка в методологическом анализе науки Вы готский придавал особое значение. «Язык, — писал он, обнаруживает как бы молекулярные изменения, которые* переживает наука; он отражает внутренние и неоформив шиеся процессы — тенденции развития, реформы и роста»[452]. Язык науки — инструмент анализа, орудие мысли. Его может развивать лишь тот, кто занимается исследованием и открывает новое в науке. Открытие новых фактов и возникновение новых точек зрения на факты требуют новых терминов. Таким образом, речь идет не о таком словотворчестве, когда выдумываются новые слова для обозначения уже известных явлений, подобно наклеиванию этикетки на готовый товар, а именно о словах, которые рождаются в процессе научно го творчества.
Одним из выражений кризиса в психологии явилось то, что ее язык страдал пестротой, неточностью, мифоло гичностью. Между тем ни одна наука не может нормаль но развиваться, если она не вырабатывает собственной язык. Огромную роль языка в развитии и совершенство вании науки, отмечал Выготский, можно видеть на при мере физики, химии и особенно математики. А «психо логический язык современности, прежде всего, недоста точно терминологичен; это значит, что психология не имеет еще своего языка»[453]. Словарь психологии представ ляет собой конгломерат из трех групп слов: 1) обиходно го повседневного языка, который не может стать языком науки, так как его слова смутны, неточны, полисемичны;
2) философского языка, во-первых, потому, что они многозначны вследствии борьбы философских школ, и, во-вторых, они теряют связь со своим прежним смыслом;
3) заимствованных из естественных наук и употребляс мых в переносном смысле (например, энергия, сила, ин тенсивность и др.). Научные термины, взятые из других наук, прикрывают ненаучные понятия. Язык не нейтра
лен и не пассивен по отношению к науке; он ее активный компонент, непосредственный участник всех событий, происходящих в науке. Слово — термин в вышеотмечен- ном смысле — является главным орудием интеллекта в исследовательском процессе. Оперирование им выступает как творческая операция, позволяющая вскрыть в психической реальности новые, неизведанные пласты.
Проблему работы над термином Выготский соотносил с использованием экспериментальной техники, уделив внимание тому, что он любил называть «философией прибора». Поскольку психология является экспериментальной наукой, то для решения своих задач она применяет различные аппараты, приборы, устройства, выполняющие функции орудий. Однако развитие экспериментальной техники в психологии таит опасность ее фетишизации и может породить надежду на то, что само по себе применение экспериментальной техники способно открыть новые научные факты. Подобное увлечение аппаратной техникой без теоретических предпосылок, без понимания того, что она играет лишь вспомогательную роль, наносит ущерб научному творчеству, порождает, по выражению Выготского «фельдшеризм в науке». «Фельдшеризм в науке», по Выготскому, — это отрыв технической исполнительной функции исследования обслуживание аппаратов по известному шаблону) от научного мышления. Такой отрыв отрицательно сказывается и на самом мышлении, поскольку вся тяжесть исследовательской работы переносится с оперирования словами- терминами на бездумное оперирование приборами. В результате слова, не наполняясь новым содержанием, начинают оскудевать, перестают выполнять присущую им роль важнейших инструментов мышления.
История науки являлась для Выготского огромной лабораторией, гигантским «испытательным стендом», где проходят проверку гипотезы, теории, термины, принципы организации знания. Прежде чем заняться экспериментальной психологией, он проник в деятельность этой лаборатории. До того как его объектом стали мышление и речь ребенка, он рассмотрел плоды умственной работы людей в ее высшем выражении, каковым является построение научного знания. Его как бы направляло известное положение, что высокоразвитые формы дают ключ к раскрытию тайн элементарных. Он говорит, например, о том, что слово представляет «эмбрион науки».
Анализирует не эту эмбриональную форму (к рассмотрению которой перейдет через несколько лет), а функцию научного термина — слова, несущего высшую напряженную интеллектуальную нагрузку. Вот он обсуждает вопрос об «обороте понятий и фактов с прибылью понятий» применительно к истории познания. Впоследствии масштабы меняются. Выясненное на макроуровне ведет к объяснению развития понятий у детей. За трактовкой коллективного разума науки как особой системы последовало учение о системном строении индивидуального сознания. За сравнением научных понятий с орудиями труда, которые от употребления изнашиваются, последовала концепция, согласно которой понятия как средства освоения мира и построения его внутреннего образа в ходе онтогенеза претерпевают эволюцию.
Все коренные вопросы познавательной активности человека — соотношение эмпирического и теоретичес кого, слова и понятия, способы оперирования понятием как особым орудием и благодаря этому изменение его предметного содержания, реального, практического дей ствия и его интеллектуального коррелята — сначала рассмотрены на материале развивающегося научного знания. Лишь после того, как они были выверены на этой особой культуре, Выготский обратился от исто рического опыта к психологическому.
За несколько десятилетий до того, как на Западе в философских исследованиях науки сложилась, в противовес постпозитивизму, так называемая историческая школа, Выготский разработал новаторский проспект методологического анализа научного знания с позиций историзма. Особый интерес к указанной школе вызвало ее обращение к кризисам, революциям, катастрофам в науке. Одной из самых популярных ее книг стала ра бота Томаса Куна «Структура научных революций», где роль кризисов в динамике научного знания рассматривается главным образом на материале истории физики. Выготский обратился к объяснению динамики кризисных явлений в другой науке — психологии. Но своеоб разие потрясений, которые она испытывала, он осмы сливал сквозь призму общих и, как мы могли убедить ся, глубоко новаторских воззрений на природу научного познания и перспектив проникновения в его внутренний строй. Для него аксиоматической служила идея о закономерном преобразовании этого строя, о том, что твор
ческие порывы отдельных школ и их лидеров обусловлены объективной логикой развития науки, в категориях которой дано «сгущенное» знание о реальности, каковой она существует сама по себе, безотносительно к познавательной активности субъекта — индивидуального или коллективного (научной школы или научного сообщества). Таковыми выступили в трактовке Выготского принципы научного объяснения процесса научного познания. Он детально отображался им, применительно к одной из дисциплин, как закономерный процесс, имеющий собственную логику развития. Постулировалось, что эта логика созидается и сменяет свои формы не в сфере «чистой» мысли, но на имеющей особую «стать» социокультурной подпочве соответственно объективной природе познаваемых вещей. Сама же эта природа выступает перед исследовательским умом с присущими ей тайнами и загадками в том обличье, которое она обрела на уровне постигнутости этих тайн, благодаря энергии мысли. Поэтому не только субъект научного познания, но и его объект изначально историчны. В онтологическом плане объект имеет одну историю,- в эпистемологическом — другую. Выготский прославился как исследователь умственного развития ребенка. Мы видели, что построению научной модели этого развития, имеющей онтологический смысл, предшествовал творческий полет мысли Выготского на эпистемологическом уровне.
С.Тулмин (США)
МОЦАРТ В ПСИХОЛОГИИ
I
Длительное время после Французской революции сохранялся разрыв между физиологами Франции и их коллегами в Англии. Отчасти этот разрыв явился следствием наполеоновских войн, вызвавших волну патриотизма в Англии. Но в основном именно революция усугубила недоверие консерваторов и враждебность англичан ко всему, связанному с Францией.
А во Франции в эти годы происходил великий подъем в физиологии. Работы Биша, Флоренса, Ленека и
Магенди закладывали тот теоретический фундамент, на котором позднее Клод Бернар построил первую действи тельно современную физиологическую теорию «гомеоста тических систем», стабилизирующих изнутри живой ор ганизм. В Англии же продолжали господствовать ста рые, консервативные, статичные концепции. Такие авто ритеты, как Хантер и Абернети, сомневались, является ли даже жизнь (не говоря уже о духе) продуктом про стой анатомической «организации». С их точки зрения, от новых теорий «за каналом» разило грубым материа лизмом, приемлемым только для тех, кто «поддерживает тиранов и цареубийц».
Вильям Лоренц в «Естественной истории происхож дения человека» писал, что в Англии всякий, кто «игра ет» идеями, распространенными во Франции, оценивает ся как союзник «французских атеистов». Чарльз Дарвин многие годы — со студенческих лет в Эдинбурге вплоть до публикации в 1871 году «Происхождения человека» жил в страхе прослыть материалистом. И только в конце XIX века «научная физиология» пробила себе путь м Британии.
Нечто подобное произошло и со многими американ скими психологами, которые оставались в стороне от важнейших открытий в русской психологической науке после первой мировой войны. Значительная часть фунда ментальных работ советской психологии 20-30-х годов теоретических и экспериментальных — оставалась неим вестной в США и лишь сейчас благодаря усилиям, энер гии и инициативе Майкла Коула из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке становится более или менее доступной американскому читателю.
Профессор М.Коул редактирует ежеквартальный журнал «Советская психология» (сборник переводов ста тей) и является ответственным за выпуск двух из трех томов антологии «Советская психология развития». И если Майкл Коул до сих пор редактирует новые выпус ки работ Выготского, то это он делает не потому, что пи тает слабость к архивной работе, а потому, что убежде'н: «Существенная часть того, что было сделано в России < 20-х по 30-е годы, соответствует американским исследо ваниям сегодняшнего дня».
Теперь, когда на английский язык переведено мною материалов, в том числе и ключевые работы советских авторов, возникают вопросы:
1. Что мы можем почерпнуть из этих материалов? Правы ли Майкл Коул и его коллеги? Действительно ли американская психология, отдав 50 лет напряженного труда таким областям знаний, как академическая психология, нейроклиника, лингвистика, теория обучения, проглядела нечто очень существенное, что было сделано советскими учеными?
2. Почему советская психологическая литература игнорировалась до сих пор? Неужели это была дань разногласиям между нашими странами и как возможно подобное в середине двадцатого века? Как могло случиться, что большая группа видных физиологов и психологов — целая школа! — работала на протяжении 40 лет, публиковалась в России и тем не менее оставалась неизвестной на Западе?
Ответы на эти вопросы связаны между собой. Разница в теоретическом подходе, методе и философии между нашими странами привела к различиям и в организации исследований, а последние поддерживали разногласия в теории и философии. И изначальные установки, и интеллектуальные факторы отгородили западных ученых- бихевиористов от достижений советской школы. Только сейчас мы получили возможность изучить эти достижения и включить результаты советских исследований в практику нашей науки.
II
Центральной фигурой в советской психологии 20-30-х годов был Лев Семенович Выготский. В июле 1934 года в возрасте 37 лет он умер от туберкулеза. Последние годы его жизни были лихорадочной гонкой в соревновании с приближающейся смертью. (Возможно, он был последним из умирающих от чахотки гениев, применительно к которым понятие «лихорадочный» приобретало все свои значения.) Он оставил после себя не школу, а скорее группу страстно преданных ему товарищей, которые продолжали работать в открытых им направлениях; позже они внесли свой вклад в психологию частично благодаря своим работам во время войны над проблемами «афазиологии» (или клинической неврологии), частично благодаря исследованиям в области методики обучения.
Самым выдающимся среди последователей Выготского был А.Р.Лурия — человек с необычайно широким кругом талантов и интересов[454]. Вслед за Выготским —Мо цартом в психологии (подобно тому, как Сади Карно был Моцартом в физике) — Лурия сумел стать Бетховеном, просто его судьба была более удачной. Но весь бо гатый спектр возможностей, представленный в работах Лурии, которые можно назвать пограничными между нейрофизиологией, лингвистикой и теорией обучения (хотя и в менее глубоко проработанной теоретической форме), — все это начато в дискуссиях с Выготским и его коллегами в начале 30-х годов[455].
Выготский начинал не как психолог. Сразу же после революции 1917 года он специализировался в МГУ как литературовед, и его первое исследование относилось к области литературной критики по «Гамлету» Шекспира, в результате чего получилась книга «Психология искус ства» (переведенная на английский в 1971 году). С этой подготовкой Выготский был скоро вовлечен в круг дие куссий в Московском институте психологии на тему о «социальном и культурном в структуре сознания». Эти дискуссии велись с 1924 года, когда директором институ та стал К.Н.Корнилов. Энергия и оригинальность Вы готского быстро сделали его лидером в дискуссиях. А вскоре он занялся медициной, чтобы овладеть кругом проблем нейрологического и психиатрического характе ра, имеющих отношение к проблемам понимания, фор мирования понятий и к проблемам сознания. До самой своей преждевременной смерти он оставался доминирую щей фигурой во всех дебатах по вопросам психологии.
Однако даже в Советском Союзе только в конце 50-х годов работы Выготского стали оказывать влияние на на учную психологию. На Западе же его имя до 1962 года было известно лишь в связи с изящным тестом с исполь зованием кубиков в детской игре для определения дет ского способа формирования понятий. Благодаря этому
тесту он с успехом пересмотрел ранние взгляды Пиаже на роль внутренней (эгоцентрической) речи в развитии ребенка. Публикация на английском языке в 1962 году книги Выготского «Мышление и речь» дала возможность американским читателям почувствовать особенную остроту аналитического подхода этого ученого. Но только сейчас мы получили возможность познакомиться с его теоретическими изысканиями благодаря появлению сборника работ Выготского, вышедшего под редакцией Майкла Коула и его коллег, носящего изумительное название «Разум в обществе».
В книге изложены обстоятельства жизни и деятельности Выготского; в нее вошли разделы из четырех работ Выготского. Это главным образом не опубликованная ранее монография «Орудие и знак в развитии ребенка», датированная 1930 годом, и глава из «Истории развития высших психических функций», вышедшей в России в 1960 году. Книга обладает двумя важными достоинствами. Во-первых, она была подготовлена при активном участии Лурии и потому, несомненно, авторитетна, и, во-вторых, она дает нам возможность убедиться во всеобъемлемости теорий Выготского, чего мы давно ждали и без чего его работы по мышлению и речи казались одноаспектными.
III
На всем протяжении короткой научной жизни Выготского его главное внимание было сосредоточено на проблеме сознания, а именно на том, как, в каких видах представлено сознание в жизни индивида в интеллектуальном и нейрологическом планах. По мнению Выготского, к этой проблеме нельзя подходить ни с позиции «основные функции генетически наследуются», ни с позиции «все приобретается исключительно в результате взаимодействия со средой». Выготский не принимал ни теории «наследственности» в смысле, развиваемом сегодня Хомским, ни «внешнего обусловливания» в терминах Скиннера. Он настаивал на том, что эти два подхода сами по себе не являются единственно возможными, и обрушивал на них критику в рамках теории «развития».
В процессе своего становления ребенок под влиянием воспитания и приобретенного социального опыта «присваивает» себе определенные способы восприятия, мыш
ления и поведения. Он социализируется и усваивает культуру. (На языке советских исследований сознание ребенка приобретает «структуру» на базе «культурно-исторических» условий.) В рамках этой проблемы Выготский пытался выяснить, как происходят эти изменения и каковы их общие закономерности. С его точки зрения, они неизбежно развиваются на базе определенных физиологических и неврологических условий, но вместе с этим зависят не только от генетического развития, взросления индивида, но и от внешнего воздействия среды. В терминах психологии Выготский показывал, как присвоение культуры, социализация и развитие мышления обретают свою форму во внутренней жизни ребенка, особенно под влиянием внутренней речи. В терминах неврологии он пытался выяснить, как социальные, культурные, языковые и интеллектуальные навыки, приобретаемые индивидом в период становления, представлены в корковых областях нервной системы.
Придя к вопросам развития ребенка от эстетических и литературно-критических исследований, Выготский особенное внимание уделял роли языка для умственного становления ребенка. Особенно тщательно он изучал, как ребенок использует знание языка в приобретении самостоятельным навыков. Обычно эти навыки вначале отрабатываются и тренируются в социально-обучающих ситуациях, рядом и вместе с другими человеческими приобретениями, под влиянием и при коррекции со стороны окружающих и самого языка. Далее они консолидируются в самостоятельных играх путем разговоров с самим собой и постепенно становятся частью непродумы- ваемого арсенала способностей. Вначале это сконцентрированные темы внутренней речи ребенка, затем — его внутреннее мышление.
В своей первой монографии «Мышление и речь» Выготский знакомит нас со своими мыслями об интериори- зации с помощью внутренней речи: процессы операций, вычислений и т.д. выполняются вначале вслух в ситуации зрительного восприятия и управляемого обучения, затем они присваиваются ребенком, повторяются им про себя, с тем чтобы позднее уйти в план внутреннего мышления. (Те, кто читал книгу Выготского, не смогут забыть его блестящих мыслей и иллюстраций из Достоевского и Толстого, с помощью которых он доказывает
свою идею о «компрессии» внутренней речи, о том, как «облако мысли» конденсируется в слово.)
Издание книги «Разум в обществе» позволит оценить достижения Выготского в более широком контексте, понять, что в этом вопросе сделано до сего времени на Западе. Особенно ясно мы представляем теперь одну из центральных идей Выготского о значении и роли языка и символического мышления при формировании интеллекта. И язык, и символы Для Выготского являются в буквальном смысле слова психологическими инструментами, с помощью которых формируется наш ментальный внутренний мир, подобно тому как мы используем обычные инструменты для придания формы любым материалам «внешнего мира».
В то же время, готовясь к деятельности нейропсихолога, Выготский работал и над вопросами о роли центральной нервной системы в консолидации и мобилизации наших способностей. По этим вопросам работы Лурии и его коллег продвинули психологию далеко вперед. Это было сделано несколькими способами. Некоторые работы являются исследованиями по развитию нормальных и отсталых детей. В других работах изучаются патологические изменения, которые произошли со взрослыми людьми в результате травмы, что позволило выявить более ранние и скрытые стадии формирования той или иной способности или навыка.
Лурия показал, что у людей, выросших в алфавитной культуре, навыки чтения и письма представлены главным образом определенными зонами в слуховых областях коры мозга, несмотря на активное участие зрения при формировании этих навыков. Доказательства он находил в двух фактах. Во-первых, у русских, больных афазией, нарушения в слуховой зоне приводили к распаду или к деградации навыков письменности и чтения, а у больных китайского происхождения этого не наблюдалось. Во-вторых, было замечено, что русские дети в процессе обучения письму всегда проговаривают про себя слова во время письма. Если их заставляли прикусить кончик языка между зубами, число ошибок при письме возрастало в шесть раз.
В любом случае (как отмечал Лурия) понимание речи по крайней мере в языковых культурах формирует лингвистические навыки.
Идеи Выготского, касающиеся использования детьми беззвучной речи в качестве орудия в создании интеллек туальных навыков, созвучны западной философской тра диции (так, Платон рассматривал «мышление» как ра;» говор с самим собой. Выготский знал о своих философ ских предках: он оставил после своей смерти незакончен ную рукопись о страстях у Спинозы и Декарта. Однако его работа дает нам новые пути облечения в плоть и кровь того, что ранее было абстрактными, общими спеку ляциями. Теперь мы знаем, что «разговор с самим собой» является одним из главных инструментов, ис пользуемых ребенком при создании своего мышления как внутреннего процесса, имеющего преимущества авто номии и экономичности1.
Это изменение Выготский интерпретирует как иллю страцию того, как «интенциональность» берет верх над «причинностью», когда ребенок становится взрослым. Это один из путей видения Выготским дильтеевской ди хотомии между №1:иг и Се151:, или между «физикалист скими» и «интенционалистскими» объяснительными мс тодами.
В целом работы Выготского о роли языка переклика ются с поздними работами Витгенштейна. Вспомним «языковые игры» Витгенштейна, где прослеживается роль языка в формировании поведенческих актов и их проявлении, отставленном во времени. Но в работах Вы готского дан ряд интересных рассуждений, отсутствующих в работах Витгенштейна. Возьмем, например, дискуссию об «абстракции», занимающую философов со времен Джона Локка (это имеет отношение к вопросу о взаимосвязи языковых и неязыковых компонентов «лингвистических игр»). Возникают вопросы: зависит ли понимание смысла всей ситуации только от слов или слова могут быть абстрагированы от всех других компонентов и «смысл» может быть вне слов? Могут ли животные формировать «общие идеи» без использования какого- либо языка?
Результаты размышлений Выготского показывают, что на этот вопрос нельзя дать общего однозначного от-
нета. Взаимоотношение языковых и неязыковых элементов любого комплекса изменяется при переходе от одной формы жизни к другой.
На доречевой стадии первые элементы речевой игры проигрываются без прямого использования языка. Затем в течение решающей, формирующей стадии язык — общественный, или внутренний, или оба служат «строительными лесами», внутри которых остальной комплекс создается, накапливается и консолидируется. Наконец, на стадии зрелого взрослого человека лингвистические элементы теряют все мнемические функции и становятся чисто символическими. Когда это происходит, они выступают как независимые или абстрактные. Это дает новый подход к ряду вопросов, например, в какой мере «значение» является одинаковым для ребенка здорового и больного с мозговой травмой, или шире — в какой мере можно расценивать «значение» как абсолютно одинаковое или совершенно различное для индивидов в различные моменты жизни.
Интерес и важность работ Выготского и Лурии частично объясняются их анализом того, как различные слои коры связаны с оперированием понятиями (этот вопрос подробно рассмотрен в книге Лурии «Высшие корковые функции»).
IV
В своем введении к «Разуму в обществе» Майкл Коул и Сильвия Скрибнер привлекают наше внимание к Вильгельму Вундту, который был основоположником психологии XX века как для России, так и для Америки. Вместе с тем интересно, что в обеих странах в учении Вундта были развиты разные части. На Западе Вундт воспринимается чаще всего как основатель экспериментальной психологии, как ученый, который расширил применение методов психофизики Вебера и Фехнера и применил их в отношении интроспективных данных сенсорного опыта.
По мнению самого Вундта, экспериментальный метод в психологии имеет ограниченное применение: он может успешно использоваться только при изучении умственных процессов на низшем сенсорном уровне и непригоден для исследования тех «концептуальных» или «высших» психических процессов, которые сформированы в
зависимости от социальных и культурных факторов. Как писали Коул и Скрибнер, Вундт в качестве своей экспериментальной задачи выбрал описание содержания человеческого сознания и его отношения к стимуляции извне. Его метод состоял в том, чтобы проанализировать составляющие элементы отдельных стадий сознания, которые он определял как простые ощущения.
Вундт предположил, что сложные ментальные функции, или, как их тогда называли, «высшие психические процессы» (произвольное запоминание и дедуктивное доказательство, например) в принципе не могут изучаться экспериментально. Он утверждал, что такие функции могут изучаться с помощью исторических исследований продуктов культуры, таких, как народные легенды, обы чаи и языки.
Покидая мир болевых, световых и других «простых ощущений», мы попадаем в мир сложных и культурно обусловленных сфер. Большая часть высших ментальных феноменов не сводится к результатам универсальных, механически понимаемых причин, но варьируется от культуры к культуре. По мнению Вундта, это не озна чает, однако, невозможности их изучения. Просто к ним нужно подходить как к продуктам исторического разви тия человеческой культуры и общества. Говоря словами самого Вундта, они являются предметом исследования не столько экспериментальной психологии, сколько истори ческой психологии народа (Уо1к5р5усЬо1о81е).
Единственная часть исследований Вундта, которая получила развитие в США, — это его экспериментальная программа. Эта часть его работ была введена в США учеником Вундта Титченером и при этом отделена от своей исходной теоретической части, теоретического контекста; далее она была обобщена и принята в качестве модели «психологических исследований*. Большинство американских ученых «проглядело» ту часть работ Вундта, где указывалась необходимость изучения «психологии нации».
Таким образом, в Америке не обратили внимания на мысль Вундта о культурно-историческом характере всех «высших психических процессов» и на тщетность поиска универсальных причинно-следственных связей в сфере «высших ментальных функций».
Что же касается России, то там благодаря историческому материализму, построенному на философии Маркса
и Энгельса, а также благодаря ранним работам Сеченова изначально развивался культурно-исторический подход к проблемам психологии. Русские психологи избежали искушения принять формулу «научного метода» с позиций позитивизма, и их исследования естественным образом продолжили именно ту заданную Вундтом линию, которая обращалась к Уо1кзр5усЬо1о81е.
Это не означает, что они приняли во внимание предупреждение Вундта о том, что «высшие психические процессы» нельзя изучать с помощью экспериментальной психологии, — просто с самого начала они строили свои работы, принимая во внимание культурные и исторические факторы. Сила работ Выготского состоит, в частности, в том, что он в своих эмпирических исследованиях отказался начать с выделения предмета, подлежащего экспериментальному изучению, ибо сделать это — значило бы вырвать его из контекстуальных ключевых связей, как это сплошь и рядом делали психологи Запада. Он всегда рассматривал индивида в его связях с «культурно-исторической ситуацией».
V
Приняв во внимание два аспекта вундтовской психологии, легко понять, почему исследования в России и Америке пошли в разных направлениях. С точки зрения советской психологической школы американская психология фрагментарна и идет по разным идеологическим направлениям. За последние 50 лет в Америке было выполнено громадное количество работ в различных областях психологии, неврологии, лингвистики и педагогической психологии. Но они не объединены общей теоретической платформой, которая помогла бы интегрировать получаемые результаты. Поэтому различные области американской психологии разобщены.
Принятый позитивистский подход привел к тому, что бихевиористские методы проникли всюду, в множество никак не сообщающихся между собой, часто узкоспециализированных дисциплин. Ученые-бихевиористы так организовывали свои исследования, что преобладающим стал принцип: чем ^же и определеннее ставится вопрос исследователя, тем он более «научен». Так, например, зачастую задача исследования сводится к получению статистических корреляций между числовыми значениями 22*
«поддающихся подсчету» вариативных данных. Даже н предисловии Майкла Коула и Сильвии Скрибнер в книге «Разум в обществе» дается поразительное замеча ние — извинение редакторов за Выготского: «Ссылки Выготского на экспериментальные исследования, прово димые в его лаборатории, иногда оставляют некоторое* чувство неловкости. Он почти не приводит никаких фак тических экспериментальных данных, и его выводы очень общи. Где статистически обработанные тесты, до казывающие, что приведенные наблюдения верны? Уче ные, пользующиеся методами экспериментального подхо да, должны вычеркнуть Выготского из числа тех, кто до бывает факты путем эксперимента, и причислить его к тем, кто предсказывает, теоретически намечает перепек тивы развития науки»[456].
И вот пример: американские психолингвисты, вместо того чтобы изучать, как дети в целом продвигаются и функциональных «языковых играх», грубо говоря, про сто подсчитывают, как ребенок усваивает, скажем, грам матическую категорию будущего времени. Многие запад ные неврологи, изучая мозговые нарушения у взрослых, не обращаются к ранним стадиям формирования той или иной функции в детстве или на более ранних этапах (я сразу исключаю из числа таких ученых Нормана Геш винда из Гарварда, благодаря которому я сам когда-то впервые познакомился с работами Лурии и Выготского).
Никто на Западе даже не осмеливается интегриро вать в своих работах, подобно Лурии и Выготскому, синдромы афазии, общие для разных культур способы мышления, развитие интеллекта близнецов и особенное ти феноменальной памяти человека (Лурия). Не многие* американские психологи осмелились бы на такие по пытки.
Опять-таки с точки зрения советской психологичес кой школы американские бихевиористы поляризуются (из-за отсутствия культурно-исторического подхода) по
двум линиям, резко противопоставленным одна другой в философском аспекте: идеализм и механистический материализм. Поэтому они так мало уделяли внимания тем вопросам, которые, по Выготскому, являются решающими, а именно процессам, в которых мир «идей» и мир «материальных условий» обнаруживают свое общее историческое начало — в их воплощении в жизни отдельного ребенка, и это естественный результат его социализации и приобщения к культуре.
Вспомним недавнее разделение психологов языка в Америке на «нативистов» (это трансформационные грамматисты в духе Ноэма Хомского, идущие от понятия о врожденности универсалий языка) и радикальных бихевиористов («все от среды») в духе Б.Ф.Скиннера. В основе разногласий между двумя группировками в психологии было различие в подходе к онтологии. Скиннер считал, что все внутренние проявления интеллекта суть эпифеноменальные побочные продукты воздействия среды. По Хомскому, интеллект имеет исключительно «внутренний» характер и проявляет себя в тех или иных формах поведения, то есть ментальность присутствует в человеке от рождения и ждет лишь своего «выражения».
Ни одна из оппозиционных сторон не обратилась к вопросу, поставленному еще Выготским: каким образом ментальные операции (например, языковые) становятся «внутренними» в процессе культурного формирования сознания? Скиннеру вопрос интериоризации неинтересен, так как, по его мнению, внутреннее владение языком не отличается от внешнего ничем, кроме свернутости. Для Хомского такой вопрос вообще иррелевантен, так как он считает, что язык задан человеку от рождения.
Подобные разделения в Америке существуют и в других областях знания, например, в антропологии, в диспутах об автономии культуры. С одной стороны, Клиффорд Гирц и Маршал Сах лине настаивают на интенцио- нальном описании феноменов культуры с нацеленностью на «смысл» этих феноменов в духе гуманитарных наук. А антрополог Марвин Харрис объясняет факты культуры как прямой результат материальных условий, которые формируют культуру. Социобиологи ищут «материальные причины» культуры еще глубже, в самой генетике.
И никто не подходит к проблеме социализации и присвоения культуры так, как это делают представители советской психологической школы.
«Идеалисты» полагают, что мы — существа Культуры от рождения. «Механистические материалисты» настаивают на том, что присвоение Культуры — это реакция биологической Природы на варьирующиеся условия среды. И в обоих случаях не осознается научная значимость теории присвоения Культуры (развиваемой школой Выготского), которая явилась бы звеном, могущим соединить враждующих идеалистов и грубых материалистов.
VI
Советская психология воспринималась американцами на протяжении последних 50 лет как чуждая и неприемлемая для Запада. Единственное имя, известное Америке, конечно, Павлов. Мало того, работы Павлова о рефлексах и выделении слюны у собак в результате подкрепления поддерживали предрассудки на Западе в отношении советской системы в психологии, создавали впечатление об особенно грубом материалистическом подходе к человеку, чуть ли даже не «бесчеловечном», редукционистском. Как ни парадоксально, но такая точка зрения поддерживалась и неправильными интерпретациями и даже просто неверными переводами.
Что касается самого Павлова, то он никогда не распространял свою теорию о рефлексах на высшие человеческие психические функции, то есть вовсе не сводил разумное поведение человека к реакциям на стимулы внешней среды. Напротив, центральные проблемы, затронутые в его работах, касались разницы между рефлексами, проявляющимися как безусловные, и теми, которые проявляются только в определенных условиях.
Как же произошло, что павловские условные и безусловные рефлексы в переводе трансформировались в «обусловливающие» и «обусловленные»? Это случилось вследствие потери контекста павловского учения в процессе его трансформации в западный вариант, в контекст бихевиоризма. Если сам Павлов подходит к индивиду как к активному, действующему организму, то на Западе Павлова превратили в механистического детерминиста, грубого материалиста.
И вот, спустя много лет после такого неудачного начала, американцы, наконец, получают возможность познакомиться с советской психологией, главным образом благодаря книге «Разум в обществе».
Можно утверждать, что успехи советской психологии объясняются прежде всего ее ориентацией на культурно-исторический подход к психологическим проблемам. В результате достигнута высокая интеграция междисциплинарных наук и их взаимное обогащение. В частности, именно тот факт, что Выготский с самого начала опирался на марксистский исторический подход, позволил ему выйти на оригинальный путь исследования развития ребенка. По Выготскому, эти «структуры» являются продуктами процессов вхождения ребенка в социально-культурную общность. Именно материализм помог Выготскому и его сотрудникам выбрать это направление.
Поэтому мы должны понять, что полные уважения ссылки Выготского и Лурии на Маркса и Энгельса совсем не являются данью политике. Этого не в силах понять даже почитатели Выготского на Западе. Например, когда у нас впервые публиковалась книга «Мышление и речь», издатели Евгения Ханфам и Гертруда Вакар сочли нужным убрать многие ссылки на идеи Маркса и Энгельса как не относящиеся к делу. Подобно тому как салонные картезианцы в конце XVII века рассматривали ссылки Декарта на Бога и Созидание как дань приличиям того времени, так и переводчики Выготского отнеслись к ссылкам как к дани времени. Это была крупная ошибка издателей.
Выготский был счастлив называть себя марксистом. Историко-материалистический подход обеспечил успех его научным изысканиям; это была философия, которая вооружила его, дала ему базис для интеграции таких наук, как психология развития, клиническая нейрология, культурная антропология, психология искусства. Это то, чем сейчас мы, психологи Запада, должны заняться всерьез.
Мы не имеем права недооценивать значения исторического материализма, если хотим справедливо оценить заслуги советской психологии и то значение, которое имели марксистские идеи для развития теории человеческого поведения и развития ребенка. Иначе мы окажемся в положении британских анатомов и физиологов,
которые в начале XIX века ниспровергали французскую психологию из-за «атеистичности». Тогда мы, а нг Лурия и Выготский, окажемся не учеными, а только проводниками идеологии.
VII
В заключение: если американцы не смогут создать достаточно сильную теорию, подобную «историческому материализму», теорию, которая обладала бы столь же мощной интегрирующей силой, я думаю, наши попытки будут обречены на расщепление, разобщение. Тогда веет да будут существовать среди психологов два лагеря. И одном все приписывается исключительно Природе. Там занимаются только тем, что видят в природе человека только универсальное, неисторичное, свободное от куль туры, общества и его изменений, только некие «общие законы». В другом воспринимают Культуру как нечто самостоятельное, как автономную область исследования, воздвигнутую над Природой, область*, внутри которой царит лишь бесконечная вариативность и изменчивость и нет никаких «общих законов».
Что касается меня лично, я рассматриваю такую по ляризацию как крайне бесперспективную. Достаточно того, что на заре XX века все сводилось к Ое15^е5^155еп зсЬаЛеп — к гуманитарным наукам. Это можно оправ дать только необходимостью противопоставления до марксистскому вульгарному материализму. Сегодня мно гие волнующие проблемы поведения человека и в психо лингвистике, и в психологии развития ребенка, и в фи лософии нравственности лежат в пограничной зоне, на стыке исследований Природы и Культуры, то есть между естественными и гуманитарными науками. Поэтому мы не должны избегать никаких новых направлений мысли, лежащих между Вундтом и Дильтеем, мы должны интегрировать наши знания о Культуре и Природе, признать вариативность и богатство исторических и культурных различий, воплотить их в общих процессах социализа ции и присвоении Культуры.
Я уверен, что многие из нас, кто прочел блестящие работы Выготского и его соратников, не могли не воспринять представления о единстве Природы и Культуры и не использовать этот подход в своих работах. Это стало базисной теоретической ориентацией для многих из
пас, где бы мы ни работали: по вопросам внутренней речи или афазии, функции мозга или аффективных компонентов работы мозга, развития эстетического восприятия и т.д. Это положение станет ясным всем, кто прочтет книгу под редакцией Майкла Коула и его коллег, она найдет достойных себя читателей.
Когда в своем заключении к книге Выготского «Психология искусства» (английское издание) В.В.Иванов писал: «Работы Выготского открыли путь к унификации биологических и социальных исследований, и... продолжение его работ может иметь такое же значение, как описание генетического кода...», — мы тогда восприняли это как преувеличение. Но такая оценка справедлива. Мы на Западе слишком долго оставались поляризованы дихотомией Дильтея, и нам нужно приложить еще много труда, чтобы преодолеть недостатки и с успехом продвинуться вперед.
«Вопросы философии», 1981.
Вернадский Владимир Иванович (1863—1945)
Выдающийся естествоиспытатель и философ, основоположник геохимии, биогеохимии, радиогеологии, учения о биосфере. Академик АН СССР. Разработанное им учение о ноосфере широко обсуждается в современной мировой философской и научной литературе.
Соч.: Размышления натуралиста. Кн. I. Пространство и время в неживой и живой природе. М., 1975; Кн. II. Научная мысль как планетарное явление. М., 1977; Философские мысли натуралиста. М., 1988.
И.И.Мочалов В.И.ВЕРНАДСКИЙ
Выдающийся естествоиспытатель, мыслитель-энциклопедист, гуманист, специалист в области наук о Земле, основатель ряда новых научных направлений, организатор науки, педагог, общественный и политический деятель, историк, публицист Владимир Иванович Вернадский (1863—1945) является одним из крупных представителей русской философской мысли конца XIX — первой половины XX веков. Своеобразие Вернадского-фило- софа состояло в том, что его философские воззрения были теснейшим образом связаны с естественнонаучным творчеством как главным делом жизни, с одной стороны, и его непросто складывавшейся индивидуальной биографией, во многом типичной для русского интеллигента-ли- берала переломной эпохи истории России, — с другой.
Сведения о жизненном пути, научном и философском творчестве В.И.Вернадского читатель найдет в книгах: Аксенов Г.П. Вернадский. М., 1994; Баландин Р.К. Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие. М., 1979; Моча- лов И.И. Владимир Иванович Вернадский (1863—1945). М., 1982. Первые по времени характеристики Вернад
ского как философа принадлежат Н.О.Лосскому и В.В.Зеньковскому (см.: Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991, с. 385-386; Зеньковский В.В. История русской философии. Том II. Часть 2. Л., 1991, с. 19-21). Философские, общенаучные и социально-исто- рические труды самого Вернадского (многие из них были изданы посмертно) наиболее полно представлены в его книгах: 1. Очерки и речи. Выпуски 1-Н. Пг., 1922;
2. Биогеохимические очерки. М.—Л., 1940; 3. Проблемы биогеохимии. М., 1980; 4. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М., 1987; 5. Кристаллография: Избранные труды. М., 1988; 6. Труды по всеобщей истории науки. М., 1988; 7. Труды по истории науки в России. М., 1988; 8. Философские мысли натуралиста. М., 1988; 9. Начало и вечность жизни. М., 1989;
10. Биосфера и ноосфера. М., 1989; И. Труды по биогеохимии и геохимии почв. М., 1992; 12. Труды по геохимии. М., 1994; 13. Живое вещество и биосфера. М., 1994; 14. Публицистические статьи. М., 1995; 15. О науке. Том I. М., 1996. Библиографию трудов Вернадского и работ, посвященных его жизни и творчеству, см. в книге: Владимир Иванович Вернадский. Материалы к биобиблиографии ученых. Серия геологических наук. Выпуск 44. М., 1992.
* * *
Уже предварительная эскизная характеристика В.И.Вернадского как натуралиста способна дать представление о том, насколько органично его научное творчество прямо либо опосредованно пересекалось с фундаментальными философскими проблемами, нередко включало их в себя.
Науки, научные концепции, направления, к которым так или иначе был причастен Вернадский, можно разделить на две группы. К первой относятся те, которые были созданы исключительно благодаря его усилиям, либо в создании которых он принимал непосредственное участие: 1) генетическая минералогия; 2) геохимия; 3) радиогеология; 4) учение о симметрии и диссиммет- рии как проявлениях качественно различных состояний пространства-времени земных и космических тел и процессов; 5) учение о живом веществе — совокупности растительных и животных организмов — как ведущем гео
логическом факторе эволюции земной коры; 6) биогеохимия; 7) концепция биосферы; 8) учение о естественных — вещественных и духовных — производительных силах как природно-историческом фундаменте развития общества; 9) концепция автотрофности человека и человечества; 10) учение о науке как планетарном явлении, ведущем факторе эволюции человечества, определяющем его космическое будущее; И) концепция ноосферы.
Все эти дисциплины и направления в контексте их истории, их прошлого, настоящего и будущего, качественно неравноценны. Среди них можно выделить такие, процесс становления которых в целом уже завершился (1-3); далее, те, которые еще переживают период своей молодости (4-7); наконец, такие направления, которые четко еще не оформились и расцвет которых, выявление всех заложенных в них потенциальных возможностей принадлежит будущему (8-11).
Ко второй группе относятся те науки и научные направления, в создании которых Вернадский, непосредственного участия не принимал, но в их разработку и развитие внес свой вклад, зачастую непреходящей ценности. Это — геометрическая кристаллография, кристаллофизика, кристаллохимия, теория строения силикатов, общая (теоретическая) геология и география, учение о газовом режиме Земли, почвоведение, история природных вод, гидрология, гидрогеология, гидрохимия, радиология, радиохимия, общая (теоретическая) биология, космическая биология, экология, космическая химия, метеоритика и проблемы космической пыли, проблемы космологии, учение о человечестве как геологическом факторе, история российской и мировой науки, история становления и развития научного мировоззрения, структура, логика и методология научного знания, социология науки и проблемы ее организации.
Философские воззрение В.И.Вернадского складывались и развивались в течение всей его сознательной жизни под непосредственным воздействием как его собственного научного творчества, так и изучения истории и современного ему состояния науки и философии Запада и Востока, социально-исторической практики человечества, личного опыта. Вернадский решительно отвергал делавшиеся в разное время попытки причислить его к идеалистам, материалистам, виталистам, механицистам и т.д. Подобно Д.И.Менделееву, в философии он считал
себя реалистом. Но, по сравнению со своим учителем, Вернадский сделал еще один шаг вперед, рассматривая в качестве вечных и неуничтожимых субстанциальных оснований мироздания не только материю (вещество), энергию (силу, движение) и дух (разум, сознание), но также и жизнь (живое вещество). Все поистине эпохальное значение этого шага начинает раскрываться лишь в самое последнее время в связи с исследованиями следов внеземной жизни американскими и российскими учеными.
Вселенная рассматривалась Вернадским как единое организованное целое; им же было введено разграничение систем на механические и организованные, что предвосхитило некоторые идеи кибернетики и общей теории организации. Вернадский отрицал разделение пространства и времени на независимые сущности, рассматривая их также в их внутренней органической целостности. Три разреза реальности — мега-, микро- и макрокосмос, утверждал Вернадский, взаимно проникают и обусловливают друг друга, и потому человек — не случайный гость в мироздании, но необходимое звено в его эволюции, хотя, возможно, частный и отнюдь не самый высший вариант проявления разума во Вселенной. Оснащенные современным научным знанием разум и труд человека являются движущими силами эволюционного перехода биосферы (сферы жизни) в качественно новое состояние — ноосферу (сферу разума).
* * *
Кем был В.И.Вернадский по преимуществу, чем ценен он для нас, современников? Воспользовавшись емким и точным словосочетанием Даниила Андреева («Роза Мира»), на этот вопрос можно было бы ответить так: Вернадский был гениальным вестником высшей реальности во всех трех ее ипостасях — реальности человеческой, планетарной, космической.
Вернадский был выдающимся геологом. Этим сказано много, но далеко не все. В геологии он совершил не один революционный прорыв в ранее неведомые области познания, и ныне самая «старая» в нашей стране геологическая школа Вернадского, своими корнями уходящая в 90-е годы прошлого столетия, насчитывает сотни первоклассных исследователей, продолжает интенсивно расти
и развиваться. Уже одного этого было бы достаточно, чтобы обессмертить имя ученого.
Все это так, но будет большой ошибкой, если мы забудем или не поймем, что Вернадский совершил нечто значительно большее. Не только геологию, но и другие науки, в которых он творчески работал, он попытался органично связать с космосом и человеком, а по сути сделал первую, во многом удавшуюся попытку вывести естествознание как целое на уровень того принципиально нового, пользуясь терминологией его ученика и друга украинского натуралиста Н.Г.Холодного, антропокосмичес- кого мировоззрения, в котором высшая реальность предстает в виде, наиболее адекватном своей природе.
Не раз Вернадский отмечал, что современного натуралиста все более охватывает неудовлетворение узкими размерами Земли и даже Солнечной системы, искание мировой космической связи, стремление к такой картине мироздания, в которой жизнь и разум не низводились бы на роль неких мелких и несущественных «подробностей»... Не случайно все фундаментальные труды Вернадского характеризуются, по удачному выражению близко знавшего Вернадского в студенческие годы и впоследствии внимательно следившего за его творчеством Н.А.Ру- бакина, «космическим размахом», пронизаны «духом космической реальности».
В творчестве Вернадского этот космический размах являлся, можно сказать, универсальным, временами принимая формы, для обывательского сознания несколько неожиданные. К примеру, что может быть более обыденным и тривиально заземленным, казалось, более далеким от космоса, чем... лужи? Каждому человеку известный процент своей жизни приходится «шлепать» по лужам, но редко кто задумывается на тем, какова их планетарная роль, космические причины их образования, их место в механизме регуляции биосферы. Между тем, именно эти вопросы обращают на себя пристальное внимание Вернадского в его «Истории природных вод». За густой сеткой дождя, весенним таянием снегов, разливами рек он пытается раскрыть планетарно-космические процессы образования луж — явления, по его словам, в масштабе Земли не менее грандиозного, чем тучи, пресные воды рек или озер, и, как и последние, играющего огромную роль в динамическом равновесии биосферы.
Интересы и поиски Вернадского были очень своеобразны, они не укладывались в рутинные схемы работы рядового естествоиспытателя. С одной стороны, Вернадский глубоко осознавал и переживал связь своей мысли с земной природой. Не случайно столь возвышенно-поэ- тичны его труды, посвященные биосфере, жизни, живой природе. С другой стороны, мысль Вернадского упорно стремилась прорвать тесные для нее рамки Земли, выйти в космическое пространство. Словно маятник, разум Вернадского колебался между этими полюсами — биосферой и космосом, стремясь связать их воедино, высвечивая космическое в земном и земное в космическом.
Однако «предельные точки» качания маятника в познавательном плане являлись явно неравноценными: равновесие «Земля — космос» вопреки реальности было резко смещено в сторону Земли. Это несоответствие буквально мучило Владимира Ивановича, оно стало проникающей через все его творчество проблемой, решения которой могли быть только частичными и относительными и, следовательно, никогда не дававшими полного удовлетворения. В этом состояла жизненная драма Вернадского — мыслителя и философа.
Разрешения этой драмы Вернадский при своей жизни не ждал. Его он относил в отдаленное будущее человеческой истории, когда масштабы ее длительности станут сопоставимыми с размерностью геологического времени. В этом будущем следует ожидать возникновения принципиально нового вида, который придет на смену Ното за- р1епз. Биологическая структура человека, в первую очередь структура мозга, отмечал Вернадский, будет изменена по существу, и этот организм выйдет за пределы Земли и Солнечной системы в иные миры космоса.
Человек будущего освободит себя от рабской зависимости от остального растительного и животного мира, доставляющей ему в борьбе за источники питания столько тяжких забот и приводящей его нередко к преждевременной смерти от голода и болезней. Благодаря научным и технологическим достижениям человек встанет сначала на путь искусственного синтеза необходимых для его жизнедеятельности пищевых продуктов и веществ, что приведет к существенному увеличению продолжительности жизни и резкому сокращению смертности. Затем, в более отдаленной перспективе, человек постепенно преобразует себя в принципиально новый автотрофный ор
ганизм, который будет способен, подобно растениям и даже с неизмеримо большей эффективностью, чем они, непосредственно усваивать из окружающей среды вещества, перерабатывая их, как в своего рода саморегулирующейся и высокоточной химической фабрике, в потребные ему органические продукты.
Это будет означать, отмечал Вернадский, что человек победит смерть в себе. Он станет потенциально бессмертным. Однако избавиться полностью от смерти, вызываемой внешними случайностями, конечно, никогда не удастся. Напротив, чем продолжительнее будет жизнь, в пределе стремясь к бесконечности, тем более будет возрастать вероятность вторжения в нее тех или иных случайностей. Гибель потенциально бессмертного индивида окрасится в новые, нам сегодня не известные тона.
Рисуя путь Вернадского к постижению высшей реальности, исследователи обычно сосредоточивают свое внимание на тех науках, концепциях, идеях, гипотезах, автором (или соавтором) которых он был. Но высшая реальность постигалась Вернадским не только извне, путем усвоения, переработки, обобщения колоссальных массивов информации. Она постигалась им также и изнутри, из себя самого, своей личности, своего Я. Более того, толчок к началу такого постижения поступал обычно изнутри, и только потом к процессу подключались «внешние механизмы». Но и после этого внутреннее отнюдь не исчезало, не испарялось: уходя в тень, на второй план, оно постоянно, незримо присутствовало в творческом процессе.
Сам Вернадский неоднократно и с некоторым удивлением и недоумением отмечал эту таинственную и малопонятную для него самого сторону своей души. «По природе своей я мистик», — записал он однажды в дневнике и в разные годы многократно варьировал эту мысль. Часто вспоминал он, по его выражению, «чудный образ» Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь». Отсюда — огромное, всепроникающее тяготение Вернадского к искусству вообще и особенно к музыке, этому, как он говорил, «языку неизреченных мыслей». Идея органичного единства искусства и науки проникает все творчество Вернадского, разрабатывается им во многих его трудах, особенно посвященных истории науки и научного мировоззрения, биографиям ученых.
Это единство внешнего и внутреннего, помимо психологического, довольно рано в жизни Вернадского обрело также и глубокий этический характер — того категорического императива созидания Добра, которому Владимир Иванович неуклонно следовал во всей своей не только научной, но и общественной и политической деятельности, в своих отношениях к близким и далеким людям — родным, друзьям, сотрудникам, ученикам и просто знакомым и который сам он определял как стремление к идеалу «личной святости».
* * *
В творчестве В.И.Вернадского глубоко отразился переход от одной, ранее господствовавшей теоретической системы знания — описательно-аналитической, феноменологической по преимуществу, к новой — объяснительно-синтетической по своему существу, типичной в целом для современного естествознания. Не случайно поэтому антипозитивистская тенденция столь характерна для всего мировоззрения Вернадского. Однако он не ограничился только критикой некоторых основных позитивистских схем и утверждений. В его работах были рассмотрены многие принципиальные теоретические вопросы, касающиеся сложившейся в современной науке гносеологической ситуации. Эти вопросы — о соотношении эмпирического и теоретического, анализе и синтезе, интеграции и дифференциации, логике и методологии, формах научного познания и многие другие — рассматривались им либо на фоне истории естественных наук, либо в тесной связи с нею и нередко входили органической составной частью в его общую историко-научную концепцию. В мировой науке Вернадский был одним из первых, кто ясно осознал огромную важность в современных условиях разработки вопросов науковедения, исследования феномена науки средствами самой же науки, и внес в становление этой дисциплины вклад, сохраняющий все свое значение и по настоящее время.
Вернадский не только развивал узкоспециализированные области знания — он работал прежде всего по преимуществу над крупными узловыми проблемами, носящими комплексный характер, в силу своей фундаментальности и общности стоящими нередко, как он отмечал, «на границе научно известного». Но именно на сты
ках наук, на полях их пересечений, встречных движений, прорывов в неизвестное как раз и возникают новые фундаментальные естественнонаучные и философские проблемы. Поэтому в работах Вернадского мы сталкиваемся не с односторонней связью, идущей только от науки к философии, но со связью двусторонней, взаимно обогащающей обе эти формы творчества. Этим объясняется высокая, если не сказать высочайшая, оценка Вернадским позитивной роли философии как целого — всех ее течений и направлений всех времен и народов — в развитии науки, естествознания в том числе.
Очень ярко двусторонность связи науки и философии в творчестве Вернадского отразилась непосредственно на такой важнейшей, во многом определяющей стороне его мировоззрения, как биокосмические его взгляды, идеи и концепции.
Почему в данном случае об этих последних уместно говорить именно как о биокосмических, а не просто как о биологических, что более понятно и привычно? Дело в том, что биологические воззрения Вернадского, входя органической частью в его научное мировоззрение, сами в свою очередь представляют собой в подлинном смысле целый биокосмос, в систематическом виде охватывающий все три «разреза» реальности — микро-, макро- и мега- миры, выступающие в качестве различных по свойственным им закономерностям, но внутренне взаимосвязанных и между собой взаимодействующих уровней проявления живого.
По этим причинам антропокосмическая составляющая философских воззрений Вернадского, о которой говорилось выше, не может быть сколько-нибудь верно изображена, а тем более понятна и объяснена, помимо другой составляющей — биокосмической. Обе они в их единстве определили творческий путь Вернадского в науке и философии, стали фундаментом его научного мировоззрения. Схематично это можно было бы представить примерно следующим образом (в прилагаемой схеме «стрела времени» направлена снизу вверх).
Уже при беглом обзоре схемы на передний план вы ступает целостность, монолитность научного творчества и мировоззрения Вернадского. Биокосмические (левая часть схемы) и антропокосмические (правая ее часть) компоненты, как легко видеть, развиваются из единого основания, имеют один и тот же корень — почвоведение,
|
|
кристаллографию, минералогию, геохимию. Особо важные функции выполняет геохимия, она — несущая конструкция всей системы, и так (или примерно так) обстояло дело в самой действительности. В процессе зарождения и развития геохимии — как это происходило в творчестве Вернадского (что оставило существенное его отличие от творческого пути других основоположников геохимии, например, Ф.У.Кларка и В.М.Гольдшмидта) — происходило постепенное ее расщепление (при сохранении и обогащении ее проблематики) на биологическую и гуманитарную ветви эволюции.
В 1920-е годы все биокосмические компоненты мировоззрения Вернадского уже достигли достаточно степени завершенности. Понятно, что о «завершенности» здесь можно говорить только в относительном смысле, имея в виду создание Вернадским оснований учения о живом веществе, биогеохимии и концепции биосферы. Достраиванием и расширением своего «биокосмического здания» Вернадский неуклонно занимался до самых * последних дней жизни.
В системе этих воззрений ключевое положение занимает понятие живого вещества — совокупности всех растительных и животных организмов планеты. Благодаря введению этого понятия Вернадским был достигнут по меньшей мере двойной эффект. Во-первых, были оставлены в стороне как не относящиеся к делу различные псевдотеоретические и спекулятивные изыскания относительно «сущности» жизни как таковой. Во-вторых, живые организмы стали признаваться компонентами земной коры столь же естественными и «равноправными», как минералы и горные породы, но намного превосходящими последние по своей геохимической активности, что особенно ярко проявляется в геологической деятельности человечества — составной части живого вещества планеты.
Отсюда следовали — и в этом, пожалуй, заключалось главное своеобразие исходной позиции Вернадского — возможность и необходимость изучения живых организмов и их сообществ не только в традиционно биологическом плане, но также и как объекта геологии. Этот произведенный Вернадским в научном познании поворот «системы отсчета», необходимость которого была обоснована им с большой убедительностью и глубиной, оказал подлинно революционизирующее воздействие не только на
биологию и геологию, но и на весь комплекс наук о Земле.
Создавая свое учение о живом веществе, Вернадский подверг детальному анализу такие проблемы как, составные элементы, структура, свойства и функции, формы существования, динамика и статика живого вещества и пр. Учение Вернадского о живом веществе — это учение о живой природе как целостной и вместе с тем внутренне дифференцированной системе на макрокосмическом уровне ее бытия, и потому в арсенале познавательных средств и проблем этого учения, наряду с собственно химическими, существенное значение приобретают механические, физические, а также математические методы и проблемы.
Понятие живого вещества отнюдь не отменяет те подразделения классификации живой природы, которые достаточно давно установлены в биологии и стали для нее традиционными. Это обстоятельство является весьма существенным, так как свидетельствует о сохранении глубокой преемственности между биокосмосом Вернадского, с одной стороны, и классическими проблемами биологии — с другой. Живое вещество проявляет себя на всех уровнях организации, конкретизируясь в каждом случае в зависимости от того, идет ли речь о биоценозе, популяции и т.д., в пределе охватывая всю живую материю Земли, коль скоро предметом исследования становится биосфера как целостная система.
Следующая компонента биокосмических воззрений Вернадского — биогеохимия. Предмет этой науки кратко можно было бы определить как исследование живого вещества в геохимическом аспекте. Поскольку же главная задача геохимии — изучение истории атомов земной материи, постольку биогеохимия (ив этом заключается ее отличие от учения о живом веществе) следует живую природу на микрокосмическом уровне ее существования, движения, эволюции и взаимодействия с неживой материей.
Становление биогеохимии сочетало в себе процессы дифференциации и интеграции. С одной стороны, биогеохимия созидала себя, отпочковываясь от геохимии, — и здесь происходил процесс дифференциации, аналитического расчленения исходной материнской науки. Но, с другой стороны, дочерняя наука одновременно с этим усваивала разнообразную биологическую проблематику,
смыкалась с биологией, и в этом случае на передний план выступал уже процесс интеграции, синтеза. Возникновение биогеохимии носило, таким образом, сложный аналитико-синтетический характер, что определялось в конечном счете спецификой и реальным содержанием исходного понятия живого вещества, в котором эти противоречия и их единство уже как бы были заложены в свернутом виде.
При всей относительности различий между биогеохимией и учением о живом веществе, все же может быть обнаружен такой класс проблем, где эти различия проявляются достаточно определенно. Для примера можно сослаться на проблему «изотопы и живое вещество», в основе которой лежало выдвинутое Вернадским в середине 20-х годов и впоследствии блестяще подтвердившееся предположение о способности живых организмов избирать из окружающей среды определенные изотопы химических элементов — вывод, имевший большое общебиологическое и медицинское значение. Сугубо микрокосми- ческий и в этом смысле преимущественно биогеохимичес- кий характер данной проблемы очевиден.
Увеличивает монументальное здание биокосмического мировоззрения Вернадского его концепция биосферы. Она создавалась Вернадским в основном в 1916—1926 годах в тесной связи с биогеохимией и учением о живом веществе. Коренное своеобразие данной концепции состоит в том, что она позволяет рассматривать живую природу Земли как целостную систему на мегакосмичес ком уровне ее бытия, в ее взаимодействии с вещественноэнергетическими процессами, протекающими в земных, околоземных и отдаленных пространствах космоса.
Концепция биосферы представляет собой обобщение столь высокого порядка, что она уже не может рассматриваться просто как одно из частных направлений развития естественных наук. Отнюдь не утрачивая качества конкретной естественнонаучной дисциплины (благодаря прежде всего опоре на прочнейший эмпирический фундамент биогеохимии и учения о живом веществе), концен ция биосферы в то же время заключает в себе такое ко лоссальное мировоззренческое содержание, что с полным основанием может рассматриваться также и как одно им крупнейших философских обобщений XX столетия в об ласти естественных наук с потенциально неисчерпаемы ми возможностями своего дальнейшего развития и совер
шенствования. (Впрочем, с известными и весьма существенными основаниями сказанное может быть отнесено и к биогеохимии и, особенно, учению о живом веществе).
Свою концепцию биосферы как особой планетарной оболочки Земли Вернадский создавал в ряде работ, посвященных проблемам живого вещества и биогеохимии, и особенно в монографии «Биосфера» (1926). Он обстоятельно рассмотрел как в этих трудах, так и в позднейших, такие вопросы, как: границы биосферы, место биосферы в ряду других оболочек Земли, биосфера и атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера и космос, вещественная структура и химический состав биосферы, ее энергетика и геохимические функции, биогеохимические циклы в биосфере, саморегуляция биосферы, биосфера как организованная система и ряд других.
Все биокосмические компоненты мировоззрения В.И.Вернадского покоятся на следующей фундаментальной идее. Живое вещество, выступая в роли геологически активного химического агента, не только приспосабливается к внешней среде, но и само, в свою очередь, созидает эту среду в существенных ее чертах, действенно ее формирует и преобразует и тем самым приспосабливает ее к себе, создавая благоприятные условия для максимального проявления своих геохимических возможностей. Обнаружение и исследование на обширнейшем естественноисторическом материале многоплановой диалектики взаимодействия живого и неживого, активности живой материи, в ходе обменных процессов с неживой природой преобразующей среду своего существования, — вот, пожалуй, то главное, что в общетеоретическом и философском плане характерно для учения о живом веществе, биогеохимии и концепции биосферы Вернадского.
Для всего биокосмического мировоззрения Вернадского, всех его компонентов, по существу, общей является проблема жизни и разума во Вселенной, которая рассматривалась им в различных планах.
Первый — жизнь в условиях земного космоса. В биологическом мировоззрении Вернадского этот аспект проблемы основной и, естественно, наиболее полно разработанный (поскольку связан с земными условиями существования живых организмов и человека). Его исследованию посвящены рассмотренные выше три главных, между собой связанных и друг с другом взаимодействующих компонента: учение о живом веществе (макрокос
мос), биогеохимия (микрокосмос) и концепция биосферы (мегакосмос), — представляющие собой остов био- космического мировоззрения Вернадского, наиболее достоверную его часть, поскольку она опирается на совокупность строго установленных фактов и эмпирических обобщений (на что обращал внимание сам Вернадский).
Однако дело этим далеко не ограничивается: остов обрастает различного рода идеями, догадками, предположениями, совокупность которых также составляет весьма важную часть биокосмического мировоззрения Вернадского. Это уже часть (и данное обстоятельство также подчеркивалось Вернадским) не столь достоверная, сколько вероятностная, скорее область постановки про блея, нежели устоявшихся решений, но проблем захватывающе интересных, ибо ставились они перед наукой и философией умом поистине гениальным.
Субмикрокосмос и жизнь. Оказывает ли какое-либо влияние на свойства и проявления жизни лежащий за атомами уровень материи — электроны, другие элементарные частицы, иные субмикрообъекты — их свойства, структуры, присущие им типы симметрии и т.п.? Такой вопрос явственно ставится Вернадским в 20-е годы, и столь же определенно ученый склоняется к положительному ответу на него. Сейчас хорошо известно, что дальнейшее развитие биологии, как это и предвидел Вернадский, пошло в направлении позитивного разрешения занимавших его в первые десятилетия XX века вопросов, о чем убедительно свидетельствует возникновение субмоле- кулярной биологии, радиационной генетики и т.д.
Проблема жизни в условиях астрономической Вселенной. В этой плоскости Вернадским ставятся следующие вопросы. Представляет ли собою жизнь столь же неотъемлемо присущую космосу форму бытия, как вещество, поле, энергия? Существовал ли когда-либо космос, полностью лишенный жизни? Если космос немыслим без материи и энергии, то мыслим ли он вне всяких проявлений живого? Не является ли жизнь во Вселенной столь же вечной, как вечен и сам космос? Не представляет ли в таком случае жизнь самостоятельную космическую силу, которую мы должны принимать во внимание при построении научной картины мира и в наших возможных в будущем практических расчетах? Уже сама постановка этих вопросов явственно говорит о том, в каком именно
направлении Вернадский искал ответы на них — и здесь его прозорливая мысль далеко опережала свое время.
Другой вопрос — каковы возможные формы существования живого вещества в космосе? Логично предположить, отмечал Вернадский, что во Вселенной живое вещество может быть представлено не одними лишь планетарными сгущениями, подобными земной биосфере. Простейшие организмы, устойчивые к губительным для высокоорганизованных форм воздействиям внешней среды (низкие температуры, высокий уровень радиации и т.п.), могут существовать также в межпланетных пространствах, переносясь вместе с метеоритами и космической пылью.
В 1920-е годы Вернадский в принципе не отрицал возможности абиогенеза и одним из первых обратил внимание на ряд важнейших условий его осуществимости (диссимметрия, изменение изотопического состава исходных химических соединений и другие факторы), получивших в настоящее время признание в различных концепциях возникновения жизни на Земле. Однако, не считая абиогенез строго доказанным научным фактом (что соответствует положению вещей и на сегодняшний день),-Вернадский полагал, что проблема возникновения жизни на Земле в отдаленные периоды ее существования теснейшим и неразрывным образом связана с проблемой образования на нашей планете биосферы как определенной геологической оболочки, вне и помимо которой жизнь на Земле не существует и, видимо, не существовала и в прошлом. Это придает проблеме возникновения жизни на Земле сложный и многоплановый характер. В такой постановке данная проблема выходит за рамки одной только биологии и смыкается с рядом проблем астрофизики и космохимии, космологии и астрономии и др. Впоследствии — в 1930-40-е годы — проблемы абиогенеза Вернадский специально уже не касался, рассматривая ее как сугубо спекулятивную гипотезу и утвердившись в убеждении субстанциальности жизни, ее вечности и неуничтожимости.
Признание того, отмечал Вернадский, что жизнь и живое есть общее проявление космоса, коренным образом меняет положение биологических дисциплин в системе научного знания. Их удельный вес в построении научной картины мира резко возрастает, ибо в таком случае науки биологические, наряду с физическими и хими
ческими, попадают в группу наук об общих явлениях реальности.
Явления жизни все глубже охватываются науками, связанными с исследованием атомного и субатомного уровней материи (физика, химия, радиология, геохимия и др.). А это, в свою очередь, означает, что жизнь — в атомном и субатомном ее разрезах — входит в качестве составной части в общую картину мира на его наиболее фундаментальных структурных уровнях. В этом и заключается прежде всего, отмечал Вернадский, большое методологическое значение вхождения явлений жизни в атомную научную картину космоса. Учитывая единство живого, подчеркивал он, заранее невозможно предвидеть, где остановится проникновение научно построяемо- го космоса явлениями, связанными с жизнью. Вероятно, будущее здесь чревато большими неожиданностями.
Биокосмические идеи и концепции Вернадского по степени своей синтетичности, глубине и оригинальности настолько выходили за пределы уже устоявшихся и ставших традиционными канонов биологического мышления, что далеко не сразу (а нередко и не без внутреннего сопротивления) были восприняты многими учеными. Однако к настоящему времени положение начинает меняться сравнительно быстро, и сейчас трудно указать представляющие сколько-нибудь существенную общебиологическую значимость теории и направления, развиваемые как отечественными, так и зарубежными биологами и экологами, которые либо прямо и непосредственно, либо опосредованно не были бы связаны с учением Вернадского о живом веществе, биогеохимией и концепцией биосферы.
* * *
В.И.Вернадский решительно возражал против упрощенных трактовок разума, сознания. Он подчеркивал невозможность их сведения к известным человеку формам материи (вещества) и энергии (движения), последовательно и бескомпромиссно настаивал на качественной специфичности сознания. Эта несводимость сознания к материи и энергии, по его мнению, дает основание рассматривать сознание как часть космоса, аналогично живому веществу, — вечную и неуничтожимую субстанцию Вселенной. Сознание, подчеркивал он, есть третья
(после материи и энергии) составная часть мироздания, третья область его проявления, которую мы должны принимать во внимание. Следовательно, разум — это не земное только, но и космическое явление. Можно предположить, отмечал Вернадский, существование в космосе иных форм человеческого разума и сознания. Отсюда он делал вывод, что известная нам в земных условиях форма разума есть лишь одна из возможных бесчисленных его проявлений в космосе — проявлений, которые по уровню своего развития могут стоять на гораздо более высокой ступени, чем наш земной разум. Надо думать, отмечал Вернадский, что здесь, на Земле, в данное геологическое время перед нами развернулось только промежуточное выявление духовных возможностей жизни и что в космосе где-нибудь существуют ее более высокие в этой области проявления.
На человеческий разум и его материальный носитель — мозг нельзя смотреть как на нечто неизменное, достигшее к настоящему времени законченности и полного совершенства. Процесс эволюционного — биологического и социального — изменения разума, отмечал Вернадский, отнюдь не прекратился, он происходил не только в прошлом. Этот процесс продолжается и в настоящее время, он будет происходить также и в будущем. В дали времен, подчеркивал Вернадский, шел тот же процесс роста человеческого разума. Он шел по тем же законам, по каким идет и ныне. Поэтому разум современного человека Вернадский рассматривал лишь как промежуточное звено в длительной эволюционной цепи его прогрессивного изменения и развития. Возможности дальнейшего совершенствования человеческого разума, в нем заложенные, по мнению Вернадского, потенциально безграничны, и предвидеть все величайшие следствия этого прогресса в будущем в настоящее время вряд ли возможно.
Благодаря своему разуму и направляемому им труду человек преобразует окружающую его природную среду, активно воздействует на разнообразные материальные и энергетические процессы. В этом смысле, подчеркивал Вернадский, сознание выступает как особая сила природы, стоящая отдельно среди других известных человеку сил. В биосфере существует, отмечал он в 1925 году, великая геологическая, быть может космическая, сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе, представлениях
научных или имеющих научную основу. Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного.
К.Маркс предвидел, что в развитии научного знания в будущем наступит такое время, когда естествознание станет основой человеческой науки, включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание — это будет одна наука. И как теоретик (натуралист и мыслитель), и как практик (организатор науки и общественно-политический деятель) Вернадский стал в XX столетии одним из наиболее ярких провозвестников появления первых ростков эпохи этого человеческого естествознания как закономерного результата взаимопроникновения и синтеза есте ственных и гуманитарных наук. Особенно рельефно это проявилось в понимании Вернадским планетарной, а значит, и космической роли человечества.
* * *
Поскольку благодаря своему разуму человек производит в земной коре, главным образом в биосфере, столь значительные изменения, что они затрагивают основные природные соотношения, смещают веками и тысячеле тиями установившиеся планетарные режимы или даже заменяют их новыми; поскольку, далее, эти изменения по своей мощности становятся вполне соизмеримыми с протекающими в земной коре и на поверхности Земли разнообразными геологическими процессами (вулканизм, тектонические движения, выветривание, генезис минералов, биогенная миграция атомов и т.д.), а в ряде случаев даже их превосходит, воздействуя также на проявления космических соотношений, постольку человек выдвигается в современную эпоху на первое место в качестве ведущего геологического фактора нашей планеты. Ответственность его за судьбы Земли неизмеримо возрастает. Забота о ее сохранении и развитии становится первейшей обязанностью человека, науки и в целом научного, просвещенного разума. То, что в настоящее время относится к экологическим проблемам, в наследии Вернадского получило всестороннее отражение в первую очередь в его концепции биосферы и учения о живом веществе.
История человеческого общества, подчеркивал Вернадский, — это не только и даже не столько история войн, смен династий, дворцовых переворотов и т.п., чем нередко ограничивается гражданская историография. Это прежде всего история освоения человеком планеты. В этом контексте, отмечал Вернадский, история развития человечества, по сути дела, должным образом еще не исследована и тем более не написана. Стремление овладеть окружающей природой пронизывает и создает всю или почти всю, если иметь в виду ее основание, историю общества — эту мысль Вернадский многократно повторял и варьировал в своих трудах, письмах, дневниках. В этом смысле, отмечал он, человечество как органическая часть живого вещества продолжает далее его геохимическую (а затем и космохимическую) работу в планетарном масштабе, но уже в качественно новых — социальных по своей природе — условиях и обстоятельствах.
* * *
В своих трудах В.И.Вернадский неоднократно обращался к рассмотрению принципиальных проблем социальной истории человечества. Прежде всего он подчеркивал, что развитие человеческого общества представляет всемирно-исторический по своему содержанию процесс. Благодаря трудовой деятельности, развитию торговли и обмена товарами, мореплаванию, географическим открытиям, книгопечатанию и многим другим техническим изобретениям в ходе времени происходил и продолжает происходить неуклонный рост спаянности человеческих обществ в единое целое.
Для Вернадского как естествоиспытателя было несомненно, что общественная жизнь, при всем ее неповторимом своеобразии, не может противопоставляться или отделяться от природных явлений и процессов. Общество и природа представляют собой единое целое. С более же широкой точки зрения социальные процессы могут и должны рассматриваться как часть природных, с другой стороны, — и общество, и природа подчиняются своим объективно существующим специфическим законам.
Вместе с тем, по мнению Вернадского, глубокое своеобразие социальных феноменов, их существенное отличие от явлений природы заключается в том, что здесь важнейшую роль уже начинает играть нечто индивиду
альное и неповторимое, связанное с жизнью и деятель ностью человеческой личности.
Не возражая против принципиальной допустимости (а иногда и неизбежности) в исторических и социальных исследованиях схематизма вообще, Вернадский вместе с тем подчеркивал его односторонность, недостаточность для понимания конкретных исторических явлений. Общее, типическое в историческом исследовании должно «просвечивать» через индивидуальное, поставленное, н свою очередь, в связь с теми конкретно-историческими условиями, реальной обстановкой, частью которой оно является. Органическое единство, синтез этих сторон таков, по мнению Вернадского, идеал, к которому должно стремиться научное познание общественных явлений.
Деятельность личности, по Вернадскому, придает ис торическому процессу если и не в целом, то в весьма су щественных частях, воздействующих на целое, поливари антный, многообразный характер, где закономерное ока зывается тесно связанным со случайным, причем само это случайное выступает Как неотъемлемый мрмент исто рического развития.
Всемирно-историческая точка зрения, понимание раз вития общества как естественноисторического процесса и, наконец, учет индивидуальных «пружин» социальных явлений (исторических случайностей) представляют собой три взаимосвязанных, взаимопроникающих эле мента научной методологии истории, как и научной со циологии.
* * *
Поскольку биосфера — естественная среда, «земной дом» существования человека, отмечал Вернадский, по стольку экономисты, агрономы, животноводы, почвоведы и т.д. не могут не принимать во внимание фундаменталь ных данных геохимии, биогеохимии и других наук, так как они имеют одной из своих задач раскрыть сущест венные стороны химических обменных процессов, проис ходящих между человеком и природой. Отсюда большое значение исследований в области этих наук для правиль ной, научно обоснованной постановки сельскохозяйствен ного производства, так как именно в земледелии прежде всего деятельность человека оказывается вплетенной н сложную структуру социально-природных отношений.
Задача науки заключается в том, чтобы найти оптимальные для данного уровня развития сельскохозяйственного производства соотношения химического обмена между человеком и природой, чтобы при их наличии не только удовлетворялись потребности общества в определенных продуктах природы, но и сохранялись и воспроизводились в новых условиях установившиеся в биосфере природные режимы.
Для Вернадского качественные различия, которые существуют между природой и обществом и, соответственно, естественными и социальными науками, менее существенны и не столь глубоки, нежели те связи, которые объединяют человеческое общество и природу в нечто целостное. При этом базисом этих связей у него выступает в конечном итоге природа. Развитием и конкретизацией такого подхода к социально-историческим явлениям стало представление Вернадского о роли в эволюции общества естественных производительных сия (природных ресурсов).
Естественные производительные силы слагаются, согласно Вернадскому, из следующих трех различных по своему характеру и значению основных элементов: 1) силы, связанные с произведениями живой природы — плодородие почвы, лесные богатства, животный мир, продукты растительности, рыбные запасы и т.д.; 2) разнообразные источники энергии — сила водопадов, рек, ветра, природных газов, морских приливов и отливов и другие проявления динамических процессов на земной поверхности; 3) природные ресурсы, сосредоточенные в подземных недрах, — руды металлов и металлоидов, горячие газы, минеральные источники, нефть, каменные угли, подземные воды и т.п.
Естественные производительные силы — это природная основа создаваемых человеком «искусственных» производительных сил — орудий труда, техники, которые непосредственно связывают человеческое общество с ма- терью-Землей. Но это значит, что социальный процесс имеет свою природную основу, он невозможен без использования человеком данных ему природой производительных сил, освоения природных ресурсов. Такова, пожалуй, одна из основных идей социально-исторической концепции Вернадского.
Однако это освоение человеком окружающей его природной среды есть в своей основе процесс не только при
родный, т.е. продолжающий в новых условиях геохими ческую деятельность живых организмов, но и социаль ный, поскольку эффективность его находится в прямой зависимости от тех отношений, которые сложились в об ществе между людьми. Уровень культуры, духовного развития общества оказывает прямое воздействие на эф фективность этих процессов и, следовательно, на харак тер и темпы социального прогресса. Чем большими зна ниями, отмечал Вернадский, обладает население государ ства, большей трудоспособностью, чем больше простора предоставлено его творчеству, больше свободы для раз вития личности, меньше трений и тормозов для его деятельности — тем полезная энергия, вырабатываемая населением, больше, каковы бы ни были внешние, вне человека лежащие, условия, которые находятся в среде природы, его окружающей.
* ♦ *
«Нет ничего в мире сильнее свободной научной мыслиI» — это высказанное в афористической форме в начале 20-х годов убеждение сопровождало В.И.Вернадского всю его сознательную жизнь.
Уже при самом начале своего зарождения, отмечал Вернадский, научное мировоззрение поставило одной из своих задач овладеть силами природы для пользы человечества, и каждый из натуралистов при виде тех несчастий, страданий, при виде бедственного и тяжелого положения, в котором находится до сих пор значительная часть человечества, ясно сознает и чувствует свою обязанность работать для этого, дать необходимые для этого средства из тайников природы. Натуралист верит — более того, он знает, — что именно здесь лежит разрешение тех задач, которые грозно стоят перед всяким мыслящим и чувствующим человеком при виде людских бедствий, горя и страданий. То, что было в прошлом дано книгопечатанием, паровой машиной, электрической машиной, — лишь небольшая, ничтожная доля того, что может и должна открыть перед человечеством природа.
Историю науки Вернадский рассматривал как неотъемлемую сторону, часть социальной истории человечества. Он подчеркивал выдающееся значение крупных общественных движений и событий в истории развития научного познания, отмечал, что в становлении и развитии
*аучного миропонимания, наряду с отдельными выдаю- цимися личностями — крупными учеными, на передний 1лан нередко выдвигаются также представители трудя- цихся масс, народные «низы» (изобретатели-самоучки, >емесленники и рабочие, путешественники и т.п.). История науки представляет собой многообразное, протекаю- цее не только в одних «чисто» научных формах, деятельное освоение человеком окружающей его среды.
Особо следует остановиться на фундаментальном груде Вернадского «Научная мысль как планетное явление» (1936—1938 годы). Этот труд представляет собой выдающееся явление мировой естественнонаучной и философской литературы. В нем Вернадский подходит к тем фундаментальным научным, философским и науко- ведческим проблемам, которые к середине 30-х годов были поставлены в повестку дня всем ходом мирового Социального и научного развития человечества и которые также нашли отражение в научном, философском и публицистическом творчестве А.Эйнштейна, Н.Бора, Д.Бернала, Б.Рассела, А.Швейцера и других.
Вопросы, рассматриваемые Вернадским в этой работе, концентрируются вокруг нескольких узловых проблем. Это: во-первых, проблема современной естественнонаучной картины мира, исследуемая автором на материале таких наук, как геология, радиология, геохимия, биология, биогеохимия и др., с привлечением данных астрономии, космохимии, астрофизики, космологии; во- вторых, проблема общей теории научного знания (вокруг данной проблемы группируются такие вопросы, как гносеология, логика и методология науки, логическая структура научного знания, социальные аспекты развития науки, взаимоотношение науки и искусства, науки и религии и др.); в-третьих, проблема взаимосвязи естествознания и философии (специфика философии и философского творчества, единство естествознания и философии и его аспекты, характер взаимодействия философии и естествознания в процессе их исторического развития и др.); в-четвертых, относительно самостоятельный цикл представляют различные социально-этические, исторические и гуманитарные проблемы (этические аспекты научного творчества, ответственность ученого в современную эпоху, историческое прошлое, настоящее и будущее человечества, эволюция человеческого разума, место и роль личности в системе научного знания и др.).
Несмотря на большую разноплановость рассматривав мой Вернадским проблематики, его книга объединена одной главной концепцией — пониманием научного зна ния как глобального, геосоциального, планетарного явлс ния. Планетный характер науки понимается автором н основном в следующих аспектах.
1. Развитие науки с точки зрения исторической подчиняется таким же объективно существующим закономерностям, как и развитие любого природного явления, это есть процесс, не зависящий от субъективных желаний и интересов отдельных людей, процесс естественно- исторический, развертывание которого обуславливается социальными факторами и который на каждом этапе облекается в определенную конкретно-историческую форму; следовательно, протекающий на нашей планете процесс развития научного знания с естественноисторической точки зрения вполне может быть охарактеризован как процесс планетарный (аналогичный, например, таким планетарным процессам, как смена геологических эпох в развитии Земли, эволюция видов и т.д.).
2. Наука представляет собой фактор, активно преобразующий (посредством создания разнообразных технических конструкций) окружающую человека природную среду. Развитие науки, естествознания в особенности, неотделимо от процесса преобразования и развития природы человеком. И с этой стороны наука выступает как мощная геологическая или планетарная сила. Это особенно ярко сказывается в современную эпоху научно-технической революции.
3. История развития науки характеризуется распространением научного знания по всему земному шару, захватом им все новых стран и континентов. Научное знание в настоящее время приняло, по существу, глобальный характер, охватило всю Землю как единое целое, и в этом смысле научная мысль как с точки зрения исторических тенденций ее развития, так и с точки зрения ее современного состояния и будущей эволюции, также может квалифицироваться как явление планетарное.
Всю книгу Вернадского от начала до конца пронизывает глубокий оптимизм, непреклонная вера в подлинно гуманистическое назначение науки, призванной служить всему человечеству. Вернадский был убежден в том, что с течением времени развитие науки вширь и вглубь, приобщение к научному знанию и вытекающему из него на
учному мировоззрению народных масс в тесном сочетании с их борьбой за свое социальное освобождение неизбежно приведут к тому, что из жизни общества навсегда исчезнут варварские истребительные войны, голод, недоедание, тяжелые болезни, нищета.
* * *
Науку В.И.Вернадский выделял в особое место, рассматривая ее как самую достоверную, а потому главную форму постижения человеком мира. Но в один ряд с наукой, а также философией, искусством, нравственностью, в качестве вечной, непреходящей и неуничтожимой стороны, части общечеловеческой культуры он ставил религию.
Отношение Вернадского к религии — сложнейшая проблема, изучение которой только начинается. До недавнего времени преобладали в основном «простые» решения. Фанатичный религиозник, фидеист — так характеризовали Вернадского в 20 —30-е годы наши диаматчи- ки. Впоследствии определения несколько смягчились: верующий, сторонник облагороженной, очищенной религии и т.п., но суть осталась прежней. В последнее время появились еще более удивительные попытки зачислить Вернадского уже по ведомству атеизма.
Размышления Вернадского о своих, как он писал, религиозных переживаниях, религиозности, религиозном миропонимании и т.п. разбросаны на сотнях страниц его дневников и писем, начиная с юношеского периода и кончая последними днями жизни. Все они по-своему высвечивают этот феномен, но есть среди них запись в дневнике, наиболее близко подводящая к его разгадке. Она датирована 22 июня 1923 года (Владимир Иванович только что перешагнул 60-летний рубеж своей жизни:
«Я считаю себя глубоко религиозным человеком. Могу очень глубоко понимать значение, силу религиозных исканий, религиозных догматов. Великая ценность религии для меня ясна не только в том утешении в тяжестях жизни, в каком она часто оценивается. Я чувствую ее как глубочайшее проявление человеческой личности. Ни искусство, ни наука, ни философия ее не заменят, и эти человеческие переживания не касаются тех сторон, которые составляют ее удел. А между тем, для меня не нужна церковь и не нужна молитва. Мне не
нужны слова и образы, которые отвечают моему религиозному чувству. Бог — понятие и образ, слишком полный несовершенства человеческого».
Вернадский считал себя глубоко религиозным человеком, и по-своему так оно и было. Подобно В.Г.Королен- ко (его троюродный брат), собственную религиозность Вернадский определял как неконфессиональную, т.е. не связанную с каким-либо конкретным религиозным направлением, конфессией, свободную от исполнения соответствующей обрядности. В юности Вернадский верил в реальность личного бессмертия, рассматривал эту веру в качестве главного атрибута своей религиозности. Впоследствии от этой веры он отказался.
В начале XX века религиозность Вернадского вступила в полосу кризиса, поиска новых, адекватных ей способов выражения. В 20 —40-е годы Вернадский пришел к мировосприятию, близкому пантеизму и гилозоизму. По мнению Вернадского, бессловесным, а потому наиболее верным отражением этого мировосприятия служит музыка.
Вернадский считал, что религии принадлежит огромное будущее, но формы ее еще не найдены. К начавшимся при советской власти гонениям на церковь и верующих Вернадский относился резко отрицательно. В последние годы жизни он считал, что в будущем строе ноосферы религия укажет человечеству дорогу к выработке этики, построенной на научных основаниях.
* * *
Учение В.И.Вернадского о ноосфере (сфере, области разума) представляет собой развитие идей выдающихся французских ученых и философов Э.Леруа и П.Тейяра де Шардена, в свою очередь испытавших на себе в 20-е годы влияние научных поисков Вернадского (геохимия, биогеохимия, концепция биосферы).
Ноосферу Вернадский рассматривал в двух временных проекциях — геологической и социальной. В геологическом времени ноосфера начинает формироваться с появлением человека разумного. В разрезе социального (исторического) времени решающие предпосылки ноосферы создаются научной революцией XIX —XX веков — небывалым в истории человечества взрывом научного творчества, как подчеркивал Вернадский.
Ноосфера в достаточно развитом ее виде должна быть отнесена к историческому будущему, когда из жизни человечества окончательно исчезнут голод и недоедание, нищета и эпидемические заболевания, расовая, национальная, религиозная и иные формы вражды и нетерпимости, исчезнут большие и малые войны — организованные массовые убийства, как их определял Вернадский.
Отмечая определенное созвучие так понимаемой ноосферы с марксизмом, Вернадский вместе с тем отделял свои воззрения от «научного социализма» (кавычки Вернадского). В марксизме ярко выступает культ народных масс как творцов истории. Вернадский, не отрицая увеличивающейся роли народов в историческом процессе и приветствуя это, вместе с тем пальму первенства отдавал личности. Он отмечал, что мало верит в так называемые «массовые силы» в истории.
Всем своим творчеством и не в меньшей степени примером своей жизни Вернадский доказал, что личность — эта духовная микровселенная, стоящая на пересечении путей земных и космических, — не только мощнейший аккумулятор внешних влияний, но и активно действующая срла космоса, требующая к себе, как он подчеркивал, величайшего бережения и уважения. «Незаменимых людей нет» — этому расхожему тезису марксизма, пересаженного на российскую почву большевизмом, Вернадский противопоставил свой: «Каждый человек — незаменим!» В ходе становления ноосферы роль личностного творческого начала, отмечал Вернадский, будет закономерно возрастать, а сама ноосфера сможет проявить заложенные в ней возможности лишь в той мере, в какой личность будет освобождена от всех оков и стоящих на ее пути препятствий, в какой она действительно станет свободной.
Относя создание ноосферы к историческому будущему, Вернадский полагал, что с появлением на Земле человека разумного начался период идущего все ускоряющимися темпами становления ноосферы. Процесс этот протекал стихийно, и весь период, охватывающий многие тысячелетия существования человечества, должен быть отнесен к предыстории ноосферы. Явственный перелом наступает в XVI —XVII веках. Великие географические открытия, изобретение книгопечатания, создание науки Нового времени — таковы важнейшие вехи
этого перелома. XVIII и XIX века его углубляют. Но подлинная история ноосферы начинается с XX столетия — эпохи слившихся в единый поток величайших научных и социальных преобразований. На первых порах локально, а в дальнейшем и в глобальных масштабах сознательно и целенаправленно биосфера преобразуется в настоящем и будет преобразовываться в будущем в ноосферу трудом и разумом человека.
По существу, ноосферу Вернадский рассматривал как глобальную информационную систему, хотя понятие информации в современном его общенаучном и философском значении в его трудах, естественно, еще не встречалось. Но, разрабатывая в 30 —40-х годах концепцию ноосферы, информационным процессам он отводил первенствующую роль. В качестве переломного момента на пути человечества к ноосфере Вернадский рассматривал изобретение книгопечатания, благодаря которому реализовалась возможность накопления и передачи информации в масштабах поколений, чего ранее история не знала. Это была первая информационно-ноосферная революция.
Вторая революция является следствием современного взрыва научного творчества, охватившего фундаментальные науки и их технические приложения. Радио, телеграф, телефон, телевидение, отмечал Вернадский, покрывают своей сетью весь земной шар, благодаря чему процесс создания ноосферы принимает отвечающий ее существу глобальный характер. Становятся возможными коренные преобразования в системах организации и управления путем создания сначала региональных, а затем и глобальных управляющих органов, как всемирное правительство, планетарный мозговой центр. Это должно придать, по мнению Вернадского, становлению ноосферы ускоренный и сбалансированный характер.
Качественное изменение и преобразование протекающих в обществе информационных процессов становятся непременным условием и основанием созидания ноосферы лишь в тесном сочетании с решением тех проблем современности, которые получили название глобальных. На них Вернадский, разрабатывая концепцию ноосферы, также обращал серьезное внимание.
Ноосфера представляет собой синтез природного и социального, истории природы и истории общества. Возникновение ноосферы отнюдь не означает «отмену» при
родного, т.е. биосферы. Оно означает лишь, что в биосфере решающим фактором ее сохранения и развития становится человечество. Но этот фактор, подчеркивал Вернадский, сам является частью природы, и действует он в биосфере по ее же законам, а не вопреки им. Вернадский был убежден, что, действуя по этим же законам, человек неизбежно выйдет в будущем в космическое пространство. Уже в относительно недалеком будущем, отмечал он в 1921 году, перед человечеством выдвинется суровая сторона завоевания космоса. Таким образом, в становлении ноосферы наступит качественно новый этап распространения ее за пределы Земли, в космическое пространство.
Учение Вернадского о ноосфере — закономерный итог длительной эволюции глубоких гуманитарных и космологических тенденций его научного творчества и мировоззрения, придающий последним внутреннюю логическую стройность и завершенность. Это учение — финал создававшейся на протяжении нескольких десятков лет жизни ученого грандиозной интеллектуальной симфонии, последняя ее часть, которая по своей монументальности и внутренней силе, оптимизму и непреклонной вере в будущее сродни знаменитому хоровому финалу Девятой симфонии Бетховена с его обращенным к человечеству страстным призывом: «Обнимитесь, миллионы!»
* * *
На рубеже 30-40-х годов в силу известных причин внутреннего и внешнего характера перед В.И.Вернадским со всей остротой стал вопрос о судьбах России, будущем СССР и его народов.
Вторая половина — конец 30-х годов — время Большого террора — отмечены в целом пессимистическими настроениями Вернадского. Он констатирует с горечью и сожалением, что отдельные частные успехи в экономике, культуре, достигнутые страной под большевистским руководством, могут быть уничтожены. Безумная власть, писал он в дневнике, своими же руками разрушает то хорошее, что было создано в стране ранее, а однажды разбитое склеить будет уже невозможно. Будущее видится Вернадскому зыбким, туманным, тревожным.
С началом войны с Германией в настроениях Вернадского происходит явственный перелом. Не сомневаясь в конечной победе антигитлеровской коалиции над фашизмом, он надеется, что эта победа приведет к существенным качественным изменениям в нашей стране. Важнейший вопрос состоит в том, найдутся ли люди, которые будут способны взять на себя почин этих изменений. Вернадский надеялся, что такие люди найдутся.
Уже в первые месяцы войны у Вернадского начинает складываться определенная социально-философская концепция относительно характера будущих изменений, которые произойдут, по его мнению, в нашем обществе. В тезисной форме основные элементы этой концепции можно было бы выразить так:
по времени эти изменения произойдут по окончании мировой войны, после победы над фашистской Германией нашей страны и союзных с нами держав, так как эта победа создаст необходимые, благоприятные для этих изменений как внутренние, так и внешние условия и предпосылки;
изменения эти будут затрагивать основания социальной жизни нашей страны, они будут являться коренными, т.е. по сути своей революционными;
неотъемлемая, сущностная черта этих изменений должна и будет состоять в ликвидации большевистской тоталитарной диктатуры и в переходе нашей страны на подлинно демократический путь развития;
изменения эти закономерны, и в этом смысле они будут неизбежны в силу того, что определяются они как локальными, сложившимися в нашей стране социальными условиями и факторами, так и по той причине, что эти изменения выступят в качестве составной части процесса созидания на нашей планете ноосферы, в ходе которого вторая мировая война станет переломным этапом всемирно-исторического значения;
наконец, исторически назревшая потребность в коренных изменениях в социальной и политической жизни нашей страны должна будет с необходимостью вызвать к активной деятельности тех людей, которые эту потребность осознают.
Думается, что если ограничиться только приведенными выше несколькими тезисами, то этого будет достаточно для того, чтобы признать и воздать должное прозорливости Вернадского. Но дело в том, что сам он на этом
не остановился. В 1942 году Вернадский делает дальнейшие и весьма существенные шаги вперед в своем понимании направленности и содержания будущих изменений в нашей стране и набрасывает штрихи позитивной программы этих изменений. Сущность этой программы превосходно выражает понятие «реконструкция», которое все чаще появляется в дневнике Вернадского, его автобиографических заметках, письмах к должностным и частным лицам, записках в президиум Академии наук СССР. Как следует из их контекста, в понимании Вернадского будущая реконструкция страны должна носить многоплановый характер, она должна распространиться на все стороны материальной и духовной культуры народа. Во-первых, это восстановление того, что было разрушено во время войны, что было страной утеряно. Во-вто- рых, это сохранение в максимально полном объеме того, что не подверглось разрушению и уцелело, что представляет собой общенародное достояние. Эти два момента реконструкции очень важны, но только ими Вернадский не ограничивается. Реконструкция страны в его понимании — это также устранение с пути всего того, что мешает движению общества вперед, это снятие всех и всяческих преград и препон, ломка воздвигнутых ранее искусственных барьеров и т.д. Это преобразование в разумных пределах уже достигнутого ранее, придание ценностям культуры подлинно универсального характера. Наконец, реконструкция страны — это творчество, созидание нового во всех сферах культуры, это прогресс, постоянное движение вперед, процесс всестороннего обновления общества.
Что же должно стать базисом, главной движущей силой будущей реконструкции страны? На этот вопрос Вернадский дает четкий ответ, о содержании которого догадаться нетрудно. Поскольку, согласно Вернадскому, реконструкция нашей страны явится составной частью общепланетарного процесса становления ноосферы, максимальной силой создания которой является наука, постольку, следовательно, научный прогресс и есть основное звено послевоенной реконструкции страны. В ближайшее время, отмечал Вернадский, необходимо будет коренным образом изменить всю постановку научно-исследовательской работы в нашей стране — создать новые отраслевые и проблемные институты и лаборатории, резко поднять их техническую базу, обеспечить свободное развитие всех научных школ и направлений. Мы
должны увеличить мощь нашей науки, отмечал Вернадский. В этом отношении наша страна чрезвычайно отстала, и мы берем горбом, талантливостью народа. Эта сторона жизни должна быть коренным образом изменена. Необходимость этих преобразований, указывал Вернадский, диктуется не только внутренними потребностями восстановления народного хозяйства и дальнейшего экономического и культурного развития страны, но также и коренным изменением всей международной обстановки, которое явится следствием мировой войны, выдвижением на авансцену истории стран, ранее остававшихся в тени, и, как результат этого, общим подъемом мировой научной мысли. Важнейшим следствием войны будет коренное перераспределение ведущих международных центров научной работы. На первое место здесь выдвинутся две страны — США и СССР, которому предстоит занять положение научного лидера в ближайшие после окончания войны годы. Необходимо поэтому сделать все возможное, чтобы научная работа нашей страны в кратчайшие сроки догнала по всем показателям научную работу в США. К этим вопросам Вернадский возвращался неоднократно.
В период Великой Отечественной войны концепция предстоящих качественных изменений в нашей стране, программа будущей ее реконструкции по-своему распространяются Вернадским и на область послевоенных международных отношений. Их существенное преобразование усматривается им прежде всего в том, что, во-первых, целостность человеческого общества должна будет стать в полной мере реальным фактом и история человечества впервые примет непосредственно всемирный характер и, во-вторых, из жизни общества должны будут исчезнуть явления, тормозящие его прогресс, среди которых на первое место Вернадский ставил войны. Он считал, что в настоящее время задача уничтожения войн впервые в истории человечества перестала быть утопической мечтой и превратилась в реально поставленную задачу. Впервые человечество подняло вопрос об окончательном прекращении войн, отмечал он в 1943 году.
Таким образом, Вернадский в конце 30-х — начале 40-х годов осознавал необходимость коренных изменений в нашем обществе после победоносного завершения войны. Он предвидел не только внутригосударственные аспекты этих изменений, связанные прежде всего с демо
кратизацией нашего общества, но, что не менее важно, отметил также и международный контекст их. К сожалению, намеченные им сроки этих изменений оказались отодвинутыми в будущее на многие десятилетия.
* * ♦
В.И.Вернадский явил миру совершенно особый тип философа. По характеру своих интересов и решаемых им фундаментальнейших проблем Вернадский был философом в естествознании и естествоиспытателем в философии. Это объясняет совершенно особое место, которое занимает он в русском космизме как философском течении.
Совершенно поразительна и, по-видимому, в современной науке пока не имеет аналогов философская эрудиция Вернадского. Многолетние дружеские отношения связывали его с крупнейшими русскими философами
С.Н. и Е.Н.Трубецкими, П.Н.Новгородцевым, Л.М.Ло- патиным, П.А.Флоренским, Н.О.Лосским, Э.Л.Радло- вым, творчество которых он высоко ценил.
Диаматчики, представители единственно верной «научной философии», Вернадского не понимали, ибо он был выше их разумения, а не понимая — не любили. Вернадский видел, что на деле представляли собой эти «философы» и каковы были те условия, в которые их поставил тоталитарный режим. Однако, полагал Вернадский, при том голодном философском пайке, на который в советском государстве была посажена интеллигенция, отказываться вовсе от изучения диалектического материализма, особенно вступающим на самостоятельный путь молодым ученым, было бы опрометчиво: лучше иметь хоть какое-нибудь понятие о философии, чем никакого.
Вернадский — крупнейший представитель российского либерализма, в образе жизни, деятельности, пристрастиях и оценках оставшийся до конца своих дней верным либеральным убеждениям. Естественно, большевистский тоталитаризм был глубоко враждебен Вернадскому. В дневниках 20 —40-х годов мы находим множество записей, свидетельствующих об этом. Но антикоммунистом Вернадский не был. Напротив, ему, выросшему из студенческого братства и всю жизнь чувствовавшему локоть своих стареющих «братьев», была близка и понятна общечеловеческая идея сострадания, сотрудничества и вза
имопомощи. И когда Вернадский писал о «пожирании советскими коммунистами друг друга», о появлении н элитарных слоях большевиков «все больше типажей, достойных пера Гоголя и Щедрина», в этом не было ни тени злорадства...
Идеологически Вернадский, как он сам отмечал, был чужд основам как капиталистического, так и социалистического строя и был убежден, что в будущих судьбах человечества и России выявится нечто новое. Его он видел в строе ноосферы. Фундаментом и одновременно строительными лесами этого нового, по мнению Вернадского, должен стать невиданный еще в истории человечества феномен — планетарная наука. На ее созидание на протяжении многих десятилетий и были направлены его усилия.
Наука во всех своих ипостасях — как система знаний, как способ деятельности, как социальный институт отразилась в творчестве Вернадского. В значительной степени по этой причине наследие Вернадского представляет огромную гуманитарную ценность, а сам он предстает как выдающийся ученый-гуманист. Так, еще в годы первой мировой войны Вернадский уловил созревание* острейшего кризиса морального сознания в среде ученых в связи с античеловечными применениями научных достижений в целях разрушения и массового убийства людей; со всей остротой в 1915, а затем в 1922 году он поставил вопрос о грозящей человечеству опасности самоуничтожения в мировой ядерной войне, подчеркнув особую социальную и нравственную ответственность, ложащуюся на ученых в этой критической ситуации. В конце 30-х годов, в канун второй мировой войны Вернадский пророчески предсказал, что возникшее в ученой среде и неудовлетворенное чувство моральной ответственности за происходящее убежденность ученых в своих реальных для действий возможностях не могут сойти с исторической арены без попыток своего осуществления.
Общественная и политическая деятельность, публицистика, письма и особенно дневники Вернадского однозначно свидетельствуют о том, что до конца жизни он оставался демократом, являлся принципиальным противником как самодержавно-монархического авторитаризма, так и советско-большевистского тоталитаризма. Внезапно обрушившиеся на Вернадского в 20 —30-е годы «идеологические» гонения встретили с его стороны решительное
сопротивление и морально закалили его. Со стеснениями свободы мысли и слова он никогда не мирился, ведя многие годы непримиримую борьбу с советской цензурой — «жандармской», как он ее называл.
Вернадский был космополитом и патриотом в самом высоком и точном смысле этих понятий. Интернационализм науки, примат общечеловеческих ценностей были для него непререкаемыми аксиомами, которым он следовал неуклонно. Неоднократно в течение 1920—1925 годов Вернадский отклонял предложения об эмиграции, предпочтя трудную судьбу российского ученого и прекрасно отдавая себе отчет в том, что может ожидать его впереди. «Я считал своим нравственным долгом отдать себя родной стране», — писал Вернадский на склоне лет.
За несколько месяцев до своей кончины он писал в дневнике, письмах детям: «Так хочется дожить до конца войны и увидеть зарю ноосферы», «хочется подольше пожить в ноосфере»... Увы, ноосферы он не дождался. Не дождались ее и мы. Вряд ли ее дождутся наши дети, внуки и даже правнуки. Временами кажется, что мир движется в обратную сторону — не к ноосфере, а от нее.
И все же ситуация представляется далеко не безнадежной. Это становится ясным, когда мы, бесконечно малые точки на пересечении высших реальностей, обращаемся душой и мыслью к одной единственной, такой же, как и мы, точке по имени «Вернадский». И тогда нам становится ясно, что вопреки истории, логике, рассудку Владимир Иванович до ноосферы дожил — он стал, он был человеком ноосферы, ее микрокосмосом.
Циолковский Константин Эдуардович (1857—1935)
Один из основателей современной космонавтики, философ. Разработал концепцию «космической философии».
Соч.: Воля Вселенной. Неизвестные разумные силы. Калуга, 1928; Ум и страсти. Калуга, 1928; Растение будущего. Животное космоса. Самозарождение. Калуга, 1929; Научная этика. Калуга, 1930.
Н. К. Гаврюшин МИСТИК-ТЕХНОКРАТ ( К. Э. Циолковский )
На необъятных просторах русской земли всегда находилось место доморощенному любомудрию, гностическим басням и фантазиям, апокрифам и «отреченным книгам». Этот неустранимый шойиз совКапсН поддерживался и питался духом религиозного сектантства и кликушества, неудовлетворенных амбиций и скоропослушливого суеверия.
Научная революция XVII века, хотя и с немалой задержкой, принесла в Россию новый род литературы — научную фантастику, имевшую весьма прозрачные границы с философией природы. Читать и рассуждать о жителях Луны и животном магнетизме было делом обычным уже в екатерининские времена. И нет ничего удивительного в том, что современник А.И.Герцена всерьез берется за чертежи аппарата для полетов в космос (С.И.Аст- раков).
Константин Эдуардович Циолковский (1857 — 1935) по основным направлениям своих мировоззренческих построений был человеком достаточно типичным для своей эпохи. Кумирами его юности были К.Фламмарион и Ж.Верн. Их сочинения утвердили ученика вятской
гимназии в мысли посвятить свою жизнь покорению космоса.
Особую важность этой идее в его глазах придавало то обстоятельство, что в среде без тяжести он мечтал обрести жизнь вполне счастливую, свободную от всяких страданий. Одна из первых научных работ Циолковского «Вычисления и формулы, относящиеся к вопросу о межпланетных сообщениях» (1879) имеет знаменательный подзаголовок — «Вопрос о вечном блаженстве»...
Важнейшим методом научного исследования для Циолковского также с юношеских лет стала ньютоновская механика. Он настолько был увлечен ею, что надеялся свести к механическим закономерностям все качественное многообразие мира. В этом отношении калужский учитель был очень близок французским просветителям
XVIII в. Вольтеру, в частности, принадлежат сочинение «Элементы философии Ньютона» (1738) и знаменитый роман «Микромегас» (1756), в обоазной форме раскрывающий законы механического подобия, изменение относительной тяжести на небесных телах. Трудно не вспомнить об этих книгах, перечитывая «Грезы о Земле и Небе» (1895) — научно-фантастическую повесть Циолковского, предшествовавшую его фундаментальным теоретическим трудам.
Широкий подход к задаче освоения космоса развивал внимание Циолковского к самым различным областям науки. Вслед за одной из первых работ по теории космоплавания — «Свободным пространством» (1880) он завершает исследование «Механика подобно изменяющегося организма» (1883), стремясь предвидеть влияние силы тяжести на биологические процессы; принимается за исследование вопроса о лучеиспускании звезд — нельзя же заниматься космонавтикой в отрыве от космологии.
Будучи человеком энциклопедических интересов, Циолковский находил время для экскурсов в смежные области знания. Так, в частности, в 1914 г. он опубликовал брошюру «Второе начало термодинамики», в которой дал критику предельных мировоззренческих выводов из постулата Клаузиуса. При этом он основывался, конечно, не на формально-логических соображениях, а на интуитивном убеждении в бесконечности вселенной, существовании в ней сил и процессов, противостоящих энтропии.
Любопытно, что последовательный ньютонианец К.Э.Циолковский в своей «Кинетической теории света» (1919) развивает идеи Гюйгенса-Френеля, хотя именно принципы творца небесной механики заставляли его настороженно относиться к теориям Минковского и Эйнштейна. Уже в этой работе проявился живой интерес К.Э.Циолковского к проблемам атомной физики в тесной взаимосвязи с космологическими вопросами: он рисует аналогии в строении микро- и макромира, намечает возможные космологические выводы из анализа свойств элементарных частиц.
В 1923 г., очевидно в связи с появлением на русском языке статей Нильса Бора, К.Э.Циолковский вновь обращается к проблемам физики микромира. В работе «Гипотеза Бора и строение атома», основываясь на распространенной планетарной модели, он делает попытку отказаться от понятия квантового скачка, ограничиваясь механическим описанием движения электронов по постоянным орбитам и понятием интерференции вызываемых ими колебаний эфирной среды. Примечательно, что в этой статье К.Э.Циолковский, при заметном консерватизме, связывает все же массу и скорость электронов единой зависимостью, проводя даже аналогию с изотопами химических элементов. Свое исследование он завершает словами о том, что «и закон астрономического тяготения, и закон атомного притяжения гораздо сложнее, чем мы думаем, и что тот и другой составляют взаимное продолжение, результат одной и той же неизвестной формулы [1, л. 21].
Увлеченность формулой Лапласа очень показательна для характеристики умонастроения Циолковского, но истоки его мировоззрения гораздо четче выявляются на материале античной философии.
Высоко оценивая значение пифагорейской традиции в развитии представлений о подобии небесных тел Земле, в свою очередь подготавливавших идею множественности обитаемых миров, Циолковский в своей научно-художественной «фантазии» 1920 г. «Пифагор» сделал попытку реконструировать ход космологических рассуждений этого мыслителя [2]. Конечно, здесь не обошлось без некоторой модернизации и явных упрощений, к тому же вся реконструкция проводилась только гипотетико-де- дуктивным путем, без какого-либо доксографического
материала, но сам факт появления подобной работы весьма симптоматичен.
Есть и другое свидетельство тому, что мысли Циолковского неоднократно обращались к пифагорейской космологии. В своей основной мировоззренческой работе «Этика, или естественные основы нравственности» он замечает: «Имеют смысл слова древних, что мир управляется числами (яснее, — вселенная определяется числами)» [3, л. 23].
Значительно ближе были Циолковскому атомисты. В той же «Этике» он писал: «Атомистическая школа основана Левкиппом за 500 лет до Р. Хр. Эта теория, изложенная учеником Левкиппа Демокритом, почти точно выражает мой взгляд на вселенную. Даже этика его близка моей» [3, л. 10]. Конечно, демокритовский атомизм К.Э.Циолковским воспринимался в первую очередь через посредство Г.Бюхнера, т.е. также несколько осовремененным, но ощущение идейного родства с этой традицией было у него очень глубоким. В атомизме Циолковского привлекала относительная простота объяснения качественного многообразия природного мира, возможность построения универсальных моделей космических, социальных и биологических процессов, безыскусное решение проблемы индивидуального бессмертия.
Последняя интересовала Циолковского не только в нравственном, но и в методологическом отношении: она затрагивала вопрос о единстве мироздания в связи с соотношением живой и неживой материи. Хорошо известно, что необходимость исследовать, «каким образом связывается материя, якобы не ощущающая вовсе, с материей, из тех же атомов (или электронов) составленной и в то же время обладающей ясно выраженной способностью ощущения» [4, с. 40], осознается уже не одно столетие.
В поисках решения этой проблемы Циолковский прошел два этапа. «Обращаясь к своей молодости и к своим тогдашним мыслям, — писал он, — я помню, что я перешел через особого рода дуализм. Именно, я принимал атомистическую систему мира, но одну часть атомов считал бесчувственной, другую — способной испытывать ощущения жизни, т.е. радость и горе» [3, л. 7]. Эта позиция действительно была родственна, с одной стороны, взглядам Демокрита, учившего о круглых и подвижных атомах души, тождественных атомам огня, или Лукре
ция, ни с какой стихией их не связывавшего; с другой стороны, она была созвучна витализму, построениям
В.И.Вернадского и др.
Позднее Циолковский пришел к убеждению, что способностью к ощущению и сознательной жизни наделены все атомы вселенной, однако реализуется эта способность только во время пребывания атомов в живых организмах: в «неорганической» материи они находятся в состоянии глубокого сна без сновидений, лишены ощущения времени. Поэтому субъективно, по Циолковскому, жизнь непрерывна, смерти нет. Он считал это представление близким к взглядам Лукреция: «Взгляд на радости и печали существ в их бесконечном бытии у меня сходен со взглядом Лукреция, который считал бытие непрерывным и не признавал смерти [3, л. 13]. Скорее всего Циолковский мог иметь в виду следующие строки из его поэмы «О природе вещей»:
И не уходит никто в преисподней мрачную бездну,
Ибо запас вещества поколениям нужен грядущим.
(III. 966-967, пер. Ф.А.Петровского)
Панпсихический атомизм Циолковского был весьма благоприятной почвой для воспроизведения античных представлений о космосе как живом организме. В качестве наиболее характерных можно вспомнить космогонию орфиков (миф о «мировом яйце»), псевдогиппократов- ский трактат «О числе 7», платоновского «Тимея». Циолковский обращается к микро-макрокосмической аналогии в одной из поздних своих работ — статье «Космос есть животное», датированной 15 апреля 1932 г. [5]. По- видимому, с помощью этой аналогии он хотел дать наглядное представление о пространственной определенности и одновременно актуальной бесконечности вселенной, показать соотношение «органической» и «неорганической» материи, дать образ иерархического устройства мироздания. В то же время статью «Космос есть животное» необходимо рассматривать в тесной связи со взглядами Циолковского на космическую эволюцию организмов, как они выразились прежде всего в известной работе «Животное космоса» [6].
Будучи, по неоднократным собственным признаниям, «чистейшим материалистом», Циолковский не мог в то же время отказаться от понятия идеальной «причины космоса», и именно в этом он находил близость своих
взглядов с учением Платона. «Взгляд мой на первопричину и добро, — писал он в «Этике», — совпадает с платоновским и сократовским... Идею добра Платон называет богом. Существование такого бога невозможно отрицать, так как идея добра несомненно существует в сердцах людей (бог есть любовь). Платон признает также и первопричину и ее благость. Мы не отрицаем и первопричину, так как мир, как и все другое, не может быть без причины. Непостижимый для человека порядок мира существует и для меня, как для Платона. Вечное существование души признает и Платон, но я признаю ее начало простейшим, пассивным и материальным (панпсихизм), Платон же признает мысль и идею, существующую самостоятельно, независимо от материи» [3, л.10].
В более поздней работе, датируемой 1918 г. статье «Утописты», где, в частности, довольно подробно обсуждается учение Платона о государстве, Циолковский выражает ту же точку зрения: «Платон думал, как и некоторые из современных философов, что мысль существует независимо от мозга и тела, независимо от вещества. Мы с этим не согласны, но допускаем, что была какая-то внекосмическая идея, желание которой выразилось появлением вселенной. Космос есть выражение некоторой внемировой воли» [7, л.8]. Здесь же Циолковский дает оценку взглядам Платона по вопросам евгеники и искусственного подбора: «Также прекрасно его [Платона] стремление усовершенствовать человечество путем искусственного подбора, но способы, им предлагаемые для этого, чересчур грубы, жестоки и не могут быть добровольно приняты человечеством. Жестокое уничтожение невинных калек и принуждение к браку без взаимности не может быть нами одобрено. У меня с тою же целью — усовершенствования рода — браки только немного ограничиваются, и тем менее, чем ниже общественное положение людей. Так что для большинства этого ограничения почти нет. О несовершенных людях весьма заботятся, они даже заключают браки, но не дают потомства» [там же].
Здесь необходимо, правда, заметить, что в сопоставлении с платоновскими Циолковский излагает свои взгляды в крайне осторожной и деликатной манере. В других работах он порой выступал с гораздо более радикальными идеями. Но и в «Утопистах» он допускает, что «в конце концов останется на Земле потомство только
небольшой группы наиболее совершенных существ (может быть, одной пары), которые и дадут начало всему многочисленному населению Земли. Когда же оно достаточно усовершенствуется, то начнется расселение его в Солнечной системе» [7, л. 11]. О перспективах «безболезненного» устранения с лица земли всей «несовершенной» гетеротрофной жизни, на которых Циолковский настаивал особенно упорно, мы не станем задерживать внимания.
Среди статей об античных мыслителях в Энциклопедическом словаре Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона, к которым К.Э.Циолковский обращался особенно часто (номера томов и страниц были выписаны рукой его дочери на отдельном листке) [8, л. 1 об.], кроме «Платона» и «Сократа» три посвящены представителям стоицизма — Сенеке, Эпиктету, Марку Аврелию. И это не случайно. В стоиках Циолковского привлекало прежде всего сочетание напряженного космологизма мышления с особой заостренностью на нравственно-этических проблемах, выразившееся в учении о космическом государстве и космическом гражданстве человека.
У Циолковского одна из центральных идей — космическая республика с президентами планет, солнечных систем, галактик, эфирных островов и т.п. Самого себя в автобиографии он называет «гражданином вселенной» [9, с. 390]. И это выражение — козтороП^ез, и идея космического государства как раз характерны для названных выше представителей стоицизма.
В непосредственной связи с учением о мировом государстве и у стоиков, и у Циолковского находится теория эволюции материи (космоса) и соответствующая иерархия разумных существ. И там, и здесь развивается мысль о постепенном уплотнении (усложнении) материи в процессе космической эволюции и о сосуществовании в пространстве организмов различной плотности. У стоиков эта тема развивается в их весьма детализированной демонологии, у Циолковского — в учении о существах «предшествующих эпох», о жителях астероидов и эфирного пространства, перспективах эволюции человека.
Для стоиков и Циолковского космос в равной степени совершенен и полон разумной жизни. Объяснение Циолковским наличия страданий на Земле практически тождественно стоической теодицее — несовершенство (частичное и условное) в космосе необходимо для гармонии
целого и способствует произведению нового блага. Жизнь человека и животных, по Циолковскому, — «необходимый рассадник обновления», который на фоне совершенства всего космоса можно даже не принимать во внимание, «как не замечают пылинку на белом листе бумаги» [9, с. 306]. Так же и согласно одному из древнейших стоиков Хрисиппу, «человек никоим образом не совершенен, он какая-то частица совершенного. Но мир, поскольку он все охватывает и нет ничего, что бы в нем не содержалось, во всех отношениях совершенен» (Цицерон. О природе богов, II, XIV, 37 — 38).
Учение о совершенстве космоса и у стоиков, и у Циолковского проникнуто идеей судьбы, фатума, е1шаг- тепе.
«Я называю судьбою, — пишет Цицерон, — то, что греки называют етагшепе, т.е. порядок и связь причин, связанных таким образом, что каждая предыдущая порождает из себя последующую. Это вечная истина, проистекающая из всей вечности. А если это так, то значит, ничего не произошло, что не должно было произойти...» (О дивинации, I, 125). Совершенно очевидно, что именно такое механически-жесткое представление о причинно-следственных связях стоит за высказываниями Циолковского вроде «мир автоматичен» [10, л. 2], «вселенная механична (как автомат)» [11, л. 17] и «мир есть заведенная машина, где совершается неизбежное» [12, л. 58].
С юношеских лет захваченный мыслью о своем особенном предназначении («я такой великий человек, которого еще не было, да и не будет») [12, с. 402], Циолковский никогда не оставался безразличным к знамениям судьбы. Особенно большое впечатление на него произвели два небесных явления в 1884 г. в Боровске, о которых он неоднократно вспоминал впоследствии [9, с. 314;
13, л. 5-5 об.]. Поэтому вполне понятно, что, стремясь к обобщению своего жизненного опыта, Циолковский нередко прибегал к терминам стоической философии [14].
Такое миропонимание тем не менее не принижало значения целеустремленной воли. Слова Циолковского: «Так устроен мир, такое в нем согласование, что не сомневающийся в достижении — достигает, а сомневающийся и бездеятельный погибает» [13, л. 3], кажутся почти дословным переводом афоризма Сенеки: «Эисип! уо!еп1:ет Га1а, по1еп{;ет 1:гаЬип1» (Ер. СVII, 11).
Глобальный детерминизм со всей остротой ставил и перед стоиками, и перед Циолковским вопрос о причине космоса. Выступая против четырех аристотелевских причин, Сенека ищет одну первую и общую причину, которая должна быть такой же простой, как и материя (Письма, XV, 12). Отождествляемая с пневмой, эфиром, огнем, первопричина родственна человеческому уму (Письма, XVI, 12).
Циолковский, как уже говорилось выше в связи с платоновскими параллелями, много занимавшийся проблемой первопричины (основная работа — «Причина космоса». Калуга, 1925), склоняется к той же самой мысли: «Самое высшее в мире — это сознательность, разум, жизнь. Очень естественно, что первопричина благоволила дать в них смутное отражение самой себя» [12, л. 53]. В своей атомистической натурфилософии Циолковский постоянно отождествляет «неуничтожимый вечный атом» с «атомом эфира» и «элементарным духом»
и, таким образом, как будто следует той же логике мысли, что и стоики, считавшие, что душа — огненной природы, и отождествлявшие божество с огнем и эфиром. Однако если стоики, считая первопричину в качестве огня, пневмы, эфира имманентной космосу, склонялись к пантеизму, то Циолковский под влиянием христианской традиции считает материальный мир вневременным творением идеальной, трансцендентной причины. В самом же сотворенном космосе у него как бы происходит зеркальная перестановка отношений, и все идеальное, духовное оказывается в непосредственной зависимости от материального.
Весьма характерным для стоиков является представление о периодическом уничтожении и возобновлении космоса с повторением тех же лиц, вещей и событий. «Сколько Хрисиппов, сколько Сократов, сколько Эпикуров уже поглотило время!» — восклицает Марк Аврелий (VII, 19).
У Циолковского нигде не идет речь о полном уничтожении всего космоса, а только о той или иной его части (преимущественно Солнечной системы), хотя оформляется эта идея почти в точности, как у стоиков: обращение материи в эфир в процессе лучеиспускания (экпиросис!), а затем вновь уплотнение первоматерии (эфира) и воссоздание космоса. Кстати, следует отметить, что для стой ков в мире нет пустоты, все пространство заполнено ма
терией, хотя и различной плотности (Диоген, VII, 140), — и Циолковского также занимает мысль, что «материя — то же пространство» [3, л. 31].
Представление о повторяемости лиц и событий, несомненно родственное направлению мыслей Циолковского, выражается у него в слишком общих формулировках, чтобы их можно было приводить для сопоставления. Но у близких к нему по духу «космистов» второй половины
XIX в. О.Бланки и особенно Г.Гансвиндта, который в мировоззренческом, творческом и даже биографическом отношениях является поразительным «двойником» Циолковского [15], речь прямо идет о планетах, до мельчайших деталей подобных нашей Земле, со своими Гомерами, Софоклами и Наполеонами... Атомистическая комбинаторика в пространственно-временной бесконечности мироздания неизбежно должна приводить к таким результатам.
Если для стоиков физика, как «божественная часть философии», в конечном счете является лишь научным приготовлением к этике, то и для Циолковского атомистика и космология важны прежде всего как элементы «естественных основ нравственности».
Убеждение в «благости» первопричины, совершенном порядке и премудром устройстве мироздания, бесконечности индивидуальной жизни (тело — временная обитель чувствующего атома или духа, который непременно рано и поздно получает новое) дает нравственные силы для жизни нынешней, настраивает на бесстрастие, целомудрие, умеренность, воздержание от наслаждений. «Не гоняйтесь за наслаждениями, — пишет Циолковский, — и не горюйте о том, что они прошли мимо вас или недоступны вам, так как вам пришлось бы за них расплачиваться [16, с. 13].
Казалось бы, что признание полной зависимости всего единичного от всеобщего закона и течения мировых событий и усвоение аскетических идеалов должны были исключить возможность появления как у стоиков, так и у Циолковского утопических мотивов. Однако, по свидетельству Диогена Лаэрция (VII, 33, 131), стоикам не были чужды мысли о создании идеального государства мудрецов без правосудия, храмов, семьи, при общности жен. Разрушение семьи, как правило, является составной частью утопических проектов. И Циолковский в своих многочисленных «социальных» сочинениях («Горе
и Гений», 1916; «Общественная организация человечества», 1928 и др.) исходит из тех же самых посылок. Но его утопическая программа, конечно же, гораздо более детализирована и масштабна, она предполагает управляемую биологическую эволюцию, «безболезненную» ликвидацию на Земле и других планетах «несовершенной» животной жизни и бесконечную космическую экспансию технологической цивилизации.
Отмеченные точки соприкосновения взглядов Циолковского со стоической традицией отнюдь не следует считать следствием прямого влияния или непосредственного, заимствования, тем более что с сочинениями Сенеки, Марка Аврелия, Эпиктета и др. калужский мыслитель знакомился главным образом из вторых и третьих рук. Посредников между стоиками и Циолковским указать не так уж трудно: это, с одной стороны, сочинения писателей-теософов, широко распространенные на рубеже веков, особенно в среде калужской интеллигенции, с другой — популярные изложения лейбницевой монадологии.
Сближению Циолковского с теософскими кругами способствовало не только его постоянное местопребывание (Калуга издавна была одним из центров оккультномистического брожения), но и с детства заложенное ощущение конфессиональной экстерриториальности: отец ученого был католиком.
Свидетельств близкого знакомства Циолковского с теософской книжностью вполне достаточно (да и как было обойтись без этого, находясь в общении с такими людьми, как А.Л.Чижевский?), но от эзотерических учений он счет нужным весьма определенно дистанцироваться.
«По-моему антинаучно, — писал Циолковский, — учение оккультистов о составе человека из многих сущностей: астральной, ментальной и проч. Я далек от этих вещей, которые представляют результат ограниченного знания или молодого увлечения юных впечатлений, которые мы никак не можем выбить из своего ума, как не можем отрешиться и от других впечатлений, воспринятых нами в детстве» [6, с. 303].
Высказывание это крайне показательно. Циолковский никогда не был и не мог полностью стать адептом масонства, оккультизма, теософии и т.п. как ввиду относительной спекулятивной сложности составляющих их кон
цепций (дебрей абстрактных рассуждений ученый недолюбливал), так и в связи с его стремлением построить свое достаточно простое и всеобъемлющее учение, оправдывающее и объясняющее направление его инженерноизобретательской деятельности.
«Научные основания религии» и «космический путь к вечному блаженству» — таковы две нераздельные ипостаси этого учения. И теософия как синкретическая «научная религия», несомненно, была ему сродни.
Умонастроению К.Э.Циолковского оказался созвучным целый комплекс идей эзотерической философии. В первую очередь это касается важнейших понятий и концептуальных схем космизма, таких как «космическое мышление», «космическое сознание», «космическая точка зрения», «космическое гражданство» и т.п.
В отношении «космического мышления» мы ограничимся двумя цитатами из сочинений Е.П.Блаватской. «На современном языке, — пишет она, — Божественную мысль лучше было бы назвать космическим мышлением, Духом, а Акашу — космической субстанцией, Материей» [17-19, с. 31], очевидно подбирая для старых гностических терминов новые, родственные духу положительного естествознания имена. «Наше сознание, — говорит она в другом месте, — происходит от Духа, или Космического мышления, а различные проводники, в которых это сознание индивидуализируется и достигает рефлективного или самосознания, происходят от космической субстанции» [20, с. 138].
Распространению понятия «космическое сознание» весьма способствовала вышедшая из тех же кругов и переведенная едва ли не на все основные европейские языки книга Р.М.Бекка «Космическое сознание».
Понятие вселенского гражданства, выражающее особенно характерную для эзотерических учений (и стоицизма) установку на космологическое обоснование этики, настойчиво используется, например, К.Дю Прелем: «Если человек - гражданин Вселенной, то этика возможна; если же он — только гражданин земли, то тогда не существует этической задачи, а существует задача только социальная»; «задача философии и религии состоит в том, чтобы воспитать в человеке сознание его вселенского гражданства» [21, с. 558]. У Дю Преля же мы встречаемся с характерным позднее и для Циолков
ского требованием встать «на космическую точку зрения» [21, с. XII, с.22].
Кардинальным для системы взглядов К.Э.Циолковского было, как известно, представление о «чувствующем атоме», которое находит соответствия как в истории материалистических учений (Лукреций, Геккель, Морозов и др.), так и в эзотеризме. Приведем несколько цитат из популярной книжки Анни Безант, которая, в свою очередь, опирается на «основополагающий» труд Блаватской «Тайная доктрина».
«Одна и те же бесконечно малые невидимые жизни составляют атомы горы и ромашки, человека и муравья, слона и дерева, укрывающего его от солнца. Каждая частица — называете вы ее органической или неорганической — есть жизнь. Каждый атом и молекула во Вселенной одновременно являются дающими жизнь и дающими смерть этой форме» [24, р. 8-9]. Вполне определенно здесь прослеживается столь важная для Циолковского мысль о «сне» атома в неорганической материи: «Оккультизм не признает в космосе неорганического. Используемое наукой выражение «неорганическая субстанция» означает просто, что латентная жизнь, дремлющая в молекулах так называемой «инертной материи», непознаваема». Отсюда вполне естественно возникает представление о всепроникающей иерархии форм сознания: «Все во Вселенной, во всех ее царствах, есть сознание, т.е. наделено сознательностью своего рода и своего собственного плана восприятия» [24, с. 63-64].
Логическим развитием этой концепции является представление о чувствительности пространства как некоей первореальности и потенции всего существующего. Характерно в связи с этим следующее высказывание Е.П.Блаватской: «Пространство, рассматриваемое как единство субстанции — живой Источник Жизни — в качестве «Непознаваемой Беспричинной Причины», является наиболее древним догматом в оккультизме, несравненно более древним, чем Эфир (Ра1:ег-Ае1Ьег) древних греков и латинян. Точно так же Сила и Материя, как потенция Пространства, неразделимы, являются выразителями Непознаваемого» [20, с. 131].
Мысль о пространстве как «чувствилище Бога» характерна, в частности, и для И.Ньютона, с которым у Циолковского много точек соприкосновения, в том числе и в данном вопросе [25].
Весьма вероятно влияние на космогоническую теорию Циолковского связанного с той же традицией представления о периодическом уплотнении материи и образуемых ею разумных существ (а также о сосуществовании существ различных космических эпох). Эта концепция, близкая и стоицизму, встречается у Е.П.Блаватской, Р.Штейнера и др.
Наконец, есть еще по крайней мере два момента, в которых можно предполагать влияние теософской литературы на Циолковского. Один из них касается вопроса о социальной роли гениев (есть все основания думать о его знакомстве с книгой Э.Шюре «Великие посвященные»), другой — специально теологической проблематики («причина космоса»).
Заслуживает особого внимания то обстоятельство, что у двух теоретических систем, оказавших на К.Э.Циолковского наибольшее влияние, — дарвино-спенсеровско- го эволюционизма и теософского эзотеризма, — много общего. Так, Е.П.Блаватская охотно констатировала общие точки зрения в теософии и философии Спенсера. «Герберт Спенсер, — писала она, — в последнее время настолько смягчил свой агностицизм, что нашел возможным утверждать, что природа “Первопричины”, которую оккультист гораздо логичнее производит от Беспричинной Причины, природа “Вечного” и “Непознаваемого” по существу однородна с тем сознанием, которое изливается на нас, иными словами, что безличная реальность, проникающая весь космос, есть чистый нумен мысли. Этот прогресс в его мышлении подводит его очень близко к эзотерическому толкованию и к учению Веданты» [20, с.134].
Карл Дю Прель высказывался с еще большей определенностью: «Став на космическую точку зрения, — писал он, — можно сказать, что существует бесконечное множество миров, бесконечное множество родов как телесного, так и духовного приспособления, бесконечное множество субъективных миров, т.е. представлений мира, бесконечное множество родов опыта и реагирования. Таким образом, мистика представляет как бы продолжение дарвинизма» [21, с. XII].
Сопоставление позиций К.Э.Циолковского с мыслями К.Дю Преля представляется вообще довольно любопытным. В статье «Борьба за существование в небесном пространстве (приложение формулы Дарвина к небесной ме
ханике)» К. Дю Прель высказывает едва ли не важнейшую для системы взглядов Циолковского мысль о необходимости признать способность ощущения за основное свойство всякой материи и утверждает, что в космосе господствует совершенство и достигнуто почти полное освобождение от страданий... Только о космических полетах Дю Прель говорит не в физико-технических терминах, а апеллируя к понятию «астрального тела»...
Христолюбивый материалист, мистик и технократ, пророк «космического блаженства» и военного коммунизма, Циолковский как мыслитель был поднят на щит соединенными усилиями военно-промышленного комплекса и неформального теософского сообщества, заняв в историко-философских исследованиях место, не вполне соответствующее его дарованию. Но как явление типичное, как представитель весьма распространенного — не только в России — умонастроения (напомним еще раз о его немецком «двойнике» Германе Гансвиндте) Циолковский, несомненно, еще долго будет привлекать к себе внимание.
Примечания
1. Циолковский К.Э. Гипотеза Бора и строение атома. Архив РАН (ААН). Ф. 555. Оп. I. Ед. хр. 323. Л. 21.
2. Циолковский К.Э. Пифагор (фантазия 1920 г.) // Архин АН СССР (ААН). Ф. 555. Оп. 1. Ед. хр. 417.