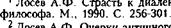10 Богданов А.А. // Философский энциклопедический словарь.
2- е изд. М., 1989. С. 64. Насколько мне известно — в словаре это не указано, — автором статьи является Александр Александрович Малиновский, сын А.А.Богданова, известный биолог-генетик, очень много сделавший для восстановления научного имени своего отца.
11 Богданов А.А. Философия живого опыта. Популярные очер
ки. Материализм, эмпириокритицизм, диалектический материализм, эмпириомонизм, наука будущего. Пг., изд. М.И.Семенова, 1913. С. 271. См. также 3-е изд. книги — Пг., М. Книга, 1923. С. 327, где в примечании Богданов указывает время написания — 1911 г.
12 Богданов А.А. Эмпириомонизм. Кн. III. СПб, изд. С.Доро-
ватовского и А.Чарушникова, 1906. С. XI.
13 Богданов А.А. Философия живого опыта. 3-е изд. С. 254.
14 Там же. С. 216.
15 Там же. С. 217, 219.
16 Богданов А.А. Эмпириомонизм. Кн. III. С. IV.
17 Там же. С. 1У-У.
18 Там же. С. 146.
19 Там же. С. X.
20 Богданов А.А. Философия живого опыта. 3-е изд. С. 242.
21 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 286.
22 Богданов А.А. Философия живого опыта. 3-е изд. С. 321.
23 Там же. С. 181.
24 Богданов А.А. Эмпириомонизм. Кн. III. С. 149.
25 Богданов А.А. Философия живого опыта. 3-е изд. С. 312.
26 Там же. С. 315.
27 Там же. С. 174.
28 Там же.
29 Там же. С. 175.
30 Там же.
31 Там же. С. 176-177.
32 Там же. С. 177.
33 Там же. С. 178.
34 Богданов А.А. Эмпириомонизм. Кн. III. С. 147.
35 Там же. С. 147-148.
36 Там же.
37 Там же. С. 149.
38 См. выступление на «круглом столе» В.Н.Садовского (Крас
ный Гамлет. Опыт коллективного анализа творческого наследия Александра Богданова // Вестник Российской академии наук. Т. 64, М? 8, авг. 1994. С. 746-747).
39 Богданов А.А. Философия живого опыта. 3-е изд. С. 175.
40 Там же. С. 291.
41 Там же. С. 218.
42 Там же. С. 177-178.
43 См. там же. С. 307-309.
44 Проведенное описание и анализ основных идей эмпириомо
низма — это только первая попытка исследования этой очень интересной философской концепции. Несомненно, требуется дальнейшая разработка данной проблематики, в которой, как мне представляется, могут быть обнаружены новые любопытные аспекты. Например, есть явные совпадения в философских взглядах А.А.Богданова и К.Поппе
ра. Приведу только один пример. Читатели журнала «Вопросы философии» получили возможность познакомиться с классической работой К.Поппера «Что такое диалектика?», в которой диалектика рассматривается как частный случай метода проб и ошибок (см.: Вопросы философии. 1995. М©
1. С. 118-127). А вот аналогичное мнение А.А.Богданова: «Диалектика есть организационный процесс, идущий путем борьбы противоположностей... Она — частный случай организационных процессов, которые могут идти также иными путями» (Богданов А.А. Философия живого опыта.
3- е изд. С. 261).
^ Богданов А.А. Философия живого опыта. 3-е изд. С. 315.
Там же.
47 Там же. С. 316.
48 Там же. С. 317.
49 Там же. С. 322.
г>() Там же. С. 323.
Там же.
52 Там же.
™ Там же. С. 327.
«Вопросы философии», 1995.
Густав Густавович Шпет (1879—1937)
Философ, психолог, искусствовед. Оригинальный русский феноменолог, один из творцов современной герменевтики. В 1923—1929 гг. вице-президент Государственной Академии Художественных наук.
Соч.: Скептик и его душа. Мысль и слово. Кн. 2. М., 1918 — 1921; Очерк развития русской философии. 4.1. Пг., 1922; Эстетические фрагменты. Вып. 1—3. Пг., 1922 — 1923; История как предмет логики. Научные известия. Сб. 2, М., 1922; Внутренняя форма слова. М., 1927; Введение в этническую психологию. Вып. 1. М., 1927; Сочинения. М., 1989; Герменевтика и ее проблемы // Контекст, 1989—1992; Философские этюды. М., 1994; Два текста о Вильгельме Дильтее. М., 1995.
А.А.Митюшин
ТВОРЧЕСТВО Г.ШПЕТА И ПРОБЛЕМА ИСТОЛКОВАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Решая проблему единства человеческого знания, современная наука все чаще обращается к истории культуры. Вопрос о природе познания, о существенных предпосылках научных открытий не может быть правильно поставлен вне зависимости от изучения творческих актов разума в их историческом воплощении. В то же время представляется, что ключ к решению проблемы состоит в адекватной интерпретации языка науки. Еще Декарт и Лейбниц мечтали создать такой универсальный язык, который должен был бы охватить весь комплекс человеческого знания и привести его к единству. Этот язык мыслился по образцу математики, и поэтому Лейбниц полагал, что он должен привести к нахождению истинной логической алгебры, приложимой ко всем родаи познания.
Методология науки и логика Нового времени действительно рассматривали математику как образец научного знания, своего рода логическую «парадигму», определяющую истинные пути человеческого ума. Тем не менее
пот путь завел философию науки в тупик. Дело в том, что по мере возрастания уникальности предмета — что совсем не исключает его «универсальности» и всеобщности - приложимость математических методов как раз ограничивается. И это становится очевидным в таком, например, ряду наук, как биология — психология — история. Если же учесть, что сама наука, как и все человеческое знание, есть результат исторического становления, то приходится на первое место выдвинуть уже логические проблемы истории и философии культуры. В тесной связи с этим развивается необычайный интерес к герменевтике и шире — к проблеме понимания вообще[253].
Само слово «герменевтика» греческого происхождения, его значение указывает на искусство разъяснять, толковать, «истолковывать», доводить до понимания. Вероятно, корни этого слова погружены в мифологию и ( нязаны с именем Гермеса, вестника богов, покровителя нутников, которому приписывали также изобретение м;)ыка и письменности.
Возникновение герменевтических вопросов предполагает углубленный интерес к роли слова как знака и средства сообщения. Поэтому начальная постановка этих вопросов находится в тесной связи с развитием грамматики, риторики и логики. Кроме того, здесь сказываются и практические потребности педагогики, поскольку в сфере греческой образованности речь шла об истолковании гомеровской поэзии в школах. Ученая экзегеза того мремени искала в национальных поэмах некий скрытый (аллегорический или моральный) смысл. Греческие софисты — учителя и носители высшего образования — продолжали дело первых «экзегетов» (толкователей),
связывая вопросы герменевтики с теоретическими вопросами языкознания и словесного выражения. У Аристотеля имеется уже специальное сочинение «Об истолковании», где проблемы герменевтики рассматриваются в свете логики, то есть речь идет прежде всего о логических формах суждений со стороны их истинности или ложности. В средние века герменевтика направляется к истолкованию и объяснению Священного Писания и в отличие от античности формируется как самостоятельное учение в качестве дисциплины вспомогательной, служебной в отношении к богословию.
Переломный момент в развитии герменевтики начинается с конца XVIII в., когда она стала ориентироваться на филологию как историческую науку и перестраивалась по типу исторических исследований. Здесь можно выделить имена И.А.Эрнести, Фр. Аста и, наконец, Фр. Шлейермахера, который придает герменевтике серьезное философское значение, прочно связывая ее с общей проблемой понимания. Определяющее влияние на развитие этой дисциплины оказали взгляды выдающегося филолога Августа Бека. В своей «Энциклопедии и методологии филологических наук» (1877) он пишет, что герменевтика «должна заключать в себе научное развитие законов понимания». Поскольку человеческий дух сообщает о себе во всякого рода знаках и символах, нужно искать среди них такое сообщение, которое выступает адекватнейшим выражением познания. Подобным выражением и являются речь, слово, живой человечески язык в его культурных проявлениях. Благодаря исторической интерпретации слова филология «познает познанное» и в этом новом познании раскрывает акты понимания.
На рубеже XX столетия В.Дильтей расширяет логико-философскую трактовку герменевтики, придавая ей значение методологии гуманитарных наук. Он рассматривает жизненную и материальную действительность духа как выразительную структуру, подлежащую истолкованию. Пониманием Дильтей называет «процесс, в котором мы из чувственно данных знаков постигаем внутреннее». Сама же герменевтика выступает у него как искусство истолкования письменных памятников, то есть наиболее универсальных проявлений духа.
После Дильтея философская герменевтика переживает упадок и возрождается на Западе, по существу, только в начале 60-х гг. с появлением книги Г.Гадамера «Ис
тина и метод» (1960). Начиная с этого времени, герменевтика нередко рассматривается не только как метод гуманитарных наук, но — что интереснее и важнее - как оптимальный путь развития современной науки вообще[254].
Ключевые пути, по которым движется дух самосознания науки, составляли главный предмет изысканий выдающегося русского философа Г.Г.Шпета. История как проблема логики — главная тема его жизненного труда. Язык как «первофеномен» и ведущий принцип философии культуры — основной предмет его логических штудий. Герменевтика как методология гуманитарных наук — его любимое детище и самое ценное пророчество. Г.Г.Шпет не только опередил на несколько десятилетий западную философскую герменевтику, но и указал оптимальные пути развития этой дисциплины на основе диалектической методологии. Его сочинение «Герменевтика и ее проблемы» написано еще в 1918 г. Тогда же он начал подробно разрабатывать свое логическое учение, выдвинув идею «герменевтической диалектики».
Шпета часто называли «гуссерлианцем» — только потому, что поверхностно знали его лишь по одной книге «Явление и смысл» (1914). Однако феноменология была важна Шпету как рецепция платонизма и антитеза неокантианству, а не сама по себе. В целом философия Гуссерля и его последователей не устраивала Шпета, и он прямо писал об этом, утверждая, что феноменология, как таковая, «сильно упрощает проблему действительности», ибо не раскрывает ее социально-исторического содержания2. Поэтому задачи философии он понимает скорее в гегелевском духе, углубляя реалистическую трактовку диалектики. Последнее очень важно для правильного понимания сочинений Шпета. Его любимые идеи продолжают интеллектуальную традицию платоновского рационализма и вдохновляются произведениями Гегеля и Гумбольдта. В своей программной книге ♦ Внутренняя форма слова» он пишет о своей солидарности с идеями Гегеля, замечая: «Порою прямо кажется,
что философия языка Гумбольдта призвана завершить собою систему философии Гегеля»[255]. Для самого Шпета философия языка в духе Гумбольдта составляет основу философии культуры. Язык — универсальный прообраз и прототип всякой социально-культурной вещи, фундаментальная предпосылка человеческого общения. Продолжая учение Гегеля об исторических объективациях духа, как, например, искусство, право, государство и т.д., можно сказать, следуя Гумбольдту, что «сами искусство, право, государство суть язык духа и идеи»[256].
В конечном итоге, согласно Шпету, принципиальное рассмотрение «языкового сознания» ориентируется на последнее его единство, которое есть не что иное, как единство культурного сознания. «Такие обнаружения культурного сознания, как искусство, наука, право и т.д., — не новые принципы, а модификации и формы единого культурного сознания, имеющие в языке архетип и начало»[257].
Смысл логических исследований Шпета состоял в том, чтобы разработать диалектическое учение о понятии, прежде всего на почве «естественного языка», а затем — на материале его терминированных модификаций в отдельных науках. При этом он выдвигает идею «первичного знания» как «толкового словаря наук». Это очень важная и продуктивная идея. В самом деле, любое фундаментальное понятие так называемых «точных» наук содержит в себе некую исходную первичную интуицию, в которой ученый усматривает сущность предмета. Эту интуицию можно описать так, как художник описывает свой предмет. Нечто подобное пытается сделать филолог, составляя толковый словарь на основе этимологии и внутреннего значения слов. Вообще всякий путь от знака или слова в его данных внешних формах к его смыслу Шпет и называет пониманием. Получается, что в конце концов разум может усматривать смысл так же непосредственно, как непосредственно воспринимаются чувственно-данные вещи.
Математическая формализация уводит сознание от исходного значения, оно утрачивается или отодвигается мл задний план в операциональном языке формул. I*. Фейнман в своих лекциях указывал на это обстоятельство: «Математики любят придавать своим рассуждениям возможно более общую форму. Если я скажу им: «Я хочу поговорить об обычном трехмерном пространстве», — шш ответят: «Вот вам все теоремы о пространстве п-из- мерений». — «Но у меня только три измерения». — «Хорошо, подставьте п = 3!» Оказывается, что многие ( ложные теоремы выглядят гораздо проще, если их применить к частному случаю. А физика интересуют только частные случаи... Он говорит о чем-то конкретном; ему не безразлично, о чем говорить»[258]. Поставим себе вопрос: что такое пространство? И поиски ответа на него уведут нас в область значений языка и конкретных научных понятий. Эйнштейн попытался сначала растолковать себе: что такое пространство и время? Опыт его истолкования и привел к теории относительности.
Г. Шпет определяет собственный философский метод как «интерпретирующую диалектику научных понятий». ,’)та форма диалектики обращается не к условным обозначениям и формальных схемам логистики, а к самому смыслу научных теорий и терминов. В этой связи Шпет находит предмет логики именно в стихии «словесного сознания». Как он полагает, здесь мы только воспроиз- иодим «древнюю идею Логоса»: «К области мысли относится все, что должно быть достигнуто словом»2. Всякий опыт, поскольку он имеет познавательное значение и научную ценность, оформляется словом, то есть обретает искомую всеобщность лишь благодаря словесному выражению. Шпет пишет: «Язык служит цели понимания, и и этом смысле он является единственным и всеобщим источником и орудием познания»3. Исходя из этого положения, он радикально переосмысливает антитезу естест- ненных и исторических наук.
В начале нашего столетия нередко встречалось проти- нопоставление натуралиста и историка, как «наблюдателя» и «читателя»: натуралист прежде всего наблюдает, а историк читает. Причем со всех сторон внушалось пред
ставление, будто «наблюдение» имеет преимущество перед чтением как метод «непосредственного» познания. Шпет же провозглашал обратный принцип: «Нужно наблюдать, как читают, а не читать, как наблюдают». Ведь на самом деле в процессе познания наблюдатель описывает природу через свою «систему предложений», то есть имеет дело со своими собственными суждениями и теориями; он как бы читает им самим составленный текст. Историк же читает то, что записано и передано другими. Если рассмотреть познание как «чтение слова», разница между ними не будет принципиальной[259].
Но отсюда следует радикальный вывод о логической «парадигме» наук. В противоположность возникшему в
XIX в. и господствующему до сих пор убеждению, будто логика эмпирических наук есть логика естествознания, Шпет выдвигает утверждение, согласно которому логика эмпирических наук есть прежде всего логика истории, то есть в конечном счете имеет своим прообразом гуманитарное мышление с его опорой на воображение и интерпретирующее словесное сознание.
Шпет идет еще дальше, утверждая, что вся действительность — не только историческая, но и природная — говорит с нами на своем «языке», и каждое явление природы — это «знак», подразумевающий значение, ибо все можно рассмотреть как «язык», «речь» и «слово»[260].
Ныне мы можем по достоинству оценить научное и эвристическое значение этих идей Густава Шпета. Ведь, скажем, современная биология не только «читает» историю жизни, она самую основу бытия живого организма рассматривает по образу и подобию чтения текста. Как известно, наследственная информация представлена в строении ДНК, молекулы которой построены в виде цепи. Эти цепи могут рассматриваться как «строчки», в которых наличествуют четыре «стандартных» основания: аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т) и цитозин (Ц). Они являются теми «буквами» из которых составляется генетическое сообщение. Точная последовательность оснований вдоль молекулы ДНК определяет структуру той или иной белковой молекулы. Генетический код — это
не само сообщение, а «словарь», используемый клеткой для перевода «текста» с четырехбуквенного языка нук- чеиновых кислот на двадцатибуквенный язык белка. Ф.Крик, описывая процесс расшифровки генетического кода, говорит даже о «знаках препинания», имея в виду уточнение самой структуры наследственной информации[261].
Р.Якобсон, знавший Шпета еще по Московскому лингвистическому кружку, в своей статье «Лингвистика п ее отношении к другим наукам» заботливо собирает мысказывания молекулярных биологов о «языковой» природе генетического кода, проводя любопытные параллели между универсальным биологическим кодом и структурой лингвистической информации. Соображения Р.Якобсона требуют, на мой взгляд, немалых уточнений. Однако имеет смысл привести здесь его мысль о том, что «открытые генетиками цепи регулирования — подавления и ретроторможения, как представляется, позволяют предположить хотя бы отдаленную аналогию между молекулярными процессами и диалогической природой речи»[262]. Однозначная интерпретация «молекулярного» и словесного сообщения достигается в понимании их роли как носителей наследственной информации, обеспечи- мающей биологическую и, соответственно, культу рно-ис- горическую преемственность.
Много возражений и насмешек вызывали в свое мремя работы К.Фриша, посвященные танцам пчел. Ритм и рисунок этих танцев содержат в себе информацию о местонахождении источников корма. Этому долго не хотели верить. Причем основным понятием, которое никак не хотели признать, было понятие «язык пчел» (В1епеп5ргасЬе). Теперь все изменилось, и этологи самым тщательным образом изучают «языки» животного мира. Говорят даже о различных «диалектах» пчелиного языка и «диалогах» между отдельными особями[263].
Любопытно, что К.Шеннон выступил однажды с докладом на конференции по вопросам межпланетных путешествий. Он обсуждал теоретические возможности ус
тановления контактов с обитателями других миров и обмена информацией с ними. Большое место в докладе было уделено доказательству того, что для выработки межпланетного кода важное значение имеют принципы («грамматика») языка пчелиных танцев, способы общения муравьев и т.п.
В связи с учением Г.Г.Шпета об универсальном ха рактере словесного знака необходимо констатировать, что его работы предвосхитили также новейшие исследования по семиотике[264]. Шпет рассматривал социальнокультурные явления в качестве знаков, смысловых «выражений», значение которых постигается через интерпретацию и, стало быть, соответствует не столько «объяснению», сколько особому «уразумению». Об этом говорится во многих его работах: в книге «Явление и смысл», в «Эстетических фрагментах», а также в рукописи о Диль- тее. Следует, однако, заметить — это очень важно! — что в основу науки о языке Шпет полагал не семиотику, как Р.Якобсон и другие, а философию языка, придерживаясь тезиса, согласно которому в обнову всех наук о культуре должна быть положена «философия культуры или духа»[265].
Именно в контексте этого положения Г.Г.Шпет развивает трактовку предмета этнической психологии как сферы некоторой системы знаков, доступных пониманию только путем расшифровки и интерпретации[266]. В каждом таком «знаке» он выделяет его объективное культурное значение и субъективную психологическую экспрессию, которая характеризует тот или иной этнический и социально-исторический тип.
Вернемся к нашей общей теме и переведем проблему понимания в контекст истории научных открытий. Для этого коснемся еще одной важной идеи Г.Г.Шпета. Рассматривая философию языка как основу философии культуры, Шпет характеризует внутренние формы слова (его смыслообразующие принципы) как порождающие
начала культурного мира, то есть некие универсальные прообразы и «архетипы» социального творчества. Интересно, что в русле этой идеи движется мысль некоторых (овременных исследователей, подтверждающих наличие определенных формообразующих начал культуры, как ее внутренних форм, в смысле, близком языкознанию'. При этом обнаруживается, что в отдельные периоды истории культуры различные направления в науке, искус- пне, материальном производстве находятся в очевидной снязи с некоторым единым смысловым образом действительности, который составляет характеристику «целостного культурного бытия» данного народа и данной жохи. И в этом смысле некоторые явления живописи, литературы и драматургии могут оказаться «родственными» физике Ньютона, максвелловой теории поля и другим феноменам естествознания.
Взгляды Шпета на логику развития эмпирических наук можно дополнить тезисом о первенстве художественного воображения, включая мифологическую фантазию, по отношению к истории научных открытий. Довольно часто науковеды вспоминают слова Эйнштейна: «Достоевский дает мне больше, чем любой мыслитель, больше, чем Гаусс». Но разве отсюда следует, что Достоевский давал Эйнштейну лишь «эмоциональные» импульсы? Вовсе нет. Как показал Я.Э.Голосовкер, романы Достоевского имеют строгую внутреннюю логику, которой подчиняются все его образы, и эту логику вполне можно сопоставить с учением Канта об антиномиях чистого разума[267]. Таким образом, есть основания говорить о логике, и тем более гносеологии, применительно к художественному познанию.
Здесь нельзя не вспомнить об интереснейших, в духе Шеллинга, идеях Шпета, касающихся взаимоотношения философии и художественного творчества. Согласно Шпету, отдельные искусства выступают как «органы философии», как эмпирические воплощения умозрительных познаний. «Искусства — органы философии; философия нуждается не только в голове, также и в руках, глазах и в ухе, чтобы осязать, видеть, слышать»[268]. Но самым универсальным и пророческим искусством является, конечно, искусство поэзии, мастерство слова. Будущее всей нашей культуры Шпет связывал именно с тем, что и как «скажет» искусство слова[269]. В этой связи представляется важным напомнить о разносторонней искусствоведческой и литературоведческой деятельности Шпета, которая очень плохо известна и пока еще не усвоена нашими специалистами по эстетике и литературоведению.
Чтобы сделать более ясным вышеуказанный тезис и ввести идеи Шпета в более широкий историко-научный и культурный контекст, совершим два небольших экскурса. Первый — к «Божественной комедии» Данте. В свое время ее комментировал Галилей, которому Флорентийская академия предложила окончательно разрешить спор относительно топографии «Дантовского Ада» — спор, который долго и безуспешно вели комментаторы «Божественной комедии». Уже это обстоятельство свидетельствует о том, как тесно переплетались в прошлом интересы поэзии и науки.
Но мы обратимся к другому комментарию, который предложил П.А.Флоренский в 1921 г. к 600-летию со дня смерти Данте в своем труде «Мнимости в геометрии» (1922). Здесь П.А.Флоренский предлагает использовать новейшие математические теории (специальный и общий принципы относительности) для объяснения структуры Вселенной в «Божественной комедии». В работе П.А.Флоренского новая интерпретация мнимостей заключается в том, что оборотная сторона плоскости, нам не видимая, рассматривается как область мнимых чисел. Плоскость, таким образом, представляется как некоторый слой, и рассматривается положение точек плоскости относительно него. Поскольку кривая есть геометрическое место точек, ей принадлежащих, ее характер зависит от рода точек: она может уйти «внутрь» плоскости, может «нырять» на обратную сторону плоскости, нам не видимую. «Это с точки зрения поверхностных процессов на плоскости есть качественное изменение хода кривой, но по существу оно не нарушает связности кривой»[270]. Распространяя предлагаемое истол-
конание мнимостей с плоскости на всякую поверхность, дитор исследует поведение нормали к поверхности при преобразовании (движении по поверхности). Не останавливаясь на этом подробно, для дальнейшего заметим, что при движении по односторонней поверхности в действительных координатах нормаль к поверхности пере- норачивается.
Далее следуют интересные замечания, касающиеся пространства, каким оно представлено Данте в «Божественной комедии». Прослеживая путь Данте с Вергилием, можно обнаружить, что, начав двигаться из Италии, гиускаясь по кручам Ада, они перемещаются до определенного момента головой к месту схода и ногами к центру Земли. Но когда поэты достигают примерно поясницы Люцифера, оба внезапно переворачиваются, обращаясь ногами к точке схода, а головою — в обратную сторону:
По клочьям шерсти Люцифера и коре льдяной,
Как с лестницы спускалась тень Вергилья.
Когда же мы достигли точки той,
Где толща чресл вращает бедр громаду, —
Вождь опрокинулся туда главой,
Где он стоял ногами, и по гаду,
За шерсть цепляясь, стал входить в жерло:
Я думал, вновь он возвращался к Аду.
«Держись, мой сын!» сказал он, тяжело Переводя свой дух от утомленья:
«Вот путь, которым мы покинем зло».
Тут в щель скалы пролез он, на каменья Меня ссадил у бездны и в виду Стал предо мною, полн благоговенья.
Я поднял взор и думал, что найду,
Как прежде Диса; но увидел ноги,
Стопами вверх поднятыми во льду.
Как изумился я тогда в тревоге,
Пусть судит чернь, которая не зрит,
Какую грань я миновал в дороге.
Миновав эту грань, то есть окончив путь и миновав центр мира, поэты оказываются под гемисферою, противоположной той, «где распят был Христос», и подымаются по жерлообразному ходу1.
Мой вождь и я сей тайною тропой Спешили снова выйти в Божий свет И, не предавшись ни на миг покою,
Взбирались вверх — он первый, я во след,
Пока узрел я в круглый выход бездны Лазурь небес и дивный блеск планет,
И вышли мы, да узрим своды звездны.
После этой грани поэт восходит на гору Чистилища и возносится через небесные сферы. Возникает вопрос: по какому направлению? П.А.Флоренский пишет: «Подземный ход, которым они поднялись, образовался падением Люцифера, низвергнутого с неба головою. Следовательно, место, откуда он низвергнут, находится не вообще где-то на небе, в пространстве, окружающем Землю, а именно со стороны той гемисферы, куда попали поэты. Гора Чистилища и Сион, диаметрально противоположные между собою, возникли как последствия этого падения, и, значит, путь к небу направлен по линии падения Люцифера, но имеет обратный смысл. Таким образом, Дант все время движется по прямой и на небе стоит — обращенный ногами к месту своего спуска; взглянув же оттуда, из Эмпирея, на Славу Божию, в итоге оказывается он без особого возвращения назад, во Флоренции. Путешествие его было действительностью; но если бы кто стал отрицать последнее, то во всяком случае оно должно быть признано поэтическою действительностью, т.е. представимым и мыслимым, — значит, содержащим в себе данные для уяснения его геометрических предпосылок. Итак: двигаясь все время вперед по прямой и перевернувшись раз на пути, поэт приходит на прежнее место в том же положении, в каком он уходил с него. Следовательно, если бы он по дороге не перевернулся, то прибыл бы по прямой на место своего отправления уже вверх ногами. Значит, поверхность, по которой двигается Дант, такова, что прямая на ней с одним перевертом направления, дает возврат к прежней точке в прямом положении, а прямолинейное движение без переверта возвращает тело к прежней точке перевернутым. Очевидно, это — поверхность: 1) как содержащая замкнутые прямые, есть римановская плоскость и 2) как переворачивающая при движении по ней перпендикуляр, есть поверхность односторонняя. Эти два обстоятельства достаточны для геометрического охарактеризования Дантова пространства, как построенного по типу эллиптической геомет-
/мм»[271]. Все это освещает средневековое представление о конечности мира. Но в принципе относительности эти об- щггеометрические соображения получили неожиданное конкретное истолкование. И с точки зрения современной физики мировое пространство должно быть мыслимо именно как эллиптическое, и признается конечным, равно как и время — конечное, замкнутое в себе. Это Флоренский называет «поразительным подарком Средневековью от враждебной ему галилеевской науки»[272].
Как показали работы А.Ф.Лосева, по типу неэвкли- доной геометрии построен и античный космос, что особенно заметно в трудах Платона, Аристотеля и неоплатоников. Конечно, построения Платона и Аристотеля являются логически-дискурсивными конструкциями. Однако го целое, которое подлежит уразумению в античной философии природы, оказывается равным образом эстетической данностью, ибо сам космос выступает как некое художественное произведение. По характеристике А.Ф.Ло- гева, «античный космос представляет собою пластически «лепленное целое, как бы некую большую фигуру или статую или даже точнейшим образом настроенный и издающий определенного рода звуки инструмент»[273].
Эта древняя космология подтверждает возможность цельного миропонимания и обнаруживает в себе такие характеристики, которые, являясь существенными чертами «архаичной» картины мира, обычно выдаются за «но- нейшие» открытия современной науки. А.Ф.Лосев пишет: «Разверните “Метаморфозы” Овидия, и вы найдете множество великолепных иллюстраций для конкретно выявляемого на вещах принципа относительности»[274]. В геометрической интерпретации четырех космических элементов (воздуха, огня, земли и воды) у Платона уже наличествует учение об искривленном замкнутом пространстве, а его знаменитые «идеи» вполне могут быть описаны в математических формулах теории относительности[275].
Возьмем другой пример — из области биологии. Разрабатывая идею типа как универсальной формы органического мира, Гете указывал на тот факт, что деятельность поэтической фантазии, издавна превращавшей человека в птиц и зверей, нашла рассудочную поддержку в лице остроумных естествоиспытателей, которые пришли к различным аналогиям после полного рассмотрения отдельных частей животных. Так возникла идея гомологии — единства строения органов различных живых существ, то есть сходства органов, построенных по одному плану и развивающихся из одинаковых зачатков у разных животных и растений.
«Метаморфозы» Овидия были одним из любимейших произведений молодого Гете[276]. Не случайно понятие «метаморфоза» становится одним из главных понятий его философии природы. И Гете прямо говорит, что «возможность превращения человека в птиц и зверей» задним числом была показана «нашему рассудку» в догадках естествоиспытателей о едином плане строения органического мира.
В «Метаморфозах Овидия поэтические мифы о превращениях нашли яркое и гениальное выражение. Здесь Нарцисс и Гиацинт превращаются в цветы, получающие такое же название. Кипарис, от грусти и тоски, превращается в дерево. Его руки становятся ветвями. И, стало быть, вполне допустимо усматривать соответствие («гомологию») между ветвями дерева и конечностями человека и животных. Некоторые современные ученые прямо говорят об этом: «Гомология между, скажем, веткой и конечностью в действительности останется, если мы выведем общий архетип древесного растения и млекопитающего»[277]. Но современная художественная литература также не уступает пальму первенства науке. В сказочной повести В.Каверина «Верлиока» злая воля превращает девушку Иву в деревце, и она чувствует, как ее руки становятся ветвями. А потом, силою любви, деревце ива опять превращается в девушку, становится Ивой с большой буквы.
Характерно, что именно представители так называемого «точного знания» (математики, физики, биологи) в импульсах своего творчества отводят главенствующую роль искусству и воображению. А.А.Любищев — крупнейший ученый, широко применявший математику в различных отраслях биологии, писал: «Чем выше стоит наука, тем больше в ней играет роль интуиция, догадка, поображение и все прочие способности, присущие только искусству в обычном понимании»[278].
Именно в свете идей герменевтики истолкование природы и социально-культурной действительности стано-
11 ится до конца осознанной логико-философской проблемой. Тут мы имеем дело с новым этапом самосознания духа, более высоким уровнем человеческого разума, перед которым раскрываются процессы понимания и новые перспективы взаимопонимания между людьми.
Проблемы истолкования рассматриваются во многих произведениях Шпета. Здесь я хотел бы остановиться на ею главном — и пока еще не опубликованном труде, посвященном истории герменевтики и проблеме понимания. Сочинение Г.Г.Шпета «Герменевтика и ее проблемы» (191.8) составляет вполне определенный этап в его фундаментальных исследованиях по логике исторических наук, а также общим проблемам философии культуры.
«Герменевтика» Шпета построена в гегелевском, философско-историческом ключе; автор задается целью проследить хотя бы в основных чертах и главных моментах «раскрытие и осуществление идеи герменевтики»2. Прослеживая формирование герменевтической проблематики в античности, Шпет показывает, что рождение философии истолкования есть творческий итог сопряжения герменевтики и логики, философии языка и теории знания. Дальнейшая судьба герменевтики зависела от того, выполняла ли она служебные функции (например, в рамках богословия), или пыталась дойти до рефлексии на собственные принципы и основоположения. Чрезвычайно интересным и логически насыщенным является у Шпета анализ проблемы истолкования в исследованиях
Флация, давшего в своем «Ключе» (1567) обоснованную критику «многозначных» теорий интерпретации.
Г.Г.Шпет далее рассматривает «переходный» период — интеллектуальную культуру XVII —XVIII вв., когда через вопросы логики, семиотики, теории познания просвечивали вопросы «философии языка» и проблема понимания. Он останавливается на соответствующих философских идеях Т.Гоббса, Дж.Локка, Т.Рида, Дж.Гарриса, отдавая, однако, предпочтение последователям Лейбница — Хр. Вольфу и особенно Г.Фр.Мейеру. Как показывает Шпет, решающий, важнейший этап развития герменевтики наступил к концу XVIII в., когда поиск герменевтических принципов стал ориентироваться на филологию, причем филологию в смысле исторической науки, как она конституируется опять-таки к концу XVIII в. Предметом анализа здесь оказываются взгляды и соответствующие работы И.А.Эрнести и Фр.Аста.
Большое значение Г.Г.Шпет придает разбору идей Фр.Шлейермахера, труды которого он оценивает очень высоко по тонкости и изяществу анализа, глубине понимания задач герменевтики, но довольно низко — по разработке философских оснований этой дисциплины. Подвергая критике психологический подход к проблеме истолкования, Г.Г.Шпет рассматривает также работы Г.Штейн- таля, А.С.Лаппо-Данилевского, В.Дильтея, Эд.Шпрангера, Г.Зиммеля. Резонным и вполне актуальным представляется вывод, согласно которому личность как предмет понимания нуждается в социально-исторической, а не психологической интерпретации. Вопрос о характере исторической интерпретации является для Шпета центральным. В этом отношении чрезвычайно важным следует признать его указание на «философскую ценность филологической методологии» и разбор концепций таких крупных филологов, как Авг. Бек и Г.Узенер.
Необходимым дополнением к определению типов истолкования предстает у Шпета анализ тематически близких работ историков (Дройзена, Бернгейма) и философов (Прантля, Дильтея). Предлагая гегельянское прочтение последней напечатанной работы Дильтея «Строение исторического мира в науках о духе» (1910), Шпет настаивает на том, что постижение исторического смысла есть функция «разумения», направленного на разум, воплощенный в самой действительности, реализованный в
истории. На этом пути реальная диалектика становится интерпретирующей, «герменевтической диалектикой»[279].
Среди многочисленных аспектов, имеющих несомненный интерес для современного читателя, выделяется в книге Шпета проблема определения предмета логики как науки. Вполне обоснованным выглядит установление >гого предмета в области человеческой речи, языка. В ;>поху, когда логика сплошь и рядом вытесняется логистикой, математизированным отображением интеллектуальных операций, такая постановка вопроса является очень существенной и необходимой.
Смысл может быть выражен самым различным образом, но его выражение логично, сообразно мысли только тогда, когда оно понятно, то есть выявлено в понятии, а понятие «есть прежде всего слово, или более общо, сло- месное выражение»[280]. Есть, конечно, иные понятия, нежели слово, — модели, чертежи, математические формулы, символы, уравнения и т.п., однако слово остается наиболее универсальным знаком и выражением идеи. Во всех построениях науки и других проявлениях человеческой деятельности нет и не может быть ничего такого, чего нельзя было бы передать словесною речью[281]. В то же время нет такой системы знаков или символов, на которой можно было бы отобразить словесную речь, претендуя на смысловую полному и содержательную адекватность.
Сказанное должно сделать понятными те основоположения, из которых исходил Г. Шпет в решении проблем герменевтики. Отсюда также становится ясным смысл утверждения, которым начинается его работа, посвященная истории и принципам герменевтики: «Решение этих проблем должно привести к радикальному пересмотру задач логики и к новому освещению всей положительной
философии»[282]. Под именем положительной философии Шпет понимает традицию рационализма, наиболее типично представленную в философии Платона и развитую в трактатах Плотина, Декарта, Спинозы, Лейбница и т.д., вплоть до Гегеля. К этой традиции он и относит свои исследования. «Положительная философия, — указывает Шпет, — видит путь к истинному бытию в разуме или более специфицированно, в уме, интеллекте и т.п.»[283]. Таким образом, именно в рационалистической («положительной») философии Шпет усматривает основания, необходимые для установления и развития принципов герменевтики. В своем сочинении он прямо пишет об этом: «Рационализм по существу заключает в себе всякую философскую герменевтику, и предпосылает все возможности ее конкретных осуществлений, как методы действительных актов понимания и интерпретации... рационалистическая философия по существу есть философия герменевтическая»[284]. В отношении к проблеме понимания, замечает Шпет, рационализм до сих пор остается нераскрытым.
В книге Шпета философские заботы гуманитарных наук открываются как заботы общечеловеческие. Герменевтика - это учение об истолковании, которое происходит на основе социальных актов понимания и взаимопонимания. Таким образом, старая философская проблема выступает как одна из основных проблем современного мира.
Чтобы сохранить философскую культуру, нужно всегда помнить завет Спинозы: необходимо очистить ум от страстей и научиться понимать. Тогда, быть может, оправдание чистого разума приведет нас к такой «философии жизни», которая поможет людям основательнее понять друг друга и сохранить жизнь на Земле.
Приложение
В качестве дополнения к статье я хочу предложить читателю один интереснейший документ, который мне удалось обнаружить в архиве известного психолога и
чингвиста Н.И.Жинкина (ученика Густава Шпета)[285]. ,')то — копия обращения А.И.Бачинского в Академию наук СССР, где кандидатура Г.Шпета выдвигается на замещение кафедры философии. Выборы новых академиков (заседания избирательных комиссий) начались осенью 1928 г. и должны были завершиться в январе 1929 г.
Насколько мне известно, Шпет не хотел и не искал своего выдвижения в действительные члены Академии наук. Он предвидел, что публикация его фамилии в списке кандидатов положит начало травле со стороны мнимых ортодоксов, а также тех людей, для которых чужие достоинства всегда являются предметом ненависти. Так оно и случилось. После ряда газетных наскоков Шпет стал подвергаться уже постоянным и методическим преследованиям.
Лишенный возможности в 30-е годы принимать полноценное участие в культурном строительстве, Г.Шпет вынужден был сосредоточить свои силы на переводческой и комментаторской деятельности. Однако и в этой области он сделал настоящие чудеса. Достаточно упомянуть хотя бы целый том его комментариев к «Посмертным запискам Пиквикского клуба», выпущенный издательством «Асаскпйа» (1934).
В 1935 г., на волне массовых репрессий, Шпет был арестован и сослан в Енисейск, а позднее отправлен в Томск. Именно здесь — в тяжелых условиях — он работал над переводом гегелевской «Феноменологии духа» (опубликован в 1959 г. в собр. соч. Гегеля, т. IV). В 1937 г. Шпет был арестован в Томске и сослан в лагерь, из которого уже не вернулся.
У нас всегда находились люди, готовые на страданиях и даже смерти подвижников духа наживать себе политический капитал, которым они довольно успешно подменяли «капитал» теоретический. Именно подобные люди клеветали на Шпета, навешивали на его труды осуждающие идеологические ярлыки. Нет смысла теперь опровергать их вздорные обвинения. Но давно пришла пора восстановить философскую концепцию Шпета в ее
подлинности, по достоинству оценить вклад, сделанный этим выдающимся ученым в отечественную и мировую культуру.
Вот почему я придаю исключительно большое значение приводимому здесь документу. Он поможет устранить многие кривотолки вокруг имени и философских взглядов Г.Шпета. Дело в том, что А.И.Бачинский дает интегральную характеристику научной и общественной деятельности Г.Г.Шпета, используя при этом, отчасти, его собственное изложение своей философской концепции. Что касается оценок, которые А.И.Бачинский дает научному творчеству Г.Шпета, общественному значению его трудов, то здесь надо сказать следующее: для людей компетентных и понимающих дело (в то время) эти оценки были чем-то само собою разумеющимся и, пожалуй, являлись даже слишком скромным очерком заслуг выдающегося мыслителя и ученого[286].
В Академию Наук СССР
Наличие глубокой связи между точными науками и науками философскими побуждает меня, представителя точного знания, высказаться по вопросу о замещении кафедры философии в Академии Наук СССР.
Среди кандидатов, имена коих опубликованы в официальном порядке, указан (раздел БЗ, № 13)2. Г.Г.Шпет. Я позволю себе выдвинуть те свойства научной работы Шпета, которые делают его кандидатуру, на мой взгляд, наиболее веской из всего списка по отделу философских наук.
По Шпету, философия в своем историческом и диалектическом развитии проходит через три стадии: 1) стадию «мудрости» и морали, 2) стадию метафизики и «мировоззрения», 3) стадию строгой науки.
Задачей нашего времени Шпет считает осуществление философии как науки. Для этого надобно, во-первых, в истории философии выделить все те моменты, которые (в отличие от мифологических и метафизических конструкций) составляют положительное содержание философии, и, во-вторых, исходя из этих положительных моментов, построить систему философского знания, определяемого своим особым предметом и методом. Псевдонаучные метафизические теории или задавались вопросами, внутренняя противоречивость и познавательная неразрешимость которых может быть философски доказана, или же конструировались по аналогии с науками специальными; в этом последнем случае они, с одной стороны, выходили за пределы строгого научного знания в область гипотез, недоступных проверке, а с другой — строили односторонние «картины мира» по аналогии с излюбленной специальной наукой (отсюда: механизм, биологизм, психологизм и т.п.). Попытки позитивизма и кантианской гносеологии преодолеть метафизику в философии обращением к изучению самого знания и его условий, как доказывает Шпет, могли быть весьма ценны для нас в своей критической части, но в своей созидательной части они исторически приводили (и не могли не привести) к феноменализму, субъективизму и скептицизму. Между тем положительная философия как наука, наоборот, характеризуется (как это убедительно показано Шпетом в его работах) реализмом, объективизмом и рациональностью.
В противоположность односторонним и гипотетическим «картинам мира» Шпет требует от философии четкого и строгого анализа синтетических форм сознания, как они осуществляются в культурно-исторических фактах науки, искусства, языка и т.д. В связи с этим философская система Шпета оформляется в систему специальных наук: логики, эстетики, философской семасиологии и т.д. До сих пор главное внимание (как в преподавательской его деятельности, так и в литературной) было им устремлено на проблемы двух специальных наук: логики, которую он понимает как методологию научного знания и трактует в связи с историей научной мысли, и эстетики, которую он ориентирует на конкретное искусствоведение. В области логики его специальные исследования по логике и методологии исторических наук вызвали особый интерес и признание среди специалистов;
можно было бы привести целый ряд самых лестных оценок его трудов. В области эстетики Шпет также не ограничился провозглашением общим принципов, а тотчас показал приложение метода научной философии к исследованию искусства слова. Впрочем, его исследования в этой области далеко выходят за пределы эстетики и кладут основание оригинальной философии языка. Принципы этой последней не только развиваются его непосредственными учениками, но также оказали заметное влияние на работы молодых русских лингвистов; здесь правильно говорят о «школе Шпета». Нужно признать справедливым указание автора большой статьи, посвященной последней работе Шпета[287], которое ставит исследования Шпета в параллель с новейшими течениями западной науки; но необходимо прибавить, что кардинальные мысли в этой сфере были высказаны Шпетом гораздо раньше выступления его западных единомышленников, а результаты его работ — плодотворнее и нередко ушли далеко вперед по сравнению с еще робкими опытами западных ученых. Доказывая, что в то время как специальные науки изучают вещи и факты действительности, — философия имеет задачей критику и анализ самих научных методов и понятий, Шпет определяет собственный философский метод как «интерпретирующую диалектику научных понятий». В отличие от формальных и отвлеченных форм диалектики Платона и Гегеля эта форма диалектики самых смыслов научных теорий и терминов должна быть названа подлинно реальной диалектикой. Примыкая к определениям известного математика (и) логика Больцано, Шпет под «научными методами» понимает методы доказательства и изложения, справедливо полагая, что, каким бы путем ученый ни пришел к научной истине, наука начинается, когда эта истина соответственным образом изложена, т.е. обоснована и доказана. Отсюда интерпретирующая диалектика Шпета распространяется на анализ самого смысла научных теорий, методов и приемов в контексте их исторического и логического развития. Собственные анализы Шпета являются образцом применения этого метода; при его необыкно-
1к*нной эрудиции и тонкой изощренности его аналитического искусства они ставят его в первые ряды современных представителей философской науки.
Как на один из результатов применения метода интерпретирующей диалектики, здесь можно указать на полученное путем расчленения значений терминов различение философских учений; это различение проливает новый свет на их взаимное отношение и на место, принадлежащее им в целом культурной мысли. Различая в понятиях их объективное значение и субъективно-психо- логическую экспрессию, Шпет показывает, что наряду с объективными теориями в историю философии зачисляются особого рода социально-психологические построения, отражающие лишь особые типы настроений и психологических конституций. Его анализ скептицизма с этой точки зрения справедливо признается специалистами образцовым[288].
Естественно, что, отделяя по научной ценности и по культурно-историческому смыслу положительные философские учения от конструкций метафизических, с одной стороны, социально-психологических — с другой, Шпет даст новое и оригинальное освещение самой истории философии. Образцом в этом смысле может служить его История русской философии (впервые выполненная в таком объеме и с такою научною тщательностью), из которой пока увидели свет только первый том и несколько подготовительных этюдов-исследований ко второму тому. Редкая эрудиция Шпета дала ему возможность не только вскрыть такие источники русской философии, о которых раньше не подозревали, но и в истории западной философии осветить малоисследованные или забытые моменты. Нужно думать, что предпринятое в настоящее время немецкое издание работы Шпета заставит и Западную Европу отнести его к первостатейным научным исследователям. Завершение труда Шпета по истории русской философии в условиях академической работы было (бы) в высшей степени ценно для нашей науки.
Особо должны быть упомянуты (внутренне связанные, впрочем, с его принципами) работы Шпета по социальной и этнической психологии. Кроме их теоретичес
кой ценности (как критической, так и положительной), необходимо подчеркнуть их огромное практическое значение для современной науки в связи со столь развивающимся у нас краеведением и изучением населяющих Союз национальностей. Здесь также опубликованным является еще только начало исследований Шпета, посвященное изложению принципов (в высшей степени оригинальных и смелых), но из докладов, читанных Шпетом в московских научных обществах, видно, что и в этой области его работа подвинулась достаточно далеко, чтобы найти себе, наконец, академическое завершение.
Обзор научных заслуг Шпета и оценка научного значения его трудов были бы неполными, если бы я не упомянул о его личных качествах, как блестящего лектора и исключительного организатора. Созданный им Кабинет этнической психологии, организация Института научной философии и бывшего Философского разряда — ныне Разряда общего искусствоведения и эстетики — в Гос. Академии художественных наук достаточно свидетельствуют, что Шпет — единственный кандидат, на которого Академия Наук СССР могла бы возложить выполнение задач (столь ответственных и для нашей науки столь важных) по организации новой философской кафедры в Академии. А широчайший диапазон научных интересов Шпета и его огромная эрудиция, несомненно, сделали бы из него незаменимого участника в работе Академии Наук в ее целом.
А.Бачинский.
«Вопросы философии», 1988.
В. Г. Кузнецов РОЛЬ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ В ОБОСНОВАНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ ГУСТАВА ГУСТАВОВИЧА ШПЕТА
Концепция, на которую опирается положительная философия Г.Г.Шпета, может быть названа герменевтической феноменологией. Выбор этого термина требует пояснения. Основной герменевтический труд Шпета «Герменевтика и ее проблемы» был закончен в 1918 году. В это время под герменевтикой обычно понимали искусство постижения смысла текста. Причем, следует
отметить, что это искусство (умение, техника) было весьма специфично. Оно представляло собой прежде нсего совокупность психологических приемов «проникновения» во внутренний мир автора текста. Этими приемами являлись эмпатия, вчувствование, сопереживание, мживание в историко-культурный мир, мысленное проникновение в творческую «лабораторию» автора. Так понимаемая герменевтика была психологически нагруженным методом исследования. И если ее трактовать только так, то вновь образованный термин «герменевтическая феноменология» будет с точки зрения содержания внутренне противоречивым. На мой взгляд, Шпет прекрасно осознавал, какие выводы из этого могут последовать. Но тем не менее основные его устремления связаны именно с идеей соединения герменевтики и феноменологии. Это возможно потому, что слово имеет сложную структуру (какую именно, рассмотрим несколько позже, сейчас же достаточно только констатации этого факта). Смысл слова (высказывания, текста) объективен и может быть познан непсихологическими методами. Искусство постижения смысла текста (герменевтика) должно неизбежно включить в себя семиотические методы (ввиду знаково-символической природы языка), логические и феноменологические приемы. Они направлены на постижение (изучение, исследование, но не «схватывание», не «вчувствование») объективного, внутреннего смысла текста. Все остальные моменты смысловой структуры текста, навеянные психологическими особенностями автора, историческими и социальными условиями, являются внешними факторами, они своеобразно влияют на смысл текста, безусловно, должны учитываться и включаться в исследования текстов под общим названием «условия понимания», постижение которых обеспечивается историческим методом. Психологический и исторический методы в герменевтике были исторически обусловленными приемами исследования, научными средствами постижения смысла в таких условиях, когда не было еще развитых семиотических средств, не существовали современные логики-семанти- ческие приемы, не был еще создан феноменологический метод. Поэтому герменевтика концептуально не сводится только к психологическому искусству, она лишь вынужденно им была ввиду недостатка технического инструментария. Даже более того, психологическую герменев
тику XIX века можно без всякого преувеличения назвать исторической разновидностью герменевтики вообще.
В начале XX века с возникновением семиотики, современной логики, семантики, феноменологии была преобразована и герменевтика, в которой психологические приемы стали играть свою четко определенную роль в системе методологических средств, обслуживая внешние моменты понимания смысла текстов. Причем ввиду того, что тексты весьма разнообразны по своему назначению, происхождению и роли в жизни общества, акцент может делаться на разные элементы смысловой структуры. Никакого противоречия между психологией, логикой и феноменологией не существует. Строгое разведение внутреннего и внешнего ведет к различению методов исследования, систематизирует исследование и сохраняет специфику предметных областей. Предмет определяет метод исследования. Спор о том, что является основным при определении смысла текста: внешняя среда или внутренние структурные моменты, вытекает дибо из неправильного представления о существовании непримиримых противоречий между внутренними и внешними детерминантами, либо из желания угодить уже становящейся в начале XX века и претендующий на подавляющее господство идеологеме, утверждающей, что все в духовной жизни человека жестко определено внешними условиями (так называемыми социальными факторами) бытия человека. Для меня в данном случае важно, что наполняемая новым теоретическим содержанием герменевтика методологически и концептуально не противоречит феноменологии, поэтому употребление термина «герменевтическая феноменология» вполне оправдано.
Сам Шпет этого термина не применял, но логика развития его идей шла как раз в этом направлении. Именно феноменология должна быть обогащена новыми герменевтическими приемами постижения смысла. С другой стороны, следует отметить, что и герменевтика переосмысливает свое содержание за счет феноменологической, семиотической и логико-семантической экспликаций понятия «смысл текста», за счет методологической рефлексии над всем полем гуманитарных наук и выхода в философские сферы. Синтез двух методов взаимовыгоден.
Шпет чутко уловил движение герменевтической проблематики к преобразованию в новое философское направление со своей особой логикой, с собственными при-
гмами исследования. Это философское направление, по мысли Шпета, адекватно соответствует природе философии, философское знание приобретает значимость «строгой науки» или, в более ослабленном смысле, можно сказать, что философия начинает функционировать как «строгая наука». Именно так! Философия не становится «строгой наукой», а по своей форме функционирует аналогично «строгой науке. Что же обеспечивает такое сходство? Использование в философии теоретических рас- суждений — вот признак, но которому можно судить о близости философии и науки. Теория как форма представления знаний и способ рассуждения используется в любых науках и в философии. Более того, Шпет полагает, что можно говорить о теоретической философии, нагрузив этот термин точным смыслом, выделив в нем определенное значение термина «теория» и специфические черты философского метода исследования.
Каков же этот смысл? Шпет различает три употребления термина «теория». Первое значение связано с объяснением и отличается от фактического знания, выполняющего описательную функцию. Теория в этом случае сеть «технический термин», «под ним разумеют проверенное, приведенное в систему с помощью гипотезы знание. В этом значении теоретическое противополагается, а, фактическому и гипотетическому, Ь, здравому смыслу, с, вообще данному через посредство чувственного восприятия»[289]. Данное употребление напоминает смысл термина «теория» в новейших методологических исследованиях, где теоретическое противопоставляется эмпирическому о строгим разделением функций объяснения и описания.
Эмпирический уровень феноменологически достоверен и является базисным по отношению к теоретическому. Теоретический уровень систематически доказателен, законоподобен, выявляет сущность эмпирических явлений в форме теорий, гипотетико-дедуктивных построений. Связь между обоими уровнями обеспечивается правилами логики. Такая модель соотношения теоретического и эмпирического калькируется с естественнонаучного познания. И, следовательно, так понимаемое теоретичес
кое не может быть использовано в философии без утраты последней своей специфики.
Второй смысл теоретического, согласно Шпету, противопоставляется прикладному и техническому. Так трактуемое теоретическое имеет место в философии. Уже у Аристотеля и Платона можно обнаружить такое употребление данного термина. Используется он и Кантом. У Канта теоретическое фигурирует как необходимо присущая подлинной науке форма знания, она фактически существует в науке и в философии. «Этот вид знания, — писал Кант, — надо рассматривать в известном смысле как данный, метафизика существует если не как наука, то во всяком случае как природная склонность [человека]»1. Такая метафизика, как известно, не соответствовала, по Канту, идеалу строгой науки — аподиктической науке — как знанию доказательному, всеобщему и необходимому. Аподиктическая наука включает в себя признаки выделяемого Шпетом первого смысла термина «теория», и образ ее создан из наиболее существенных черт теории математического естествознания.
Кант считал, что реформированная метафизика возможна в том случае, если будут выявлены и реализованы соответствующие условия, способствующие обретению ею свойств аподиктической науки. В настоящее время хорошо известно, что подведение философии (да и всех других дисциплин, не относящихся к математике и естествознанию) под идеал теорий математического естествознания может привести лишь к нивелированию специфики философского знания, что в дальнейшем и было сделано в наиболее последовательных методологических концепциях логических позитивистов.
И, наконец, третий смысл термина «теория» выявляется при сопоставлении ее с действительностью. Теоретическая философия изучает действительность в целом или ее фрагменты. Она отличается от конкретных наук предметом и методами познания. Она изучает принципы, первоначала бытия. Ее метод — интеллектуальная интуиция. Философия противостоит в этом случае опытным наукам, так как источником знаний опытных наук является эмпирическая интуиция, чувственное восприятие, созерцание, а источником знаний в теоретической фило
софии является идеальная интуиция, умозрение, спекуляция. «Построение философской системы на плечах философских начал, — рассуждает далее Шпет, — при- нодит к метафизическим системам, а сами начала в качестве принципов могут быть выдвинуты, как объект особого внимания. Таким образом, философия разделяется на принципы и метафизику. (Принципы должны быть понимаемы здесь, как подлинные начала, поэтому они не должны быть непременно общими рациональными положениями, из которых будто бы можно «вывести» остальное философское знание или метафизику.)
В то время как метафизика может быть значима во нтором из приведенных значений (знание о бытии вообще), начала и должны быть теоретическим знанием до построения теорий в значении втором и первом. Речь идет, следовательно, о «спекулятивных принципах»[290]. Так как в большинстве методологических программ научная теория трактуется в первом смысле, то шпетовское понимание теоретической философии является знанием дотеоретическим. Это, на первый взгляд, парадоксальная формула. На самом же деле противоречия в ней нет, так как термин «теория» в первом и во’ втором случаях используется в разных значениях. Философское знание есть чистое теоретическое знание, не зависящее от опыта. «Это — правда, что ни чувственный опыт, ни рассудок, ни опыт в оковах рассудка, нам жизненного и полного знания не дают. Но сквозь пестроту чувственной данности, сквозь порядок интеллектуальной интуиции, пробиваемся мы к живой душе всего сущего, ухватывая ее в своеобразной, — позволю себе назвать это — интеллигибельной интуиции, обнажающей не только слова и понятия, но самые вещи, и дающей уразуметь подлинное в его подлинности, цельное в его целостности, и полное в его полноте.
Таким представляется мне путь основной философской науки, удовлетворяющей основному требованию, выставленному нами, сообразно намечающейся идее ее. Она должна быть не только до-теоретической и чистой по своей задаче, но также и конкретной по выполнению ее, и разумной по своему пути»[291]. Нетрудно заметить
здесь перекличку с Кантом. Шпета так же, как и Канта, не удовлетворял уровень развития философии, который был весьма далек от идеальной науки. Критическая реформа Канта была направлена на превращение философии из «естественной склонности человека» с ее неполнотой, незавершенностью, малой силой доказательности, ненаучностью, породившими скептицизм и недоверие к философским построениям, в идеальную аподиктическую науку.
Шпет высоко оценивает философию Канта в целом (несмотря на негативное отношение к некоторым ее отдельным моментам). Более того, Платон и Кант являются для него эталонными образцами при оценке и реконструкции историко-философских идей и хода развития философской мысли.
Шпет различает два вида философии — положительную и отрицательную — по преобладанию в первом принципов платонизма с ориентацией на исследование первоначал, а во втором — элементов кантианства с преобладанием проблематики, нацеленной на создание независимого от области познания идеального и всеобщего метода исследования. Шпет не принимает традиционную модель сопоставления идеализма и материализма. И делает это не случайно, а по принципиальным соображениям. У него получается, что материализм является лишь разновидностью релятивизма (самым последовательным здесь выступает позитивизм), с его уклоном в онтологизм и отсутствием традиционных, подлинно философских задач. Для обоснования своей позиции и для введения критериев различения положительной и отрицательной философии Шпет сводит основные принципы Платона и Канта в следующую схему1.
Основные принципы Платона: а) Истина предметна и усматривается нашим разумом в идеях; 6) высший принцип всякого утверждения истины есть «то же» в ней, т.е. принцип тождества; в) полнота истинного бытия познаваема как конкретное усмотрение общего; г) идея выражает его сущность и всякое бытие утверждается через причастность ей или участие в ней; д) идея конечной сущности, блага разумна, так что за разумом сохраняется его автономия.
Основные принципы Канта: а) В начале познания лежит софизм, выраженный в дилемме: или предметы, или предикабилии, — отрицание первой части дилеммы дает утверждение второй; б) тождество есть принцип аналитических суждений, не расширяющих нашего знания, — специфические суждения имеют своим принципом «я мыслю», а не «я высказываю истину»; в) общие положения нашего знания имеют абстрактный характер и представляют собой не высказывания об истине, а общеобязательные суждения, истинность которых тем больше, чем они дальше от действительности; г) как источник по- шания идея антиномична и может играть также роль регулятивного принципа; д) выход из антиномичности разума существует в отрицании его автономии и через признание его благости.
Легко заметить, что принципы Канта и Платона, взятые попарно и последовательно, противоречат друг другу, что и дает возможность Шпету положить их в основу анализа развития философии. Различные сочетания утверждений или отрицаний приведенных принципов лежат в основании всевозможных философских направлений. Деление философии на положительную и отрицательную зависит от преобладания элементов платонизма н первой и элементов кантианства во второй. При таком подходе имплицитно подразумевается современное понимание философии как специфического знания (в отличие от античного понимания, когда философия отождествлялась со всем нашим знанием). И в этом значении философия есть «область принципов, начал, исходных пунктов, оснований»1.
Для чего понадобилось Шпету все это построение? Какова его цель? С помощью такого анализа Шпет стремится показать, что и Кант, и все последующее движение философской мысли, так или иначе связанное с идеями критической реформы Канта, не привели к созданию подлинно научной философии. Более того, последовательное применение идеала научности Канта заставляет выводить за пределы науки целые области познания, которые исконно считались научными. Данное положение можно назвать своеобразным позитивистским рецидивом кантовской методологии.
«Кант в своей теоретической философии, — писал Шпет, — признал только один образец для научного знания: “математическое естествознание”, и вот первое же столкновение со “специальным учением о природе”, учение о душе, побудило его изгнать психологию из пределов науки, та же участь постигла историю»[292]. Критическая заостренность и даже резкость высказываний Шпета в адрес Канта носит непримиримый характер. Шпет обвиняет Канта в задержке развития теоретической философий: «...критическая философия Канта в противоположность вольфовской рационалистической системы, не только не оставляла места для решения теоретической проблемы истории, но прямо должна была препятствовать ее включению в число теоретических проблем философии. Поэтому критическая философия, как она была выражена у Канта, должна была задержать уже надвигавшуюся разработку теоретических вопросов философии и науки истории»[293]. Шпет не принимал философский сциентизм Канта, суть которого заключалась в том, что единственным образом для.всего научного знания признается математическое естествознание со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Отрицательная философия, по мнению Шпета, присваивает себе квалификацию научной философии, отличая тем самым себя от ненаучной, псевдофилософии. И невольно, обосновывая собственную научность, она апеллирует к завоевавшим заслуженный авторитет конкретным областям знания. И какие это области знания — математика, физика, психология, логика — это уже не столь важно. Главное, что при таком способе доказательства научности философии, исчезает основное — специфичность философского знания, сводящаяся к особенностям методов конкретных наук. Редукционизм и релятивизм являются неустранимыми моментами отрицательной философии. И не спасает положения дел здесь ничего. Приемы типа введения абстрактного субъекта познания, выделения двух типов реальности: субъективной и объективной, явления и вещи в себе, оказываются на деле искусственными, а по отношению к некоторым проблемам (например, объективная истина и ее отношение к
источникам, познания, познаваемость мира, соотношение Я и субъекта познания, природа философского скептицизма) еще более обнажают несостоятельность отрицательной философии.
Но что можно противопоставить кантовской методологии? Есть ли выход из создавшегося положения? Ведь отрицательная философия уже существует фактически, реально имеется и разрыв философской традиции: до- кантовская метафизика отделена пропастью от современности. Шпет считает, что необходимо вернуться к положительной философии, ее задачам, предмету, необходимо восстановить прерванную традицию и утраченный авторитет философии и гуманитарных наук. И сделать это следует путем введения в проблематику положительной философии вопроса о месте, сущности и бытии познающего разума, а также вопроса об отношении этого особого типа бытия к другим видам бытия. Таким образом будет осуществлен возврат к исконному предмету философии, но уже на новом уровне, критически воспринявшем крупное достижение Канта: «особое, не эмпирическое и не действительное, бытие субъекта познания»1.
До 1914 года (года публикации работы «Явление и смысл») Шпет полагал, что создание подлинной положительной философии фактически уже осуществлено Э.Гуссерлем. Следует лишь несколько «подправить» его феноменологию, и мы получим «основную науку философии», которая является базисной как для философии в целом, так и для всех конкретных наук. Но уже в процессе написания книги «Явление и смысл» (ив опубликованном тексте явно это чувствуется) у Шпета закрадываются сомнения в безупречности методологической техники феноменологии, в абсолютной ясности всех приемов исследования. И эти сомнения связаны прежде всего с проблемами постижения смысла, со структурой понимающей деятельности, которая не зависела бы от психологических особенностей познающего субъекта, что является предметом особого интереса теорий познания в отрицательной философии. Поэтому он предпринимает систематическое исследование проблем герменевтики с целью выведения ее проблематики на философский уровень и заполнения указанного пробела в аппарате фено-
менологии. Результаты исследования были изложены им в книге «Герменевтика и ее проблемы», рукопись которой была закончена в 1918 году и по обстоятельствам, не зависящим от автора, не была опубликована (интересно, что Шпет считал, что книга вот-вот выйдет, у него в пуб ликациях есть даже ссылки на готовящуюся к изданию книгу. Например, в книге «Очерк развития русской философии» (часть 1, Петроград, 1922) Шпет писал: «Общий очерк развития герменевтики см. в моей (печатающейся) книге: Герменевтика и ее проблемы», с. 79). Я буду пользоваться экземпляром, хранящимся в архиве Шпета.
Дальнейшее изложение будет исходить из очень простого плана. Как объяснить синтез герменевтики и феноменологии? Основой синтеза является традиционная формула: «понимание есть постижение смысла», «Идея предмета лежит как признак в его содержании, именно в его сущности и поэтому может быть названа также энтелехией предмета. Раскрытие ее и есть формальное определение понимания»[294]. Данная цитата будет точно соотнесена с нашим контекстом, если помнить, что энтелехия для Шпета есть внутренний смысл, основная идея предмета, свойство основного предметного содержания ноэмы (далее об этом будет сказано несколько подробнее).
Принципиальным анализом понимания занимается герменевтика. Она отвечает на вопрос: «Как возможно понимание?» Принципиальным анализом смысла и методов его постижения занимается феноменология. Новая дисциплина, получающаяся в результате синтеза, располагает очень широким предметным полем (значительно более широким, чем предметные области конкретных гер- меневтик и даже универсальной герменевтики в духе Ф.Шлейермахера) и универсальным методологическим аппаратом, обогащенным герменевтическими методиками.
В герменевтике понятие «смысл» обычно не определяется. Смысл дан (явлен, существует) как нечто внешнее. Это — идеальное бытие, эйдетический мир, на который направлен герменевтический интерес. Основное понятие герменевтики считалось либо интуитивно ясным, либо заимствовалось из других областей (ив этом случае подразумевалось, что уже там-то его выявили абсолютно
точно). В феноменологии аналогичная картина была относительно понятия «понимание». Поэтому синтез герме- нснтики и феноменологии был теоретически предопредели, обе дисциплины должны были взаимно дополнять друг друга. Кроме того, идея Шпета имеет хорошее дальнейшее подтверждение: она была реализована, прав- дм несколько позже, М.Хайдеггером в его герменевтической феноменологии (Книга М.Хайдеггера «Зет ипс1 У<еИ> была издана в 1927 году, а герменевтический труд Г.Г.Шпета не был издан в свое время совсем. Только сравнительно недавно этот чрезвычайно важный для гноего времени труд был напечатан в ежегоднике «Контекст». Россия потеряла первенство в создании уникального философского направления. Мысли Хайдеггера и Шпета во многом содержательно (идейно) совпадали. Например, концепции Шпета и Хайдеггера основывались на феноменологии Гуссерля. У обоих «понимание» онто- логизируется, бытие и существование не отождествляются, ставится вопрос об отношении бытия познающего разума к другим видам бытия. Положительная философия (Шпета) и метафизика (Хайдеггера) берут свое «вслушивания». Шпет говорит об интеллектуальной интуиций, уразумении, понимании сущности самого сознания как чистого (истинного) бытия. И следует сказать еще об одном удивительном совпадении. Хайдеггер считал, что истинное бытие живет в языке, язык есть путеводная нить к культуре. Шпет утверждал, что слово есть принцип и архетип культуры. И, наконец, оба мыслителя ( читали, что возрождение подлинной#философии возможно посредством возвращения к ее истокам и настоящим философским задачам. Для Шпета таким истоком был Платон, а для Хайдеггера — досократики. Следует отметить еще один любопытный факт, над которым стоит задуматься. Шпет до первой мировой войны был в Германии, работал там довольно продолжительное время, познакомился там с Гуссерлем. Гуссерль называл Шпета одним из своих лучших учеников (Шпет свою книгу «История как проблема логики» посвящает Гуссерлю, такие поступки можно совершать только по отношению к близким людям). Хайдеггер тоже близко знал Гуссерля, был его ассистентом в 1919 году (Шпет старше Хайдеггера на 11 лет), в 1929 году он вступает в должность ординарного профессора Фрайбургского университета, замещая на этой должности Гуссерля. Все эти факты дают
возможность утверждать, что Шпет и Хайдеггер принадлежали к одной школе, испытали значительное влияние Гуссерля, но обоим в узких рамках феноменологического метода было тесно, и оба находят выход в синтезе герменевтики и феноменологии. Разумеется, каждый из них идет своим путем, но целевая установка — одна)[295].
Понимание как познавательный акт структурно состоит из познающего разума и объекта понимающей деятельности, который может быть назван текстом. «Текст» в этом случае предполагает очень широкое толкование. Это - не только письменный источник. Тексты — это знаковосимволические, информационные системы произвольной природы, они являются результатами познавательно-созидательной деятельности живых существ (не обязательно — человека, «танец» пчелы тоже можно рассматривать как текст, несущий определенную информацию, как знаковое поведение, симеозис)2. Текст в герменевтике рассматривается как некий продукт деятельности. «Факт языка», «застывшая речь» — так характеризовал предмет герменевтики один из ее создателей — Ф.Шлейерма- хер. Текст также можно себе представить как некое «зеркало», в котором запечатлены субъективно-психологические особенности внутреннего мира автора — «факты мышления», как говорил Шлейермахер. В тексте отражаются особенности эпохи и времени автора. Он сам по себе есть порождение языка (как объективно не зависящих от человека, всеобщих и необходимых норм и законов речевой деятельности, которым подчиняются все члены данного Языкового сообщества) и определенного стиля мышления. Язык и стиль мышления есть объективные, природные свойства, преломленные в созидательной деятельности творца текста. Они есть некие предпосылки понимания, внутренние, скрытые моменты предпонима- ния. Именно они очерчивают «горизонт» понимающей деятельности человека. Выход за «горизонт» — преодоление объективного, снятие необходимости, обретение свободы. Но это — удел немногих, а лишь творцов языка. Так осуществляется развитие языка. После усвое-
ним языковым сообществом нового языкового материала
• юризонт» вновь смыкается. При такой интерпретации и н*1 к выступает как консервативное, цементирующее сис- н му начала, а речь, наоборот, есть активное, деятельное нимало, но находящееся под постоянной «властью» языка. Хайдстгеровский афоризм — «язык говорит нами» — ста- ншштся в этом случае абсолютно рационально ясным: и »ык (для полной точности к нему следует добавить еще
• пиль мышления») господствует над речью, являясь ее принципиальным основанием.
Для проблемы понимания в герменевтике важно, что и н»1к имеет независимое, внешнее бытие, оказывает давление на человека, порождается «внешней необходимое- и.к) общения» и «чисто внутренними потребностями че- мжечества, лежащими в самой природе человеческого духа»[296]. Язык служит для развития духовного мира чело- пека и несет в себе мировоззренческое начало. Так проблематика языка смыкается с проблематикой сознания, и иолпикает фундаментальное для герменевтики Шпета и для его философии культуры понятие «языковое сознание*». Поскольку тексты есть продукты человеческой дея- и льности, на которых «запечатлено» влияние языкового сознания, постольку понимание текстов должно опираться на принципиальный анализ языкового сознания. «В конечном итоге, поэтому, — писал Шпет, — принципиальное рассмотрение языкового сознания всегда и необходимо ориентируется на последнее его единство, которое и в задаче, и в осуществлении, как всеобщее единство сознания, есть не что иное, как единство культурного сознания. Такие обнаружения культурного сознания, как искусство, наука, право и т.д. — не новые принципы, а модификации и формы единого культурного сознания, имеющие в языке архетип и начало, философия языка в этом смысле есть принципиальная основа философии культуры»[297].
Далее, для решения проблемы понимания необходимо выполнить два условия: 1) раскрыть историческую природу текста и 2) выявить суть процесса понимания и интерпретации. Здесь для правильной оценки концепции Шпета следует сделать существенное замечание. В до-
111 петовской герменевтике раскрытие исторической природы текста относилось к центральному ядру герменевти
ческого метода, являлось главным содержательным моментом понимания. Шпет выводит всю проблематику, связанную с психологическим, историко-культурным контекстами, за рамки процесса собственно понимания, помещая ее в условия понимающей деятельности. «Понимание и интерпретация поэтому и требуют определения тех специфических обстоятельств, при которых употреблялось писателем подлежащее пониманию слово, т.е. его времени, религии, партии, учения, условий общественной жизни и государственного устройства»[298]. Это было оправдано феноменологической структурой слова. За скобки выносилось все, что не имеет отношения к смыслу слова, к его идее. Эйдетические моменты структуры слова понимаются (только здесь имеет место собственно понимание) интеллектуально, со-мыслятся. Но в структуре слова имеются также моменты, сопровождающие смысл, сопутствующие ему, окружающие, как некий фон, центральное ядро структуры слова. Они сочувственно воспринимаются. В основе их восприятия лежит симпатическое понимание, которое Шпет называет «пониманием в основе своей без понимания», так как периферийные моменты структуры слова нужно не со-мыс- лить, а со-чувствовать, переживать симпатически. Если и употребляют еще термин «понимание» по отношению к психологическим актам, то это является данью старой традиции. «Культурное явление как выражение объективно, но в нем же, в этом выражении, есть сознательное или бессознательное отношение к этому «смыслу», оно именно — объект психологии. Не смысл, не значение, а со-значение, сопровождающие осуществление исторического субъективные реакции, переживания, отношение к нему — предмет психологии»[299].
Для Шпета, как последовательного рационалиста, значения слов, предметов — объективны, независимы от наших представлений. Из этого факта исходит разделение рациональных и историко-психологических методов. Строгое разделение методов идет только на пользу дела. Рационализм и феноменология не умаляют значимости истории, психологии, литературоведения. Поэтому кри-
1П ка концепции Шпета со стороны приверженцев так наминаемого исторического подхода, усмотревших опасность для исторического метода в литературоведении со « троны Шпета, основывалась на недоразумении или на недостаточном усвоении смысла его новаций (Описанная полиция Г.Г.Шпета была подвергнута критике академиком Д.С.Лихачевым [см.: Лихачев Д.С. О филологии. М., 1989]. Д.С.Лихачев доказывает, что «историческое» и «психологическое» есть не некая «атмосфера» вокруг I чова, а сама суть литературного памятника, и последний, в свою очередь, сам является «фактом истории».
Критика Д.С.Лихачева созвучна критике М.М.Бах- I ина, который, отвергая субъективно-психологический подход к анализу языка и желая обосновать социальноисторический (как «подлинно марксистский») метод его исследования, писал: «Итак, теория выражения, лежащая в основе индивидуалистического объективизма, должна быть нами отвергнута. Организующий центр всякого высказывания, всякого выражения — не внутри, а иовне: в социальной среде, окружающей особь» [Воло- ншнов В.Н. Марксизм и философия языка, Л. 1929. (’. 111]. Любое высказывание социально, имеет тему, шачение и оценку. Последнее понятие и призвано свя- »лть высказывание с социумом (через контекст, сообщение, диалог). Как считал М.М.Бахтин, каждое высказы- млние и любой его элемент не только значат, но и оцени- нают.
М.М.Бахтин и Г.Г.Шпет идейно расходятся не в своем отношении к психологизму в гуманитарных исследованиях, а в вопросе о том, какой метод исследования является основным. Шпет считал, что поскольку предметом анализа являются тексты, то и основными методами их изучения должны быть лингвистические, семиотические, логические и феноменологические приемы. Исторические, социологические и психологические методы исследования данного специфического предмета должны быть важными (для некоторых особых задач), но вспомогательными моментами анализа. Шпетовское разделение методов чистой феноменологии (в философии), поэтики, языкознания, искусствознания, с одной стороны, и методов психологии — с другой, основанное на отличии предметных областей этих двух сфер, было принято М.М.Бахтиным за разрыв предметного значения и оценки: «В русской литературе об оценке, — писал М.М.Бах
тин, — как о созначении слова, говорит Г.Шпет. Для него характерно резкое разделение предметного значения и оценивающего созначения, которые он помещает в разные сферы действительности. Такой разрыв совершенно недопустим и основан на том, что не замечаются более глубокие функции оценки в речи. Предметное значение формируется оценкой, ведь оценка определяет то, что данное предметное значение вошло в кругозор говорящих — как в ближний, так и в более широкий социальный кругозор данной социальной группы. Далее, оценке принадлежит именно творческая роль в изменениях значений. Изменение значения есть, в сущности, всегда переоценка: перемещение данного слова из одного ценностного контекста в другой» [Там же, с. 126].
К сожалению, научная полемика в 20 —30-е годы использовалась дилетантами, которые и «навешивали» Г.Г.Шпету ярлыки, приобретающие в связи с «усилением классовой борьбы» идеологический оттенок. Так, С.Канатчиков в своей статье в «Литературной газете» от 30 января 1930 г. называл Шпета «известным идеалис- том-мистиком», «субъективным идеалистом»; игнорируя подлинное содержание текстов Шпета, приписывал ему концепцию божественного происхождения творческого образа художника, упрекал в отходе от изучения «истории классовой борьбы, быта современников, борьбы политических партий».
Следует отметить, что для известных видов художественных произведений отвлечение от социальных и психологических реалий оправдано. Для понимания некоторых текстов не нужно знать истории классовой борьбы. Но существуют особые виды литературы, для анализа которых необходимо использование психологических и исторических методов, в частности литературные памятники, древняя литература. Шпет не прав в том, что он подходил к анализу литературы не с позиции конкретного литературного процесса, а с точки зрения абстрактной «литературной единицы».
В критике Д.С.Лихачева, М.М.Бахтина и даже С.Ка- натчикова (если можно было бы забыть обидные, несправедливые и далеко небезопасные для того времени формулировки последнего) есть рациональное зерно, оправданное целью обоснования исторического метода в литературоведении. Но вряд ли эти авторы разобрались в философской концепции Шпета, и вряд ли со стороны
Шпета для этого метода была большая угроза! Вот что по :>тому поводу писал сам Шпет: «Наконец, я, действи- и /1ьно, высказался против крайних увлечений в собирании биографических фактиков, когда в ущерб анализу гммого художественного произведения это собирание приобретает самодовлеющее значение. Но я не отрицаю
• моего, хотя и подчиненного значения биографических изысканий в историческом исследовании. Тем более не отрицаю зависимости художника и его биографии от среды, социальных и материальных условий его жизни»)[300].
Итак, знание исторической природы текста, специфики письма, психологии и внутреннего мира автора относится к условиям понимания текста. Как же раскрывается историческая природа текста? Каковы основания исторического познания? Историческое развитие любой области, считает Шпет вслед за А.Беком, обрабатывается филологически, филология, исходя из формулы А.Бека, есть познание познанного, т.е. вторичное познание. В пой формуле первое вхождение термина «познание» тяготеет по смыслу к термину «понимание». «Собственная мдача филологии — быть познанием продуцированного человеческим духом, т.е. познанным»[301]. В этой связи хотелось бы привести мнение академика Д.С.Лихачева, критиковавшего в свое время Шпета за «антиисторический подход» в литературоведении. «Понимание текста, — пишет Д.С.Лихачев, — есть понимание всей стоящей за текстом жизни своей эпохи. Поэтому филология есть связь всех связей. Она нужна текстологам, источникове- дам, историкам литературы и историкам науки, она нужна историкам искусства, ибо в основе каждого из искусств, в самых его “глубинных глубинах” лежит слово и связь слов. Она нужна всем, кто пользуется языком, словом; слово связано с любыми формами бытия, с любым познанием бытия: слово, а еще точнее, сочетания слов. Отсюда ясно, что филология лежит в основе не только науки, но и всей человеческой культуры»[302].
Мысли Д.С.Лихачева удивительно созвучны идеям Шпета о принципиальных основаниях культуры и убеждают нас в том, что между ними в этом отношении не существует непримиримых противоречий. Действительно, в «Эстетических фрагментах» Шпет писал: «Слово есть не только явление природы, но также принцип культуры»[303]. И еще одно место из Шпета: «Синтаксически «связь слов» есть также слово, следовательно, речь, книга, литература, язык всего мира, вся культура — слово. В метафизическом аспекте ничто не мешает и космическую вселенную рассматривать как слово. Везде существенные отношения и типический формы в структуре слова одни»[304].
Итак, принципиальным основанием понимания как акта познавательной деятельности являются филологический, исторический и психологический методы, объединяемые обычно под названием исторического подхода, который Шпетом обособляется в особый раздел знания, описывающий условия понимающей деятельности. Условия понимания образуют контекст, в котором «живет» анализируемый текст. Кбнтекст воссоздается при помощи филологической, исторической и психологической интерпретаций. Понимание становится критерием выделения в указанных методах их формальной части, в которую издавна входили герменевтика и критика. Герменевтика, с точки зрения Шпета, не должна являться простым собранием практических правил и советов, рекомендующих как следует производить толкование текстов, а должна быть научным развитием законов понимания. Философской задачей герменевтики должен стать анализ самого акта понимания.
Цель герменевтического метода — понимание смысла текста в его социокультурном контексте. Теоретической задачей герменевтики является раскрытие законов понимания. Именно решение этой задачи выводит герменевтику на уровень философских обобщений.
С точки зрения Шпета, «в основе соответствующих актов (актов понимания — В.К.) лежит нечто оригинальное и первичное, не производное и ни к чему не сводимое»3. Таковой сущностью является смысл, «га1ло,
как смысл лежит в еззеп^а вещей»[305]. Что же такое
• мысл? Простых указаний на то, что это со-мысль, общее достояние многих, указаний на очевидные свой- ( Iм«1 смысла, лежащие на поверхности, явно недостаточна для раскрытия сути этого понятия. Ясно также, что «мысл по своей природе есть образование идеальное. Менее ясно, но все же достаточно определенно, что I мысл должен обладать признаками, в соответствии с которыми он может быть отнесен к некоему самостоя- м'льному миру, обладающему статусом объективного существования. Но все это — лишь намеки, интуитивные у.фения определенных свойств смысла, не складывающиеся в стройную теоретическую концепцию. «Связь слова со смыслом, — писал Шпет, — есть связь специфическая. Она является “родом”, а не подводится под род... Специфичность связи определяется не чувственно данным комплексом как таким, а смыслом — вторым термином отношения — который есть также зш §епепз предмет и бытие. Только строгий феноменологический анализ мог бы установить, чем отличается восприятие шукового комплекса как значащего знака от восприятия естественной вещи. Слова-понятия: “вещь” и “знак” — принципиально и изначально гетерогенны, и только точный интерпретативный метод мог бы установить пределы и смысл каждого»[306]. Из этого фрагмента следует, что смысл, в понимании Шпета, есть разновидность семантических характеристик (если речь идет о смысле слова), существуют еще какие-то рядоположенные характеристики. Смысл сам по себе, по своей природе есть предмет и относится к определенному миру. Методы анализа значащих знаков должны быть семиотическими (знак должен быть введен в структуру семиози- са), феноменологическими (идеальная сущность знака, эйдетическая природа смысла усматриваются особыми методами, отличными от методов изучения вещей эмпирического мира) и герменевтическими (интерпретационные методы понимания смысла и симпатического постижения сопутствующих условий, второго плана смысловых отношений, подтекста).
Итак, область смысла — это область особого быти* «добраться» до которой позволяет аппарат феноменолс гии. Феноменология — наука о лежащих в основе все наук специфических сущностях, которые можно назват началами. Такие сущности усматриваются интуитивнс Но интуиция здесь особого рода — рациональная, в от личие от эмпирической интуиции, имеющей дело миром опыта. Одной лишь констатации факта наличи особого предметного мира феноменологии недостаточно Следует идти дальше, вскрывать специфику объекто! этого мира. «Гуссерль, — пишет Шпет, — не останавли вается на общем определении того, что изучает феноме нология, как “сущности”, но идет дальше в определенш бытия его и характеризует его вообще, как “интенцио нальность”. Таким образом, открывается широкое пол< для исследования как самого этого бытия, так и все) других его форм и видов, как в их взаимном корреля тивном отношении, так и в их коррелятивном отношени* к интенциональному бытию»[307]. Мир сущностей выделяет ся путем особой феноменологической установки, которая меняет лишь наше отношение к действительности (мир) явлений), не устраняя ее, не отрицая действительности. Заметим, что кроме действительного мира, существуют другие миры, идеальные, например, мир чисел. Яснс также, что мы легко можем переходить посредством познавательной и рассудочной деятельности из одного мира в другой. Тогда возникает вопрос, что же общего имеется у действительного и идеального миров? Достаточно очевидно, что все они даны в моем сознании (в сознании Я), но совсем неочевидно и тем не менее имеет место, что все акты моего сознания направлены на вне-данное. Таким образом, с одной стороны есть нечто данное: актуальный мир и идеальный мир, назовем их миром предметов мысли, с другой стороны, есть нечто противостоящее этому данному, которое Шпет обозначает картезианским содИо[308].
Феноменологическая установка, направляясь «через» наличное бытие (пространственно-временной мир вместе с Я и другими людьми), «заключает» естественный мир «в скобки», как бы выключает его. «Не отрицая его и не сомневаясь в нем, мы его оставим вне нашего пользова-
иия»[309]. Феноменологической эпохе запрещает всякое суждение о действительном мире. Высказывания о чистых сущностях не содержат никаких утверждений о фактах[310]. Феноменологическая эпохе выключает наличное бытие, остается со^Ио, особое бытие, на которое направляется наш мысленный взор как на объект установки. СодИо — по область чистого сознания, сознания вообще. Именно >та своеобразная область бытия является областью феноменологического познания.
Существенным свойством сознания является свойство «быть сознанием чего-нибудь», т.е. сознание всегда направленно и предметно. То, на что направлено сознание, называется «интенциональным объектом», сам он не является актом сознания — это подразумеваемая «точка» устремления феноменологической установки.
Вещь как нечто данное всегда воспринимается через оттенки в явлениях, всегда неадекватно, «приблизительно». На современном терминированном языке методологии науки данная ситуация могла бы быть выражена следующим образом: точность описания вещи (предмета исследования) определяется абстракциями, идеализациями, гносеологическими предпосылками данной теории, т.е. является величиной относительной. И сказали бы... тривиальность. Масса вопросов при таком подходе остается абсолютно неясной. Как осуществляется выбор системы абстракций? От чего (или от кого) зависят гносеологические предпосылки? Влияют ли на процесс абстрагирования природные, объективные свойства человеческого способа познавания мира? На все эти вопросы методология, из которой «выключен», ради достижения объективной истины, субъект со всей проблематикой сознания, не отвечает. А если и пытается отвечать, то ответы порождают еще более сложные проблемы. Шпет ставит вопрос принципиально по-другому. По его мнению, существует как бы центральное ядро воспринимаемого, окруженное сопровождающими моментами. Поэтому есть два типа переживания: имманентное и трансцендентное. Имманентному переживанию соответствует совершенно особое бытие — объективный смысл. Здесь Шпет закладывает феноменологические основы будущего учения о внутренней форме слова: объективный смысл — центральное
ядро структуры слова, субъективные наслоения — окружение, «атмосфера» вокруг ядра. Объективный смысл — понимается, его окружение — симпатически переживается. (Симпатическое понимание Г.Г.Шпет называл, как выше было уже отмечено, «пониманием в основе своей без понимания», так как понимание в собственном смысле слова есть «постижение смысла», оно относится к сфере со-мышления и возникает в ситуации сообщения. Смысл в последнем случае есть логическая характеристика предмета мысли. Точка зрения Шпета близка современной трактовке смысла в логике и семиотике.) Разным предметным областям соответствуют разные методы познания. В основе разделения лежит методологический принцип: предмет определяет метод исследования. Природа слова содержит в себе социокультурно-психологические моменты и моменты имманентно-эйдетические. Связь между ними не носит характера «детерминации». В свое время Л.П.Карсавин говорил, что экономику можно изучать и по состоянию идеологии. И вообще, в научном исследовании выбор метода зачастую зависит от несущественных прагматических моментов й ничего не определяет: «Во многих случаях подход к историческому процессу от материальной его стороны оказывается, может быть более удобным, а для умов элементарных несомненно — более легким. Но я оставляю за собой право и по идеологии судить о состоянии народного хозяйства, взаимоотношениях труда и капитала и т.д., в то же самое время категорически отвергая за какой бы то ни было из условно выделяемых нами сторон народной жизни (в том числе и за идеологией) право на примат или первородство. Предоставим “метафизикам” спор о том, что раньше: яйцо или курица. Подойти к процессу можно только с одной стороны; но условно и по соображениям удобства избираемая сторона отнюдь не причина остальных, а предпочтительное методологически вовсе не первее онтологически»[311]. Шпет солидарен с такой позицией и еще более заостряет ее: строгое разделение методов позволяет получить более «чистый» результат (например, выделить объективное содержание смысла слова, не нагруженное психологическими моментами), а синтез результатов разных методов — это особая проблема.
Переживание, по Шпету, уже существует в мире со- шания до восприятия вещи и выявления ее сущности. Но это существование особого типа — бытие вне времени. Поэтому в точном смысле слова оно не есть сущест- мование, аналогичное эмпирическому существованию, не сеть «сущее».
Всякая вещь, на которую направлено сознание, дана нам с некоторым «коэффициентом сознания». Эмпирические науки исследуют явления без учета коэффициента сознания, и они по-своему правы, но такое исследование не является феноменологическим по своей сути. Если же учитывается коэффициент сознания, то такое исследование будет феноменологическим. Мы можем осуществлять феноменологическую редукцию до тех пор, пока не останется некоторый коэффициент, общий множитель ко поему, заключенному в скобки. Его исследование как коэффициента всего и есть чистая область феноменологии нор всем ее всеобщем и основном значении[312]. Естественно, что феноменология не ограничивается изучением одного сознания, все может быть предметом ее исследования. Что, впрочем, и показал сам Шпет, распространив феноменологический метод на этническую психологию (казалось бы, совершенно несовместимые области), :>стетику, лингвистику (учение о внутренней форме слова), литературоведение, историю.
Но главная трудность связана именно с «чистым сознанием». Основная проблема феноменологии заключается в том, «в чем состоит бытие чистого сознания, как оно изучается как таковое и каково его содержание»[313]. Казалось бы, совершенно неясно, зачем нужно стремиться получить именно «чистое сознание». Ведь в любых науках (в том числе и психологии и в науках о духе вообще) «чистого сознания» не существует. Наоборот, объекты изучения в научном познании даны в социокультурном контексте, зависят от внешних условий и иначе существовать не могут. Но все дело в том, что феноменология стремится быть базисной наукой для всего научного познания, она стремится дать «чистый метод» познания сущности вещей, отвлекаясь от трансцендентного. И только лишь после этого любые науки могут быть получены (воссоздано их истинное лицо) как результат ин
терпретации чистого феноменологического метода в терминах соответствующих областей познавательной деятельности.
Чистое сознание получается в результате феноменологической редукции по выведению за скобки всего трансцендентного — это идеальный мир чистых переживаний. «Таким образом, после тщательного пояснения всего того, что, действительно, является трансцендентным, и феноменологической редукции его, выключения из сферы нашего взора, мы приходим к тому, что перед нами остается в качестве сферы исследования одно чистое сознание, т.е. область чистых переживаний, рассматриваемая в свойственной им сущности, идеально и эйдетически»[314].
Особое место в феноменологии занимает вопрос об е§о. Мыслимые сущности могут меняться в соответствии с направленностью феноменологической установки. Я — необходимо и неизменно, оно не составляет реального момента переживания, поэтому не редуцируется, но и не является объектом феноменологической установки. Интерпретируя Гуссерля, Шпет называет Я некоторым «оборотом речи», без которого невозможно обойтись. Это есть некоторое трансцендентное вкрапление в имманентное переживание, не оказывающее влияния на суть переживания. «Само по себе оно даже не поддается описанию: “чистое Я и больше ничего”»[315]. Это есть точка соотнесения, к которой относится все. Оно необходимо присутствует в сознании. (Интересно отметить, что в современной вычислительной лингвистике при построении программ, понимающих естественный язык, понадобилась особая точка отсчета (некое феноменологическое Я), без которой программы «работали» плохо, что говорит о наличии феноменологических интонаций в современных исследованиях языка и сознания.)
Несколько слов хотелось бы также сказать о феноменологическом методе. Единственным источником познания в области феноменологии является непосредственное усмотрение (впрочем, и в любом познании оно имеет место, правда, не столь исключительное) в прямой интуиции. Специфика интуиции в феноменологии заключается в том, что она является рациональной (эйдетической, идеальной). Поэтому метод феноменологии «дол-
жги быть усмотрен в сущности самой идеальной интуиции Возражения против такой интуиции обычно сводится к отрицанию интуитивного познания вообще. Ар-
I умснтируется такая точка зрения тем, что интуиция и ди( курсия являют собою полные противоположности. 11<кшание осуществляется только в понятиях, т.е. дис- курсивно. Кроме того, чистого описания, свободного от нории, быть не может. Любое описание — теоретически нагружено, зависит от понятийного аппарата теоретическою уровня. Поэтому, если в познании мы пользуемся описанием, то оно по определению дискурсивно. Значит, интуиции ни на каком уровне познания быть не может. Она в лучшем случае может быть отнесена к контексту открытия, характеризуя психологический пласт познава- 1гльной деятельности субъекта. И еще одни аргумент против возможности интуитивного познания связан с тем. что интуиция всегда неотчетлива, «гуманна», не ведет к достоверному постижению истины.
Шпета не смущает тот факт, что традиционная теория познания ориентирована на дихотомически парные категории, так как никто не доказал, что именно так и должно быть и не может быть иначе. «Хождение» философских категорий «диалектически противоречивыми» нарами есть лишь дань традиции. Но не всякая традиция способствует прогрессу, тем более в философии. На возражения против рациональной интуиции Шпет отвечает следующим образом. Нет никакого сомнения в том, что интуиция в принципе существует. А раз так, то должны быть средства ее осуществления и выражения вплоть до логических — особая логика интуиции — так как всякое выражение чего-либо в каких-либо структурах связано с логикой. Что же касается точности, то, как сделать так, чтобы интуиция была надежным средством познания, — это вопрос особый. И он считает, что надежность интуиции, как средства познания, основывается на непосредственном усмотрении сущностей. Опирается Шпет на базовый для феноменологии методологический принцип, введенный Гуссерлем (цитата из Гуссерля): «В феноменологии, которая желает быть не чем иным, как учением о сущностях в пределах чистой интуиции, мы совершаем на экземплярных данных трансцендентального чистого сознания непосредственные
узрения сущностей (^езепзегзсЬаиипдеп) и фиксируем их в понятиях, гезр. терминологически»[316]. Возражения, связанные с «туманностью» интуитивного познания, устраняются самим существом феноменологического метода: редукция должна осуществляться до тех пор, пока не будет достигнута абсолютная ясность. Если таковой нет, то что-то не заключено в скобки, и, значит, процесс редукции должен быть продолжен.
Метод ясного и отчетливого усмотрения основан на очевидности, которая в свою очередь есть непосредственное усмотрение. Последнее может быть достигнуто как на уровне эмпирической, так и на уровне рациональной интуиции, только в последнем случае — это непосредственное, очевидное усмотрение разумом. «Первичная данность объекта в сознании, таким образом, и является тем условием, при котором мы восходим к очевидному усмотрению и, следовательно, праву и основанию всех наших актов полагания»[317]. Очевидное феноменологическое описание объявляется необходимым, но недостаточным теоретическим критерием всякой истинности. Понимание в этом случае есть доведение интуиции до последней степени ясности, до очевидности. Тогда феноменология становится не объяснительной дисциплиной, а описательной эйдетической наукой об идеальных предметах, которые ни чем иным, кроме понятий, выражаться не могут3.
Ранее я уже подчеркивал, что мир чистого переживания характеризуется направленностью и предметностью. Но ведь понятие как форма мышления обладает не только номинативной функций (а для чистых понятий способностью к таковой), но и выражает мысль. Выражение мысли связано с моментом осмысления. Шпет, вслед за Гуссерлем, для описания специфики сознания вводит дополнительно к интенциональности новую категорию «ноэза», или «ноэтический момент». Данная категория характеризует специфику сознания, заключающуюся в его направленности, предметности и осмысленности. Осмысленность оформляет предметность сознания. Именно она создает смысловое содержание понятия как выражения интуиции. Она относится к сущности со-
шания. «Всякое интенциональное переживание, благодари своему ноэтическому моменту, есть ноэза, т.е. к ее сущности относится “таить в себе” “смысл” и выполнять гнои функции “осмысления”»[318].
Но что же такое смысл? Как он входит в структуру мо:)зы? Шпет вводит еще одну уточняющую категорию —
• поэма». Ноэма есть предметная сущность переживания, (мысл составляет ее центральное ядро. Теория, выражающая отношение ноэзы и ноэмы, является главным женом феноменологического метода. «Здесь действительно, рассматривается тайна бытия самого нашего по- шания и проливается свет на его природу... Мы знаем, что в его бытии, как логическом бытии, — согласно всему духу феноменологического учения о корреляции иоэзы и ноэмы, очевидно, и логическое представляет собой в них один из слоев, актов в цельном переживании»[319]. Понятие выражает смысл (центральное ядро поэмы) и реферирует его к «просто предмету» (к тому, что остается после редукции). Логическое в ноэме является специфическим отношением эйдетического бытия к предметному миру, на который направлено наше созна- . ние. Предмет переживания может описываться определи- гельно (через совокупность предикатов) и экзистенциально (через отношение к предмету как данности). Смыслом тогда будет называться «ноэматический» предмет в своей определительной квалификации, со всем тем, ч го выше охарактеризованное описание могло в нем очевидно найти и выразить в понятиях[320].
Но определительная квалификация выражает неполный смысл. В ноэматическом содержании имеется смысл ап 51сЬ (зависит от определительной квалификации), смысл ш $1сЬ (зависит от квалификации в способах данности) и смысл Гиг 51сЬ. Смысл ?иг 51сЬ, или внутренний смысл, Шпет определяет через аристотелевское понятие энтелехии. Здесь это понятие употребляется для выделения мотивационно-телеологической функции ноэмы. Смысл, как содержание, является как бы знаком внутреннего смысла. Он указывает на мотивацию данности предмета. Внутренний смысл так же, как и аристотелевская энтелехия, является «душой» ноэмы, конституируя
предмет как нечто конкретное (как душа тело), указывая на его целевое предназначение. Уточняя терминологический аппарат, Шпет предлагает различать понятия «смысл» и «значение». Смысл есть характеристика определительной квалификации предмета. Он относится к содержанию предмета. «Значение» имеет дело с «выражением», «высказыванием» и относится к логическому слою ноэмы, обслуживая ее выразительные функции. Тогда «внутренний смысл» характеризует целевое назначение предмета. Его «знаком» является смысл, данный через определительную квалификацию.
Здесь существенны коррелятивные отношения «смысл ап 51сЬ предмета — логическое значение высказывания о нем» и «смысл ап з1сЬ — смысл т 51сЬ — внутренний смысл». Логическое выражение смысла, данного через его определительную квалификацию, не нуждается в посреднике. Смысл ап з1сЬ предмета находит свое прямое выражение в высказываниях. Внутренний же смысл есть характеристика предмета, а не высказывания о нем, и он относится к смыслу ап 51сЬ через смысл, зависящий от способа данности предмета, который, в свою очередь, обладает целеполагающей функцией. Заметим, что разведение категорий «смысл» и «значение» по разным уровням, когда категория смысла описывает предметно-содержательный уровень ноэмы, а категория значения относится к ее логическому уровню, характерно для «ранней» феноменологии Шпета периода работы «Явление и смысл». Далее обе эти категории распространяются на описания языка и действительности.
Введение герменевтических мотивов и, соответственно, герменевтических методов в феноменологию было обусловлено, с точки зрения Шпета, наличием в ноэти- ческом моменте специфической функции осмысления. Осмысление, как своеобразный самостоятельный акт, требовал определенных средств для своего выполнения, для «прокладывания путей» к смысловым характеристикам ноэмы. Смысл, как сущность сознания, как сложнейшее многоуровневое образование, переливающееся многообразием оттенков, полутонов и скрытых значений, должен не только непосредственно усматриваться рациональной интуицией, как нечто очевидное, но и пониматься, уразумеваться. Понимание, как синтетическая функция разума, обеспечивается истолкованием и интерпретацией. Именно так, через понимание и интерпретацию,
Iерменевтическая проблематика (разумеется, в новом рационализированном виде) вливается в феноменологию. Герменевтика (с ее функцией осмысления и интерпретации), логика (функция выражения смысла), прагматическая телеология (функция разумной мотивации), феноменология (функция обнаружения смысла в разнообразных его положениях) сплетены в деятельности разума в единый метод, определяющийся своеобразием эйдетического мира как «зеркала» осуществленных на уровне явлений объективаций деятельности человеческого духа. «1>ытие рассудка, — писал Шпет, — ограниченное в те- гической деятельности установления положений, только благодаря еще глубже проникающему уразумению, вы- ( гупает как осмысливающая функция и по-новому освещает свой “выражающий” слой. “Выражение” (понятие) как бы распадается на две части ...Бытие разума состоит п герменевтических функциях, устанавливающих разумную мотивацию, исходящую от энтелехии, как “носите- мя” предметного бытия, как “духа предмета”. Последний находит свою характеристику в логосе, — “выражении”, — проникающем предмет и составляющем явление, “обнаружение”, “воплощение" духа. Его “объективирование”, будучи разумным, мотивированным, есть организующая направленность различных форм духа в их социальной ( ути: язык, культ, искусство, техника, право»1.
Явная герменевтическая нагруженность феноменологического метода, значимость герменевтической проблемы в нем и отсутствие теоретических разработок интерпретационно-понимающих методов познания побудили Шпета после феноменологического исследования «Явления и смысл» обратиться к изучению герменевтики и ее аппарата («Герменевтика и ее проблемы»). Конституиро- нание герменевтической феноменологии шло путем доработки и интерпретации предложенного Гуссерлем варианта феноменологии и путем демонстрации значимости и эффективности герменевтической феноменологии в различных областях знания (истории, искусствознании, психологии, лингвистике, литературоведении). Но это — проблема особого рода, выходящая за рамки настоящей статьи.
Формирование нового варианта феноменологии шло параллельно обоснованию положительной философии. «Под именем положительной философии, — писал Шпет в «Истории как проблеме логики», — я собираю следующие основные признаки. Все высказываемое нами в качестве нашего знания имеет свое основание. Можно условиться называть это основанием — гаНо со^позсепсН. Каково оно, в чем оно состоит, или где его искать? Отчет на этот вопрос уже относится к содержанию философии, потому что это есть вопрос о “началах”. Сами га- Иопез со^позсепсП суть эти начала, они, следовательно, составляют прямой предмет философии, так как они — основания. Но основание всякого высказывания лежит в высказываемом, — каково высказываемое, т.е. то, о чем делается высказывание, таково и основание. Какой бы частный характер ни носило наше высказывание, оно 1т- рПсИе заключает в себе несравненно “больше” того, к чему мы непосредственно обращаемся в своем высказывании. Само по себе оно оторвано от некоторого целого, в котором оно обозначает часть или*член, или звено, или момент и т.д. Высказываемое развертывается, таким образом, в некоторую неисчерпаемую полноту, которая выступает перед нами прежде всего как действительность»[321]. Платоновское понимание истины оказывает далее решающее влияние на постановку основной задачи философии и метода ее решения: «Эта действительность, как она расстилается перед нами, обозначается также, как то, что мы “находим”, как то, что нам является, то ФШУОЦЕУОУ, наконец, как то, что сознается нами, созна ваемое. Но она “дана” нам, повторяю, как вопрос и загадка, а так как в ней — все и ничего нам больше не “дано”, то и условий для решения возникающей задачи мы должны искать в ней же самой. И первое, с чем мы сталкиваемся, это — факт, что здесь нам дано вместе и то, что есть, и то, что “кажется”, иллюзия. Раскрытие того, что есть, и его отличение от того, что кажется, составляет теперь ближайшую задачу философии, — то, что есть, называется истиной. В целом, действительности нужно отличить истинное от иллюзорного, нужно рассказать о том, что составляет та оута, что есть то оу»[322]. Положительная философия, согласно точке зрения Шпета,
ммляется чистым знанием, подлинной философией, она иг может противопоставить себя науке по очень простой причине — она сама есть наука, она не подменяет собою другие типы философии, но занимает по отношению к мим критическое положение, пытаясь с исторической, 1п>ретической и логической точек зрения показать их недостатки. Философия, как чистое знание, начинается тгда, когда ее предметным полем, областью ее мудрствования становится мысль. Мысль об истине, о подлинном бытии. Она нацелена не на переживание истины, а на рациональное ее исследование, что, собственно, и является характерным и специфическим началом философии как чистого знания. «Положительная философия всегда от- мгчает в качестве основного пути, каким мы приходим к утверждению действительного, как истинного и идеального, как необходимого, путь разума в широком смыс-
Тема положительной философии — доказательство, что она является чистым знанием, специфической наукой, отличающейся от конкретных наук и от античной философии как общего синкретического знания, первородная нерасчлененность которого предопределила его характер — является основным мотивом многих шпетов- (ких работ. Далее мне хотелось бы показать, как раскрывается эта тема в основных теоретических произведениях Шпета (С 1911 по 1927 годы Шпет пишет цикл работ, которые могут быть объединены одной общей темой: «Природа философского знания», или «Что такое философия?». Вот этот ряд работ: «Скептицизм и догматизм Юма», «Философское наследство П.Д.Юркевича», «Явление и смысл», «К истории рационализма XVIII века», «Философия и история», «История как проблема логики», «Первый опыт исторических наук», «Сознание и его собственник», «Мудрость или разум?», «Герменевтика и ее проблемы», «Скептик и его душа», «Внутренняя форма слова». К этому ряду примыкает недавно найденная в архиве Шпета и чрезвычайно важная в теоретическом отношении «Работа по философии», на которую я уже ссылался в данной статье).
Эту тему можно обнаружить еще в книге «Явление и смысл», изданной в 1914 году и являющейся своеобраз-
ным отчетом перед философской общественностью за творческую командировку в Германию. Данную работу многие исследователи наследия Шпета относят к периоду его увлечения феноменологией Э.Гуссерля. Действительно, в ней можно обнаружить детальную разработку основ феноменологического метода, подробный анализ действительно сознания, как подлинного поля философской рефлексии, и другие темы, обычно интересующие феноменологов. Да и сам Шпет нисколько не скрывал своих симпатий. Более того, считал себя представителем этого направления и активно пропагандировал идеи феноменологии в России, тем более, что в таких симпатиях нет ничего зазорного. Но в то же время он ясно представлял себе пути развития феноменологического метода и уже в этой своей первой работе по феноменологии пытался обосновать место и значение феноменологии в философии, ее роль в создании положительной философии, стремился указать слабые моменты в феноменологии и наметить план будущих исследований для устранения замеченных недостатков, среди которых можно особо выделить три момента, которые существенно дополняют предыдущий материл.
Первый момент связан с проблемой Я в феноменологическом методе. Что такое Я? Как мы уже ранее отметили, это просто точка отсчета, от которой начинается феноменологическая установка, некое абстрактное начало. Ответ, данный в «Явлении и смысле» не решает эту проблему, а лишь со всей определенностью ее ставит. А мы хорошо знаем, что в философии ясная и четкая постановка проблемы имеет большое значение. Именно для того, чтобы эту проблему решить, Шпет далее и пишет работу «Сознание и его собственник». (Более подробно эту проблему рассмотрим несколько позднее.)
Второй момент, который хотелось бы специально выделить, относится к проблеме понимания. Мы уже рассматривали эту проблему, но в данном контексте нам важно рассмотреть, какое влияние она оказывает при решении вопроса о природе философского знания. Напомним, что понимание обычно определялось как постижение смысла. Если проблема смысла (его природы, видов, методов постижения) достаточно хорошо была разработана в феноменологии, то вопрос о том, что такое понимание и какова его роль в положительной философии, остается фактически без ответа. Поэтому нужно было
т тупить в критическое соперничество с многовековой флдицией, считавшей постижение смысла (и, соответственно, понимание) психологически нагруженным актом,
» традицией, стоявшей на позициях «методологии вчув- < шования» (Г. фон Вригт), которая не только не оставим а места для рациональных способов постижения
• ммсла, но и сводила теорию, искусство понимания, а шлчит и герменевтику, к психологическим приемам и |гм самым обесценивала значимость герменевтических методов для положительной философии. А этот момент чрезвычайно важен, поскольку философское знание яв- чттся принципиально интерпретационным. Толкование, интерпретация — неустранимые моменты философского исследования, во многом определяющие внутреннюю сущность философии как знания. Поэтому, если понимание, интерпретацию, постижение смысла относить к психологическим актам, то утрачивается специфика самой философии как чистого знания.
В силу вышесказанного, обращение Шпета к герменевтике как к теории интерпретации текстов, позволяющей объяснить как осуществляется постижение их смысла и понимание, вполне понятно. Его книга «Герменевтика и ее проблемы» занимает свое законное место в последовательности запланированных работ. Более того, в этот период у Шпета намечается существенный отход от чистой феноменологии в духе Э.Гуссерля, и обозначается тенденция к синтезу феноменологии и герменевтики, но герменевтики, по-новому истолкованной, с существенным уточнением понятия «текст», герменевтики, обогащенной семиотическим подходом, включающей в себя уже на этом этапе исследования предпосылки будущего учения о внутренней форме слова и истолкование всей культуры как объективированного выражения деятельности человеческого духа, имеющей знаково-символический характер. Все богатство философской вселенной вращается вокруг действительности и ее мысленного выражения в слове. Поэтому тезис Шпета о том, что слово является принципом и архетипом культуры, уже не сможет свести проблематику философии культуры в частности и всей философии в целом к проблематике языкознания и психологии.
Третий момент, о котором необходимо здесь упомянуть и заострить его еще раз, заключается в следующем. Утверждение позиций положительной философии как
философии герменевтической, и в то же время рациональной, философии разума, положения которой выразимы в логической, понятийной форме, немыслимо без критического отношения к отрицательной философии. Эту проблему со всей сложностью ее двойственной задачи Шпет ставит и решает во многих своих произведениях, но специально ей посвящены работы «Скептик и его душа», «Мудрость или разум?» и «Сознание и его собственник».
Шпет показывает, что скептицизм, как философская установка, является характерной чертой всех разновидностей отрицательной философии. Глубинные основания скептицизма коренятся в гносеологическом психологизме и в опоре на здравый смысл. В конечном итоге все подобные учения оказываются мнением, а не знанием, и их предпосылкой является неосознанная собственная неудача, неудача эмпиризма и сенсуализма. Апелляция к ненадежности органов чувств, их зависимости от окружающих условий, обычаев, традиций — бот основания для воздержания от суждений о внешнем мире и одновременно признаки релятивизма, субъективизма, негативизма. Но последовательный скептицизм, особенно в варианте эмпиризма, делает еще один удивительный шаг: он переносит недостатки собственных рассуждений на саму истину. Так возникают учение об абсолютной и относительной истине, концепция различения явлений (как непосредственно данного представления) и вещи в себе (внешней вещи, реальности, не постижимой для чувств).
Основой скептицизма является убеждение в существовании двух реальностей: мира явлений и мира вещей в себе. Мир явлений есть результат чувственного восприятия, а мир вещей в себе можно лишь мыслить, совершенного знания о нем мы не имеем, а в крайнем варианте утверждается, что он вообще непознаваем. Отсюда делается вывод о том, что разум не может быть адекватным источником познания, истина состоит в переживании. Сенсуалистический характер подобных теорий очевиден. Но если бы скептицизм ограничивался лишь сомнением в возможности постижения истины. Дело обстоит гораздо серьезнее. Скептицизм претендует на философское учение, доказывающее, например, одинаковую сомнительность достоверных утверждений о реальном существовании или несуществовании внешнего мира, а эта
проблема относится к разряду принципиальных фило-
• офских проблем1.
Скептицизм, по мнению Шпета, не есть особое фило- шфское учение, а есть психологическая надстройка на Гы:»исе эмпиризма, «это введение психологии в область первых философских проблем и есть ставший теперь пресловутым психологизм»2. Ошибка негативизма состо- и г и подмене предмета представлениями о нем и в смешении акта чистого сознания с «переживаниями эмпирического субъекта», что ведет к появлению «субъективно окрашенной истины», истины относительной. Язвительная ирония Шпета высвечивает сущность негативной философии, выдающей «пищеварение субъекта за познание им объекта» и не желающей признать, что «новейшая» «полнота» познания, «сердечность», «любовь» как источники познания являются лишь метафорами, робко прикрывающими познавательное бессилие отрицательной философии. «Скептицизм — не теория, а некоторое душевное состояние». Как древний скептицизм возник из бессилия стоиков перед познанием мира, так и современные теоретико-познавательные варианты негативной философии в духе Локка и Канта и их последователей возникли из «неудачи метафизики». Категорический вывод Шпета звучит как обвинительный приговор негативной философии, в котором четко зафиксирована сущность всего этого направления: «В этом аспекте все эти “теории познания” как самостоятельная философия есть не что иное, как возводимый в принцип скептицизм». Поэтому обнажение теоретико-познавательного бессилия скептицизма является одновременно разрушением основ отрицательной философии.
Вся отрицательная философия есть философия неудачников. «Всем этим само собой подсказывается направление, в котором можно специфицировать характеристику душевного уклада скептика. Как платоновский эрос — психология удачного познания, так скептицизм — психология неудачного»[323].
А теперь вернемся к проблеме Я, относительно которой особенно рельефно выглядит бессилие отрицатель
ной философии. Какие бы способы анализа Я ни выбирались в отрицательной философии, все они обречены на неудачу. Действительно, можно считать Я вещью, отличая ее от всех иных вещей, но тогда неясной становится специфика сознания, отношение моего сознания к другим Я, при таком подходе Я вырождается в простую точку соотнесения, от которой лишь исходит сознание (как это было даже у Гуссерля, которого Шпет, естественно, не относил к представителям отрицательной философии). Даже более того, я превращается в множество неотличимых друг от друга точек, каждая из которых утрачивает свою уникальность.
Можно идти другим путем, положив в основу анализа Я взаимодействие внутренних сил организма с окружающей средой. В этом случае выделяется новое понимание Я как «носителя душевных сил и состояний человека», которое обычно соотносили с понятием «душа»[324]. Ясно, что при таком подходе определение Я дается через психическую деятельность человека и не имеет ценности для философии. В так понимаемом Я можно выделить даже подвиды (т.е. Я становится общим понятием), самосознание, духовное Я, родовое Я, трансцендентальное Я. Выделение общих психических черт личности и дальнейшее обобщение через абстракцию при образовании общего понятия Я ведут к утрате специфики Я.
Не может также привести к успеху соотнесение Я с природой сознания и использование для этого понятия «субъект познания». В этом случае Я как субъект становится омонимом (Я как субъект противопоставляется объекту познания, объекту поведения, сознанию вообще, адресату коммуникативного акта, объекту мыслительной деятельности, предмету мысли), и ясно, что выделение такого значения термина «Я» теоретически не является оправданным. Более того, чем абстрактнее становится Я, тем более оно лишается чувствования, желаний, вместо живой крови в жилах его течет разжиженный сок разума. Одно из качеств Я (например, быть разумным) отделяется и превращается в самостоятельное понятие — в абстракцию (например, Я как субъект познания). О таком Я не может быть никаких теорий, оно не объяснимо. Его можно лишь толковать, а интерпретация есть
перевод «на язык другого Я или на некоторый условный, “искусственный” язык поэтического творчества»[325].
Существует ли какой-либо иной путь? Шпет видит (то в рассмотрении идеи Я, идеального Я, коррелирующего с эмпирическим Я. Свойства такого Я: не возникает и не является преходящим, рассматривается вне реального времени, тождественно самому себе, определяет сущность эмпирического Я, которое не тождественно самому себе во времени. В этом отношении Локк, с точки зрения Шпета, был не прав, когда определял метод установления личного Я посредством констатации его тождества («Так как человека делает для себя одним и тем же тождественное сознание, то от этого одного и зависит тождество личности»)[326]. Если Я рассматривается как предмет, обладающий единством содержания, то этим он сходен с любым другим предметом. Специфическими же признаками эмпирического я, отличающими его от всех других предметов, являются единство переживаний, единство сознания, актуальная и потенциальная активность сознания, внутренний опыт «испытывания».
Пытаясь определить чистое сознание, сознание как таковое, выявить саму сущность сознания, Шпет отмечает, ч'го в нем можно различать состояния эстетическое и феноменологическое (явление Я) и интенциональное и функциональное (сущность Я). Значение мира сознания раскрывается в нерасчлененном единстве дух его характеристик: «и как феноменальный состав, и как функциональная продуктивность». Если брать только одну из этих характеристик и приписывать ее индивидуальному сознанию как общему понятию (например, его обусловленность внешними обстоятельствами, чистым творческим потоком из себя, волей к жизни или волей к власти), то совершенно непонятным окажется, чем же отличаются индивиды друг от друга и Я от каждого из них. Абсолютно уникальным Я делает «координация предопределенности и свободы», основанная на своеобразной интерпретации целесообразности их синтеза, на разумной мотивации. А если помнить, что для Шпета герменевтическое проникновение в мир сознания является рациональным актом обнаружения объективно данного
смысла, ядра внутренней структуры объективированной духовной деятельности, то станет ясным, что истолкование, уразумение выводят проблематику Я на рациональный уровень, и идея Я, внутренний смысл Я становится сущностью эмпирического Я.
Далее следуя традиции рационализма, в частности
В.Лейбницу, утверждавшему, что Я интегрально, умопостигаемо и более достоверно, чем существование чувственно воспринимаемых вещей[327], Шпет подводит читателя к критическому отторжению эмпирических концепций Я, опирающихся на индуктивные обобщения. Уникальность я, по мнению Шпета, ведет к невозможности обобщения Я, если, разумеется, мы будем оставаться на позиции аристотелевской теории обобщения, применимость которой в данном случае (но не справедливость вообще) как раз и оспаривается Шпетом. Значит опять, как и в случае со скептицизмом, Шпет пытается доказать логическую несостоятельность эмпирических (и вообще всех не- гативистских концепций Я. Развеять видимость их теоретичности, перевести их в разряд мнения.
Следовательно, наиболее осмысленным может быть только то значение Я, когда оно понимается как логически родовое, а не онтологически, трансцендентально, гносеологически. При этом идеальное Я есть сущность, обнаруживаемая в конкретном и уникальном Я. Только идея Я может соотноситься с эмпирическим Я, гносеологическим Я, трансцендентальным Я. Идея же «общего Я», «Я вообще» есть условность или нелепость, в основе ее лежит традиционная теория обобщения, но так как Я не является видом по отношению к роду, обобщение логически несостоятельно. На этом основывается шпетов- ская критика Канта, Фихте, Тейхмюллера, Н.Лосского, Наторпа. Дополнительным основанием критики служит доказательство, что сознание, самосознание, субъект и Я являются разными понятиями, поэтому их нельзя подменять друг другом (у некоторых философов это получается невольно), они не являются взаимозаменяемыми в разных контекстах.
Чистое Я, по Шпету, оказывается фикцией. Если оно образовано по аналогии с эмпирическим Я, то оно должно быть не только единственным, но и внутренне опреде-
/ионным и свободным, и именно поэтому разумно мотивированным, что ведет, в свою очередь, к выводу о том, •по для всякого потока внутренних переживаний оно должно быть различным. И мы с удивлением обнаружи- илем, что все сказанное об этом, казалось бы уникальном и единственном в своем роде Я не будет понятно другим.
Подлинное Я является социальной вещью, оно созна- млемо, о нем можно высказываться, оно имеет свое содержание, смысл. С философской точки зрения, замечает Шпет, оно является проблемой, предметом исследования, а не основанием, не аксиоматически принимаемой предпосылкой[328]. Но оно не является всеобщим субъектом. Г метафизической точки зрения Я может рассматриваться как предмет, необходимо лишь найти его субстанциальную природу.
Наряду с развенчанием любых версий эмпиризма в мопросе о природе Я, Шпет обнаруживает и раскрывает «источник», «субстанцию» сознания в уразумении и его результатах, в интерпретации символов, каковым, в частности, выступает индивидуальное Я. А всякое уразумение есть со-участие, сопричастность, со-знание, «созна- маемое единство сознания». Все перечисленные понятия указывают на общую для всех уникальных индивидов субстанцию сознания: мир со-знания, совместное поле деятельности уникальных Я по поводу уразумения смысла (совместной мысли, общего достояния многих). Собственником сознания является индивид. Идеальное Я есть сущность его сознания. Оно есть конкретное, имеющее свою особую общность, которая достигается путем «общения», а не «обобщения».
Каждое «типическое» сознание имеет свою форму общности, именно поэтому оно может быть выражено в слове, иметь смысл, соотноситься с культурой, быть предметом исследования положительной философии.
В заключение хотелось бы отметить, что герменевтическая феноменология и положительная философия Шпета претендовали на обоснование теоретической философии. Насколько основательны были эти претензии, сейчас судить очень сложно, потому что фундаментальные концепции обычно становятся в спорах, обсуждениях, уточняются и изменяются автором, принимаются или
отвергаются научным сообществом. Философии Шпета была предустановлена иная судьба: почти полное забвение и неизвестность по независящим от Шпета и научного сообщества причинам. Глубина и всесторонность шпе- товского анализа природы философского знания могут поразить своей проникновенностью, оригинальностью и компетентностью, а сам Шпет своей эрудицией даже искушенного философа. Можно соглашаться или спорить с его доводами или выводами, иногда весьма категоричными, но, без сомнения, можно быть твердо уверенным в том, что задуматься о глубинных истоках философии и ее познавательных способностей мысли Шпета заставят любого достаточно терпеливого и внимательного исследователя.
Алексей Федорович Лосев (1893—1988)
Философ, филолог, автор работ по античной эстетике, логике, языковедению. Развивал платоновско- гегелевскую линию диалектического идеализма. В течение многих лет был профессором Московского Государственного педагогического института.
Соч.: Античный космос и современная наука. М., 1927; Музыка как предмет логики. М., 1927; Диалектика художественной <|юрмы. М., 1927; Очерки античного символизма и мифологии. Г. 1. М., 1930; История античной эстетики. Тт. I —VI. М., 1963 — 1980; Владимир Соловьев и его время. М., 1990; Бытие- имя-космос. М., 1993; Миф-число-сущность. М., 1994.
С.С. Аверинцев •«МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СТИЛЬ*-: ПОДСТУПЫ К ЯВЛЕНИЮ ЛОСЕВА
Все акценты глубокой страсти, заботы... Род мемуаров; наиболее абстрактные вещи — в самой живой и жизненной, полной крови, форме. — Вся история, как лично пережитая, результат личных страданий.
Ницше Ф.
Полное собрание сочинений.
Т. IX. М., 1910. С. XXXI.
Нижеследующие заметки — опыт, принадлежащий иной области, нежели философия или история философии. Попытаемся увидеть наш предмет в иной перспективе: в перспективе истории культуры, как «культурный тип». Такой подход, разумеется, не может подменять собою собственно философского. История философии как таковая весьма отлична по существу от истории философии как «раздела» в общей истории культуры, и от
ношения между первой и второй вовсе не так просты, как может показаться поверхностному взгляду. Они не могут обойтись друг без друга, и в то же время между ними не может не возникать глубоко лежащего, подчас скрытого напряжения.
Вспомним, однако, слова самого Лосева:
«Стиль» и «мировоззрение» должны быть объединены во что бы то ни стало; они обязательно должны отражать друг друга»[329].
«Мировоззрение» - предмет истории философии, шире, истории мысли — но именно «мысли как таковой». «Стиль» — предмет дисциплины, которую Шпенглер назвал морфологией культуры. «Стиль» — принадлежность некоего «культурного типа». Лосев вновь и вновь требовал от себя и своего читателя рассматривать любой исторический феномен «как единый культурный тип», выделяя эти слова курсивом[330]. Донельзя типичная для него постановка вопроса — о мировоззрении как стиле, о «мировоззренческом стиле»: чтобы «это единство, насколько возможно, увидать у. в отдельных мелочах»[331].
Итак, подобный подход по отношению к нему самому оправдан его же собственным примером; но ведь он оправдан и спецификой его облика как философа. Каждый знает, что Рихард Вагнер, Вяч.Иванов, Скрябин были конститутивно важны для его становления — ничуть не меньше, чем, скажем, Гуссерль. Каждый знает и другое: как много у него пассажей в «розановском» жанре, имеющих самое прямое касательство к истории русской прозы. В «Диалектике мифа» есть место, где Лосев, сделав пространную выписку из Розанова, вступает с Розановым не просто в спор, но в литературное состязание, в настоящий «ягон». «...Он не был в строгих женских монастырях и не простаивал ночей в Великом Посту за богослужением, не слышал покаянного хора девственниц, не видел слез умиления, телесного и душевного содрогания кающейся подвижницы во время молитвы, не встречал в храме, после многих часов ночного молитвенного подвига, восходящее солнце, и не ощутил дивных и чуд
ных знаний, которые даст многодневное неядение и сухоядение, не узнал милого, родного, вечного в этом исхудалом и тонком теле, в этих сухих и несмелых косточках, не почувствовал близкого, светлого, чистого, родного- родного, простого, глубокого, ясного, вселенского, умного, подвижнического, благоуханного, наивного, материнского — в этой впалой груди, в усталых глазах, в слабом и хрупком теле, в черном и длинном одеянии, которое уже одно, само по себе, вливает в оглушенную и оцепеневшую душу умиление и утешение...»[332]. И несколько /ишьше, в развитие этой темы, одной из ключевых тем книги, — о «тонком воздействии помыслов на кровообращение», о «невыразимой легкой тонкости тела» и тому подобном[333]. !)то, как «неядение и сухоядение», как «сухие и несмелые косточки», как «впалая грудь», — острота физиологической детали, симметрически противостоящая таковой же, но противоположно направленной заостренности у Розанова. Разумеется, вкус к физиологически конкретному никоим образом не противоречит философским интенциям Лосева, мало того, прямо-таки необходим для них, как адекватное выражение по-лосевски понятого антидуализма. «Я никогда не был ни либералом, ни дуалистом, — заявлено в последней фразе предисловия к «Диалектике мифа», — и никто не может меня упрекать в этих ересях»[334]. Об анафематствовании «либерализма» — чуть позже; сейчас нас интересует анафематствование дуализма. Стало быть, вопрос «мировоззрения»; но одновременно ведь и «стиля». Аскетическая физиология в неразрывном единстве с выражающими ее терминами («неядение», «сухоядение») содержит в себе не меньше литературного вызова — не только большевистскому атеизму, но не в меньшей мере интеллигентскому вкусу, требующему, чтобы духовное держалось на приличной дистанции от телесного, — чем фаллическая физиология Розанова. Очень характерны интонации позднеромантической прозы: нагнетание эпитетов, ввиду характера темы на миг вызывающее мысль о технике акафистов, на самом
деле, конечно, локализует текст именно в зоне позднего романтизма. Довольно похоже писал подчас Карсавин. Что до Розанова, его заставляют вспомнить не эти пассажи, композиционно функционирующие как «агон» с ним, но скорее бутады, угловато выстроенные из коротких фраз, — вроде той, которая была, как известно, зачитана на XVI партсъезде Кагановичем в качестве «вещдока» преступности философа и кончается словами: «Нет, дяденька, не обманешь. Ты, дяденька, хотел с меня шкуру спустить, а не реалистом меня сделать. Ты, дяденька, вор и разбойник»1. Литературно обыгрываются контрасты, порождаемые гетерогенностью текста; скажем, немедленно после приведенных фраз следует абзац, открывающийся невозмутимо «академическим» — «Итак, диалектика требует...». Целое сработано именно из трех пластов — «академического», «лирического» и «бутад», — из их стилистической несхожести. Фактура письма — величина подчеркнуто переменная. «Диалектика мифа» в этом отношении заходит наиболее далеко и дает особое богатство колоритных примеров; но примеры эти достаточно характерны для лосевского творчества в целом.
Резкие стилистические перепады соответствуют чему- то важному в движении самой лосевской мысли.
Оглянемся вокруг. Сама по себе разнофактурность слова — едва ли не норма для определенного типа философской литературы в России, да и за ее пределами. Тип этот по историко-культурным обстоятельствам его появления мы рискнем назвать постсимволистским. Разнофактурность мы находим и в прозе Карсавина, да и у антипода и антагониста Алексея Федоровича — у Г.Г.Шпета. Сами символисты, широко пользуясь вольностями, полученными из рук Ницше, Розанова и прочих, далеко отходили от нормы «академического» слога, — но, как правило, выдерживали свою философскую прозу в рамках определенной внутренней гомогенности. Прародитель символистского философствования Владимир Соловьев двигался в достаточно пестром жанровом пространстве — тут и дискурс, доведенный до стройности почти схоластической, и, под конец, диалог, и философская лирика, и хлесткая публицистика, и различные формы сатиры, пародии и автопародии; но
жанры разведены между собой, и каждый из них выступает в чистоте — просто «Три разговора» написаны говеем не там, как «Оправдание добра». Василий Розанов, довольно поздно придя к своей «настоящей» манере, избегал из нее «выпадать». Философская, эстетикокритическая и ученая проза Вяч.Иванова уникальна по гноей непреклонной «выдержанности», т.е. тщательно соблюдаемой гомогенности редкостной лексики, ритма и юна. Единообразен держащийся на равномерном «форте» фраз слог такого философа символистской формации, как Бердяев. Постсимволизм, очень много беря от символизма, вводит стилистическую гетерогенность. Характерный пример — «Столп и утверждение истины»; эта книга, во многих отношениях явившаяся для раннего Лосева не только философско-богословским, но, по-видимому, и литературным импульсом, систематически перекладывает дискурс — позднеромантическими излияниями, обращенными к некоему Другу («мой кроткий, мой ясный»), очень характерными в своем роде и отчасти заставляющими вспомнить далекую пору карамзинизма. У о. Павла Флоренского — го же преизобилие эпитетов, которое мы видим позднее у Лосева; та же интонация сугубо личного признания или интимного напоминания о совместной тайне (лосевская «сестра и невеста, дева и мать... подвижница и мо- иахиня»[335] в качестве адресата соответствует Другу из «Столпа»). В чем, однако, различие стилистической стратегии? «Столп» выстраивает между чистой лирикой и чистым дискурсом намеренно плавные переходы. Характерен следующий порядок: лирический пассаж на личные темы — столь же лирический пассаж, но уже на темы общие — рассуждение на эти темы[336]. Там, где у Флоренского — переходы, у Лосева — перепады и перебои. Читателя необходимо озадачить, чтобы не сказать — огорошить. Нужно, чтобы он в каждый момент получал не то, что ждет: настроится на лиризм — получит бут аду, настроится на бутаду — получит такой жестко организованный дискурс, какой только возмож
но вообразить. С этим хорошо соединяется крайне резкая амбивалентность оценок.
Лосев исключительно красноречив как выразитель перенесенной в области мысли НаззНеЬе — любви-ненависти, влюбленности-ненависти. Написать статью «Мировоззрение Скрябина» мог только человек, до предела, до надрыва Скрябиным захваченный и упоенный; только мыслитель, для которого вокруг Скрябина располагается вся история европейской культуры от античности до «заката Европы», по поводу Скрябина возникают характеристики целых эпох, которому решительно все у Скрябина — включая даже словесные самовыражения не для этого рожденного композитора — чрезвычайно интересно. Козырем Скрябина молодой Лосев победоносно бьет карты «позитивизма», «прогресса», вообще всего «новоевропейского». Но по мере приближения к концу статьи все чаще и все безудержнее речь идет о «смраде», об «анархии разврата», о «мазохизме, садизме, всякого рода изнасилованиях» — и завершается прямым и категорическим анафематствованием1 (Любопытны вербальные разноречия автора с самим собой: в одной и той же фразе, например, говорится о «языческой мерзости, которая изгоняется только постом и молитвой», и, как о том же предмете, о «правде» язычества, да еще «ничем не уничтожимой». После оговорки, что «христианин молится за всех, и за Скрябина будет молиться в особенности», следует: «...Молиться за него — тоже грешно. За сатанистов не молятся. Их анафемат- ствуют» (с. 301). А.Платон — чем был для Лосева Платон и платонизм? Сотни и тысячи страниц написаны им об этих предметах со страстью поистине неиссякающей. И нельзя сказать, чтобы не было моментов, когда Платон и платонизм представали уму Лосева в максимальной близости к ценностям православной веры философа. «Итак, платонизм есть философия монашества и старчества. (Курсив авторский!) Монашество и старчество — диалектически необходимый момент в Платоновском понимании социального бытия»2. Неодно-
|
|
п.'*'. члсрлп птпши!о символизма и мифологии. С. 804. Ср. чуть ниже: «Платонику понятен только монастырь, и только монах для него ясный и последовательный человек*. С. 813.
кратно и очень горячо демонстрируется близость к концепции И.Киреевского, согласно которой византийское православие по природе платонично, как латинский лристотелизм по природе аристотеличен. (Например, там же, с. 852. прим. 91, содержащее резкую полемику с известным византинистом Ф.Успенским. Лосев мог не без основания вменять Ф.Успенскому в вину недостаточную чуткость к собственно философскому аспекту проблемы; Успенский подходил к материалу как историк, не как философ. С другой стороны, однако, конкретная реальность истории мысли в ограде византийской церкви дает основания для серьезных вопросов к Киреевскому и Лосеву. Такой кодификатор православ- мейшей нормы в богословствовании, как Иоанн Дамас- кин, предпослал своему богословскому ориз тарз «Источник знания» — логико-философское введение, основанное на Аристотеле (и, разумеется, на его неоплатонических и христианских интерпретаторах). Еще более показательна не раз повторявшаяся ситуация, когда защитник православия выступал как аристотелик — против еретика-платоника. Например, Николай Мефонский в середине XII в. призывал себе на помощь аристотелевскую критику теории идей против еретического учения Сотириха Пантевгена. В самом конце исторического бытия Византии, уже в XV в., последний враг византийского православия, загадочный неопаганист Плифон был ярым платоником, — а его оппонент, первый патриарх Константинополя после пленения последнего турками, по имени Геннадий Схоларий, убежденным арис- тотеликом, сожалевшим, что у православия не было своего, православного Аквината. Что до великого православного мистика XIV в. Григория Паламы, то он выступал против допущения какой бы то ни было языческой философии в зону собственно богословской работы; и все же недаром он выступал юношей при дворе с рефератом по аристотелевской логике — та пара терминов («усия» и «энергия»), при посредстве которых он решает проблему соотношения между трансцендентностью и имманентностью Божества, заимствована у Аристотеля. Таковы факты, требующие внимания.) И после всего этого — пожалуйста: «В мировой литературе я не нахожу произведений более гнусных и отвратительных, более пакостной и мерзостной - воистину — “трагикомедии”, чем Плато
новские “Федр” и “Пир”[337]; а чуть ниже — “платонизму трижды апафема”»[338]. «Гнусное» и «отвратительное», «пакостное» и «мерзостное», — кажется, всей бранной синонимики русского языка мало, чтобы выразить степень ужаса, и перед чем же? Перед увлекшим ум на всю жизнь. Но ведь здесь с языческой Элладой обошлись еще не так обидно для последней; как-никак, попирается она стопами императора Юстиниана и византийских иерархов, осуждается с высоты православной «акривии», став перед тем жертвой взрыва со стороны наболевшего сердца автора, взрыва очень личного. Куда более жестока месть эллинству в поздней работе, исключающей обнаженно-личный тон; там греческая классика кинута на попрание уж и вовсе кому попало, и для выполнения акта мести приглашены непостижимо чуждые Лосеву люди: на страницу идет выписка из рассуждений — вот уж подлинно «нигилистических» — Чернышевского, а после, на две с половиной страницы подряд, вторая выписка из некоего советского «очеркиста» Агапова. * Ну они-то, они-то здесь причем? Но опустим глаза, дабы не уподобляться библейскому персонажу, воззревшему на наготу отца своего, и за это проклятому[339].
Напряженные противочувствия — вот контекст, в котором, с нашей точки зрения, хотя бы отчасти приходится рассматривать и лосевские филиппики против Ренессанса (Эстетика Возрождения. М., 1978). Разумеется, никто не будет спорить, что комплекс идей, необходимо включающий, во-первых, осуждение Нового времени с его рационализмом и позитивизмом, с его бур
жуазностью и либеральностью, проклятие всему, что началось с Возрождения, как поступательному упадку духа и росту нигилизма; во-вторых, пророчество о конце иого цикла и о приходе «нового Средневековья», — неотъемлемая характеристика культурного типа, к которому Лосев принадлежал от самого начала до самого конца своего пути на земле. В этом пункте из «старших» были совершенно едины такие непримиримые антагонисты, как о. Флоренский и Бердяев. Что до поколения еще более старшего, то конец индивидуализма и на индивидуализме замешанного творчества, возврат к творчеству «соборному», напоминающему и об античных «орхестрах и фимелах», и о средневековых монастырях и церковных общинах, — символ веры Вяч.Иванова. И нее же, и все же — для людей этой формации, непосредственно заставших культ Возрождения, который был из рук в руки передан XIX в. и отчасти подновлен эстетизмом «конца века», Возрождение было таким важным и казалось таким близким, каким оно уже не будет и не покажется для тех, кто придет позже. Вспомним роль, которую сыграла в обращении о. Сергия Булгакова «Сикстинская Мадонна» (причем была продолжена еще и русская традиция, восходящая к Жуковскому); когда он впоследствии акцентировал черты чувственности в рафаэлевском образе и противопоставлял ему строгость православной иконы, за этим стояло живейшее воспоминание о времени, в которое он чувствовал совсем иначе[340]. Да ведь и о. Павел Флоренский, судивший о Ренессансе куда как сурово, несколько неожиданно приводит Рафаэля в пример «веры в явленность икон, как норму иконописания[341]. Именно в отношении Рафаэля мыслителям этого культурного типа было труднее всего выносить свой вердикт. А потому отнюдь не случайно, что в разделе лосевской книги, озаглавленном: «Художественная основа Высокого Возрождения», — имеются главы о Боттичелли, Леонардо да Винчи и Микеланд
жело, но главы о Рафаэле просто нет! Равным образом не случайно, что сквозное понятие, ключевое слово, которым оперирует автор в своей характеристике Ренессанса вообще, есть слово «титанизм». Постсоветскому читателю слово это, пожалуй, напомнит неизбежную некогда цитату из Энгельса. Однако такая ассоциация сама по себе необязательна: «титаны Возрождения» — общее место, унаследованное ранним XX в. от предыдущего столетия и подновленное веяниями ницшеанства. Вспомним, как это общее место само собой подвернулось на язык о. Сергию Булгакову в его только что процитированном поминальном слове. «Рима грусть и творчество титанов», — заключительная строка одного из «Римских сонетов» Вяч.Иванова.
Другой вопрос, вполне ли адекватно это слово в приложении к Ренессансу, не слишком ли много в нем от «штурм-унд-дранга», от романтизма и специально «байронизма», наконец, от того же Ницше? Сами-то гуманисты предпочитали видеть себя друзьями и сынами олимпийцев; титаны — для них обычно символ ненавистного варварства, бесчинства, беспорядка, диссонанса. Фрески Джулио Романо в Палаццо. Те в этом отношении чрезвычайно характерны. Да, гуманисты непомерно легко сближали христианское небо с языческим Олимпом, а себя ставили в несколько фамильярное отношение и к тому, и к другому, но вот штурмовать небо по примеру титанов — эта идея была им, в общем, несвойственна. Поведение Пико делла Мирандолы, похитившего некую особу и спровоцировавшего этим вооруженную схватку, оправдывалось на гуманистическом жаргоне ссылкой на особые привилегии детей богов; именно детей богов — никак не титанов. И тому же Рафаэлю можно, по примеру позднего Булгакова или, скажем, Л. А. Успенского инкриминировать «сладострастие кисти», чересчур беспроблемное слияние святости и чувственности; под категорию «титанизма» его не подведешь. Не потому ли ему не досталось главы в книге?
Мне трудно согласиться с Вик.Ерофеевым, объяснявшим гневный тон «Эстетики Возрождения» обстоятельствами, так сказать, социальными. «Раздавленный смертельным страхом, ученый тем не менее «помнил» о философе, и только этим я способен объяснить его неискоренимую пристрастность. Она прорвалась в «Эстетике
М<^рождения», ошеломив многих, но ярость, направленная против ренессансного человекобожия, плодившего тры трупов в трагедиях Шекспира, была на самом деле направлена против вчерашних палачей»[342]. Это «на самом деле» как-то не в меру простовато. Протест против всего «мозрожденского» был константой для творчества Лосе- ил, как и для всего реализованного им типа мышления, •лдолго до прискорбных событий, на которые намекает Трофеев. Константой была и «ярость» реакций на все, мдевающее, тревожащее и волнующее душу. Поздний Лосев написал о Возрождении точно так же, как ранний Лосев написал о Скрябине.
В контексте лосевской способности к острым проти- иочувствиям, но также и внутри связной логики его мышления как целого должно быть понято и его отношение к марксистскому тоталитаризму. Здесь нельзя всего объяснять биографией.
Что и говорить, переживание ареста, лагеря, а затем долголетней извергнутости из профессиональной жизни — страшная травма, способная сломить и сильного. И дополнительные обстоятельства: обсуждение «Диалектики мифа» ни больше ни меньше, как на XVI партсъезде, — нечего сказать, нашли товарищи себе дело! — статья «самого» Горького: это как в горячечном сне — режим моей своей всесоюзной, чуть не вселенской мощью наваливается, как на целую белую армию, на одного-единст- иенного человека. На «мыслящий тростник», который не гнется — только ломается. И помимо всех личных страданий — чувство, что тоталитаризм пришел на ближайшее тысячелетие, скажем, так, как «темные века» пришли на смену античности. (Я хорошо помню этот образ мыслей по своему отцу, старому профессору биологии, который был старше Алексея Федоровича на 18 лет. Коммунистическая идеология была ему бесконечно чужда, но одному он верил, верил с тоской и отвращением: что она одолеет во всем мире. Когда до моего отроческого ума дошел исход корейской войны, я первый раз и жизни подумал, что мой отец способен ошибаться.) Все
это понятно, и легко говорить о таких материях было бы глумлением над жертвами.
И все же дело не там просто. Мысль Лосева, именно как мысль, вне всяких внешних обстоятельств, была одержима императивом жесткого, неумолимого единства, по закону которого самомалейшие черты «целостного лика» и «мировоззренческого стиля» должны диалектически выводиться из некоего исходного принципа; выводиться с той мерой обязательности, принудительности, которая нормальна в евклидовой геометрии. На языке классического немецкого идеализма процедура последовательного и непрерывного диалектического выведения именовалась Копз^гикиоп. Несколько новый характер, отмеченный, так сказать, большей степенью интеллектуальной агрессивности, а равно и большей ориентацией на неклассический момент переживания, ей придал Шпенглер. Отмеченная тенденция мысли Лосева очевидным образом связана и с гегелевско-шеллинговской выучкой, и с влиянием Шпенглера1. В пользу этой тенденции можно сказать немало: это весьма понятный протест против эклектизма, против благодушной бесстильности, обретшей зримые формы, скажем, в архитектуре второй половины прошлого века, имитировавшей все стили и не имевшей собственного. С другой стороны, однако, она грозит отнять у истории столь присущий ей элемент подвижного и непрерывно находящегося в движении равновесия, элемент живого противоречия с самой собой, а равно и различенность ее уровней, взаимосвязанных, но не единообразно жесткой связью.
Вполне логично уживается с этой тенденцией достойное Константина Леонтьева презрение ко всему «либеральному», «интеллигентскому», являющему собой как раз попытку смягчить жесткость сцеплений внутри социо-культурного целого. «Мои воззрения не интеллигентские. Интеллигенция — это что? Это такое буржуазно-либеральное свободомыслие, да? Я терпеть этого не могу»[343]. (Напомним, что у людей символистской культуры слово «интеллигент» отнюдь не котировалось; симво-
'П1 «м в целом понимал себя как восстание против разночинской бесцветности, окончательно выродившейся в мору Надсона. Скажем, абсолютно невозможно предста- нить себе, чтобы Вяч.Иванов — отнюдь не плохо отно- « шипийся к либеральным ценностям в сфере политики — нишал бы себя «интеллигентом». Это Гершензону он написал: «Вы же, конечно, плоть от плоти и кость от кости интеллигенции нашей, как бы ни бунтовали против нее» (Ияч.Иванов. Собрание сочинений. Т. III. Брюссель, !!)79. С. 412); Гершензон, как-никак, один из соавторов «Нех», обиделся: «...Даже браните меня интеллигентом»
<гам же, с. 413.). Сказано всерьез, отнюдь не только ради вызова, хотя, разумеется, и не без вызова. И если юталитаризм приходит, обещая конечное изничтожение • моего этого тошнотворного марева мелких и холодных эгоистов, относительно которых поневоле признаешь русскую революцию не только справедливой, но еще и мало достаточной»1, — признание его колеблется на грани иронии, подчас очень острой, но с самого начала к иронии не сводится. Конечно, мыслящая голова отдает
< обе отчет в том, что угроза прежде всего относится к пой. «И вас, кто меня уничтожит, // Встречаю приветст- ионным гимном», — давно было сказано у Брюсова. «Жгучий вихрь полярной преисподней, // Божий бич, приветствую тебя», — обращался к революции Волошин.
Но дело не только в неприятии на дух, на вкус «буржуазно-либерального свободомыслия». Дело в логике самого мышления. Императив абсолютной жесткости связей между смыслом и формой, между верой, культурой и социальным устроением требует своего. Ранний Лосев с исключительной страстью настаивал на том, что платонизм «диалектически требует» рабовладения, а православие, которое подлинно только в меру своего средневекового характера, «диалектически требует» средневековых же социальных отношений. Стоит подвергнуть ;гги формулы логическому обращению, поменять местами «диалектически требующее» и «диалектически требуемое», — и мы получаем «марксизм» позднего Лосева, т.е. соответственно «рабовладельческую идеологию» и «феодальную идеологию». Разница — исключительно в области того, что марксисты называют основным вопро
сом философии: что «первично» и что «вторично». Од нако фактура мысли остается той же.
Когда мы размышляем о трагической значительности таких фигур, как Лосев, необходимо помнить две вещи. Во-первых, тоталитаризм не только стращал, запугивал или подкупал; тоталитаризм был подлинным интеллектуальным соблазном, подготовленным не просто недугами общества, но состоянием культуры. Во-вторых, тоталитаризм — абсолютно ложное решение реально существующих задач. Будем надеяться, что соблазн развеялся навсегда; что до задач, они остаются. Свобода от тоталитаризма — это свобода искать истинных, скрупулезно взвешенных решений; но сама свобода задач не решает, она выявляет задачи, отметая ложные решения. Для тех, кто не спешит поверить вместе с Фукуямой, будто история сказала свое последнее слово, — спор лосевской мысли с самой собою важен и поучителен.
«Вопросы философии», 1993.
Л. А. Гоготишвили РАННИЙ ЛОСЕВ
Первая работа Алексея Федоровича Лосева вышла в 1916 году, его последние работы продолжают выходить до сих пор. Семьдесят с лишним лет активной научной деятельности не могли не содержать в себе существенных сдвигов, не могли не распасться на периоды, как не могла они вместе с тем и превратиться в череду абсолютно не связанных между собой этапов, обособленных историко-биографическими обстоятельствами и смысловой замкнутостью. Ниже мы предлагаем очерк начального периода творчества Лосева, сопроводив его краткими биографическими сведениями и пунктирными указателями в содержательные и стилистические пласты последующих периодов. Излишне говорить, что этот очерк ни в коей мере не претендует на цельный портрет Лосева, но, с другой стороны, без анализа начального периода его деятельности невозможно поставить вопрос и об общих основаниях лосевской мысли.
Ранний Лосев формировался как представитель последнего поколения серебряного века русской культуры — в той ее традиции, которая связана с именами Вл.Соло-
мм'на, Вяч.Иванова и П.Флоренского. Следующего по- нпк'ния как открыто преемственного и отчетливо выра- ’М'нпого направления у этой традиции внутри страны практически не было: причитающаяся ему доля исторического времени была поглощена когда-то параллельно развивавшимися, а затем и господствующими философиями течениями. Лосев, более полувека деятельно погруженный в это изменившееся, неизначальное для него философское время, пересек, «покорный общему закону не только временные, но и содержательные, терминологические и стилевые границы своей начальной традиции, однако именно эта традиция всегда продолжала определять собой духовный стержень всего написанного Лосевым, его исторический фон и его историческую перспективу.
* * *
А.Ф. Л осев родился в 1893 году в г. Новочеркасске в семье гимназического преподавателя физики и математики, ставшего впоследствии благодаря своей страстной привязанности к музыке дирижером и скрипачом-солис- юм различных губернских оркестров. Мать Лосева по происхождению принадлежала к среде духовенства, и >то сочетание математики, музыки и религии в духовной атмосфере семьи, безусловно, отразилось на Лосеве, хотя огец рано оставил семью, и сына очень бережно и обдуманно воспитывала мать. С другой стороны, интерес к языческой античности сформулировался у Лосева под влиянием его гимназического учителя, выпускника Лейпцигского университета чеха И.А.Микша. Достаточно сильным оказался и весь состав гимназических преподавателей в целом, сразу же выделивших Лосева в общем потоке гимназистов. Так, директор гимназии Ф.К.Фролов, наблюдая духовное развитие Лосева в течение нескольких лет, с некоей долей глубокого предвидения подарил ему при переходе в восьмой класс гимназии собрание сочинений Вл.Соловьева. (Платон был подарен Лосеву Микшем еще раньше.) Таким образом, уже в эти годы практически определились все значимые лосевские темы.
В 1915 году Лосев оканчивает историко-философский факультет Московского университета одновременно по двум отделениям: классической филологии и философскому. Среди преподавателей Лосева — Л.М.Лопатин,
Г.И.Челпанов, Н.В.Самсонов, Г.Г.Шпет, среди оказавших влияние — Н.И.Новосадский и П.П.Блонский, о работе которого «Философия Плотина» (1918) Лосев впоследствии скажет, что она наравне с публикациями П.Флоренского открыла эпоху нового понимания Платона. По окончании университета Лосева оставляют на кафедре классической филологии для подготовки к профессорскому званию. В 1919 году на всероссийском конкурсе Лосев избирается профессором классической филологии Нижегородского университета, а также начинает выступать с публичными лекциями, в основном, на музыкальные темы, пишет статьи, тоже, в основном, о музыке (Вагнер и Скрябин). В начале 20-х годов Лосев избирается действительным членом Государственной Академии художественных наук и профессором Государственного института музыкальной науки (для занятий античностью и религиозно-философскими исследованиями времена были крайне неблагоприятные).
Однако параллельно этому внешнему, официальноакадемическому течению жизни на протяжении десятых и в начале двадцатых годов идет формирование внутренней, интеллектуально-жизненной позиции ученого, сопровождавшееся, по его собственным словам, «необычайно бурными и страстными событиями философской мысли»[344]. В это время Лосев связан с работой двух, казалось бы, диаметрально противоположных по своим установкам обществ: Психологического общества при Московском университете, где в целом преобладала струя академической абстрактной метафизики (руководители — Г.И.Челпанов и Л.М.Лопатин), и Религиозно-Философского общества им. Вл.Соловьева, в котором участвовали Вяч.Иванов (оказавший, по признанию Лосева, на него серьезное духовное влияние), П.А.Флоренский, Е.Н.Трубецкой, Н.А.Бердяев (поддержавший первые выступления Лосева), Л.И.Шестов и др. В 1916 году выходит первая статья Лосева «Эрос у Платона», в которой отчетливо прозвучала общая трагически напряженная настроенность Лосева в эти годы и в которой главенствуют соловьевские мотивы в отношении к Платону (впоследствии из «биографического» подхода В л. Соловьева к Платону Лосев сохранит установку на синтетизм и общую
бескомпромиссную оценку платонизма как язычества, дополнив их академическим и мифологическим пониманием). С самого начала и до конца жизни Платон будет для Лосева своеобразной призмой, через которую ученый мог рассматривать внутреннее содержание любой исторической эпохи, не исключая и духовные катаклизмы XX нека. Лосевская концепция платонизма активно поддерживалась С.Л.Франком и до и после его эмиграции.
Среди круга непосредственного общения Лосева в это мремя — В.О.Нилендер, С.М.Соловьев, А.Белый, Б.Л.Пастернак («товарищ по университету»). Среди круга чтения следует выделить, помимо, конечно, Ф.М.Достоевского, Вл.Соловьева и Вяч.Иванова, также и европейцев, и прежде всего Шеллинга, Гегеля, Ницше, Бергсона, Кассирера и Наторпа. Особое влияние оказали на Лосева, по его собственному признанию, новейшие физические теории Лоренца и Эйнштейна (и их философская интерпретация П.Флоренским), а также общемировоззренческие настроения Вагнера и Скрябина, которые формулировали для Лосева то «глубочайшее настроение, которое сводилось к чувству надвигающейся мировой катастрофы... и чего-то действительно вроде мирового пожара»1.
В 20-е годы интеллектуальные формы общественной жизни 10-х годов затухают. Меняются организационнонаучные структуры, определяющие формы индивидуальной научной деятельности. Философские общества распались; выпадают из вузовских курсов, теряя статус академических дисциплин, многие устоявшиеся разделы науки, в частности, классические языки — предмет преподавательской деятельности Лосева. В этих «скудных» условиях Лосев принимает приглашение Консерватории и с 20-го по 30-й год преподает в ней эстетику. Удается поддерживать контакты лишь с П.Флоренским, другие связи по Религиозно-Философскому обществу обрываются, уступив место новым: музыканты и музыковеды — Г.Э.Конюс, М.Ф.Гнесин, А.Б.Гольденвейзер, Г.Г.Нейга- уз, С.С.Скребков, М.В.Юдина; математики — Н.Н.Лузин, Д.Ф.Егоров и С.П.Фиников, с которыми знакомит Лосева его первая жена Валентина Михайловна Лосева
(1898—1954), астроном и математик. Венчал Лосева с Валентиной Михайловной П.А.Флоренский.
Именно в 20-е годы складывается общетеоретическая и общемировоззренческая позиция Лосева, нашедшая выражение в его знаменитом цикле трудов: «Античный космос и современная наука», «Музыка как предмет логики», «Философия имени», «Диалектика числа у Плотина», «Диалектика художественной формы», «Критика платонизма у Аристотеля», «Очерки античного символизма и мифологии», «Диалектика мифа». Некритическое, по его собственному признанию, поглощение различных философских направлений сменилось здесь их сознательным, специфически лосевским синтезом, а об- щетрагедийное восприятие культуры перешло в уверенный и даже жесткий анализ, не только освещающий прошлое, но и просматривающий ближайшие перспективы культурного развития.
Конец этого насыщенного периода приходится на 30-й год, причем эта граница твердо определен^ прежде всего внешними событиями. Ужесточение идеологической ситуации резко сказалось на судьбе Лосева. В апреле 30-го года ученого арестовывают, формально предъявив претензии к публикации тех фрагментов из «Диалектики мифа», которые не были пропущены цензурой. Однако, по существу, речь шла о лосевской позиции в целом, и прежде всего о его религиозной позиции. Пока шло следствие (а оно продолжалось больше полутора лет, четыре с половиной месяца из которых ученый провел в одиночном заключении), в печати и на различных трибунах разворачивается широкая кампания против ученого, что во многом способствовало вынесению сурового по тем временам приговора (десять лет лагерей). Рецензия на книги Лосева помещается в «Правде»; Каганович в своем докладе на XVI съезде ВКП(б) посвящает лосевской «Диалектике мифа» специальный пассаж, в котором называет его «философом-мракобесом», «реакционером и черносотенцем», «наглейшим нашим классовым врагом», говорит о «все еще недостаточной бдительности» и о необходимости надеть «узду пролетарской диктатуры» на частные издания. В прениях по докладу квалификацию Лосева как «идеалиста-реакционера» и «мракобеса» поддерживает Стецкий, а Киршон добавляет ярлык «монархиста» и, рассказав, что коммунист, сотрудник Главлита, пропустивший «Диалектику мифа», мотивировал свой
поступок тем, что это, мол, «оттенок философской мысли», заключает: «А я думаю, нам не мешает за подобные оттенки ставить к стенке». (Аплодисменты. Смех)»[345]. В резолюции общего собрания ячейки ИКП философии и естествознания позиция Лосева квалифицируется как «откровенно поповский реакционный идеализм»[346]. Выступил против Лосева в печати и Горький.
Книга Лосева действительно несла в себе сознательный и мощный заряд, направленный против грубого материализма и пародийно заострившихся в это время форм идеологии, и мы коснемся этого в дальнейшем, но абсурд ситуации заключается в том, что участниками развернувшейся кампании затрагивались отнюдь не эти собственно философские места, не эти прямые и академические по форме возражения эпохе, но совсем другие смысловые компоненты книги, которые призваны были отразить не лосевскую мысль как таковую, но состав мифологических представлений того или иного типа мифологического сознания (См., напр., пассаж, приведенный Кагановичем: «Говорили: идите к нам, у нас — полный реализм, живая жизнь; вместо ваших мечтаний откроем живые глаза и будем телесно ощущать все окружающее, весь подлинный реальный мир. И что же? Вот мы пришли, бросили “фантазии” и “мечтания”, открыли глаза. Оказывается - полный обман и подлог. Оказывается: на горизонт не смотри, это — наша фантазия, на небо не смотри, — никакого неба нет; границы мира не ищи, — никакой границы тоже нет; глазам не верь, ушам не верь, осязанию не верь... Батюшки мои, куда же это мы попали? Какая нелегкая занесла нас в этот бедлам, где чудятся одни только пустые дыры и мертвые точки? Нет, дяденька, не обманешь. Ты, дяденька, хотел с меня шкуру спустить, а не реалистом меня сделать. Ты, дяденька, вор и разбойник»[347]. По поводу такого рода вменяемых Лосеву в вину отрывков ученый заранее писал в предисловии к книге: «...если будут считать, что факты мистического и мифического сознания, которые я привожу в пример, суть исповедуемые мною самим факты... то лучше им не вникать в мой анализ мифа... Я беру миф
так, как он есть... как он мыслит сам свою чудесную и сказочную природу. Но я прошу не навязывать мне несвойственных мне точек зрения и прошу брать от меня только то, что я даю, т.е. одну только диалектику мифа»[348]. Высказав целый набор философски отточенных и академически тщательно разработанных упреков социальной действительности 20-х годов, философ столкнулся не с философской реакцией, но с идеологическим фарсом, как будто прямо сошедшим с тех страниц его «Диалектики мифа», где он оценивает символы сложившейся в те годы массовой мифологии, согласно которым «не только призрак ходит по Европе, «призрак коммунизма»... но при этом «копошатся гады контрреволюции», «воют шакалы империализма», «оскаливает зубы гидра буржуазии», «зияют пастью финансовые акулы»... Тут же снуют такие фигуры, как «бандиты во фраках», «разбойники с моноклем», «венценосные кровопускате- ли», «людоеды в митрах», «рясофорные скулодробите- ли»... Кроме того, везде тут «темные силы», «мрачная реакция», «черная рать мракобесов», и в этой тьме — «красная заря мирового пожара», «красное знамя» восстаний. Картинка! И после этого говорят, что тут нет никакой мифологии»[349].
В соответствии с приговором А.Ф.Лосев в течение восемнадцати месяцев подвергается «трудовому перевоспитанию» на Беломорканале, где серьезно заболевает. Последовавшему в 1933 году освобождению заболевшего Лосева и его жены способствовали М. И. Ульянова и Е.В.Пешкова. У ученого навсегда нарушается зрение.
С момента освобождения начинается новый период в творчестве Лосева, продолжавшийся более двадцати лет, — период практически полного отсутствия публикаций (не считая двух-трех переводов с краткими комментариями). Молчание было вынужденным, хотя в середине тридцатых годов Лосеву было полуофициально разрешено заниматься античной мифологией без всяких ассоциаций с современностью и без религиозных выводов. Были даже заключены договоры с издательствами, но по целому ряду причин, связанных с характером времени, эти работы, подготовленные Лосевым, так и не удалось напечатать. Когда в середине тридцатых годов класси
ческая филология начала постепенно возвращаться в вузы, Лосев уходит в преподавательскую деятельность, сначала в периферийных, а затем (с 1942 г.) и в московских вузах. В 1943 году Лосеву по совокупности работ присваивается звание доктора филологических наук.
Последний период в деятельности Лосева начинается в пятидесятые годы, когда он с трудом и с разными затяжками, но все же получает возможность публиковаться. Мы не будем касаться сложных, насыщенных драматическими событиями 40-х годов и дальнейшей биографической канвы жизни Лосева (из которой отметим только смерть первой жены Лосева и его второй брак с Азой Алибековной Тахо-Годи в начале пятидесятых) и остановимся на научной деятельности. Если библиография первого периода насчитывает чуть более десяти наименований (из них, правда, восемь монографий), то на последнее тридцатилетие жизни Лосева приходится около четырехсот различных работ, в том числе более двадцати монографий (Лосев издал многое из написанного в период двадцатилетнего вынужденного молчания). В этих работах Лосев продолжил практически все заявленные им еще в 20-е годы темы; о происшедших модификациях мы скажем ниже. Самым значительным трудом является восьмитомная «История античной эстетики». Работа над этим фундаментальным исследованием шла более тридцати лет.
А.Ф. Л осев умер в мае 1988 года на девяносто пятом году жизни.
* * *
Традиция, к которой восходит Лосев, достаточно очевидна: это Ф. М. Достоевский и В л. Соловьев с его учением о всеединстве, общей установкой на синтетизм религиозно-философского знания и неприятием языческих элементов в христианстве (будь то даже платонизм, т.е. течение, которое всегда ставилось Лосевым выше почти всех других философских систем, но которое он чуть ли не настойчивее всех называет языческим); это трансцендентная диалектика Гегеля и Шеллинга с его пониманием мифологии как символического бытия идеального в реальном, но минус его протестантские корни; это феноменологическая техника в обращении с категориями (например, с эйдосом Платона) и поздций Наторп, особенно там, где он, по мнению Лосева, преодолевает остатки
кантианского дуализма; это русский символизм Вяч.Иванова с его феноменологическими описаниями процесса выразительного оформления сущности через понятия предмета, актуальной формы и метода символической деятельности человека (деление это относилось самим Вяч.Ивановым к театру, но Лосев готов был видеть здесь нечто большее); и это, конечно, символически-мистичес- кое учение о народном мифе и о живом лике идей П.Флоренского. Очевидно и то, что объемлющей силой для этого достаточно разнородного состава идей служит у Лосева диалектика, прежде всего неоплатонического происхождения, хотя Гегель всегда упоминается Лосевым в этом вопросе наряду с Плотином.
Труднее восстановить в соответствующих времени терминах существо оригинального лика лосевской философии и локализовать ее в каком-либо замкнутом мыслительном пространстве. Это тем более сложно, что оригинальные стороны лосевской мысли восстанавливаются в своей цельности и полноте лишь при осмыслении всех его работ 20-х годов, являющихся, по существу, как бы отдельными частями единого замысла . Здесь неизбежно применение условных интеллектуальных приемов, с тем чтобы найти какую-нибудь частную тему-символ, которая, как Вергилий, могла бы сопровождать читателя по напряженной, иногда — укачивающей спирали лосевской мысли. Мы предложим такой условный магический ключ (хотя условность всегда, в свою очередь, тоже условна) к работам Лосева 20-х годов, ключ, который вместе с тем подойдет и к его текстам 60-80-х годов, но здесь его придется поворачивать в замке дважды: сначала осуществить отсылку к двадцатым годам, и только затем можно непосредственно подойти к реальному смысловому наполнению этих текстов.
Ключ этот — проблема соотношения сущности и энергии. Эта, казалось бы, абстрактно-диалектическая проблема, имевшая свои разнообразные толкования уже в античности, неизменным образом сопровождает в лосевских текстах все центральные для него темы: и православную догматику, и теорию мифологии, и диалектику музыки, и философию имени, и учение о художественной форме, и принципы историзма, и классификацию основных социальных типов мифологии, начиная с античности, кончая самими двадцатыми годами. С этой же антиномией так или иначе связаны все специфические
лосевские термины, отражающие своеобразный ракурс его видения мира: выражение и становление, личность и лик, символ и миф, чудо и таинство, диалектика и реализм.
В максимально обобщенной форме лосевское разрешение антиномии сущности и энергии может быть редуцировано до следующей формулы: энергия причастна сущности, но сущность не есть энергия. Дело, конечно, не в самой этой формуле, но в том, как она разворачивается, наполняясь конкретной смысловой плотью, в той или иной области человеческого знания. Так, например, для православной догматики эта формула преобразуется в «Имя Божие есть Бог, но сам Бог не есть ни имя Божие, ни имя вообще»; для философии языка эта формула приобретает вид: «Слово несет в себе энергию своей предметной сущности, но не отождествляется с нею ни в словаре, ни тем более в своих субъективных употреблениях, где энергия сущности встречается с энергией субъекта»; а для теории познания в целом эта формула звучит следующим образом: «Все, что ни познается в сущности, есть ее энергия, хотя через энергию мы утверждаем и саму сущность»[350]. Список таких трансформированных соответственно каждому интеллектуальному запросу формул можно было бы продолжить (у Лосева аналоги этих формул присутствуют практически в каждой затрагиваемой теме), но важнее установить первопричину всех этих формулировок.
Эта формула у Лосева не просто удачная иллюстрация, скажем, возможностей диалектики и не просто аббревиатура выбранного им интеллектуального метода. Первотолчком для развернутого обоснования всех сторон этой антиномии было стремление Лосева к диалектическому обогащению православной догматики с тем, чтобы на этой основе точнее выразить свое отношение к истории культуры и к современной действительности. Тема эта, как видим, настолько обширна и серьезна, что мы можем лишь буквально скользнуть по ней мысленным взором, не больше.
Одним из событий в ориентированной на православие русской философии начала века был развернувшийся спор между сторонниками, с одной стороны, учении имя-
славия, а с другой стороны — имяборческих тенденций. Лосев, как и П.Флоренский, был сторонником имясла- вия, причем разрабатывал его не только в научно-философском плане, но стремился в целя уточнения имяслав- ской позиции сформулировать ее в виде собственно религиозных тезисов (эти тезисы сохранились в письме Лосева к П.Флоренскому от 1923 г.). Учение это, однако, еще в предреволюционные годы официальная Церковь сочла еретическим и даже удалила его сторонников из русских монастырей Св. Афона (позволив им, впрочем, отправлять религиозные культы в других приходах), но для Лосева в имяславии как совокупности различных уже не только религиозных, но и историко-культурных идей продолжало сохраняться ядро его философской позиции в целом, распространенной впоследствии на анализ общекультурной истории человечества.
Так, приводя в своей работе, посвященной установлению исторической классификации социальных типов мифологии, Акты Константинопольского Собора 1351 года Шмяславское учение имеет долгую традицию, и в наиболее отчетливом виде оно отразилось, по мнению его сторонников, в спорах XIV века между Варлаамом и пси- хастами во главе с Григорием Паламой, архиепископом Фессалоникийским, победа которого и была закреплена в Актах этого Собора. Паламиты — предтечи имяславия, и именно паламитские взгляды рассматривались Лосевым как наиболее точное воспроизведение специфики православной духовности. В более широком терминологическом контексте проблематика имяславия входит в ту область, которую иногда называют «православным энергетизмом» и которая восходит в своей цельности к разделению Церкви на католичество и православие), Лосев предваряет каждый из них собственными краткими формулами[351], которые почти текстуально совпадают с составленными им и сохранившимися в письме к П.Флоренскому тезисами имяславия, и — что еще более показательно для иллюстрации широты того культурного пространства, к которому Лосев прилагает потенции имя- славского учения, — эти тезисы, а с ними и сами Акты Собора оказываются при ближайшем рассмотрении логически тождественными со структурой развития лосевских
рассуждений уже в сугубо специальных исследованиях, например, в «Философии имени» и в «Диалектике художественной формы», а во многом и в «Музыке как предмете логики». Само появление книг о музыке и языке предстанет перед нами по-особому закономерным, если мы вспомним, что к числу своих основных выводов о сущности православной духовности Лосев относит вывод о ее «музыкально-словесном» характере в отличие от «скульптурности» католичества и античного язычества[352]. Отзвук учения паламитов и вся проблематика провослав- ного энергетизма в целом пронизывает и все другие сочинения Лосева 20-х годов, и — не столь явно, но не менее отчетливо — более поздние работы Лосева (например, статьи, посвященные разработке аксиоматики знака[353], не говоря уж о той глубинной позиции, с которой Лосев скрупулезно рассматривает античность в своей восьмитомной «Истории античной эстетики»). Если учитывать это обстоятельство, то замечание С.С.Хоружего о том, что православный энергетизм, искони составляющий глубинную основу православной духовности, до сих пор не получил своего адекватного философского выражения и что русская мысль «должна была неминуемо подойти к этой кардинальной задаче, однако не успела этого сделать, ибо ее путь был оборван»[354], — звучит слишком пессимистично.
По каким же логическим тропам антиномия сущности и энергии входит у Лосева в столь разнообразные области культурного и научного знания? «Сущность» получает ряд аналогов — таких, как «Бог-Отец», плотиновское Единое, соловьевское «всеединство», просто «Одно», а «энергия», соответственно, коррелирует со «Святым Духом», с «многим», с «эйдосом», с Мировой Душой. Иначе говоря, православный энергетизм вполне традиционно соприкасается у Лосева со всей совокупностью проблем, дискутируемых около католического принципа Р1По§ие. На втором этапе рассуждений здесь возникает во всей своей напряженности и проблема соотношения уже не только сущности и энергии, но соотношение энергии (как явления божественного) и, с другой стороны,
тварного, меонального (материального) мира, т.е. мы приближаемся здесь к постановке вопроса о соотношении идеального и материального. А именно: идеальное коррелирует здесь с энергией (но не с сущностью), материя же занимает место тварного мира. Сущность, божественное выпадает в этой лосевской системе понятий из компетенции антиномии идеального и материального, превышая своим смысловым объемом возможности этой пары категорий. Сущность выражается в энергии (идее), а через нее — и в материи (в меоне). Выражение сущности, по Лосеву, иерархийно: сущность явлена в эйдосе (энергия), эйдос явлен в мифе, миф — в символе, символ — в личности, личность явлена в энергии сущности[355], т.е. иерархия, как видим, замкнута не на сущность, но на энергию сущности.
Можно сформулировать эту лосевскую позицию и иным образом: человек может причаститься Богу, но только по энергии, по благодати, в таинстве, но никак не по субстанции, не по бытию, не по сущности. Это очень важный момент: здесь отрицается и кантовский — в лосевском понимании — дуализм, и обе — материалистическая и идеалистическая — разновидности монизма.
Лосев высказывается в своих ранних трудах со всей определенностью: материя и идея суть правомерные и равноправные категории диалектики, между которыми нет никаких оснований устанавливать субординационные отношения. Ни одна из этих категорий не может быть поставлена во главу философской системы. Если же такая операция производится, независимо от того, что — идея или материя — ставится на вершину категориальной системы, то тем самым эти категории превращаются, по Лосеву, из правомерных диалектических понятий в правомерные же религиозно организованные мифы, которые — как и всегда в таких случаях — требуют сначала акта веры, а затем могут подвергнуться догматической обработке, нередко — с тонким применением диалектики[356].
Это не было какой бы то ни было идеалистической агрессией. Если прислушаться к лосевскому голосу в его спорах с «идеалистическими» течениями века, постоянно подчеркивающему телесный, вещественный и вообще «явленный» момент во всех реально-жизненных катего
риях, и даже в самой диалектике, то оказывается, что Лосев буквально отстаивает материю, либо придавая ей (в области чистой диалектики) равнозначную весомость с идеально-смысловым миром, либо выдвигая ее на первый план, в области конкретных культурно-исторических исследований.
Лосев не приемлет ни материализма, деградирующего до позитивизма, ни символизма (идеализма), деградирующего до декадентства. Эта позиция часто именуется реализмом, в том смысле этого понятия, в котором существо этой позиции афористически емко выражено у П.Флоренского: «Я хотел видеть душу, но я хотел видеть ее воплощенной»[357]. Подыскивая уже в семидесятые годы термин для определения существа аналогичной (мы отвлекаемся здесь от деталей) позиции Вл.Соловьева, термин, который бы «звучал» как можно ближе к аудитории, Лосев находит такое оксюморонное определение, как «материалистический идеализм»[358].
Истоки этой позиции Лосева находятся в той же диалектике сущности и энергии, согласно которой, как мы видели, материя энергийно приобщена к Богу. Здесь есть, однако, один существенный момент, который необходимо иметь в виду, чтобы не свести эту православную лосевскую установку к языческому пантеизму. Лосев затрачивает много усилий на то, чтобы всесторонне обосновать сугубо энергийное приобщение материи Божеству в христианстве в отличие от субстанциального тождества между ними в язычестве и в платонизме. Он приходит к следующей формуле: хотя и в язычестве, и в христианстве символ является тождеством идеального и материального, но в язычестве это тождество дано материально, а в христианстве идеально. В язычестве и платонизме — вещь, тело, в христианстве — личность.
Стремится ли Лосев примирить платонизм и православие? Это вопрос очень сложный и, действительно, краеугольный для понимания лосевской позиции. Для В л. Соловьева Платон был язычником, а для П. Флоренского не было никакого затруднения в том, чтобы отождествить имяславие и платонизм. Сам Лосев, с одной
стороны, хотя и скороговоркой, как бы условно, но все же называет паламитов «византийским платонизмом» на том необычном основании, что здесь дан «полновесный ответ на платонизм», т.е. «свой, так сказать, платонизм»1, но, с другой стороны, П.Флоренский для него слишком христианизирует платонизм[359]. Решение вопроса о соотношении движения паламитов, предавших на Константинопольском Соборе платонические идеи и эллинские мифы анафеме, и платонизма как цельного диалектически обоснованного мифа шло у Лосева по подробно разработанному им пути: да, в диалектике Платон предвосхитил христианство, но по своей реальной мифологии, по своему живому чувству Платон был не просто язычником, но максимально концентрированным язычником. Последнее утверждение — стержень того «нового» понимания платонизма, к которому стремился Лосев. Само толкование категории мифологии в столь расширенном для философии и религии смысле и было у Лосева специально подготовленной платформой для того, чтобы проиллюстрировать невозможность примирения здесь платонизма и православия. Если, по Лосеву, нет никаких оснований для объединения платонизма и православия на уровне мифологии, то это не мешает им во многом совпадать в области чистой диалектики. Точно такую же логическую процедуру Лосев осуществляет и по отношению к протестантскому, по его мнению, романтизму Шеллинга, не видя к этому никаких серьезных препятствий, кроме одного: диалектическое примирение учений, реально живущих в принципиально несовместимых мифологических системах, должно производиться сознательно, с открытыми глазами на его частный, периферийный характер.
Если вернуться теперь к лосевскому «реализму», к его точке зрения, что предметом философского знания должно быть не мифологическое по своей природе выяснение субординационных отношений между выдвигаемыми в центр категориальной системы понятиями, но — анализ различных форм энергийного проявления сущности в их иерархии, то становится понятным, почему Лосев сосредоточивается в дальнейшем на, во-первых,
самой категории «выражение» и, во-вторых, на символе, понятии и мифе как высших формах выражения сущности. Это понимание предмета философского знания относится не только к 20-м годам в творчестве Лосева, но и ко всем последующим периодам. Так, свой основной восьмитомный труд Лосев назовет «Историей античной эстетики», а не историей философии, отнюдь не по причинам внешнего характера, связанным с необходимостью терминологического ограничения области своих исследований, но — в полном соответствии с выработанным в 20-е годы кредо. Уже в работах 20-х годов можно найти тезис, который ляжет впоследствии в замысел этого глобального труда: «...принципиально не может быть у греков такой философии, которая не была бы эстетикой»1, а «эстетика» и есть, в лосевском понимании, теория таких форм выражения сущности, которые ориентированы на телесно-космическую, вещественную воплощен- ность (в отличие от идеально-личностной воплощенности сущности в религии).
Мифология, наряду с искусством и религией, рассматривается Лосевым как особая форма энергийного воплощения сущности, как универсальное качество культуры, как объективно существующий срез любого и каждого социально-исторического типа мышления. Миф — это диалектически необходимая категория сознания и бытия вообще. В отличие от распространенного в этнографии подхода к мифам, при котором прокламируется необходимость смотреть на миф «совсем иными глазами, чем люди, мышление которых отражается в этих мифах» (Леви-Брюль), Лосев говорит о необходимости рассматривать миф «с точки зрения самого мифического сознания»[360], для которого миф есть наивысшая по своей конкретности и максимальной напряженности реальность.
Элементы мифа неизбежны в каждом нашем ментальном акте. Как бы ни относиться к мифологии, — пишет Лосев, — всякая критика ее есть всегда только проповедь иной, новой мифологии[361]. Есть свой мифический подтекст и в диалектике Гегеля, и в ньютоновском научном мировоззрении, и в фидеизме, и в рационализме, и во всех вариантах материализма, не говоря уже о раз
личных типах религиозного сознания. Мифологична, по Лосеву, и сама теория мифологии. Так, предлагая новое прочтение платонизма, Лосев предваряет его указанием на мифологическую основу этого нового прочтения, не видя в этом никакой опасности релятивизма, но напротив, считая сознательную ступень мифологичности единственно возможной установкой разума[362]. Возникающие при этом различные прочтения Платона равно необходимы и объективны, как объективны породившие их исторические типы мифологического сознания.
В соответствии с этой установкой Лосев предлагает классификацию основных типов мифологического сознания, выстраивая ее на социально-исторических критериях, дополненных чисто диалектическими дистинкциями. Мы уже частично затрагивали этот вопрос при рассмотрении лосевской позиции в проблеме соотношения платонизма, язычества и христианства, но теперь дадим его в полной форме. Логика построения типологии мифологий здесь такова: исходя из того, что миф проявляется в символе, а символ — это равновесие между внутренним и внешним, идеальным и реальным, а также из того, что само социальное тоже понимается как вид символического бытия2, Лосев предлагает классифицировать исторические типы мифологии в зависимости от того, как в них дан символ. Используя гегелевское разделение формы на классическую, романтическую и символическую, но наполняя их своим — мифологическим — смыслом, Лосев выводит три вида данности символа: материальный, идеальный и символический. Материальная данность символа характеризует, по Лосеву, восточные религии и философию; идеальная данность символа свойственна средним векам христианства, а символическое проявление символа было реализовано в античной Греции. Средние века, в свою очередь и с помощью той же гегелевской триады, также распадаются у Лосева на три разновидности: материальная данность символа преобладает в протестантизме, идеально-личностная данность символа усматривается в византийской духовности, а символическая — в латинстве. Нечего и говорить, что эта типология
лежит в основе всех лосевских работ последующих периодов.
Своему учению о мифологии Лосев придавал первостепенное значение. Он излагал его в 20-е годы в разных книгах в расчете на разное восприятие, предвосхищая ориентацию будущего читателя на ту или иную привычную ему установку в отношении к мифологии в целом. Естественным контекстом для лосевской теории мифологии при ее зарождении была собственно философская традиция в этом вопросе, но Лосев ориентирует свою теорию и в «чужих» контекстах.
К родной для Лосева философской традиции относятся прежде всего Прокл, Шеллинг и Кассирер, а также религиозцо-православное учение, как оно было зафиксировано к этому времени у П.Флоренского. Если вкратце затронуть вопрос об оригинальных сторонах лосевской теории мифологии, то они сводятся к следующему. В отличие от пантеистических устремлений Прокла Лосев считает мифологию не субстанциальным, но только энер- гийным воплощением Единого; в отличие от Шеллинга он не рассматривает в качестве высшего мифического бытия искусство, ставя на это место миф рег зе; в отличие от Кассирера отрицает в мифе антитетизм (противопоставление кажущегося и мнимого, внутреннего и внешнего, образа вещи и самой вещи), утверждая, что в мифе все эти антитезы диалектически погашаются. Что же касается П.Флоренского, то, помимо уже упоминавшегося различия в толковании соотношения языческого, по Лосеву, платонизма и христианства, Лосев оспаривает пренебрежительное отношение П.Флоренского к логико-диалектическим процедурам при исследовании мифа1.
«Чужие» контексты для лосевской теории мифологии — это этнографическая традиция, в которой миф рассматривается как начальная, наивно-варварская стадия культуры (Ф.Мюллер, Э.Тейлор, Ш.Летурно, В.Бо- гораз, Э.Пекарский и др.), и традиционно богословская традиция, в которой мифология понимается как первобытная религия истинного богопознания, а сами мифы — как искажение чистой прарелигии, происшедшее после грехопадения человека (Я.Гримм, Хр.Гейне, Фр.Шле- гель и др.). Ни то, ни другое понимание не принималось
Лосевым: миф, с его точки зрения, не низший этап культурного бытия, но естественная и необходимая форма сознания на любом этапе культуры, а в чем-то даже и высшая форма, если человеку удастся достичь уровня абсолютной мифологии; с другой стороны, миф не есть религия, хотя между этими формами и существуют сложные отношения взаимозависимости. Книга «Диалектика мифа» в отличие от других лосевских работ была рассчитана не на профессионально-философски мыслящего читателя, но на обыденные представления о мифе и религии и на возможное знание современных споров по этому поводу между этнографической и богословской ветвями в теории мифологии. Дело в том, что в научной и популярной литературе двадцатых годов содержались многочисленные отклики на возникшие в это время в западной науке споры о мифологии. Споры шли вокруг, в частности, Леви-Брюля, предложившего свою известную теорию «пралогического» мышления первобытных народов, т.е. мышления, «безразличного к противоречиям», в отличие от строго логического («концептуального») мышления современных народов, основанного не на мифах, но на понятиях. Естественно, что эта теория встретила возражения со стороны богословской традиции в понимании мифов как в ее католической, так и в протестантской ветви (Леруа, Шмидт, Аллье). Участвовали в дискуссии и этнографы (Малиновский, Боас).
Обсуждали эту проблему и у нас. В основном Леви- Брюля поддерживали (А.Богданов, Н.Бухарин, Н.Марр, считавший, что концепция пралогического мышления удачно иллюстрирует его яфетическую теорию языка), но были среди марксистов и противники этой концепции (Каутский, Месин). Теория Леви-Брюля, действительно, затрагивала какие-то существенные моменты в марксистской этнографии, внося некоторые неудобства в марксистскую идеологию, как она сложилась к тому времени. С одной стороны, теория пралогизма соответствовала эволюционной социально-экономической доктрине — и в этом плане обособление и сниженная оценка первобытного мышления были притягательными, но с другой стороны, отрицаемый в этой теории тезис о связи мифологии и зрелой религии, за что Леви-Брюль подвергся критике со стороны богословской этнографии, принадлежал к числу фундаментальных тезисов и атеистической этно
графии, в которой мифология понималась как «зачаточная ступень религии».
Благодаря этим развернувшимся спорам мифологическая проблематика была в это время «на слуху», и поэтому в лосевской «Диалектике мифа» обычные для пего диалектически-философские рассуждения, оставлявшие широкого читателя холодным, вдруг стали сопровождаться чем-то узнаваемым, известным из популярных споров, касающимся самого существа идеологических проблем. В «Диалектике мифа» критически затрагиваются, хотя по большей части без именных ссылок, все дискутируемые и противостоящие в популярной науке подходы к мифологии, в том числе — и атеистической (атеизм толкуется здесь как разновидность религиозного сознания), — естественно, поэтому, что «Диалектика мифа» вызвала уже известную нам быструю и резкую реакцию.
Лосевская теория мифологии сохранилась в его работах 50 —80-х годов, хотя и ушла с авансцены в глубь историко-философских рассуждений. Достаточно указать в этом отношении хотя бы на VI том «Истории античной эстетики», где обосновывается совмещение диалектики и мифологии в неоплатонизме с приведением параллельных мест из тех же Гегеля и Шеллинга и где фактически воспроизводится сама структура рассуждений о мифе, как она была выработана в 20-е годы. В VIII томе «Эстетики» Лосев возвращается и к темам христианской догматики в их отношении к идеям православного энергетизма, хотя эти темы и даются здесь через призму генезиса христианства. Логико-диалектический каркас теории мифологии с незначительными отклонениями воспроизведен Лосевым в книге «Проблема символа и реалистическое искусство» (М., 1976) и специально в связи с языком в книге «Знак, символ, миф» (М., 1982), причем здесь тоже, как и в «Диалектике мифа», хотя и в более осторожном виде, содержится попытка описать мифологическую символику современного мышления.
Описанный выше принцип классификации исторических типов мифологического сознания трансформировался в 70-х годах в принцип построения исторического знания в целом. Так, Лосев выводит три типа научно-исто- рического мышления, когда общественное развитие берется либо 1) в своей объективной, природной стороне; либо 2) изнутри жизни личности; либо, наконец, 3) син
тетически, когда объективные и субъективные моменты общественного бытия даются совместно[363]. Очевидно, что это — применение к новым целям основанной на Гегеле схемы 20-х годов о материальном, идеальном и символ и ческом типе данности в культуре ее символического пласта.
Оказалась адаптированной к новым условиям и осно ванная на длительной традиции, в частности — общая г П.Флоренским, оценка эпохи Возрождения. В терминах П.Флоренского эта оценка заключена в его гипотезе о ритмической сменяемости в истории средневековой и воз рожденческой духовности, когда на смену органичности и объективности первой приходят раздробленность и субъективность второй[364]. По Лосеву, Возрождение вместо цельной личностной интуиции христианства в его освобожденном от элементов язычества виде «выдвинуло на первый план отдельные дифференцированные субъективные способности или всего субъекта, напрягая все это до противоестественных размеров»3. В рассчитанных на широкого читателя трудах 20-х годов Лосев искусственно воссоздает как бы внутренний монолог различных типов мифологического сознания, в том числе и возрожденческого, интонируя его с позиций средневекового православия[365]. В восьмидесятых годах в «Эстетике Возрождения» Лосев ищет иные стилистические приемы для выражения сущности возрожденчества, которые были бы формально и терминологически адаптированы ко времени, но даже и в этом почти нейтральном по сравнению с 20-ми годами варианте идея о трагической обреченности не опирающегося на христианский онтологизм возрожденческого индивидуализма, а с ним вместе и всех порожденных им мифов (например, мифа об абсолютной и благостной силе науки), была довольно болезненно воспринята академическими кругами.
Вопрос о тех изменениях, которые претерпели лосевские тексты после того, как они пересекли границы серебряного века культуры, сложен и многоаспектен.
После ареста и лагеря он встал в полный рост. Об эмиграции речи для Лосева быть не могло, о какой бы то ни было ломке позиции или о прекращении работы — тоже. Ситуация должна была решиться изнутри самой лосевской философии. Лосев прибегает к новым для себя выразительным формам в полном соответствии со своей же теорией иерархийности процесса выражения, согласно которой сущность может получать неполное или ущербное выражение, но тем не менее она, если эти формы вщ- ражения имеют реальную питательную почву, будет в них энергийно проявляться. В качестве одной из таких форм Лосев использует, в частности, и символико-выразительные потенции материалистической философии. Это был (Для него естественный шаг: материализм, по Лосеву, согласно его взглядам раннего периода, это одна из наиболее устойчивых и жизнеспособных мировых мифологий, обладающих не только непосредственной, но и диалектически разработанной выразительной силой. Еще в «Диалектике мифа» происходившая в 20-е годы известная борьба материалистов-«механистов» и материа- листов-диалектиков со всей серьезностью, как подчеркивал сам Лосев, ассоциировалась им с борьбой католической (механицизм) мифологии с мифологией православной (диалектика)1. И в этом плане, коль скоро возможность внемифологического — прямого — выражения не признавалась Лосевым вообще, причем не считалось даже нужным искать такого выражения, то язык объединенной с диалектикой материалистической мифологии был Лосеву исходно ближе, чем, скажем, язык идеалистической мифологии, объединенной с позитивизмом. Исходя из некоторых косвенных данных[366], можно предположить, что Лосев воспринял диалектический вариант материализма из впервые вышедшей с СССР в 1925 году на русском языке «Диалектики природы» Ф.Энгельса. И совсем иначе звучат в таком контексте лосевские слова
о том, что начиная с 30-х годов он легко и свободно стал применять марксистские методы, хотя конечно, в его собственном понимании.
Здесь нельзя не затронуть вопрос о лосевской оценке событий 20-х годов, хотя материала для восстановления
этой оценки почти нет, за исключением нескольких разрозненных высказываний (имеется в виду непосредственная, прямая оценка, зафиксированная в текстах). Лосев был готов увидеть в русской революции определенный исторический смысл, но реалии 20-х годов, нарастающий догматизм, сопровождающийся разгулом надзирающих властей, вызывал у него непримиримую оппозицию. По некоторым намекам из «Диалектики мифа», Лосев резко критически отнесся и к легализованному властью совещанию архиепископов, на котором митрополит Сергий (кстати, один из главных противников имяславия) стал местоблюстителем пустующего патриаршего престола, и к его напечатанной в официальной прессе «Декларации». Не в одних только академических или религиозных целях разрабатывает Лосев новое понимание Платова: в его толкованиях социальных взглядов Платона многое было рассчитано на современность, на знание действительности 20-х годов (полное поглощение личного общим, отвлеченная диктатура общей формальной идеи над живой личностью, наличие общественного класса — носителя этой идеи, разделение общества на фило- софов-монахов, стражей и рабоче-крестьянское население, диалектическая необходимость полиции наряду с монахами идеи, запрет говорить о «богах» как об изменяющихся субстанциях и об их взаимной борьбе, миф о всемогуществе науки и т.д. и т.д.)[367]. Все эти качества платоновской социологии связываются Лосевым с ее языческой природой, а отсюда предполагается вывод, что там, где появляются отзвуки платоновской мифологии, там возможны и даже неизбежны рецидивы политического язычества (будь то средние века с их инквизицией или двадцатые годы).
Что касается лосевского объяснения событий, то он видит причину происходящего в конце двадцатых годов в хаотичном смешении в единое целое различных, в здоровом состоянии несовместимых мифологий: католичества, деградировавшего до казуистики, инквизиции и истерии; православия, деградировавшего до анархизма и бандитизма; соединившего их возрожденческого протестантизма с его самолюбующимся индивидом, уверенном в своем праве на экспериментальный перебор различных
социально-политических рецептов[368]. Естественно, что выход здесь мыслится один: выправление мифологического пласта культуры, его оцельнение.
Вспомним, что аналогично расценивал свою «жизненную задачу» и П.Флоренский, видевший ее в «проложе- нии путей к будущему цельному мировоззрению»[369]. Однако лосевские усилия по адаптации его взглядов и общемировоззренческой позиции к духовной ситуации второй половины века, питающиеся его стремлением к преодолению мифологического хаоса, отличаются по формам от деятельности П.Флоренского. Оценивая П.Флоренского в последний год своей жизни, Лосев назвал его фигурой «переходной» между культурой нового времени и зарождающимся новым мировоззрением. Сам же Лосев находился уже в несколько иной ситуации: если Флоренский писал о себе, что он был взращен и рос как человек новоевропейской культуры, а потому «ощутил себя пределом и концом этого времени, его «последним» человеком и потому — «первым» наступающего будущего»[370], то Лосев, представитель последнего поколения «серебряного века», уже рос в предчувствии нового мышления, и потому его целью было не просто формулировать это предчувствие, но прямо работать на него, соединяя несоединимое ранее, выпрямляя запутанные культурные лабиринты, осознавая историческое предчувствие далекого будущего в постепенно проступающем лике действительности.
Эта позиция — вне непосредственного бытия, но при страстной заинтересованности в творимом будущем — требовала от Лосева совершенно особых стилистических приемов научного творчества. Вобравшие в себя разные мифологические стили, тексты Лосева (особенно последних периодов) обычно строятся на таком авторском образе, который одновременно как бы максимально, почти интимно откровенен, но вместе с тем столь же отчетливо для читателя отстранен, причем авторский образ разных речевых и смысловых фрагментов текста часто сменяется один на другой, то — подготовленно, то — неожиданно резко. Лосев чередует периоды, поданные с разных мифологических позиций, входящих в хаос современного
сознания, стремится заставить эти позиции давать отсвет друг на друга, чтобы читатель увидел их совместимость или противоречивость. Читатель может при этом даже испытать некоторый шок, если контраст слишком разите лен (см., напр., сочленение концовки абзаца, поданного с позиции ориентированной на материализм новоевро пейской мифологии, с началом следующего абзаца, где идет продолжение непосредственно категориальной, дис тинктивно-теоретической мысли: «...разве это не затаен ная мечта нашей культуры, разве мы можем умереть, мы, новая Европа, не положивши свои кости ради тор жества материализма?... и легко вам, идеалистам, не по страдавшим за материю, «критиковать материализм»! Нет, вы пойдите-ка пострадайте вместе с нами, а потом мы посмотрим, повернется ли язык у вас критиковать нас и нашу материю. (Абзац. — Л.Г.) д) Итак, мифоло гия есть первая и основная, первая, если не по простоте, то по сложности, наука о бытии, вскрывающая в поняти ях бытие с его наиболее интимной и живой стороны. Миф есть вещная определенность предмета...»)1, или по неискушенности принять эти сопоставляемые манеры за прямое авторское слово (как и случилось с фрагментами «Диалектики мифа»), но при продолжительном чтении обманчивые первичные впечатления сменяются на обратный эффект: читатель как бы выходит за пределы своего обычного языкового мышления, теряет ощущение безусловности какой-либо одной речевой манеры и тем самым впускает в себя такие информационно-смысловые пото ки, которые вряд ли проникли бы в него при нерастревоженном языковом, а значит и мифологическом, созна
НИИ.
Непосредственно связана с этим и появившаяся еще в 20-е годы особая философская ирония Лосева — это трудно уловимое при обычном чтении качество философских текстов. Лосев постоянно беспокоился об успешности своих языковых экспериментов. Характерно, что в одном из последних своих текстов о В л. Соловьеве Лосев обнажает этот необычайно сложный для философских текстов прием отрешающей иронии, отмечая, что нередко соловьевские тексты, касающиеся даже самых важных для этого философа, вопросов, тем не менее представля-
ют собой «сплошную иронию» и как бы «насмешку над самим собой». «На самом деле это не ирония, — продолжает Лосев и далее высказывает положение, вероятно, характерное для его собственного языкового мышления, — а просто свободное и беззаботное самочувствие на основе достигнутой и непоколебимой истины»[371].
Эта лосевская установка на отсутствие абсолютных философских языков, на возможность их свободного и совместного использования отнюдь не ведет к какому бы то ни было релятивизму, — это немыслимо для имяслав- ца. Максимальная свобода и текучесть выразительных форм лосевского языка основывается им на использовании разных иерархийных форм энергетического проявления сущности. Между означаемым и означающим в языке лежит, по Лосеву, многослойное пространство, наполненное понятийными, символическими, образными и мифологическими зеркалами, создающими сложные смысловые эффекты при прохождении через них человеческого слова. Начиная с «Философии имени», Лосев постоянно, вновь и вновь возвращается к языковой проблематике как в ее категориально-диалектической стороне, так и в ее непосредственно речевой данности. В частности, отнюдь не только по академическим соображениям им написана в 60-80-х годах целая серия статей по теории стиля, в которых устанавливаются различные формы соответствия между языком и символико-мифологическим составом мышления.
Языковая теория Лосева противопоставлялась им как различным формам наивного языкового сознания, так и, с другой стороны, речевому релятивизму. Эта тема, нередко относимая у нас либо к сугубому профессионализму филологов, либо к периферии философии (причем во многом именно из-за боязни впасть в релятивизм), уже в 20-е годы и, конечно, в связи с имяславием квалифицировалась Лосевым следующим образом: «...философия имени есть просто философия, та единственно возможная и нужная теоретическая философия, которая только и заслуживает названия философии»[372]. В этой целенаправленной гиперболе заключен тот смысл, что именно в языке проявляются все основные формы энергийного выражения сущности, т.е. именно здесь мы обладаем устой
чивыми мостками к воссоединению с первосущим, с иг тиной — если хотите. «Субъект чистого ощущения сгм. абсолютно бессознательный субъект... Субъект подлипни чистой мысли не может иметь физического тела», поэтп му человеческое слово не есть сплошь субъективно-смы еловая данность, а с другой стороны, оно не есть также и слово чистой, внесубъективной, «объективной» мысли Слово, по Лосеву, всегда «пересыпано блестками ноэзигл и размыто чувственным меоном»[373].
Итак, слово — одновременно мост и преграда к но стижению сущности. Но это не значит у Лосева, что чг ловеческое мышление всегда и обязательно словесно, что оно ограничено в своих возможностях материальной сто роной языка. Человек может, по Лосеву, временами до ходить до «чистого ноэзиса и даже до гипер-поэтической мысли»[374] и вступать тем самым в более тесный контакт г энергией сущности (как, например, в момент непосредст венного видения Света Фаворского), однако такие экстатические моменты, продолжая так или иначе регулиро ваться телом, рано или поздно возвращаются к «заполненному мышлению». Как видим, и здесь у Лосева дей ствует доктрина энергетизма.
Можно было бы продлить ряд такого рода акциден тальных следствий из применения идей энергетизма к философии языка, но нам здесь важнее другое — опре деление адреса лосевской концепции в современных науках о языке. Если пользоваться специальными терминами, то лосевская философия языка обращена прежде всего к семантике и когнитологии, т.е. к взаимоотношению между словом и миром и к учению о мышлении, поставленному в связь с философией языка. Эта сторона лосевской философии языка 20-х годов резко выделяет ее из других лингвистических направлений того времени, в которых язык еще брался по преимуществу в традициях кантовского дуализма и потому рассматривался либо как внешний технический момент по отношению к смыслу (отсюда в целом критическое отношение Лосева в этот период к русскому формализму, хотя впоследствии он признал проделанную ими работу «полезной»[375], либо, наоборот, языковая проблематика тяготела к выявлению
прежде всего субъективных моментов речевых выражений с разной степенью обобщенности этой субъективности вплоть до классовой. Несмотря на формальную бли- юсть к мифологическому подходу самого Лосева, эти последние направления оспаривались им как позитивистские на том основании, что в них не находил отчетливого решения центральный для имяславия вопрос о доказательствах самой возможности выражения на языке сущностных моментов бытия и что поэтому за точку отсчета и них неизбежно брался все тот же разросшийся до про- г ивоестественных размеров возрожденческий субъект, пусть и в своих типологически обобщенных формах. Когда впоследствии — во многом, видимо, в связи с возникшими перед Лосевым трудностями адаптации к речевой практике общества — сам Лосев начинает перестраивать свои лингвофилософские исследования в том направлении, которое мы сегодня назвали бы «прагматическим» («конкретные грамматические категории суть категории понимания, а не мышления»[376], это последнее обстоятельство дало Лосеву очевидные преимущества. За счет имевшегося у него изначально имяславского по своему, происхождению решения всех возникающих перед прагматическими направлениями частных проблем, связанных с опасностью релятивизма, Лосев на несколько десятилетий опередил поворот лингвистики в сторону коммуникативно-прагматических аспектов языка.
По своей масштабности, а в чем-то и по смысловой направленности, хотя параллелей здесь будет все же меньше, чем расхождений, лингвофилософская концепция Лосева может быть сопоставлена лишь с теорией языка у М.М.Бахтина. Сопоставление было бы тем более интересным, что оно неизбежно вышло бы на проблемы языкового релятивизма.
Несмотря на глубокий стилистический перепад, вызванный историческими обстоятельствами, А.Ф. Л осев в отличие от многих представителей русской культуры, начавших свою деятельность в начале века, не испытал на своем пути какого-либо серьезного внутреннего — духовного или интеллектуального — кризиса. Эта бескризис- ность обеспечивалась тем, что сам Лосев называл своим «объективизмом» и что обычно в истории обозначалось
иначе. Восприятие всеединства, первосущности или — н другой терминологии — абсолютной истины сопровожда ется для этой духовной установки такой уверенностью и неопровержимостью, «что в этом смысле даже человечес- кий субъект гораздо менее очевиден и достоверен... Я еще не знаю, — писал Лосев, — существую ли я сам; но я уже знаю, что существует абсолютная истина»[377]. Мысль, движущаяся по этому руслу, может разочароваться лишь в самой себе, но не в предмете мышления. Мир еще не совершился, но это лишь обязывает нас «всем своим существом содействовать его свершению... готовить... себя самих и окружающий мир подвигом нашей воли»[378].
К Лосеву рано относиться как к истории.
4Вопросы философии», 1989.
С.С.Хоружий АРЬЕРГАРДНЫЙ БОЙ. МЫСЛЬ И МИФ АЛЕКСЕЯ ЛОСЕВА
1
Век мой, зверь мой, кто сумеет Заглянуть в твои зрачки И своею кровью склеит Двух столетий позвонки?
Одно из ценных приобретений нашего времени в том, что многие сказки - из числа самых страшных — сделались былью, а многие аллегории и метафоры оказались почти буквальностью. Вот и эти стихи: сегодня мы в них почти не слышим никакой поэтической условности, все — обыденная реальность нашего века, и зверства его, и кровь, и даже склеиванье позвонков, после великих и малых переломов. Поэтому задан ясный вопрос; а век идет уж к концу, и надобно отвечать. Так что же — кто сумел? кому выпало склеить? Среди немногих имен и
судеб, которые можно назвать в ответ, имя Алексея Федоровича Лосева — из самых бесспорных. Да, ему довелось.
Лишь тот может склеить позвонки двух столетий, кто кровно связан с обоими. Об отношениях Лосева с новою люхой разговор будет ниже. Начинать же, конечно, надо с корней. Личность и творчество Лосева, умственные и нравственные его устои — все это прочно коренится в традициях русской культуры, просвещенной православною верой. Как вспоминал он уже на закате дней, те глубинные интуиции, из которых росли его взгляды и убеждения, его научное творчество, сложились у него еще на школьной скамье. При новочеркасской гимназии, где он учился, был храм, посвященный равноапостольным Кириллу и Мефодию. Эти святые — просветители славянства, создатели славянской письменности, а потому и особые покровители трудов на ниве слова и мысли, покровители филологии и философии. Со временем образы их вместе с памятью о школьном храме приобрели для Лосева символическое значение. Ибо вся деятельность его протекала под знаком теснейшего соединения, истинного двуединства этих ветвей культуры, философии и филологии - прежде всего, классической филологии, науки об античности. «В момент окончания мною гимназии в 1911 году я был уже готовый философ и филолог-классик одновременно. Так оно и осталось на всю жизнь»[379].
Соединение классической филологии с философией охватывает, вбирает в себя и целый ряд промежуточных, пограничных дисциплин: античную мифологию и античную эстетику, теорию и морфологию античной культуры, философскую теорию мифа и символа... И с первых же этапов творчества Лосева вся эта обширнейшая область рассматривалась им и реально для него выступала как поле его прямой деятельности. Задачи, которые он ставил и разрешал, затрагивали едва ли не все ее главные разделы и темы. Подобный универсализм творчества, разумеется, всегда поразителен; но стоит отметить, что он отнюдь не был уникальным для той культурной среды и эпохи, которыми Лосев был сформирован. Выше мы обозначили его духовные истоки предельно широко, и уже время уточнить: ближайшим и непо-
средственным образом миросозерцание Лосева вырастало на почве русской религиозно-философской традиции, идущей от славянофилов и Владимира Соловьева. Проч ная связь с этою традицией установилась опять-таки еще в гимназии. С Владимира Соловьева началась для него философия вообще, овладение «азбукой всякого фило софствования», по его выражению. «В свои семнадцать лет я подробнейшим образом штудировал этого не очень легкого философа»1, — вспоминает он. Любовь к пер вому учителю, интерес к его мысли и высокое мнение
о ней тоже остались на всю жизнь. Уже на склоне лет он назвал «везеньем» свое раннее знакомство с философией Соловьева, и последней написанной им книгой стало капитальное сочинение «Владимир Соловьев и его время».
Период философского формирования Лосева совпадает с расцветом той не столь долгой эпохи русской мысли, которую часто называют религиозно-философским Ренессансом. Это было нечто невиданное для России по интенсивности и разнообразию философской жизни. Однако в разнообразии философского спектра, среди всевозможных философских начинаний и направлений отчетливо выделялось главное русло: развитие вышеназванной самобытной традиции, опиравшейся на широкие пласты русской православной духовности, а ближайшим образом — на старших славянофилов и Соловьева. В этом центральном, соловьевском русле российской философии за краткое время выдвинулся целый ряд мыслителей первой величины: упомянем хотя бы Сергея и Евгения Трубецких, Бердяева, Булгакова, Лосского, Флоренского. Здесь, в этом кругу, не был особою редкостью и тот универсализм творчества, широкий размах талантов, который мы отмечали у Лосева. Вячеслав Иванов — поэт, теоретик символизма, философ, исследователь античности. Флоренский — философ и богослов, искусствовед, филолог, физик и математик. — историк, философ и богослов... Широта даров и занятий шла уже от самих родоначальников традиции: Хомяков был прославлен ею, Соловьев был не только философом, но и крупным поэтом, ярким публицистом и критиком, мастером литературного стиля. И мы можем сказать, что эта ло-
гевская черта — из числа родовых, характерных для русской мысли. Стоит еще отметить, что в рамках философии русского Ренессанса плодотворно разрабатывалась и античная тема. Получив свое начало у Сергея Трубецкого (а отчасти уже и у Соловьева, с его работой «Жизненная драма Платона»), русские античные штудии в творчестве Вячеслава Иванова и, в особенности, Флоренского успели заметно продвинуться к созданию собственной оригинальной трактовки античности — античного мифа, религии, философии. И если в целом мировоззрение Лосева — в связи, преемственности и родстве с соло- вьевскою традицией в целом, то с этой «античной» линией в русской философии он связан уже конкретно, в определенных идеях и темах своего творчества. Как сам он впоследствии указывал, «свои первые обобщения из области платоноведения я делал под влиянием воззрений на Платона В л. Соловьева»[380]. Особенно же близко мысль Лосева перекликается с Флоренским, и мы об этом не раз будем говорить ниже.
Уже в свои университетские годы Лосев — активный участник философской жизни Москвы, постоянный посетитель заседаний Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева и Психологического общества при Московском университете. В те годы Москва, пожалуй, — больший центр для русской религиозной мысли, нежели Петербург-Петроград, и именно здесь, а не там — главный очаг соловьевской традиции, русской метафизики всеединства: книгоиздательство «Путь» М.К.Морозовой и связанный с ним круг философов. И Лосев еще на студенческой скамье осваивается и обживается в этой традиции, воспринимает ее строй мысли и проблематику. Философская Москва и русская религиозная метафизика конца Серебряного Века — вот отчий дом, ойкос его философской мысли. Но творчество всегда — странствие духа, а не домоседство...
В 1915 г. Лосев заканчивает Московский университет, одновременно по отделениям философии и классической филологии, и в 1916 г. публикует свою первую работу, «Эрос у Платона». В последующие годы он продолжает деятельное участие в философской жизни, теперь уже часто выступая с чтением собственных докла
дов. Вот темы основных из них, прочитанных уже в послереволюционный период: «Термины “эйдос” и “идея” у Платона», «Вопрос о принципиальном единстве диалогов Платона “Парменид” и “Тимей”», «Учение Аристотеля о трагическом мифе», «Греческая языческая онтология у Платона». О чем говорит этот перечень, каким представляется из него направление лосевской работы? Ответ ясен и однозначен: Лосев занимается историей античной философии, а точней — отдельными специальными вопросами творчества Платона и Аристотеля. Ничто здесь не заставляет думать, что начинающий «философ и филолог-классик одновременно» покушается на какие-либо масштабные, глобальные задачи, будь то в изучении античности или в чисто философской проблематике. А между тем и в той, и в другой области дело уже тогда обстояло именно так. С 1916 по 1927 г. никакие работы Лосева не появлялись в печати, однако из «Философии имени», вышедшей в свет в 1927 г., мы узнаем, что уже летом 1923 г. им было закончено это головоломное философское сочинение — «резюме долгих размышлений», закладывающее основу некоего нового философского метода и философского учения. Книга «Античный космос и современная наука», выпущенная тогда же, осуществляет реконструкцию античного космоса через реконструкцию античного логоса, образа мышления, а в предисловии, где стоит дата 14 августа 1925 г., сообщает, что этот капитальный труд — лишь «соединение ряда отрывков» из обширного материала долголетних изысканий. И нам делается ясно, что те доклады Лосева — только верхушка айсберга, малые знаки огромной и напряженной работы, которая шла непрерывно, однако оставалась под спудом, причем не по воле автора, как вскользь дают понять названные книги.
Плоды этой работы наконец появились на свет в виде серии монографий, выходившей в течение трех лет, с 1927 по 1930 г.:
«Античный космос и современная наука», «Философия имени»,
«Диалектика художественной формы»,
«Музыка как предмет логики»,
«Диалектика числа у Плотина»,
«Критика платонизма у Аристотеля»,
«Очерки античного символизма и мифологии», «Диалектика мифа».
Знаменитое восьмикнижие. Философская жизнь России первых десятилетий века небывало богата и достижениями, и событиями; но даже на этом фоне восьмикнижие Лосева — уникальный факт, и уникальный во многих отношениях сразу. Фундаментальный цикл книг демонстрировал несомненное появление нового оригинального мыслителя с собственной проблематикой и собственным философским арсеналом, в сущности — основателя собственного направления. Это появление нового имени сразу с целою серией новых теорий и капитальных работ можно было бы назвать ярким и эффективным; но в обстановке времени его приходится назвать скорей странным и вызывающим тревогу за автора. Уже ряд лет, начиная с известной высылки философов осенью 1922 г., свободные философские исследования в России были пресечены, и на место всей области философского знания насильственно утвержден казенный марксизм, принимавший все более огрубленную и агрессивную форму. Поэтому книги Лосева уже не по существу идей, а по самому роду творчества, как плоды свободного любомудрия вне казенно предписанного русла, не имели почти ничего подобного себе и не имеют до сего дня. То были последние плоды свободной философской мысли в России.
Многообразные задачи, которые ставит перед собою лосевский цикл, можно, обобщая, свести к двум крупнейшим: реконструкция античного мышления и миросозерцания и создание оригинальной системы диалектикофеноменологической философии, имеющей в своей основе новые концепции имени, символа и мифа. Обе глобальные задачи предстают у Лосева внутренне связанными: новое понимание античного космоса и античного мышления достигается на базе новой философской методологии, а выработка новых философских концепций осуществляется в значительной мере на материале античности. При этом, как выясняется, и вышеупомянутые доклады с их конкретной тематикой тоже участвуют в реализации глобальных задач. Такова особенность исследовательского метода Лосева, его, так сказать, искусство детали: разработка общих, принципиальных проблем, как правило, включает в себя и скрупулезнейший анализ каких-то узких, даже технических пунктов, которые на поверку оказываются важным подкреплением общей концепции. Особенность эта родственна методике «экскур
сов», которую широко применяет Флоренский в «Столпе и утверждении Истины». Возможно, она и развилась не без влияния «Столпа», хотя все же, пожалуй, лосевские экскурсы обычно не так далеко уводят от главной нити и теснее с ней связаны...
На первой из названных глобальных задач мы не будем останавливаться сейчас. Прежде всего мы попытаемся реконструировать способ философствования Лосева и лосевскую концепцию мифа, какою она представлена в «Диалектике мифа»; это даст нам возможность увидеть и собственный «миф Лосева», ноуменальные контуры его пути. Конечно, и в «Диалектике мифа», как почти всюду, Лосев не может обойтись без античности, и в проводимом тут анализе мифа в качестве ближайшего примера зачастую имеется в виду именно античный миф. Однако античность тут выступает в роли субстрата, в роли классической среды мифа, а не самостоятельного объекта исследования. Но что до второй задачи, то она входит всецело в нашу тему. С ее анализа, и начнем.
2
В основе всего здания философии Лосева — его собственный философский метод. Не надо считать это само собой разумеющимся: тут важная отличительная черта этой философии, далеко не типичная для русской мысли. Философия может начинаться совсем не с метода, а с некоторой идеи или же комплекса идей, с какой- либо сокровенной интуиции... И для русской философии скорей характерно как раз последнее. Долгое время ей свойствен был фатальный уклон к тому, что Федор Сте- пун иронически называл «нутряной философией з<;у1е гиззе», — к философствованию глубокомысленному, но малочленораздельному, не умеющему придать своим утверждениям даже попросту точный смысл, не говоря уж
о строгой доказательности. Это — не голословная инвектива, за конкретными примерами, от Григория Сковороды до Николая Федорова, тут дело не станет. Техника же современного философствования, строгие философские методы остались прерогативой западной, в первую голову германской, мысли; а когда русские философы западнического уклона выдвигали на первый план овладение этою техникой, то всего чаще из этого выходила противоположная крайность — ученичество, не добираю
щееся до самостоятельных творческих задач. За примерами не станет и тут, от раннего русского шеллингианст- ва и до позднего русского неокантианства. Решительное преодоление затянувшегося ложного конфликта между философскою самобытностью и философским профессионализмом началось с Владимира Соловьева — и это, можно с уверенностью считать, одна из важных причин, которые с самого начала вызвали тягу Лосева к Соловьеву. О собственной же философии Лосева мало сказать, что в ней уже нет следа былой технической отсталости русской мысли. Ее отличает пристальное внимание к методу и особая любовь к сложным философским конструкциям, а в лосевском письме, в стиле, наряду с необычайной энергией, налицо и дисциплина аналитического и диалектического мышления. Подобные качества русская философия начала обретать лишь к концу своего оборванного пути развития, и рядом с Лосевым тут можно поставить совсем немногих.
Философский метод Лосева — метод логико-смысло- вого конструирования философского предмета. Что означает эта формула? «Конструирование» — это для начала можно считать понятным (хотя позднее и надо будет рассмотреть поточней). Но что такое «философский предмет»? Очевидно — та данность, над которою непосредственно производит свою работу философский разум. Однако в качестве данности, данного себе философский разум может принимать весьма разные вещи, в зависимости, так сказать, от системы своего устройства, от того, какие правила и законы действия им для себя установлены. Поэтому предмет в философии неотрывен от метода, посредством которого он постигается, и в разных философских направлениях трактовка предмета различна. В диалектике Гегеля философский предмет — понятие, т.е. чисто спекулятивная, отвлеченно-мыслительная реальность, совершающая развитие, самодвижение посредством диалектических превращений и описываемая системой абстрактных категорий. Для эмпиризма или сенсуализма философский предмет — попросту чувственный предмет, данные чувственного опыта, явления чувственной реальности. В феноменологии Гуссерля философский предмет — «феномен сознания». Это — тоже некое спекулятивное содержание; однако оно не интерпретируется как понятие. Его доставляет сознанию «интенцио- нальный акт» — акт направленности сознания на опреде
ленный феномен чувственной или интеллигибельной реальности, т.е. на нечто, сознанию внеположное, на его инобытие. И в этом акте, осуществляющем связь сознания и инобытия, феномен сознания воспринимает, усваивает себе определенные характеристики инобытия, феномена, понимаемого в привычном смысле «явления», наглядной данности. Иначе говоря, гуссерлианский феномен сознания, не утрачивая своей совершенной спекулятивности, в то же время приобретает и модусы инобытия, чувственного предмета, делается созерцаемым — конкретным, наглядным, пластичным. Подобный предмет Гуссерль уже не называет понятием, но принимает для него известный термин античной мысли «эйдос». Последний значил первоначально просто «наружность», «внешний вид», «зримый образ», однако затем, начиная уже с Парменида, особенно в платоновской традиции, начал обозначать умный вид, т.е. конкретную явлен- ность, телесную или пластическую данность в мышлении. Итак, философский предмет феноменологии — эйдос, трактуемый, по формулировке Лосева, как «наивысшая мыслительная абстракция, которая тем не менее дана конкретно, наглядно», как «тот же платоновский эйдос, но чисто мыслительной природы и исключающий какой-либо намек на субстанциальность»[381]. Подобная установка обладает большою широтой, позволяя делать предметом строгого философского рассмотрения самые разнообразные сферы реальности: она добирается до усмотрения их сущности (в отличие от эмпиризима), но при этом не уничтожает их конкретную природу, не пытается вобрать все в Понятие, во всеохватную систему универсальных категорий (в отличие от отвлеченной диалектики). Благодаря этому феноменология, несмотря на значительную сложность своих принципиальных основ, стала влиятельным и плодотворным методом в философии XX в. и обрела многочисленные модификации и приложения — в философии экзистенциализма, в этике, эстетике и др. Но русская философия уже не могла участвовать в феноменологическом движении: его развитие началось только с 20-х годов. Лишь два наших философа глубоко восприняли философскую феноменологию и
существенно использовали ее в собственном творчестве. !)то — Шпет и Лосев.
Лосев решительно и определенно принял для себя феноменологическую, гуссерлианскую трактовку философского предмета. Причиною тому, разумеется, не мода и не случайность. Искомое философского акта он всегда нидел в том, чтобы постичь явление, будь то чувственной или духовной реальности, одновременно и в полноте его смысла, и в полноте его живой конкретности. И из всех философских установок, как названных выше, так и других, этой его позиции лучше всего отвечала установка феноменологии. Позднее он скажет о начальном периоде своих философских исканий: «Единственной опорой был тогда у меня “феноменологический метод” Гуссерля»[382]. Однако и эта единственная опора не удовлетворяла его целиком; с самого начала у него имелся целый ряд существенных расхождений с феноменологией Гуссерля. Все они росли из одного корня: из принципиального отказа феноменологии от объяснения феноменов. Феноменологическое «усмотрение сущности» состоит исключительно в описании, «феноменологической дескрипции» смысловой структуры феномена как совокупности неких рйдоположенных компонент, элементов. Феноменологическая дескрипция лишь констатирует наличность данных элементов и принципиально отвергает как «натурализм» всякое покушение пойти дальше, «что-то за всем этим увидеть», объяснить наблюденную картину смысла. Это, повторим, ее принципиальная позиция, часть символа веры феноменологии — и именно в этом важнейшем пункте Лосев расходится с последней. Феноменологическая дескрипция представлялась ему вопиюще недостаточною. Он находил, что «феноменология ... останавливается на статическом фиксировании статически данного смысла вещи»[383]. Ему же смысловая структура феномена виделась не статическим собранием элементов, но динамическим, живым их единством — таким собранием, меж элементами которого существуют взаимосвязи, совершаются переходы, превращения, порождения... И задачей философского метода он считал не просто дес- крибировать смысловую структуру в определенных категориях, но, наряду с этим, еще и «одну категорию объяс
нить другой категорией, так, чтобы видно было, как одна категория порождает другую, и все вместе — дру| друга»[384].
Как, несомненно, заметил проницательный читатель, последняя формулировка Лосева — классическая форму лировка задания диалектики, диалектического метода; и, таким образом, наш автор стремится дополнить феноме нологию диалектикой, Гуссерля — Гегелем. Здесь мы на конец добираемся до сути развитого им философского метода: он решает применить диалектический метод к феноменологически трактуемому философскому пред мету. Это сочетание двух подходов, основополагающее для всей своей философии, он сам выражает следующей формулой: «феноменологическая фиксация каждого по нятия и диалектическая конструкция его на фоне общей системы категорий»[385]. Разумеется, соединения, скрещивания различных философских систем отнюдь не всегда возможны и безобидны: они могут приводить к эклектизму, могут быть и попросту недопустимы, внутренне некорректны. Не совсем безнаказанно проходит и данное соединение, как мы ниже увидим. Однако прямой несовместимости сопрягаемых элементов тут все же нет. Как известно, диалектика Гегеля есть также в широком смысле феноменология — «феноменология духа», наблюдение, дескрипция его категорий в их движении. И Лосев никогда не упускает случая подчеркнуть эту феномено- логичность диалектики: «Диалектика всегда есть непосредственное знание... сама непосредственность... Диалектика есть просто глаза... хорошие глаза»3, которые могут, очевидно, осуществлять чистое наблюдение — и ничего более.
Сочетание, взаимодополнение двух феноменологий, гегелевой и гуссерлевой, и дает то, что именуется у Лосева «смысловым конструированием». Теперь уже нетрудно понять, как осуществляется это специфическое конструирование. Под конструированием как таковым понимается «логическая конструкция категориальной структуры», иными словами, диалектическое порождение системы категорий. (Это лосевское употребление термина не вполне совпадает с известным шеллинговым понятием,
иыражаюьцим его метод дедукции сущностей из абсолютного, развитый в работе «О конструировании в философии», а затем в «Философии искусства»; в данном случае «конструирование» получает скорей гегельянскую фактовку.) Но какова эта система, от чего отправляется м к чему стремится прийти диалектический процесс — иге это теперь модифицируется с учетом установок феноменологии. Исходная позиция тут не есть максималистская позиция гегелевской логики, залегающая в онтологических глубинах, где только бытие и небытие, и притязающая исчерпать Универсум единой глобальной логической системой. Она соглашается считать существующим наличное, чувственную и интеллигибельную реальность — все, что «имелось» (как в стихотворении Пастернака: «Засим имелся сеновал...», точно уловившем установку феноменологии). Соответственно, иным окапывается и содержание диалектического процесса, и его итог, искомое. Теперь этот процесс — категориальная разработка не гегелевского понятия, а платоновско-гус- серлианского эйдоса: именно этот термин повсюду употребляет Лосев для своего философского предмета. В ходе диалектического порождения категорий строится феноменологическая смысловая картина. Но, будучи получаема диалектическим путем, она приобретает новые качества. Смысловую картину, даваемую ортодоксальным феноменологическим «усмотрением сущности», Лосев, пожалуй, не станет и называть картиной: для него это скорей безжизненная инвентаризация («имелось»!), перепись составных частей смысла. Он не оспаривает этой переписи («Я приемлю и учение об эйдосе, и учение о чистом описании, и вообще всю феноменологию»1), но ему ее — мало. В его диалектической феноменологии элементы смысловой картины предстают в связи и в движении. И картина тут становится уж и не просто действительною картиною, связным и выразительным единством. Благодаря множественности и разнообразию связей она приобретает и объемность, скульптурность — становится изваянием; за счет динамики категорий, их порождений и превращений, она полна внутреннего движения, а стало быть, и своего рода силы, энергии — она оживает. Ключевое сказуемое в диалекти-
ческой феноменологии — не «имелось», а «жило» или «живет» (что то же, ибо смысловое конструирование со вершается в смысловом космосе, а вовсе не протекает во времени; и уж коль скоро оно в предельном своем напря женьи производит живое — живое это живет там же, вечно). Диалектика для Лосева — залог и принцип жт ненности философствования, «ритм жизни, оформление и осмысление жизни»[386].
Итак, в результате диалектического конструирования возникает особого рода эйдос, эйдос по Лосеву «живое бытие предмета, пронизанное смысловыми энер гиями, идущими из его глубины и складывающимися п цельную живую картину явленного лика сущности пред мета»[387]. Но все же, несмотря на «лик» и на «явлен ность», этот эйдос по-прежнему, в согласии с Гуссерлем, есть чистая сущность, объект интеллектуальной интуи ции, никогда не утрачивающий своей «чисто мыслительной природы, без какого-либо намека на субстанциаль ность». Он наделяется у Лосева множеством зрительных характеристик: он есть «смысловое изваяние», «идеаль но-оптическая картина», он «пластичен», «фигурен», но все категории зрительного ряда тут должны пони маться, как говорит Лосев, «во внутреннем смысле»: речь идет об умном, умственном зрении. (Нельзя не изумляться несравненной остроте этого зрения у Лосева: оно, действительно, рисует ему смысловые картины ничуть не меньшей яркости и выразительности, чем зрение физическое — картины чувственной реальности. Именно этот особый дар и дал философу возможность плодотворного творчества во второй половине жизни, когда его физическое зрение, непоправимо подорванное в лагерях, утратилось полностью.) Что же до чувственной реальности — она остается для эйдоса всецело иноприрод- ной. Но тут диалектика Лосева еще раз накладывает свою печать на его эйдологию (учение об эйдосах). Для диалектического метода «иная природа» — диалектическая противоположность данной, исходной природы, ее «иное», «инаковость», «инобытие». И обе природы немедленно вовлекаются в диалектический процесс, в «диалектику одного и иного». В разделе IX «Диалектики мифа» Лосев на доброй дюжине примеров специально
демонстрирует этот типичный прием всякого диалектического метода. Общеизвестная суть приема заключается и следующем. «Одно» логически предполагает — само- полагает, в терминах диалектики — «иное» и оказывается с ним в отношении тождества и различия, пресловутого диалектического единства противоположностей; последнее же, будучи единством, есть, тем самым некая новая цельность: не менее пресловутый диалектический синтез. При этом говорят также (терминология, более близкая философии тождества Шеллинга), что одно воспроизводит или выражает себя в ином, облекается или во-ображается (калька шеллингова ет-ЫЫеп) в иное, и что одно и иное образуют двуединство. Происходящий здесь диалектический переход, таинственное превращение одного в двуединство одного и иного, выходит за рамки формальной логики, и Лосев вводит для его передачи особое понятие «алогического становления».
Все этб целиком приложимо и к эйдосу с его умной природой. Диалектика эйдоса и его инобытия исчерпывающе развернута Лосевым уже в первом из томов Вось- микнижия, «Философии имени» (12); но нам сейчас нет никакой нужды воспроизводить это развертывание. Уже ясно и без того, что эйдос по Лосеву — самый благодарный объект для проведения диалектического приема. Он дан настолько ярко и выразительно, с такой «фигурнос- тью»[388], что, собственно, уже почти чувствен, как нельзя лучше приспособлен для воспроизведения в чувственном как в своей инаковости. Соединение идеально-оптической картины и умного изваяния с чувственным началом немедленно дает совершенную оптическую картину и совершенное изваяние — уже не во внутреннем, а в обыкновенном эмпирическом смысле. Разумеется, это двуединство эйдоса и его инобытия ничего не утрачивает и из своих умных свойств, остается смысловою картиной. Полученный же философский предмет — смысловая картина, выраженная в телесно-чувственном, совершенное двуединство умного и чувственного содержания, есть не что иное, как символ, согласно классическим определениям этого понятия в «Философии искусства» Шеллинга. Лосев принимает эти определения; как он отмеча
ет неоднократно[389], его понимание символа является шел лингианским в своей основе.
В итоге мы добрались до следующей и уже последней из ключевых особенностей лосевского метода. Осущест вляемое диалектически конструирование философского предмета, эйдоса, не только приводит к эйдосу как (во внутреннем смысле) лику и изваянию; оно неотъемлемо предполагает дальнейшее воспроизведение эйдоса п ином, влечет диалектический переход от эйдоса к символу. Необходимым продолжением эйдологии оказывается симвология. Занимаясь в согласии с установкой феноме нологии узрением смыслов, диалектическая феноменология достигает существенно возросшей степени интенсив ности, выразительности смысловой картины и в пределе диалектического усилия приходит к узрению смыслов не только как эйдосов, но и как символов. Тем самым она представляется как некоторая разновидность философского символизма. Стремясь, по-лосевски, к вящей выразительности, представим сей вывод формулой:
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ + ДИАЛЕКТИКА = СИМВОЛИЗМ
Если назвать эту формулу «уравнением Лосева», название будет оправдано сразу в двух смыслах: оно равно указывает и на автора уравнения, и на описываемый им умный предмет. Тут выступает «эйдос Лосева». Но мы хотим продвинуться дальше, до его «мифа».
3
Лишь та формула хороша, которая позволяет извлечь побольше полезных следствий. Как увидим сейчас, немало содержательных выводов можно сделать и из нашего «уравнения». Начнем по порядку. Хотя рабочий аппарат философии Лосева, прошедший уже перед нами, это — диалектика и феноменология (а в более позднем томе цикла — «Очерках античного символизма» он вводит в методику своего конструирования еще и неокантианский трансцендентализм), однако искомым, целью всего философского процесса оказывается символ. Поэтому именно символ (скорее, нежели эйдос) и следует полагать
ключевым понятием развиваемой философии, а тип соот- шггствующего ей миросозерцания возможно определить как символизм, что и сделано выше. Соответственно, маша необходимая задача — очертить лосевскую трактовку символа.
Уже было сказано, что Лосев не выдвигает здесь принципиально новой теории, но примыкает к классическому шеллингианскому руслу. В этом русле, которое сформировалось в конце XVIII — начале XIX в. в работах целого ряда немецких философов, символу отводится роль прежде всего в сфере искусства и мифологии; но наряду с этим за ним утверждается известная общефилософская значимость, и даже мировоззренческая: существует характерное тяготение к древнему символистскому мирочувствию, для которого сам Универсум весь и повсюду символичен, природа, искусство, человек суть символы или знаки и из таковых же состоят. Шеллингу здесь, бесспорно, принадлежит главная заслуга в общетеоретической разработке категории символа, но стоит и подчеркнуть глубокое направляющее влияние Гете: как было справедливо замечено, Шеллинг и Гегель (также, хотя и ц меньшей мере, причастный к общей теории символа) выработали концепцию символа, «отправляясь от Гете и постоянно оглядываясь на него»[390]. Сложившаяся в ту эпоху традиция стала основою понимания символа для всей позднейшей европейской мысли. В дальнейшем ее развитии наиболее значительные продвижения связаны с именами Шпенглера, Кассирера и — Лосева.
Из сказанного выше уже нетрудно увидеть, что нового было привнесено в традицию Лосевым. Философская дефиниция символа, выработанная Шеллингом и, в целом, разделяемая всею традицией, так резюмируется Лосевым на первых страницах его капитальных «Очерков»: «Символ есть неразличимое тождество общего и особого, идеального и реального, бесконечного и конечного»[391]. Отнюдь не вступая в расхождение с этою дефиницией, Лосев, однако, приходит к символу своим путем и выражает его в своих понятиях. Символ у него возникает как «выраженный эйдос», двуединство эйдоса и его инаковости. Соответственно, вырабатывается и новая де
финиция. «Символ есть алогически становящийся эйдос, данный как своя собственная гипостазированная инако вость и рассмотренный как единичность в ее соотнесении с этой и, следовательно, со всякой инаковостью. Сим вол... есть эйдос, воспроизводимый на ином»[392]. Об этой дефиниции сам автор говорит, что она трудна и темпа ради того, чтобы быть точной; но в свете всего предшест вующего она нам уже понятна. Какой же рисуется из ног лосевская концепция символа? Разумеется, главная и очевидная ее особенность в том, что это — диалектико феноменологическая концепция, получаемая в рамках построенного самим же Лосевым сочетания диалектики и феноменологии. Здесь символ — финал диалектической обработки феноменологического эйдоса. В чисто теорети ческом аспекте это, пожалуй, не приводит к слишком радикальным отклонениям от классической концепции Шеллинга, развитой на базе его философии тождества: эта концепция тоже вовсе не чужда диалектики, и в част ности, ключевой элемент в конструкции символа, отно шение его «идеальной» и «реальной» сторон, трактуется в ней как диалектическое отношение тождества и различия. Однако в лосевском символе диалектический момент весьма усилен и заострен. Здесь снова, как и в случае категории конструирования, у Лосева происходит проникновение шеллингианского понятия в строй гегельянской мысли, с ее цепным процессом порождения категорий. И этим достигаются определенные преимущества. Символ делается выразительней, проработка его деталей богаче, и самый механизм этой проработки более отточен и формализован.
Отсюда мы постепенно подходим к самому существенному. Формализован — стало быть, и универсализирован. Лосевская трактовка символа открывает широкие пути для конкретных приложений — для конструирования и изучения символов во всех разнообразных сферах их бытования — в искусстве, языке, религии и мифе. Феноменологическая компонента его метода дает возможность, конструируя любую из этих сфер, избежать обезличенной отвлеченности и донести, говоря вместе с Пастернаком, «подробность» реальности («...жизнь, как тишина осенняя, — подробна...»), живое своеобразие
каждого конкретного рода символов. Диалектическая же компонента обеспечивает эффективный и единообразный анализ, делая всю совокупность конструируемых философских разделов не «собраньем пестрых глав», но це- /юстной философской системой. И мы видим, что именно по этим путям и двигалась лосевская работа. Снова изглянув на состав, на содержание Восьмикнижия, мы можем теперь существенно углубить наше понимание зтого цикла в целом. В полном согласии с «уравнением Лосева», в символе обнаруживается главнейший общий знаменатель, единящий принцип всего грандиозного предприятия. Кое-какие черты единства мы отмечали сразу, и в первую очередь единство метода. Но это еще довольно ограниченное единство: мало ли какие не связанные между собою области могут анализироваться одним и тем же методом? Символическая же установка Лосева позволяет увидеть его цикл, и вообще весь диапазон его философской работы, как упорядоченное единство, в котором налицо не только единство средств, но и единство целей, и даже единство содержания, единство в выборе тем и предметов философского исследования. Прежде всего новая концепция символа имплицирует и новые концепции всего, что от символа производно либо на нем основано, в том числе и всех частных видов символа. И мы видим, что четыре книги цикла непосредственно представляют собой опыты конструирования эйдоса и символа, каждая в своей определенной сфере: соответственно, в языке, музыке, искусстве независимо от жанра и мифологии. Другие четыре книги посвящены проблемам античного миросозерцания; однако уже одновременно с самим созданием философского символизма тем же кругом немецких авторов во главе с Гете и Шеллингом было прочно выяснено, что это миросозерцание всецело проникнуто символизмом. И при ближайшем взгляде на них античные штудии Лосева тоже оказываются штудиями символа и символизма, дополняющими общую программу его символистских исследований новым аспектом, историческим или культурологическим: конструирование символа проводится не только для разных сфер деятельности сознания, но и для разных эпох и культур.
В итоге, за двумя главными задачами мысли Лосева, которые мы выделили в самом начале, вырисовывается единый замысел: замысел некоего всеохватного симво
листского синтеза, создания уже не столько даже фило софской системы, сколько цельного символистского ми ропонимания на новой философской основе. Придя к тл кому выводу, нельзя сразу же не заметить родстпл между этим глобальным замыслом и двумя учениями, возникшими практически одновременно с трудами Лосе ва: конкретной метафизикой Флоренского и философией символических форм Кассирера. Все это — опыты фило софского символизма, задающиеся целью исследовать разнообразные сферы бытования символа, из коих глан ные суть язык, миф и религия, искусство. Все они обла дают новым для философии типом строения, который подсказывается таким заданием и к которому они при шли независимо. Вместо традиционного членения фило софской системы на онтологию, гносеологию, эстетику и т.д., философия организуется по видам символов и сфе рам их применения: каждый ее раздел изучает, «что оз начает и как действует символ в какой-то определенной сфере»[393]. Согласно же позиции последовательного симво лизма, символы пронизывают весь мир культуры, все об ласти человеческой активности. «Человек есть существо, созидающее символы», — говорит Кассирер, и подобные же суждения нетрудно найти и у Флоренского, и у Лосе ва. Поэтому описанная постановка философской задачи отличается особою широтой, предполагает универсализм творчества, и труд, потребный для выполнения столь глобального замысла, явно сравним с масштабами человеческой жизни. Однако, в силу особенностей двадцатого столетия, из трех философов-современников только один Кассирер имел возможность довести свой замысел до завершения. С приходом к власти фашистов он, будучи ректором Гамбургского университета, эмигрировал из страны и продолжил работу в США. Но Флоренский и Лосев не покинули России с приходом к власти большевиков. В результате Флоренскому уже в середине 20-х годов пришлось оставить разработку своего учения; он подвергался беспрерывным гонениям, был в последний раз арестован в 1933 г. и погиб в 1937 г. Тем не менее он успел сделать многое.
Вмешательство истории оборвало и труд Лосева. Восьмитомный цикл — бесспорно, монументальное до-
(гижение; но, в сравнении с общими контурами намеченного, он — лишь начало. Читая внимательно Восьмикни- жие, встречаешь темы и тезисы, развитие которых как бы откладывается на время, находишь указания на будущие труды. Мы сегодня не знаем, были ли они написаны хоть частично; но мы можем видеть, что во многих случаях они, действительно, по логике всего замысла не были бы излишни. Прямая задача «Философии имени» — исследование смысловых структур в языке; однако большая часть книги занята изложением общего метода, и в конце присутствует указание на то, что «вопросы специально языковые автор еще собирается трактовать в особой работе»[394]. Здесь же читаем, что проведение лосевских взглядов на онтологию «на обширном материале истории философии является задачей, которой автор занят в другом своем труде»[395]. «Диалектика художественной формы» и начинается и заканчивается констатацией того, что выводимые в ней положения «слишком общи и суть... лишь указание пути специального исследования», проведение которого «и есть наша очередная задача»[396], — задача, так и оставшаяся невыполненной. И, может быть, всего больше «ссылок на будущее» (показывающих, что замысел еще продолжает шириться) — в «Диалектике мифа», сразу после которой философская работа Лосева была насильственно прервана.
Итак, здание символической философии Лосева осталось далеким от завершения. Никому это не было яснее, чем ему самому, и он сам сказал об этом недвусмысленно и определенно: «Я только подошел к большим философским работам, по отношению к которым все, что я написал, только предисловие»'1. Разбираясь, в каким аспектах незавершенность особенно наложила свою печать, мы обнаруживаем в их числе и достаточно глубокие, сердцевинные. И в первую очередь, взгляд под таким углом заставляет нас снова вернуться к методу. Особое к нему внимание мы уже подчеркивали у Лосева. Книги его цикла открывает обыкновенно преамбула о методе, за которой следует и сам метод в действии, диалектико-феноменологическое конструирование эйдосов и символов. Но
при этом нередко выходит так, что исследование опреде ленной сферы успевает дойти разве немногим дальше очередной переформулировки метода, проводимой при менительно к этой сфере. Такая переформулировка дает лишь отвлеченную логическую схему, скелет предмета (как часто выражается сам Лосев), представляя его по средством типовых формул, где по-разному комбинируются пять категорий, принимаемых за исходные и первичные: единичность (одно), покой, движение, тождество, различие[397]. То, что на этом этапе делается, есть чис той воды унифицированное строительство из диалекти ческих блоков; и ясно, что как и сколько бы ни варьировались «гипостазированная инаковость» и «подвижный покой», «самотождественное различие» и «алогическое становление», — ими не передать живого своеобразия предмета, хотя среди типовых деталей встречаются и «фигурность» и «осязаемость». И после первого етЬаг- газ с!е псЬеззе при чтении этих книг начинаешь вскоре подозревать, что автор их позабыл трезвое наставление восточного мудреца: сколько ни говори «халва», во рту сладко не станет! Можно включить в систему категорий и «фигурность», и «факт», и даже, если нравится, «яркость» или «неповторимость», — но философский предмет от этого, увы, не обретет вещественности факта и не сделается «фигурным»... Нельзя, безусловно, говорить, что Лосев утверждает обратное; у него немало прямых заявлений о том, что диалектическое конструирование дает лишь отвлеченный скелет предмета. Однако на практике его позиция двойственна, и это же самое конструирование сплошь и рядом предполагается у него способным произвести смысловую картину совершенной, «скульптурной» полноты, «изваятельно-осязательной фигурности». Мы не случайно выше упомянули категорию факта. «Диалектика художественной формы» утверждает буквально следующее: добавить к диалектической триаде «факт» в качестве четвертого элемента означает «спасти диалектику от субъективного и бесплотного идеализма, оперирующего с абстрактными понятиями, не имеющими в себе никакого тела»[398]. Но понятие факта,
если оно взято из речи и введено в диалектическую конструкцию, будет не менее, а более абстрактным и бесплотным, чем другие понятия; оно будет просто-напросто пустым. Если же оно диалектически проработано, оно станет не менее плотяным, чем другие, однако «бесплотного идеализма» диалектики (если таковой был) и тут не изменит ни на йоту. И достигается здесь отнюдь не изменение всего характера философии, но только явное противоречие с Ходжой Насреддином (Не лишне уточнить в строгих терминах: это — именно та философская ошибка, которую разбирает Кант в своей критике онтологического доказательства, заключая известным выводом: «...человек столь же мало может обогатиться знаниями с помощью одних идей, как мало обогатился бы купец, который, желая улучшить свое имущественное положение, приписал бы несколько нулей к своей кассовой наличности»)[399]. А настоящее, не назывное продвижение к факту и к телу, философское продумывание особенного и характерного, специфики и своеобразия предмета — между тем откладывается на будущее: как нетрудно заметить, именно таково содержание большинства лосевских отсылок р дальнейшим трудам. Типичные примеры — уже приводившиеся «ссылки на будущее» в «Философии имени», в «Диалектике художественной формы».
Само собой разумеется, — и мы нимало в том не выражаем сомнений, — что при нормальном развитии лосевской философии любая желательная степень конкретности вполне могла бы в ней быть достигнута. Но вот что принципиально важно: совсем не исключено — а наоборот, крайне вероятно — что в этом продвижении к конкретному претерпел бы изменения и сам метод; быть может, и существенные изменения. Известная эволюция метода улавливается уже и в самом Восьмикнижии. Половина из его книг — «Античный космос и современная наука», «Философия имени», «Диалектика художественной формы» и «Музыка как предмет логики» — выпущена в 1927 г. и, стало быть, написана ранее, отчасти и значительно ранее. И именно в них настойчиво отстаивается и жестко, догматично проводится диалектико-феноменологический метод, господствует неудержимое конструирование. В последующих же книгах этот пафос
конструирования, строго подчиненного одной жесткой схеме, заметно идет на убыль. Зато не менее заметим усиливается дескриптивный элемент, внимательнее, бога че делается наблюдение предмета. Обнаруживает! некая дополнительность, обратная пропорциональность чем больше в лосевском тексте действительной «телес ности», живой плоти предмета — тем меньше кубиков и I диалектического «Конструктора», «подвижных покоен* и «алогичных становлений». Последние книги цикла по священы преимущественно античности; и, задаваясь целью восстановить до глубины и со всей подробностью структуры платоновской и неоплатонической мысли, автор, очевидно, убеждается, что одним догматическим следованием методике конструирования не достичь этой цели. В «Очерках античного символизма и мифологии» капитальном сочинении, резюмирующем философские позиции Лосева и сводящем воедино его основные иссле дования платонизма, методологические установки стано вятся откровенно синтетичны, сборны. К диалектике и феноменологии тут еще добавляется, как выше говори лось, трансцендентализм неокантианской школы, и к анализу платоновских диалогов прилагаются все три ме тода.
Но можно заметить, что сборный характер, недоста ток внутреннего единства присущ уже и самой методике* диалектико-феноменологического конструирования, опи санной выше и по форме, надо признать, весьма строй ной. Вглядевшись, легко увидеть, что две составляющие этой методики все же не удается привести к полной слаженности, и Гегель с Гуссерлем фатально мешают друг другу. (Чему никак не удивляешься, памятуя, что феноменологическая концепция именно и создавалась в отталкивании от абсолютизированной диалектики, дабы утвердить смысл-эйдос как принципиально неразложимое, не подлежащее никакому выведению.) Метод, разумеется, не проводит до конца установок феноменологии, ибо открыто отбрасывает важнейшую их часть, установку чистой дескриптивности, и вводит то, что с позиций феноменологии является заведомым натурализмом, метафизическим примысливанием. Но он не проводит до конца и установок диалектики. Мы видели, что диалектический процесс принимает за исходную данность пять первокатегорий; однако с позиций последовательной диалектики каждая из них, в свою оче-
рсдь, требует диалектической проработки — каковая неминуемо приведет к чистой логике Гегеля без всякой примеси Гуссерля. Что такое, в самом деле, у Лосева «движение» или «покой»? Они вводятся волевым актом (см.: Античный космос и современная наука. С. 59-61. И прочем, в примечаниях (там же. С. 296) трактовка них категорий уточняется и возводится к «Эннеадам» (VI, 2, 7). Поэтому и нам можно уточнить: эту трактовку верней считать не столько произвольною, сколько двойственной, эклектичной — ибо пробующей соединить диалектику Платона-Плотина с диалектикой Гегеля, которая заведомо не приемлет «пяти существующих родов» в качестве первоосновы онтологии): в канонической двоице сущее (одно) и иное сущему приписывается «покой» (хотя, чем хуже — связать с покоем несущее, небытие, которое ведь и называют «вечным покоем»?); тогда иному, натурально, следует приписать «движение». Дальше уже работает диалектическая машина, которая известным порядком произведет «подвижный покой» и другие продукты; однако сами покой и движение — а стало быть, и все восходящие к ним элементы конструируемых эйдосов! — остались, по сути, вещами неопределенными и непонятными. И отчего фать за исходное именно пять неопределенных вещей? Не ясно ли, что с тем же успехом — и с тою же мерою обоснованности — можно бы их взять семь? или семнадцать? Так желаемое сложение методов оборачивается их вычитанием. Как и во многом другом, здесь обнаруживает себя мощный собирательный, интегрирующий импульс в мышлении Лосева: в любой теме он стремится собрать все сущие подходы и методы и, выявив односторонность каждого, затем свести их во всеохватный единый Супер-метод. Понятно, что синкретическое соединение разнородного — тут самая реальнейшая опасность.
Сходные мысли приходят и еще с одной стороны. Эта пятирица категорий заставляет заметить еще некую черту лосевского метода, которая может казаться мелочью, но тоже кое-что проясняет в характере его философского стиля. Взглянем на «арифметику» лосевских текстов: просто на то, какие цифры, числа возникают в его работе с понятиями. Согласимся, что онтология у редких философов приводит к конструкциям, основанным более чем на троице, триаде. Но в диалектической
феноменологии — совсем другое: помимо «5 основных эйдосов», мы видим 6 логосов1, 7 способов конструиро вания сущности[400], 8 антиномий художественной формы., тетрактиды начал... 14 основоположений античного кос моса... и т.д. и т.п. Это какая-то явная арифметическим разгоряченность, неудержимая тяга к размножении» схем, перечней, конструкций. И это — известная харак терная черта определенного типа мышления и философ ствования. Как и тенденция к соединению разнородных начал, это указывает на синкретизм, эклектизм; а про являясь в онтологии и натурфилософии, это — в ши роком смысле гносис.
Суммировав все подмеченные черты, мы уже при ближаемся к выводам относительно лосевского метода Прежде всего стало ясно, что два слагаемых этого диа лектико-феноменологического метода весьма неравно правны во всем: и по занимаемому ими месту, и по стс пени их принятия, и даже по личному отношению к ним автора. Последнее особенно наглядно: Лосев пишп ярко, с эмоцией и множество раз в разных книгах он с энтузиазмом воздает хвалу диалектике. Нигде мы не встретим у него ни сомнений, ни возражений, показы вающих, что хоть что-нибудь в диалектике им не при емлется или подвергается ревизии. Его позиция — ис тинный пандиалектизм, ничуть не менее радикальный, чем у Гегеля (Приведем одну-две выразительные фор мулы: диалектика — «единственно правильный и пол ный метод философии», «ритм самой действительности» и даже «единственно допустимая форма философствова ния» (Философия имени. С. 8, 9). «Диалектик... заста вил маршировать под командой своего метода все логи ческие и нелогические силы бытия и жизни» (Очерки античного символизма. С. 542). Идеализация и абсолю тизация диалектики тут сгущаются уже в некую утопию Абсолютного и Всемогущего Учения.) Напротив, феноменология — в явных падчерицах: редко когда он у по мянет ее без оговорок и отмежеваний, а однажды, на пример, скажет и так: «К Гуссерлю я никогда не был близок»[401]. Мы уже приводили его слова из «Философии
имени»: «Я приемлю... всю феноменологию»; но стоит добавить к ним, что в свою-то философию Лосев переносит никак не всю феноменологию, и даже не какое-то главное, существенное ее ядро, а только немногочисленные части, из коих является по-настоящему важной моего одна (Известным исключением служит «Философия имени», шире других книг использующая гуссерли- лнские категории): концепция философского предмета как смысла-эйдоса, смысловой картины.
Нетрудно разобраться, почему и чем привлек Лосева именно этот элемент феноменологии. Прежде всего — своим античным происхождением, платоническими корнями. Он и сам отмечает в «Очерках», что концепция :>йдоса у Гуссерля дала новую пищу, новый плодотворный поворот его занятиям платонизмом и, в частности, тому капитальному исследованию учения об идеях, которое составляет основу этой книги. Но, помимо прочего, данная концепция играет в системе Лосева и еще одну роль, уже едва ли желанную: входя во взаимодействие с диалектикой, она изменяет ее характер. Дело в том, что категорию смысла, а в частности и понятие смысла-эйдоса, едва ли можно считать естественной, органичной в качестве центральной категории строго диалектического учения. Это не гегелевская категория. Лежащие в основе гегелевской диалектики понятие, идея, тем паче абсолютная идея суть нечто единое и единственное, и на их базе возникает строго монистическое философское построение, в котором — не множественность конструкций, но одна всеохватная, всевбирающая Пан-конструкция. Напротив, с категорией смысла ассоциируется аспект множественности, плюралистичности; смысл множествен по своей природе, у каждого феномена — свой. Соответственно, мир смыслов плюралистичен, дробен. И если мы, сохраняя диалектический метод, в то же время вводим концепцию смысла-эйдоса и мыслим диалектическое порождение категорий как конструирование эйдосов, то первое, что утратит диалектика при подобной модификации, это именно — свой выдержанный монизм. И сразу сделаются возможны то размножение конструкций и схем, та арифметическая неумеренность, о которых мы говорили. Так что видим следующее: малая толика феноменологии, включаемая в метод Лосева, работает там как орудие измельчения, раздробления диалектики. Соединяясь с эйдети-
кою, диалектика теряет сдерживающие скрепы гегелеил монизма и превращается в некую безбрежность, неогрл ниченно разбухающую систематику, безудержный поток саморазмножающихся схем. Ярче всего эти черты обил руживают себя в «Диалектике художественной формы» Во всем этом, надо сказать, отразились также тенден ции и объективные трудности философии символизма как таковой. Основательной, непротиворечивой чисти символистской онтологии до сего времени не существует, но существуют, напротив, стойкие сомнения в самой во» можности, в возможности построить все учение о бытии на символическом принципе неразличимого тождества и совершенной взаимовоображенности идеального и реаль ного. Шеллинг не притязал на такую онтологию, как нг притязал на ее и Кассирер, связывающий задачи своей философии символических форм с гносеологией и, глан ный образом, с философией культуры. Однако русские мыслители радикальней немцев: и Флоренский, и Лосеп определенно утверждают свои символические учения как, в том числе, и опыты онтологии1. В случае Лосенл это ясно уже из его пандиалектизма, который естествен но наследует от Гегеля отождествление диалектики с он тологией. Бросая сей философский вызов, они, разумеет ся, были готовы отстаивать свои воззрения перед читате лями-философами — но вместо таковых, как бывает и России, этими воззрениями занялись лишь карательные органы. Настоящего понимания и отклика, настоящего разговора они оба не дождались при жизни — ни о. Павел, расстрелянный в 1937 г.. ни Лосев, хотя ему и отпущен был долгий век. Сейчас появляются в печати записи его поздних философских бесед. Странное впечатление они оставляют! Непонятные собеседники — прозаик порно графического направления... деятель комсомольской прессы... при всем почтении к сим славным разрядам граждан все-таки спросишь: им ли понять русского мыс лителя, что весь свой долгий и тяжкий путь прошел христианином и аскетом? И не удивляешься, видя, как часто эти беседы напоминают общенье Миклухи-Маклая с папуасами, и только с трудом различаешь в них классические лосевские темы в переложении для тамтама. Длится советский морок, не отпускает.
А я за ними ахаю, стуча В какой-то мерзлый деревянный короб:
Читателя! Советчика! Врача!
На лестнице колючей — разговора 6!
4
Время переходить ко второй нашей главной теме, концепции мифа. Разговор о лосевской «Диалектике мифа» следует начинать не с теоретических предметов. Ибо эта книга — не просто факт философской мысли, она — событие. Истинная история советской России еще не написана; но, когда она будет создана, то по справедливости упомянет, что в 1930 г., в пору уже полной победы сталинщины, созревшего и крепчающего духовного террора, давно уж изгнанной и запрещенной свободной мысли, — появилась вдруг книга, которая не только трактовала важные философские проблемы не с казенных позиций, но бесстрашно и едко обличала мыслительное убожество этих позиций, нелепости воцарявшегося советского мифа. Отклик последовал скорый и на высшем уровне. На XVI съезде ВКП(б) летом 1930 г., в докладе Л.М.Кагановича и в выступлении драматурга
В.Э.Киршона книга и ее автор поливаются угрожающей бранью, причем Киршон, как представитель искусства, блеснул ^гакже и афоризмом, получившим широкую известность: «за такие оттенки ставить к стенке» (возмущаясь чьим-то суждением, что книга Лосева «выражает оттенки философской мысли»). Немедленно после этого Лосев был арестован. Более года его держали под следствием во внутренней тюрьме на Лубянке, потом, после вынесения приговора к десятилетнему заключению, он был переведен в Бутырскую тюрьму и наконец отправлен в лагерь на строительство Беломорско-Балтийского канала. Очень скоро организм Лосева не смог выдержать каторжных работ на лесоповале и сплаве леса, и начались тяжелые расстройства здоровья: ревматизм, цинга, дистрофия, кровоизлияние в зрительный нерв. Последнее оказалось роковым: через несколько лет оно привело к полной потере зрения. В лагере же его были вынуждены перевести на положение инвалида. Между тем на воле он не был забыт. Травля его продолжалась, но шли также и хлопоты об его освобождении. И вот гримасы русского лихолетья! На новом этапе главный вклад в травлю Лосева внес Максим Горький, который опубли
ковал в «Правде» отменно мерзкую, образцово людоед скую статью, где искренне сожалел, что гниленький чг ловечишко Лосев запоздал умереть и до сих пор еще ;»;» ражает наш советский воздух. А главный вклад в дели освобождения Лосева внесла первая жена Горького Е.П.Пешкова. Хлопоты руководимого ею Политическом» Красного Бреста, как ни странно, увенчались успехом, и летом 1933 г. Лосев вернулся из заключения в Москву.
Его возвращение не было, однако, возвратом к про шлому. Прошлое с его свободным — вопреки всему! философским творчеством не вернулось для него уже пи когда. Развитие своей самостоятельной философии были им навсегда оставлено. Лосев остался «специалистом по античности»: из двух задач его творчества главная и обь единяющая была отсечена. Больше того, когда в позд нейших его трудах ему все же приходилось затрагивать принципиальные философские вопросы, — решении этих вопросов аккуратно выписывались им по прописям официального советского марксизма. «Диалектик,» мифа», в духе эпохи, оказалась книгой великого передо ма в жизни своего автора.
Переходя к непосредственному обсуждению этой осо бой книги, мы прежде всего отметим в ней одну черту, которая прямо связана с разыгравшимися событиями «Диалектика мифа» — не обычная научная монография Она наделена специальною двойной композицией, двой ным движением. С одной стороны, у нее есть четкая за дача и тема — построить концепцию мифа, именно кон цепцию, а не целую теорию: речь идет лишь о том, чтобы выявить содержание и сформировать философ скую дефиницию мифа, но не пытаться, скажем, развить классификацию мифов или проанализировать их стро ение; рассматривать же, как живет и работает миф в со знании и в обществе, предполагается лишь эпизодически, для иллюстраций. И тема решается самым последова тельным образом: каждый раздел книги привносит оче редной пункт в искомую дефиницию, в сводную фило софскую формулу мифа. Однако наряду с этим образцо во научным построением в книге идет и другая линия, а сказать вернее, пунктир, цепь вставок и отступлений со всем иного рода и содержания. В своей совокупности обе линии создают в точности ту композицию, которая за мышлялась героем Пастернака: «Он мечтал о книге... куда бы он, в виде скрытых взрывчатых гнезд, мог
ж гав л ять самое ошеломляющее из того, что он успел уиидеть и передумать»[402]. Взрывчатые гнезда! Это наилучшая характеристика того, что представляют собой автор-
• кие отступления в «Диалектике мифа». В них он отводит душу, говоря напрямик обо всем, что его волнует как «философа, строящего философию не абстрактных форм, а жизненных явлений бытия»[403], — т.е., в первую очередь, о своем времени и об окружающей действительности. Он обличает то, что ему чуждо и дико, защищает, что ему дорого, на чем он стоит. А так как самое дикое для него — догмы официального атеизма и коммунизма, л самое дорогое — православная вера и подвижничество, к), в пересчете на 1930 г., взрывчатой силы этих гнезд более чем хватало, чтобы разрушить судьбу философа.
Вместе с тем само присутствие в философской книге разных тем и мотивов неакадемического свойства, выражающих личные убеждения, душевные переживания автора, совершенно традиционно для русской мысли. Философия Серебряного Века вырастала «в тени», под влиянием русской литературы, наследуя ее экзистенциальный, исповеднический характер, участь у нее художест- ненному чутью, высокой культуре стиля и слога. «Столп и утверждение Истины» Флоренского, «Свет Невечерний» Булгакова, уже не говоря о книгах Розанова или Шестова, это, помимо всего, еще и хорошая литература; и это также личные документы, где читателю, не скрываясь, предстает сама личность автора. И Лосев — прямой продолжатель этой линии, он тоже отличный стилист и гоже не мыслит себе того, чтобы на западный манер стеной отделять философию от жизни. Но как преобразило привычную черту время! Раньше эмоциональный, экзистенциальный элемент привычно выражался в доверительности, в теплоте тона, в возникающем у автора образе друга-читателя, читателя-единомышленника... Но атмосфера лосевских книг — полнейшая противоположность, в ней поражает прежде всего — сгущение и напор отрицательных эмоций. Автор кипит, задыхается, он запальчив и агрессивен, и читатель явно рисуется ему не в образе друга, а в образе врага. Все его «взрывчатые гнезда» — это взрывы негодования, язвительности, безадрес-
ных яростных упреков в тупости и недомыслии... Стал киваясь с подобным, сначала, конечно, спросишь: а надо ли винить время? Дело, может быть, в самом авторе, и его душевной стихии? Однако на этот вопрос Лосев не двусмысленно ответил сам: «В условиях нормальной об щественности... не могло бы быть этого, часто нервного и резкого, полемического тона, который я допускал»1. II том, стало быть, и корень взрывов и агрессивности, что кругом — ни намека на «нормальную общественность*, на такую фигуру, как старинный «читатель-друг». Кру гом — невежество и враждебность. И автор ополчается на них как боец.
Написав последнее слово, вдруг понимаешь, что и нем — вся суть ситуации. Разрыв, расхождение с окру жающим, ощутимые в позиции автора, нисколько нг меньше, не менее остры, чем, скажем, у Кафки; но автор, в противоположность Кафке, себя утверждает нг отщепенцем, не жертвой, а — бойцом в окружении. Виг этого стратегического или, что то же, историко-куль турного плана не понять феномена Лосева. Его деятель ность для него — арьергардный бой русской христиан ской культуры. Она ушла, отступила, но он волей судь бы остался, и он не складывает оружия. Арьергардный боец — вот образ автора в «Диалектике мифа». И это же — образ для фигуры Лосева вообще. До великого перелома. Образ для следующего периода тогда напра шивается уже сам: пленный боец. «Миф Лосева» начал вырисовываться.
Содержание побочной, или «взрывной» линии и «Диалектике мифа» мы рассмотрим поздней; первым жг долгом надлежит заняться главною, или «научной ли нией (впрочем, как выяснится, обе линии достаточно вза имосвязаны, и «взрывчатые гнезда» — вовсе не чужерод ные вставки, безотносительные к основной теме). Итак, как же здесь проводится анализ мифа? В свете наших первых разделов следовало бы ожидать, что он прово дится по методу диалектико-феноменологического кон струирования. Однако это не так. В рамках этого метода миф Лосевым уже рассматривался раньше не раз (и «Философии имени», «Диалектике художественной формы», а особенно в «Очерках античного символиз
ма»), и подобное рассмотрение не требует целой книги. Миф тут — одна из категорий общей эйдетики, означающая определенный момент или стадию диалектического конструирования эйдоса, пути его (само)созидания и (гамо)воплощения. Особенность этой стадии в том, что она — последняя, завершающая: предел воплощенности »йдоса. «Миф есть необходимое завершение диалектики»[404]. Исходя отсюда, нетрудно понять типовые диалектико-феноменологические формулы мифа. В этих формулах обычно участвует еще одна лосевская категория — интеллигенция, или (само)сознание. Она определяется гак: «сознание, интеллигенция есть соотнесенность смысла с самим собой»[405] и возводится Лосевым, в ближайшей степени, к Фихте[406]. Связь же ее с мифом утверждается у Лосева из того соображения, что завершение и предел воплощенности, выраженности, выражения есть воплощен- ность в живом и наделенном сознанием (интеллигенцией). После этого пояснения приведем одну-две типичные формулы: «Миф... это — эйдос, данный как интеллигенция»[407]; или наоборот: «Миф есть... интеллигенция как эйдос»[408]; или несколько подробней: «Миф есть эйдос, интеллигентно соотнесенный с самим собою и осуществленный в виде вещи. Другими словами, это — вещественно данная эйдетическая интеллигенция, личное и живое существо или просто живое»[409] (курсив мой. — С.Х.).
Итак, специфика мифа в том, что он — предельная воплощенность и выраженность, что он «осуществлен в виде вещи» и тем самым «есть непосредственно ощущаемая действительность»[410]. Он «уже не есть эйдос, он — и бытие»[411]. Однако все формулы, которые производит диалектико-феноменологическое конструирование, это принципиально «умные» формулы, рисующие смысловую картину той или иной сущности, в данном случае — сущности мифа; они — в рамках эйдетики, и раскрывается в них именно эйдетика мифа, только она. Но раз
миф — не только эйдос, но и бытие, а точней — чу вот венная и эмпирическая реальность (лосевская формул,I не совсем аккуратна, нельзя противопоставлять эйдос бытию), то исследовать миф — это не только и даже нг столько описать эйдос мифа среди других эйдосов, но также и описать собственно сам миф как «вещь» среди других вещей. Этого уже не может сделать эйдетика; вег «умные» формулы не дают возможности опознать миф и здешней реальности, выделить и очертить в ней область мифа среди других явлений и областей. Они не дакл средств различить в окружающем: это — миф, а это не миф: даже когда они говорят «миф есть живое», «миф есть личность» — это об эйдосах, на уровне эйдо сов; как миф, который тут, связан с личностью, которая тут, с человеком (да и вообще, человека ли разумеет Лосев под личностью?), — увы, остается неизвестным.
Вывод же — самый простой: эйдетика мифа необхо димо должна быть дополнена конкретикой мифа, рассмотрением его в эмпирической реальности. Уточним: речь не идет о «конкретике» в узком смысле эмпиричео кого подхода к мифу, сбора материалов, анализа част ных черт конкретных мифов и т.п. Отнюдь нет. Но, ос таваясь (как и сказано выше) на уровне обсуждения принципиальных черт мифа, построения его дефиниции, мы, тем не менее, обнаруживаем, что помимо дефиниций эйдетических, изобилие которых без особого труда стро илось в предыдущих книгах, требуется и дефиниция иного рода, построенная непосредственно в терминах здешней реальности. Получению такой дефиниции и по священа «Диалектика мифа». Но, прежде чем обсуждать решение этой задачи, нужно сделать еще одно общее за мечание — о связи мифа и символа (эта связь отчасти затрагивается и в самой книге (V), но, в соответствии с ее конкретными установками, совсем не в плане теорети ческого анализа).
Нетрудно видеть, что тут возникло если и не проти воречие, то, во всяком случае, необходимость уточнения. Вспомним, что у нас говорилось о символе: по Лосеву, это — «эйдос, воспроизводимый на ином», «данный как своя собственная гипостазированная инаковость» и тем самым как чувственное содержание (наряду с умным), поскольку инаковость интеллигибельной реальности эйдоса есть чувственное. Синтез эйдоса и его инобытия и символе заключает диалектический процесс. И по всему
сказанному, понятия символа и мифа оказываются как будто бы конкурирующими: оба они претендуют на то, чтобы быть пределом воплощенности, осуществленности »йдоса и «необходимым завершением диалектики». Вопрос разрешается у Лосева следующим образом: указанная роль безоговорочно закрепляется за мифом, символ же ее разделяет в некоем ограниченном смысле: постольку, поскольку сам он тоже мифичен, совпадает с мифом. ,)то соотношение символа и мифа у Лосева не анализируется особенно подробно, но общий его характер вырисовывается с достаточной ясностью. Хотя символ и есть совершенное двуединство эйдоса и инобытия и, в этом смысле, предельная воплощенность (облеченность в иное), однако же он не есть, вообще говоря, предельная выраженность: ибо таковая требует не просто воплощенности, но — воплощенности в живом и личном, что в лосевской терминологии означает обладание интеллигенцией. Символ может как обладать, так и не обладать ею; но миф, согласно своим дефинициям, обладает ею всегда. «Символ, ставший интеллигенцией... превращает сущность уже в живое существо или миф»[412]. Таким образом, миф заведомо обладает не только полнотой воплощенности, но и полнотой выраженности и потому способен быть «сильней», напряженней символа по своей выразительности; он всегда личностен, тогда как символ может бь*ть только лишь статуарен. Отсюда очевидна близость лосевского решения известной концепции Вячеслава Иванова, согласно которой миф — это, вольно выражаясь, оживший символ, а выражаясь точней, это символ, «получивший глагольный предикат», сделавшийся действующим лицом, протагонистом некоторого действа, драмы, мистерии. Оба понятия в итоге связаны самым тесным образом, и миф выступает как символ некоего высшего градуса выразительности, который достигается в символе интеллигентном, т.е. в личности. «Тождество символа и мифа... есть личность»[413]. В силу этой связи наше «уравнение» диалектика + феноменология = символизм равносильно соотношению диалектика + феноменология = мифология, и выдвижение мифа на первый план не заставляет отказываться от характеристики философии Лосева как символизма.
5
Построение «конкретной» дефиниции мифа по своей методике, естественно, весьма отличается от знакомого нам конструирования эйдосов. Требуется охарактеризо вать, выделить миф среди явлений здешней реальности и видов деятельности человека; и к этому можно подходить стандартным (в частности, применявшимся и у Шеллин га) путем последовательных отграничений мифа от смеж ных, близких явлений. Именно так и развивается изло жение, причем избранная методика естественно определя ет и композицию книги: каждому из отграничений мифа автор посвящает особый раздел. Сама же серия смежных явлений, через противопоставление которым миф обрета ет свою определенность, у Лосева выбирается такою: вымысел (§1), идеальное бытие (§ II), наука (§ III), метафизика (§ IV), схема, аллегория (§ V), поэзия (§ VI), догмат (§ IX), историческое событие (X).
Методика «определения через отрицание» восходит к классической средневековой традиции апофатического (негативного, отрицательного) богословия: Бог постигается через предельное отрицание, констатирующее, что Он не есть никакая из вещей наличного бытия. Необходимым дополнением к апофатической традиции служит в христианском умозрении подход катафатического (положительного) богословия: Бог постигается через предельное утверждение, приписывающее Ему в превосходной степени совершенства вещей наличного бытия. Философская мысль Лосева неявно, но прочно несет в себе печать церковно-православного учения и стиля мысли; и наряду с «апофатическою» методикою в «Диалектике мифа» у него присутствует и «катафатическая». Миф характеризуется, наряду с отграничениями, также и серией отождествлений: миф есть
символ (§ V), личность (§ VII), чудо (§ XI).
И, наконец, выделяется одна важная область, тесно прикосновенная к мифу, однако не допускающая занесе-
иия ни в отрицательный, ни в положительный ряд, имеющая с мифом и глубокое родство, и существенное различие:
религия (§ VIII).
Такова панорама книги. Едва ли нам целесообразно прослеживать и разбирать ход рассуждений в каждом разделе. Это без труда проделает сам читатель, ибо тут псе просто, тут почти вовсе нет искросыпительного аппарата диалектической эйдетики. Но надо отметить, что апофатический путь в данном случае приносит отнюдь не чисто негативные выводы: анализируя каждое из отграничений мифа, всякий раз для отграничиваемого явления как для некоего негатива обнаруживается и определенный позитив, и получаемые выводы имеют типовую форму «миф есть не это, а вот то-то». Для отграничений, разбираемых в разделах I — VI, подобные выводы сжато резюмированы в разделе VII, и мы сейчас приведем их (еще сократив немного и потому не ставя кавычек).