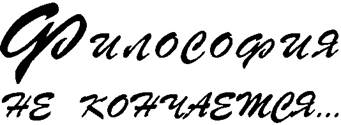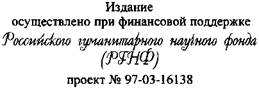2. Митин М. О философском образовании в СССР // Под знаменем марксизма. 1938. № 3. С. 15-16.
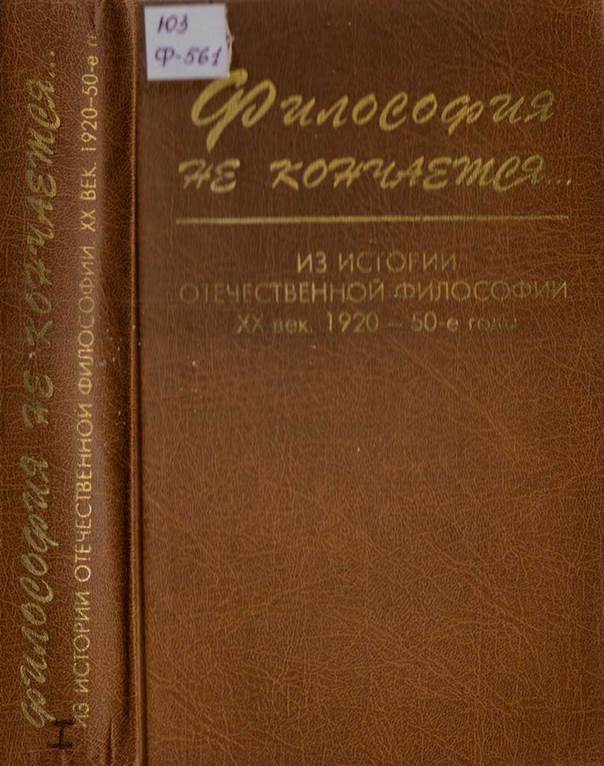
|
ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ. XX век. 1920 — 50-е годы |
Москва
РОССПЭН
|
|
 |
Ф 56 Философия не кончается... Из истории отечественной философии. XX век: В 2-х кн. / Под редакцией В.А.Лекторского. Кн. I. 20 —50-е годы. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1998. - 719 с.
Книга посвящена изучению сложных путей развития философской мысли в СССР в 20 —50-е годы. При этом прежде всего в ней представлено творчество тех философов, которые в определенной мере находились вне официальной линии развития философии, но идеи которых оказались сегодня весьма актуальными в мировом философском процессе. Это, в частности, творчество таких людей, как А.Богданов (разработка «Тектологии»), А.Лосев, М.Бахтин, Г.Шпет и др. В книгу вошли в основном статьи, опубликованные в последние годы в журнале «Вопросы философии». Некоторые статьи написаны специально для данного издания. Публикуемые материалы разделяются на две части: в первой обсуждаются общие вопросы, характеризующие ситуацию, в которой жили и работали философы в эти годы; вторая посвящена анализу творчества отдельных мыслителей.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.
ББК 87.3(2)6
© «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1998. © В А. Лекторский, редакция, составление, примечания, 1998. 18ВN 5-86004-153-5 © Авторский коллектив, 1998.
Предисловие
Существует довольно распространенное мнение, что после высылки из России в 1922 г. выдающихся религиозных философов всякая подлинная философская жизнь в стране прекратилась и заслуживающей этого имени философии у нас не было по крайней мере до самого последнего времени (некоторые говорят, что до 1991 г.). Легко привести множество фактов, которые, казалось бы, подтверждают это мнение.
Действительно, 20-е годы историки советской философии (как отечественные, так и западные) описывают прежде всего как борьбу т.н. «диалектиков» и «механистов». Нам сегодня ясно, что, хотя судьба многих участников этих споров впоследствии сложилась трагически, сам спор имел отдаленное отношение к реальным философским проблемам и во многом был лишь средством решения идеологических и политических вопросов. Чего-то такого, что было бы философски поучительным сегодня, трудно найти, как у «диалектиков», так и у «механистов». Анализ этих дискуссий может быть интересен разве что с точки зрения изучения становления тоталитарной идеологии в Советском Союзе.
30-е годы — это время полного и безнаказанного торжества сталинизма в философии, годы, когда преследовалась уже всякая хотя бы в какой-то мере самостоятельная мысль.)Параграф «О диалектическом и историческом материализме» сталинского «Краткого курса истории ВКП(б)» был официально объявлен вершиной философского развития человечества, и вся публикуемая философская продукция должна была быть простым его комментарием.
40-е, 50-е годы — время идеологических кампаний как в философии, так и в естественных и социальных науках (философская дискуссия 1947 г., дискуссии в биологии, физиологии, психологии, языкознании и др.), нремя безжалостного искоренения всякого инакомыслия.
Казалось бы, о каком философском творчестве в таких условиях может быть речь? Ведь философия по самой своей сущности критична. Она более критична,
чем любая наука, так как именно философия подвергает суду также и те предпосылки, из которых, как из чего-то естественного, исходит научное исследование. Как возможна философия в условиях полного подавления свободы творчества?
Это рассуждение вполне логично, с ним нельзя не согласиться. Однако вот некоторые факты.
Самые популярные сегодня в мире русские философы и философствующие теоретики — это не представители русского религиозного Ренессанса начала столетия (последние из которых были высланы на «философском пароходе»), а мыслители, разработавшие свои концепции в Советской России в 20-е и начале 30-х годов. Это, в частности, М.М.Бахтин и Л.С.Выготский. Многие современные зарубежные теоретики считают, что в работах М.М.Бахтина и Л.С.Выготского заложена новая философская парадигма наук о человеке. Так называемая «всеобщая организационная наука» А.А.Богданова, которую он продолжал разрабатывать в 20-е годы и которая органично связана с идеями его философии, признается сегодня многими историками науки в качеств^ предвосхищения тех новых подходов (в частности, системного движения), которые наука стала осваивать лишь в последние десятилетия. Многие исследователи считают, что в работах Г.Г.Шпета 20-х годов сформулированы идеи герменевтики, получившей развитие в западной философии гораздо позже. Работы А.Ф.Лосева 20-х годов сегодня переиздаются, комментируются, изучаются и находят отклик у философов, филологов, культурологов. Я уже не говорю о том, насколько влиятельны сегодня мировоззренческие и методологические идеи В.И.Вернадского, разрабатывавшиеся им в 20-е, 30-е годы.
В чем тут дело?
На мой взгляд, это серьезный и интересный вопрос, которй нужно обсуждать. Позволю себе высказать собственную точку зрения.
Прежде всего следует иметь в виду, что даже после 1922 г. (год высылки религиозных философов из Советской России) в течение какого-то времени существовала относительная свобода публикаций, возможность обсуждать даже те точки зрения, которые не совпадали с господствующей идеологической ортодоксией. В конце 20-х, начале 30-х годов эта свобода исчезла.
Нужно заметить, что самые интересные философские идеи были развиты в это время не в сфере чистой философии, а в связи с исследованием каких-то иных научных проблем. Л.С.Выготский и С.Л.Рубинштейн выступали как психологи и формулировали свои философские подходы в контексте обсуждения теоретических проблем психологии. М.М.Бахтин мог восприниматься как теоретик литературы. А.А. Богданов преподносил свою «всеобщую организационную науку» как вообще выходящую за рамки философии (хотя в действительности он обсуждал и рамках своей концепции многие фундаментальные философские сюжеты). Г.Г.Шпет, казалось бы, чистый философ, феноменолог, ученик Э.Гуссерля, в 20-е годы стал заниматься этнопсихологией и искусствоведением, работал в Психологическом Институте, был одним из руководителей Государственной Академии Художественных Наук (ГАХШ. А.Ф.Лосев работал в 20-е годы как историк античной философии, а после ссылки, т.е. в 30-е и 40-е годы, выступал в качестве специалиста по античной мифологии, преподавал древнегреческий язык и литературу. Что касается В.И.Вернадского, то он вообще был официально признан именно в качестве естествоиспытателя, крупнейшего ученого, создателя ряда новых направлений .в науке и новых наук (вроде геохимии), а в последние годы жизни был вице-президентом Академии Наук СССР. Все дело, видимо, в том, что работа в специальных областях знания, как казалось, могла облегчить (хотя бы до некоторой степени) разработку неортодоксальных философских идей.
Однако даже уход в эти области не мог защитить от идеологических нападок. Все философы, представленные в данной книге, подвергались преследованиям. М.М.Бахтин, А.Ф.Лосев и Г.Г.Шпет высылались или были заключены в концлагеря. Последний умер в ссылке. А.Ф.Лосеву в течение долгого времени было запрещено заниматься философской деятельностью. М.М.Бахтин был на положении полуопального почти в течение всей жизни. После смерти Л.С.Выготского (думаю, что если бы он пожил чуть подольше, он тоже не избежал бы заключения или высылки) все его работы были по сути дела запрещены (запрет действовал вплоть до 60-х годов). А.А.Богданов в течение жизни подвергался идеологической травле как философский противник В.И.Ленина, после смерти А.А.Богданова его философские и
научные работы нельзя было серьезно обсуждать.
В.И.Вернадский еще в 20-е, начале 30-х годов был подвергнут шельмованию как идеалист и перестал после этого публиковать свои философские работы.
Можно утверждать, что для всех мыслителей, о которых идет речь в данной книге, свободная философская мысль была способом борьбы со сталинским режимом, способом интеллектуального сопротивления тому тоталитарному порядку, который устанавливался в стране. Можно далее заметить, что все эти люди получили философское образование, а некоторые из них опубликовали философские работы еще до революции. Поэтому логично было бы рассматривать их философские концепции как продолжение работы дореволюционной русской философии в новых, неимоверно трудных условиях. Кажется, что можно даже говорить об этих мыслителях как о своеобразных «посланцах» дореволюционной русской культуры в чужом лагере, как о людях, которые пытались сделать все, что могли, для того, чтобы сохранить какие-то философские традиции в тех условиях, в которых сделать это, казалось бы, невозможно. Действительно, например, А.Ф.Лосев органично связан с проблематикой русской религиозной философии и вполне основательно рассматривается многими как один из последних крупнейших представителей этой линии в философии. Г.Г.Шпет учился у Э.Гуссерля и уже до революции был вполне сложившимся феноменологом. М.М.Бахтин был учеником известного русского кантианца А. А. Введенского, испытал большое влияние немецких неокантианцев. Л.С.Выготский уже до революции печатал свои первые работы, которые никакого отношения к марксизму не имели. У неокантианцев в Германии учился и С.Л.Рубинштейн. А.А. Богданов был известным философом и политическим деятелем задолго до революции. Он был в течение многих лет как философским, так и политическим оппонентом В.И.Ленина. В.И.Вернадский был до революции крупным ученым и деятелем кадетской партии. Он не только не принял Октябрьскую революцию, но в течение некоторого времени вел активную политическую борьбу против советской власти. Можно, таким образом, заключить, что все эти люди были принципиально чужды всему происходившему в нашей стране после революции, что единственную свою задачу они ви
дели в интеллектуальном сопротивлении тому ужасному, что совершалось в это время.
Однако, если мы сделаем такой вывод, мы будем все же не до конца правы. Действительная ситуация сложнее.
Конечно, все мыслители, о которых идет речь в книге, не принимали того социального строя, который стал складываться в Советской России в 20-е годы и окончательно сложился в 30-е годы. Все они были решительными противниками сталинского режима. Однако я хотел бы обратить внимание на то, что некоторые лозунги, провозглашенные новым строем, по-видимому, им импонировали, хотя и в разной степени (и разным из них по-разному). Речь, в частности, идет о претензии на рациональное переустройство системы общественных отношений и отношений между обществом и природой. Нужно сказать, что ощущение необходимости какого-то радикального поворота в развитии цивилизации, Идея об исчерпанности западного индивидуализма разделялась практически всеми этими людьми. Для А.Ф.Лосева буржуазный индивидуализм был предметом насмешек и брани на всем протяжении его творчества. А.А.Богданов замышлял свою «всеобщую организационную науку» как средство для разумного планового переустройства общества на началах коллективизма. Л.С.Выготский думал о грандиозной реформе психологии как о средстве для создания «нового человека». Концепция «полифонизма» и «диалогизма» разрабатывалась М.М.Бахтиным в контексте критики традиционного индивидуализма в философии и науках о человеке. В.И.Вернадский развивает грандиозную концепцию коллективного человеческого разума, одна из основных его идей — это идея о возможности создания «ноосферы», преобразования на разумных основаниях как социальных отношений, так и отношений человечества и природы. Думаю, что если и не все, то большинство этих мыслителей не были против самой идеи социализма, хотя их понимание последнего могло далеко расходиться с тем, которое было тогда официально принято в Советском Союзе.
Особенность, отличающая почти всех этих мыслителей (может быть, за исключением А.Ф.Лосева) от доминировавшего направления дореволюционной русской философии, состоит в культе разума, в убеждении, что с помощью рациональных средств возможно решение если
и не всех, то большинства человеческих проблем. Поклонником разума, ориентированным на научность философии (хотя сама эта научность понималась им в духе ранней гуссерлевской феноменологии), был и Г.Г.Шпет, который весьма критически оценивал всю русскую религиозную философию. Нужно сказать, что культ разума и развитие науки в этот период — не нечто противостоящее новой идеологии, а во многом результат происшедшей революции. «...В первые 15-20 лет советской власти обнаружился необъяснимый, казалось бы, феномен — несмотря на разруху послереволюционного времени наука в России стала не только возрождаться, но пережила невиданный взлет в целом ряде важных отраслей. К 30-м годам советские ученые были признанными авторитетами в биологии (особенно в генетике), физике, математике, лингвистике. Невиданный всплеск происходил в психологии. ...И, опять же, всплеск этот (что надо признать) произошел не вопреки революции, а благодаря ей, благодаря тому, что она высвободила энергию материализма, веру в преобразующую силу человека, в его возможности перевернуть мир» («Начала христианской психологии». М., 1995, с. 13).
Таким образом, можно, как мне представляется, утверждать, что развитие обсуждаемых в этой книге философских концепций в 20-е, 30-е годы — это не простое продолжение того, что было главной линией дореволюционной русской философии (а эта линия связана прежде всего с религиозно-философской тематикой), а что-то новое.
Поэтому некоторые из мыслителей, о которых идет речь, совершенно естественно (а не просто с целью политической мимикрии) восприняли марксизм, дав ему, правда, свою, еретическую с официальной точки зрения, интерпретацию. Всегда считал себя марксистом А.А. Богданов, хотя он критиковал В.И.Ленина, рассматривал Октябрьскую революцию как преждевременную, не принимал многое из того, что происходило в СССР в 20-е годы. Марксистом был Л.С.Выготский, хотя считал плодотворным также ассимиляцию идей, разработанных в рамках таких психологических концепций, которые предполагали иные философские основания (психоанализ, гештальт-психология, французская психологическая и социологическая школа и др.). С.Л.Рубинштейн дал оригинальное истолкование ряда идей К. Маркса и ис
пользовал это истолкование для обсуждения некоторых кардинальных проблем психологии и наук о человеке. Думается, что использование марксистской терминологии н ряде публикаций М.М.Бахтина в конце 20-х годов гоже не было простой уступкой конъюнктуре. Наконец, как показал С.С.Аверинцев, усвоение марксистской терминологии А.Ф.Лосевым в 30-е годы тоже не было случайным, а связано с некоторыми особенностями концепции последнего.
До сих пор мы не имеем серьезной и объективной истории философской мысли в нашей стране в 20-е — 50-е годы. То, что представлено в данной книге, — только отдельные очерки, только начало такого изучения. Хочу надеяться, что это начало будет иметь продолжение.
Большинство из публикуемых здесь текстов было напечатано в последние годы в журнале «Вопросы философии», а также в журнале «Человек» и некоторых других изданиях. Некоторые статьи написаны специально для данной книги.
Публикуемые материалы делятся на две части. В первой части обсуждаются общие вопросы, характеризующие ситуацию, в которой жили и работали философы в :>ти годы. Вторая часть посвящена анализу творчества отдельных мыслителей.
В.А.Лекторский
ЧАСТЬ I
Н.И.Гаген-Торн
Вольфила: Вольно-Философская Ассоциация в Ленинграде в 1920-1922 гг.
Годы задвинули створки памяти, как створки дверей крематория. Все ли сгорело внутри? Остались когда-то звучавшие ритмы. Стараюсь уплотнить их в слова. В словах они кажутся неправдоподобными, слишком многое изменилось с тех пор. Это обязывает записать то, что уцелело в моем сознании, стараясь правдиво показать, что именно уцелело.
Удержание памятью — не объективно. Я, этнограф, знаю, что ценность свидетельства лишь в немедленной записи.
Остальное — подменяется памятью.
Хитрый старик Богораз учил нас на лекциях: «Каждый рассказ имеет законных 25% лжи. И в каждой лжи заключено зерно правды потому, что у человека не может хватить фантазии все выдумать: в основу он неизбежно возьмет правдивый факт. Дело этнографа — отслоить остальное».
А Борис Николаевич Бугаев — писатель Андрей Белый — говорил: «Все субъективное — объективно, а псе объективное — субъективно». Субъективное потому объективно, что отражает закономерности человеческого сознания, а объективное, или принимаемое за объективное, неизбежно окрашивается личным взглядом передающего.
Я постараюсь восстановить те двадцатые годы, как они отложились во мне. Обещаю только искренность передачи.
Вольно-Философская Ассоциация помещалась на правом берегу Фонтанки, почти напротив Аничкова дворца. Кажется, это были служебные дворцовые здания, в одном из которых Петрокоммуна отвела Вольфи- ж* квартиру. В Управлении Петрокоммуны был Борис Гитманович Каплун, старый большевик, племянник Урицкого, но — меценат и радетель Вольфилы, безмер
но интересовавшийся делами русской литературы, почитатель Андрея Белого и А. Блока.
Его-то стараниями Вольфила получила помещение и организационные субсидии. Но точно я не знаю материальной стороны этого дела. Знаю, что помещения тогда раздавались бесплатно. Бесплатно читали доклады и лекции, бесплатно приходили слушать — все желающие. Собирались в Вольфиле и цвет питерской интеллигенции — писатели, ученые, художники — и совсем зеленая молодежь.
Войдите на третий этаж. Там — открытая дверь на лестницу. Из просторной темноты прихожей еще — вы услышите голоса. Откройте дверь. Прямо перед вами горят закатом большие, выходящие на Фонтанку окна. Они отражаются в слегка помутневшем зеркале над камином, что у противоложной окнам стены.
На полу, во всю комнату расстелен ковер. Рядами расставлены стулья. Кому не хватило места на стульях — усаживались на ковре.
Боком к окнам — стол и кресла президиума, а за ними — дверь в библиотеку. Это — зал заседаний. Дальше из передней, по коридору, — комнаты семинарских занятий.
В креслах президиума располагались: Разумник Васильевич Иванов (автор «Истории русской интеллигенции» Иванов-Разумник), Дмитрий Михайлович Пинес (библиограф и литературовед) и очередной докладчик. Кто выступал с докладами? Разные были темы и разные люди, как разнообразны бывали и слушатели. Собственно, вряд ли правильно говорить «слушатели»; вернее, они «выступатели», в беседе на поданную докладчиком тему.
Со страстью пришепетывал и жестикулировал профессор математики Чебышев-Дмитриев, поднимая вопрос о математической логике, неэвклидовой геометрии и принципе относительности Эйнштейна.
Кантианец Арон Захарович Штейнберг отвечал ему, указывая, что Кант, более столетия назад, выдвинул принцип относительности времени и пространства, считая их гносеологическими координатами.
Штейнберг был учен, корректен и суховат. Он вел в Вольфиле специальный семинар по Канту.
В беседу вступал Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. В рубашке с распахнутым воротом, вертя круглой, ко
ротко стриженной головой, он врывался в тему времени и пространства, говоря о системе художественного восприятия. На посвященном этому вопросу заседании читал отрывки своей будущей книги «Время, пространство, движение».
О.Д.Форш
И Ольга Дмитриевна Форш басовито гудела: «Позвольте, Кузьма Сергеевич, я не могу согласиться с Вашим определением зрения художника. Хотя все, как всегда у Вас, необычайно интересно».
Ольга Дмитриевна Форш была одним из активнейших членов Вольфилы. Ей уже шел пятый десяток, в черных волосах поблескивало серебро, она была старею- ще-полнотела, но живые черные глаза смотрели остро и насмешливо. Она усмехалась, шевеля усики над губой, и явно была уверена — все еще впереди. Так и было. Ведь в 20-е годы еще не был ею написан ни один роман, не существовало ни «Одетых камнем», который она кончила к 25-му, работая вместе с историком П.Е.Щеголевым, ни «Сумасшедшего корабля», не говоря уже о позднейшем творчестве.
В те времена Ольгу Дмитриевну считали скорее художницей, чем писателем. Она приводила в Вольфилу Елену Данько, выпустившую маленькую книжку стихов (а в основном занимавшуюся рисованием и росписью по фарфору), спорила с Петровым-Водкиным, требовала от Бориса Николаевича Бугаева уплотнения его формулировок. Ольга Дмитриевна конкретно и уплотненно видела жизнь. Была великолепной рассказчицей: невозмутимо приподняв бровь, умела отметить смешное[1]. И с интересом, немного скептически, следила за взлетом символизма.
Споры кончались поздно, когда уже догорал закат, из окон вступала белая ночь. Тогда милиционер Миша поднимался и со вздохом говорил — «надо идти на дежурство». Он брал из угла за камином винтовку, которую ставил туда, придя на диспут, и уходил на свой пост. Все называли его «товарищ Миша». Он был молод, лет 20-ти, служил милиционером на ближайшем
посту и яро выступал на диспутах, начиная всегда: «с марксистской точки зрения я должен сказать...» Он не хотел пропускать ни одного заседания, а так как милиционеры в те времена не носили формы, но стояли на посту всегда с винтовкой, он приносил ее с собой в Вольфилу и отправлялся на дежурство прямо с диспута.
Разумник Васильевич бесстрастно покуривал трубочку, одинаково предоставляя возможность выступать и профессору Чебышеву-Дмитриеву, и утонченному поэту Константину Эрбергу, с седеюще-львиной головой, и юному марксисту Мише. 20-летней девчонкой я тоже вспрыгивала с места, просила слова и яростно вступала в спор.
Разумник Васильевич попыхивал трубочкой, никому не мешая высказываться. Лишь мягко направлял порядок выступлений. Требование изучать марксизм рассматривалось беспристрастно, как и требование абсолютной свободы, котрое выдвигал поэт Константин Эрберг, называвший себя анархистом. У него были подстриженные седеющие усы, миндалевидные зеленые глаза, хорошо завязанный галстук и палка с серебряным набалдашником. Он только что выпустил книжку стихов под названием «Плен». На ее обложке обнаженные руки натягивали лук, пуская в звездное небо стрелу. Он умел говорить элегантно и вежливо. Этого не умел, вступая с ним в спор, поэт Владимир Пяст. Большой и тяжелый, слегка заикаясь, он требовал непреложных истин, без компромиссов. Говорил про себя, для себя, не замечая окружающих.
Разумник Васильевич с бесстрастной справедливостью регулировал прения. И Дмитрий Михайлович Пинес, приветливо поблескивая пенсне, взглядом подтверждал — каждый может говорить все, что думает, во что верует... Каждый... Когда Дмитрий Михайлович улыбался, все понимали: спор надо вести, уважая противника.
Д.М.Пинес
Дмитрий Михайлович был сердцем Вольфилы. Мягкое сердце, но непреклонная справедливость. Его длинная фигура поднималась из-за стола для возражения. Все знали: возражения будут без ущемления противника, вдумавшись в его точку зрения.
Д.М.Пинес, как камень в глубокую воду, канул в лагеря и без вести пропал там.
Мало кто знает теперь об этом человеке, и я должна рассказать все, что помню, потому, что это был настоящий человек. Было ему в то время лет 30. Он был высок, угловат, очень худ. Поблескивало пенсне на подвижном лице. Вдруг освещала лицо улыбка и опять пропадала. Он становился сосредоточен. С женой Розой Яковлевной Мительман, приветливой светловолосой женщиной, ласково подтрунивавшей над его рассеянностью, над вечным желанием кому-то помочь, доставить радость и деловито принимавшейся помогать ему, они жили на 6-й Советской в первом этаже. Стоя на мостовой, можно было видеть густоволосую голову, склоненную над столом.
Белыми ночами, набродившись по городу, в юношеской тревоге от обступающих, охватывающих, как половодье, мыслей, подходила я к этому окну. Горела настольная лампа зеленым светом, склонялась над столом темноволосая хохлатая голова. «Дмитрий Михайлович! Дмитрий Михайлович! — звала я. — Я должна вам нечто сказать». Он открывал окно, приветливо улыбаясь: «Нина Ивановна, — говорил он вежливо, — я с удовольствием бы послушал вас, но сейчас половина первого. Ворота у нас закрывают в 12 ч., и я не знаю, как вас впустить».
— Я влезу к вам по трубе. Вот она! — Молодой обезьяной я лезла по трубе, и не успевал он сдвинуть заваленный книгами стол, как я садилась на подоконник и начинала: «Мне кажется, Дмитрий Михайлович, что Владимир Соловьев в “Критике отвлеченных'начал” великолепно разделал западную философию! Несостоятельность абстрактного мышленья. Никакой Арон Захарович не найдет возражений на его аргументы о негодности попыток Канта доказывать бытие Бога, как вещи в себе, гносеологическими постулатами! Несчастный старик Кант жестоко и трагически ошибался, опираясь на гносеологию! Я хотела бы написать его биографию и понять — что с ним случилось?
Вы подумайте: был веселый доцент, занимавшийся естественными науками, жадно изучавший географию этой планеты. Открыл закон Канта-Лапласа. Мечтал о путешествиях. И вдруг — отрезал себя от мира явлений, ушел в мир абстракций, надеясь найти там Бога. И
ходил по Кенигсбергу с точностью часов. Что с ним произошло? Я когда-нибудь, наверное, напишу об этом...
— Конечно! Это очень интересная биография, — отвечал Дмитрий Михайлович. — Пишите! Еще не останавливались на этом душевном кризисе! Я думаю, это будет интересная работа».
Со всей серьезностью и уважением он выслушивал завиральные идеи 20-летней девчонки или ее самоуверенные стихи. В другой раз, влезая по трубе, я вдруг сообщала:
Земля — только круглая груда,
Как ком испеченного хлеба...
А небо, веселое небо,
Над нами, под нами и — всюду!
— Понимаю, — говорил он, — продолжайте!
— Это все! Жить — очень интересно. Покойной ночи, Дмитрий Михайлович!
И, соскользнув вниз по трубе, уходила бродить по светлому пустому городу, над которым мерцало светлое небо, а шаги очень гулко отдавала тишина подворотен.
Город в те времена был пуст. Почти не дымили заводы. Небо стало прозрачным. Извозчики вывелись, а машины — не завелись еще. Только пролетали грузовики да изредка позванивали трамваи. На мостовых, между булыжниками, пробивалась трава. Стены домов были заклеены газетами и афишами, объявлениями и приказами Петрокоммуны. Пешеходы останавливались и читали все весьма внимательно. Особенно в очередях, выстраивавшихся у немногих не забитых досками магазинов — за продовольственными пайками.
На забитые досками окна наклеивали нарядные плакаты или афиши. По такой афише, в 20-м году, я и узнала о существовании Вольфилы: прочла, что в Демидовом переулке, в здании Географического общества, Андрей Белый прочтет лекцию о кризисе культуры.
Я уже знала этого писателя — с восхищением читала «Симфонии» и «Петербург». Побежала слушать.
Как все студенты нашего общежития, я поголадывала на скудном пайке, но не замечала этого, охваченная не- насытимым голодом узнавания. Мы были уверены, что строим новый мир и примерно к завтрему он будет построен. Надо только поскорее узнать, как это лучше сделать! Мы то спорили на лекциях, то бегали в филармо
нию и усаживались на хорах, прямо на полу, — слушая симфонические концерты. Мы нашли боковую лестницу, прямо с улицы, которая вела на хоры. Двое чинно входили с билетами в руках, проскальзывали и открывали потаенную дверь. Остальные вбегали по этой лестнице. Мы знали все интересные доклады и лекции в городе. Но на Андрея Белого из Университета пошли немногие.
Верхний, большой зал Географического общества был переполнен. Он почти не подвергся изменениям за полстолетия. Тогда, как в дореволюционное время и как теперь, светлели высокие стены, прорезанные огромными окнами. По вечерам ходят там желтые тени по потолку от невидимых электроламп. На возвышении кафедра красного дерева и кресла президиума. Тянется зеленым сукном стол. Внизу — ровные, светлые ряды стульев. Все приспособлено к комфорту и покою мысли. За столом президиума — маститые, именитые люди, люди науки. На лекции Андрея Белого тоже сидели, с моей 20-летней точки зрения, почтенно стареющие люди. Я жадно всматривалась. Позвонил в звонок небольшой человек, косоватый. У него подвижный, то скорбно спокойный, то иронический рот. Блеск пенсне (он потом Ивановым-Разумником оказался). Рядом — слоноподобная громада большерукого человека (добрейший А.А.Ги- зетти). С другой стороны от звоночка — быстрые движения темной высоко вздымавшейся головы (это Дмитрий Михайлович Пинес сидел, что-то записывал). Все они — еще не знакомы, неведомы мне. А вскоре — войдут в мою жизнь на долгие годы.
Еще раз звоночек. На кафедру вышел докладчик. И — все стерлось кругом.
А.Белый
Как передать наружность Андрея Белого? Впечатление движения очень стройного тела в темной одежде. Движения говорят так же выразительно, как слова. Они полны ритма. Аудитория, позабыв себя, слушает ворожбу. Мир — огранен, как кристалл. Белый вертит его в руках, и кристалл переливается разноцветным пламенем. А вертящий — то покажется толстоносым, с раскосыми глазками, худощавым профессором, то вдруг — разрастутся глаза так, что ничего, кроме глаз, не останется. Все плавится в их синем свете.
Руки, легкие, властные, жестом вздымают все кверху. Он почти танцует, передавая движение мыслей.
Постарайтесь увидеть, как видели мы. Из земли перед нами вдруг вырывался гейзер. Взметает горячим туманом и пеной. Следите, как высок будет взлет? Какой ветер в лицо... Брызги, то выше,то ниже... Запутается в них солнечный луч и станет радугой. Они то прозрачны, то белы от силы кипения. Может быть, гейзер разнесет все кругом? Что потом? — Неизвестно. Но радостно: блеск и сила вздымает. Веришь: сама уж лечу! Догоню сейчас, ухвачу сейчас гейзер. Знаю, знаю! В брызгах искрится то, что знала всегда, не умея сказать. Вот оно как! А мы и не ведали, что могут раскрыться смыслы и обещаются новые открывания: исконно знакомого где-то, когда-то, в глуби известного.
Нельзя оторваться от гейзера.
Символизм встает не литературным приемом, не системой художественных образов — насущнейшим восприятием мира. Если рассматривать плоскость — нет символов. Но мир многогранен. Повернуть грань углами — лучи пойдут во все стороны. Они многоцветны, т.е. многосмысловы. Кристалл факта заискрится символом...
Он не умел видеть мир иначе, как в многогранности смыслов. Передавая это видение не только словом: жестом, очень пластическим, взлетающим, звуком голоса, вовлечением аудитории во внутреннее движение. Рассказывал много раз — для него стих рождался всегда из движения. Не в сидении за столом, вне комнаты, а в перемещении далей закипал. Еще неизвестно бывало, во что перельется — в чистый звук музыки или в слово. Закипало создание в движении. Отсюда необходим был позднее анализ структуры слова и отношения смысла к основе — звуку. Буквы, как букашки, разбегались по сторонам: слово вставало не в буквенном воплощении, а в звуке и цвете. Мы видели слово цветным...
В Вольфиле Борис Николаевич вел семинар по символизму и второй — по культуре духа. Я стала бывать на обоих. Как шли занятия? Для каждого они оборачивались по-своему. Сам Борис Николаевич тоже постигался различным. Ольга Дмитриевна Форш изобразила его в романе «Сумасшедший корабль» «Сапфировым юношей» и написала потом многоликий портрет, где он сразу в пяти ипостасях, поставленных рядом. Все они разные, но в каждом — проглядывает кусочек безумия.
Это — форшевский Белый. Она, слушая его, сомневалась: а не безумие ли это пророческое? Удивлялась: как может он то смотреть острым взглядом, все подмечающим, все превращающим в каламбур, и вдруг — возносит это вверх в многосмысловость, приглашает и других вознестись. Увлекательно. Но не бредово ли?
Каждый открывал в нем то, что ему было свойственно потому, что необозримо многогранен был Андрей Белый.
Он подтвердил это свойство свое в стихе:
Передо мною мир стоит Мифологической проблемой:
Мне Менделеев говорит Периодической системой:
Соединяет разум мой
Законы Бойля, Ван-дер-Вальса —
Со снами веющего вальса С богами зреющею тьмой...
Это написано в «Первом свидании» о времени юности. Тогда он, студентом-естественником, писал дипломную работу у Д.Ник.Анучина «О происхождении оврагов в Средней России». Собирался до этого написать «О происхождении орнамента» — Анучин-то был ведь и этнографом! Но — одолели овраги, довлея над юношей в полевых просторах средней России. Он, силясь бороться с ними, расколдовывал их власть, запечатлев в стихи и в «Серебряный голубь».
Власть колдовать и расколдовывать не ушла вместе с юностью. Мы видели ее в семинарских занятиях. И, быть может, потому, что там было много молодежи, вернулся он к своей юности поэмой «Первое свидание», написав ее за два дня летом 1921 года. Жил он в то время в гостинице «Англетер» (теперешняя гостиница «Россия»). Туда приходили к нему мы заниматься теорией символизма. Косо смотрел в окна комнаты солнечный лучг прорезая пыльный плюш кресел ярко-малиновым бликом. Лизал желтизну пола.
За окнами стоял Исаакий, ширилась площадь. По ней, закованной в булыжник, ходили редкие голуби.
Вскочив с кресел, Борис Николаевич расхаживал, почти бегал по комнате, излагая точные формулы мифов. Он простирал руки. Не показалось бы чудом, если б взлетел, по солнечному лучу выбрался из комнаты, поплыл над Исаакиевской площадью, иллюстрируя
мировое движение. Девицы сидели завороженные. А я?
— Сердилась на них: ну уместно ли здесь обожание? Не о восхищении, не об эмоциях дело идет: о постижении неизвестного, но смутно издавна угаданного, об открывании глубин... Не подумал бы, что и я обожаю...
Впрочем, он часто не замечал ни обожания, ни глубины производимого его словами впечатления. Елена Михайловна Тагер с мягким юмором рассказывала мне о своей (позднейшей) с ним встрече: «Мы проговорили весь вечер с необычайной душевной открытостью. Я ходила потом, раздумывая о внезапности и глубине этой дружбы, пораженная этим. Встретилась через неделю на каком-то собрании, и он — не узнал меня. Я поняла, что тогда говорил не со мной — с человечеством. Меня — не успел заметить. Меня потрясли открытые им горизонты, а он умчался в иные дали, забыл кому именно открывал».
Участница вольфильского семинара, Елена Юльевна Фехнер недавно рассказала мне, как она приходила к нему в то лето, в Троицын день, с березкой. Борис Николаевич встретил ее встревоженный и напряженный. Почувствовала: ему не до посетителей. «Я помешала, Борис Николаевич, мне лучше уйти?» — «Пожалуй, да...» И тут же переконфузился: «Спасибо вам за березку... Вы извините меня... Приходите, обязательно приходите... на днях... Я очень рад вам...» — боялся обидеть ее. И не сказал, чем он занят.
А через несколько дней уже прочитал в Вольфиле свою поэму «Первое свидание». В эпилоге были строки:
Я слышу зов многолюбимый Сегодня. Троицыным днем, —
И под березкой кружевною,
Простертой доброю рукой,
Я смыт вдыхающей волною В неутихающий покой.
Он писал в этот день. Переконфузился, чтобы не обидеть, но не мог оторваться от подхватившего потока, движения мыслей и образов. Из «неутихающего покоя» кивал нам, сигнализируя о пережитом.
Не понимаете о чем? Теперь, в 60-е годы, я сама, пожалуй, не совсем понимаю необычайную остроту переживаний. Космическую туманность образов, в которой стремилась выразить эти переживания эпоха начала XX
века. Мы пережили их. Прекрасно назвала Андрея Белого Марина Цветаева: «пленный дух». Она встретилась с ним в Берлине, в 1922 году, когда все рушилось для него, и он танцевал в берлинском кафе страшный танец, сам себя ужасая. Прекрасно, прекрасно изобразила Марина Цветаева эти метания, величие и беспомощность «пленного духа»! Мне хочется добавить к образу берлинского Белого штрих, расказанный Клавдией Николаевной Бугаевой. Раз мчался, охваченный вихрем мыслей, Борис Николаевич вниз по лестнице. С тростью под мышкой. Гнутым концом трости он зацепил какую-то даму, не замечая, поволок ее за собой. Дама кричала: «Нахал!» Наконец крики дошли до его сознания. Остановился, переконфузившись. Дама посмотрела и рассмеялась.
— 5сЬас1е1: шсЬ1, Негг Рго&ззог!1 — сказала она, поняв, что тащил — по рассеянности. В этой великой рассеянности, в растерянности метался тогда он. И друзья им распоряжались. Он хотел, чтобы распоряжались, наладили бы быт, который мучил его тысячью непредвиденных мелочей. Не умел с этим бытом бороться. Цветаева пишет, как он писал ей в Прагу, просил найти комнату рядом с ней, жаждал ее заботы, в ней видел помощь, приют от кружившего душевного вихря. Она приготовила комнату. Добилась госстипендии Чехии, где ценили великого писателя русского.
В тот самый день, когда он написал ей, что мечтает о Праге, приехала в Берлин Клавдия Николаевна Васильева, присланная московскими друзьями. Разрешение на выезд за границу за Белым получено было ею от Менжинского, ценившего писателя Андрея Белого, считавшего необходимым вернуть его в Советский Союз. Клавдия Николаевна, мягкой и властной рукой, увезла его в Москву. Он поселился под Москвой, в поселке Кучино, а потом в Москве, в подвале Долгого переулка. Но это было уже не в Вольфильские времена, много позднее, когда Клавдия Николаевна Васильева стала его женой.
В Вольфиле же видели мы Бориса Николаевича до берлинского потрясения, до внутреннего кризиса. Тогда не казался пленным духом: он взметал быт, не замечая. Взлетал на вершину культуры и оттуда показывал нам
необозримые дали истории человеческого сознания. Он, казалось, на мгновенье причалил к этой планете из космоса, где иные соотношения мысли и тела, воли и дела, неведомые нам формы жизни. Их можно увидеть. Смотрите уре\
У Г.Уэлльса есть небольшой рассказ «Хрустальное яйцо»: в лавке антиквара нашли хрустальное яйцо, если в него посмотреть — увидишь мир необычайностей. Там высятся странные белые здания, летят, казалось, подлетают к самым глазам смотрящего, крылатые существа, с человеческими глазами. Яйцо было телеаппаратом в неведомый мир. Нам ведомый мир в руках Бориса Николаевича становился таким яйцом, он играл его гранями, нам показывая.
Котик Летаев — рассказ о трудностях вхождения младенца в нашу систему сознания. Системы сознания бывают различны, как различны геометрии: Эвклидова и — Лобаческого.
Я у него обучалась пониманию возможности разных систем сознания, т.е. символизму.
Борис Николаевич был одним из основателей Воль- филы, вместе с Александром Александровичем Блоком. Он звучал как основной тон в хоре голосов, переговаривавшихся о вопросах культуры, разрешение которых ставила себе основной задачей Вольно-Философская Ассоциация. Борис Николаевич был активнейшим членом Вольфилы. Председательствовал и участвовал в прениях на разнообразных по тематике заседаниях — от заседания, посвященного вопросу о пролетарской культуре, до заседания, посвященного памяти Платона.
* * *
Наиболее невероятной кажется сейчас определяющая лицо Вольфилы свобода в трактовке тем, смыкавшихся одним понятием — человеческая культура. Были заседания, посвященные философии математики и философии искусства, беседа о материалистическом понимании истории с докладчиком от Научного общества марксистов (воскресенье, 14.VIII.21 г., XXXI открытое заседание). Доклад В.М.Бехтерева «О непосредственном восприятии» (состоялся 26.IX.20 г., XXIV засед.). В воскресенье, 10.Х. 1920 г. прочел доклад Ф.Ф.Зелинский — «Творческая эйфория» (XXV засед.).
Открытие Вольфилы в ноябре 1919 г. было начато докладом А.А.Блока на тему «Крушение гуманизма»[2].
Я не бывала в первые месяцы существования Вольфилы и лишь к весне 20-го года узнала о ней. К этому времени деятельность ее достигла полного расцвета, ежевечерне работали разнообразные кружки, в каждое воскресенье в 2 часа дня было общее собрание в помещении Вольфилы на Фонтанке № 50 или в Демидовом переулке, в зале Географического общества.
Прошло сорок пять лет. Естественно, многое для меня приняло какие-то обобщенные формы. Только отдельные картины субъективные и, по-видимому, случайные запечатлелись очень ярко. Почему я помню зрительно-ярко только две последние встречи с Александром Александровичем Блоком? Одну — вне Вольфилы, когда он последний раз в своей жизни публично читал стихи летом 1921 г. в Малом театре. Вторую — в Вольфиле на Фонтанке — когда мы собрались слушать чтение поэмы А.А.Блока «Двенадцать». Видела его много раз.
Александр Александрович не только начал бытие Вольфилы своим первым докладом, он постоянно бывал там, читал стихи, поэму «Возмездие», выступал в беседах и делал доклады. Все это я знаю, а вижу ясно только одно из последних его посещений. Может быть потому, что дыхание его лирики для нас было тогда так же повседневно, как созерцание Медного всадника и Исаа- кия, Ростральных колонн и Стрелки Васильевского Острова. Мы жили с постоянным, почти не замечаемым, присутствием Блока. Не замечали... И лишь когда его не стало, появилось физическое чувство пустоты в городе. Как бы дыры, в нем образовавшейся. Мне казалось, стоя перед Публичной библиотекой, вижу дыру в Александ- ринском театре, насквозь, в улицу Росси. А стоя перед Университетом казалось: провалился кусок Галерной, дыра идет до самого залива и оттуда дует ветер. Нету, нету в городе Блока! Может, силой этого провала и стерло все, кроме последних встреч.
О том, что будет чтение «Двенадцати», знали воль- фильцы и без афиши. Вольфильский зал заседаний был полон. Сидели на стульях, на подоконниках, на ковре.
Д.М.Пинес, Гизетти и Иванов-Разумник тихо переговаривались за столом президиума, когда вошел Блок. Очень прямой, строгий, он сделал общий поклон и прошел к столу президиума, пожимая там руки. Сказал четким и глуховатым голосом, повернув к сидевшим затененное, почти в силуэт, лицо: «Я не умею читать “Двенадцать”. По-моему, единственный человек, хорошо читающий эту вещь — Любовь Дмитриевна. Вот она нам и прочтет сегодня». Он сел к столу, положив на руку кудрявую голову. Я первый раз тогда видела Любовь Дмитриевну Блок и жадно всматривалась в ту, что воспета стихами, в ту, за которой стояла тень Прекрасной Дамы.
Она была высока, статна, мясиста. Гладкое темное платье обтягивало тяжелое, плотного мяса тело. Не толщина — плотность мяса ощущалась в обнаженных руках, в движении бедер, в ярких и крупных губах. Росчерк бровей, тяжелые рыжеватые волосы усугубляли обилие плоти.
Она обвела всех спокойно-светлыми глазами и, как- то вскинув руки, стала говорить стихи. Что видел Блок в ее чтении? Не знаю. Я увидела — лихость. Вот Катька, которая
Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьем гулять ходила - С солдатьем теперь пошла?
Да, встает Катька. Она передала силу и грубость любви к «толстоморденькой» Катьке... Но ни вьюги, ни черной ночи, ни пафоса борьбы с гибнущим миром — не вышло. Она уверяла нас об этом, вопя; но не шагали люди во имя Встающего, не выл все сметающий ветер, хотя она и гремела голосом, передавая его. Она кончила. Помолчали. Потом — аплодировали. По-моему, из любви к Блоку, не из-за чтения поэмы аплодировали — она не открылась при чтении. Кто-то спросил неуверенно: «Александр Александрович, а что значит этот образ
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос».
— Не знаю, — сказал Блок, высоко поднимая голову, — так мне привиделось. Я разъяснять не умею... Вижу так.
Когда память погружается в прошлое, усилием памяти, как проявителем на пластинку фотоснимка, выступает найденное событие. Встают отдельные сцены.
* * *
Заседание посвящено чтению Евгением Ивановичем Замятиным своего романа «Мы». Вероятно, это заседание клуба Вольфилы, а не воскресник, так как мы собрались не в Демидовом переулке, а на Фонтанке, в основном помещении Вольфилы. Пришло много народу. Рядом с председателем Ивановым-Разумником сел Евгений Иванович Замятин. Нас, молодежь 20-х годов, ходившую в рваных сандалиях, неведомо в чем одетую, удивили его гладко выбритое лицо, пробор в светлых волосах, безукоризненный костюм и манеры джентльмена. А в небольших и светлых глазах — неожиданное озорство. Быстро оглядев всех, он начал читать. Роман этот у нас не был напечатан, и мало кто теперь помнит о нем, поэтому расскажу его содержание. Роман написан в форме записок гражданина будущего Организованного Государства, от первого лица. Записки ведет инженер, лояльный и преданный гражданин этого мира. Мир благоустроен вполне: он заключен под стеклянный колпак. Под колпаком города и возделанные земли. Люди научились там регулировать влагу, температуру, растительность. Здания городов из стекла. Прозрачные стены, как соты. Каждому человеку дается прозрачная ячея, чтобы все могли знать, как идет его жизнь. Ибо он принадлежит государству. Регламентирована работа, еда, даже любовь. Для нее отведены нормированные часы. В это время живущий имеет право спускать занавесы и закрывать стены. Связи свободны (необходимо лишь получить талон на избранное лицо), но право родить ребенка дается разрешением специальной медицинской комиссии. У граждан нет имен: они называются буквами и номером. Женщины гласными буквами, мужчины — согласными. Питаются жители химически приготовленными таблетками. Когда-то, в начале создания идеального Государства, был голод — не хватало продуктов органических, перешли на химические. Многие умерли, но другие приспо
собились к этой пище. Чтобы не атрофировались челюсти, таблетки сделаны так, что их надо жевать... под счет метронома...
Пишущего записки восхищает целесообразность и точность регламентированной жизни. Он доволен связью с маленькой веселой женщиной по имени О и искренне удивляется, почему она так трагически переживает запрещение иметь ребенка ввиду ее маленького роста. Его шокируют протесты. Но вот в его жизнь входит другая женщина — И. Она — работник музея, где хранятся все нелепости быта, существовавшего до того, как было создано Совершенное Государство. Ей почему-то нравятся эти нелепости. Она увлекается прошлым, не желает регламентации. Говорит инженеру, что стеклянный колпак охватил не все человечество — за стеклянной стеной есть люди. К стене подходят фигуры, дают сигналы, зовут к себе. И — втягивает его в какие-то сомнения, намекает на недозволенное.
Пишущий возмущен. А в воздухе нарастает опасность восстания, бунт против порядка. Правительство, чтобы прекратить это, объявляет через громкоговорители на улицах (в 20-е годы такие громкоговорители казались не менее фантастичными, чем стеклянные города): «Все обязаны явиться на укол, уничтожающий в мозгу бугор фантазии». Это разбивает лояльность инженера: он не может согласиться на уничтожение фантазии, на операцию над его мозгом. Он примыкает к восставшим, связавшимся с «дикарями» за стеклянным колпаком. Звенит разбиваемое стекло колпака, рушатся здания... На этом обрывались записки — Евгений Иванович кончил читать. Он осмотрел всех пристальными глазами. Вздох и шепот прошли по рядам. Сидевшие на ковре передвинулись, меняя позы.
— Кто желает высказаться? — поблескивая стеклами пенсне, спросил председатль.
Первым поднялся чернявый юноша, милиционер Миша.
— Позвольте, Евгений Иванович! — сказал он. — Ведь это насмешка над государством будущего! Вы отрицаете государство? Карл Маркс учил, что без государства нельзя построить социализм. Мы строим правильно организованное социалистическое общество. Зачем же вы смеетесь над этим?
Он негодующе огляделся, ища поддержки. Все выжидали. Ольга Дмитриевна Форш смотрела живыми черными глазами и улыбалась. Потом низким, глуховатым своим голосом она сказала: «Нельзя же, товарищ Миша, быть так непосредственно прямолинейным! Сатира направлена не на современность, а на идею гипертрофированной государственности, уничтожающей личное творчество. Это — предупреждение об опасности государственного абсолютизма».
Но Миша продолжал утверждать: «С точки зрения марксизма государство, безусловно, должно в будущем отмереть, оно уничтожится при коммунизме. Но вначале необходим период строгой диктатуры пролетариата. И тут не место сатире...» Он говорил восторженно и убежденно. Требовал, чтобы все занялись углубленным изучением политической экономии и обязательно прочли все три тома «Капитала».
Его юношеский напор встречали с такой же уважительностью, как плоды многолетних исследований или литературной работы. О романе спорили долго. Евгений Иванович наблюдал, поблескивая глазами.
* * *
Можно ли верить этим встающим воспоминаниям? Не знаю. Брожу, уходя в 20-е годы. И как всегда, когда человек углубляется в мысль, сами собой появляются книги и начинают они разговор о том же. Вот вступает Вениамин Александрович Каверин. В воспоминаниях о 20-х годах он пишет об отношении к Вольфиле «Серапи- оновых братьев»: футуристы «громили «высокие» литературные традиции с принципиальных высот. Мы их не громили. Мы просто не думали о них. Нам были так чужды мудрствовавшие философы из Вольфилы (Вольная Философская Ассоциация), в которой решались весьма сложные, на первый взгляд, вопросы человеческого существования, но сводившиея, в сущности, лишь к наивному противопоставлению: Революция и «я». Вот почему мы смеялись над литературной чопорностью старшего поколения». («Здравствуй, брат, писать очень трудно». М., 1965, стр. 204-205).
Правильнее было бы сказать: не противопоставление Революции себе, а — сопоставление, место человека в
Революции. Вопрос, действительно, основной для Вольфилы, обсуждавшийся страстно.
Андрей Белый в августе 1917 года писал:
И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня!
Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня.
Это оставалось внутренним «сгес!о» Вольфилы, в то время, когда «Серапионовы братья» ставили своей задачей определить свое место в литературе и забавлялись преодолением стилистических трудностей писательского ремесла. Вольфилу создавали А.Белый и А.Блок, в ней было многое от символистов. В своей книге воспоминаний В.А.Каверин писал, как чужда была ему среда «символистов с ее многозначительностью, с ее стремлением придать глубину ежедневному, машинальному, совершавшемуся независимо от человеческой воли» (стр. 204 указ. книги).
Это понятно: провинциальному мальчику, каким был тогда Вениамин Александрович, казались излишними вопросы философского осознания, совершенного Революцией. Как не знающий принципа радиопередач просто машинально вертит рычажок, так все непонятное кажется лишним, его стараются превратить в машинальное. Ценно и важно, что Вениамин Александрович открыто передал свой ракурс философии тех лет, не подменил воспоминания позднейшей культурой. Такие воспоминания помогут ощутить многогранность жизни в те годы. Но в этих словах свое личное восприятие он передал, как серапионовское отношение вообще. А между тем признаваемые учителя и вожди «Серапионов» были явно другого мнения о Вольфиле.
Ю.Н.Тынянов и В.Б.Шкловский, Б.М.Эйхенбаум и Б.В.Томашевский посещали Вольфилу, участвовали в прениях, выступали с докладами. В Пушкинском Доме хранятся отрывки архива Вольфилы. Сотрудники бережно подобрали их в снегу разрушенного войной дома в городе Пушкине. Эти случайно уцелевшие записи отрывочны, но могут помочь в восстановлении фактов. Там есть протокольная (с разрозненными листами) запись беседы «О пролетарской культуре» на одном из первых открытых заседаний Вольфилы 21 марта 1920 г. Председательствует и говорит вступительное слово
A. Белый. В прениях выступает В.Б.Шкловский, излагая свои взгляды на закономерность в развитии искусства[3]. Его поддерживает К.С.Петров-Водкин. Сохранились афиши, извещающие, что в 1922 г. 11 февраля на одном из воскресников, посвященных А.С.Пушкину, с докладами по «Евгению Онегину» выступают: Ю.Н.Тынянов, Б.М.Эйхенбаум, Викт. Шкловский (заседание XVII), 10 декабря 1922 г. состоялась специальная беседа на тему «О формальном методе в искусстве». С докладами выступили: Ю.Н.Тынянов, Б.В.Томашевский, Б.М.Эйхенбаум, Л.Я.Якубовский[4], 31 декабря 1922 г. Б.М.Эйхенбаум читал доклад о творчестве Андрея Белого[5].
Перелистываю папочку с надписью: «Анкеты-заявления членов-соревнователей». Вопросы: имя, фамилия, возраст, чем интересуетесь? Среди анкет много молодежи от 17 до 25 лет. Нахожу: Зощенко Михаил Михайлович, 23 года, студент-филолог. Невольно приходит мысль, а милиционер Миша — уж не Зощенко ли? Ведь как раз в эти годы Зощенко служил в милиции. Из его биографии известно, что в эти годы он начал заниматься изучением Маркса. Не он ли ярый спорщик, выступивший на чтении «Мы» с требованием изучать Маркса? Не он ли чернявый юноша, что ставил винтовку у камина и потом уходил с ней на милицейские посты? Конечно, это требует дополнительных изысканий. Но интерес М.М.Зощенко к работам Вольфилы виден из того, что очень рано, в начале ее создания, он вступил в члены-соревнователи. Есть и еще одна анкета серапионовца: «Лев Натанович Лунц, 19 лет, студент-филолог».
Значит, не только учителя «Серапионов», но и сами литературные братья принимали участие в Вольфиле.
B. А.Каверин не прав, утверждая, что она была совсем чужда «Серапионам».
Анкеты сохранились далеко не полностью: их всего 144. Многие буквы совсем отсутствуют, в других остались случайно уцелевшие имена. Но даже эти неполные сведения создают впечатление о составе членов-соревно- вателей.
Больше половины анкет — это студенческая молодежь от 17 до 25 лет (62 анкеты). Есть двое 16-летних
школьников, 3 матроса. 42 анкеты людей среднего возраста от 25 до 40 лет, принадлежащих к различным специальностям: учителя, врачи, инженеры, художники. 35 анкет пожилых людей (от 40 до 65 лет) тоже разных специальностей. Среди них и анкета: Эрнест Львович Радлов, профессор философии, 8/Х1-19. Анкета указывает, что он, как и ряд других профессоров, был связан с Вольфилой с самого начала. Вступил как член-соревнователь. В действительные члены он был избран 22/1-20 года1.
Сохранилась первая афиша, оповещающая о создании Вольфилы2.
На ней заглавие: «Народный комиссариат по просвещению. Театральный отдел. Научно-теоретическая секция. Вольная философская Академия. Высшее ученое и учебное учреждение». И текст: «Русская Революция открывает перед Россией и перед всем миром новые широкие и всеобъемлющие перспективы культурного творчества. Впервые из единого Человечества делаются практические выводы. Мечта о соборном строительстве единого здания мировой культуры может наконец осуществиться в действительности и должна принять характер конкретной организационной попытки. Этому делу хочет посвятить себя Вольная Философская Академия. Она связывает себя со словом Академия в память о первых источниках европейской культуры, когда науки, искусства и общественность еще были связаны цельностью и законченностью античного мировоззрения.
Академия, видящая в свободе общения и преподавания ту естественную атмосферу всякого творчества, в которой только и могут зарождаться и развиваться существенные культурные начинания.
Академия, относящаяся к философии, как к той хранительнице заветов единства, без которого нет ни Единого Человечества, ни единого Общечеловеческого Идеала.
Именно в этом смысле вся работа Академии должна протекать в духе философии и социализма. На этой почве Вольфила, Философская Академия, должна объединить деятелей разных областей культурного творчества и связать их с народными массами через посредство, по возможности, общедоступных лекций, семинаров,
диспутов, выставок, театральных представлений, литературных собраний и т.п.
Важным пунктом в жизни Академии должен явиться тот устрой отношений между членами и ее слушателями, который преподавание превращает в сотрудничество между учителями и учениками и при котором станет возможным, чтобы и учителя учились у учеников.
Открывается отдел Философии Культуры и искусств. Участие в ближайших работах будут принимать: Арс.Авраамов, Александр Блок, Андрей Белый, Р.Иванов-Ра- зумник, Б.Кушнер, А.Луначарский, Е.Лундберг, Артур Лурье, Всев.Мейерхольд, К.Петров-Водкин, А.Штейнберг, К.Эрберг».
Деятельность Вольфилы с ноября 1919 г., когда было первое открытое заседание, и по 1923 г. охватывала разнообразнейшие вопросы. Как видно из последней сохранившейся афиши об открытом воскресном заседании 10 декабря 1922 г., это было СХЫХ заседание. В фонде № 79 Пушкинского Дома сохранилось 49 разрозненных афиш.
О первом воскресном заседании 16 ноября 1919 г. сохранилась афиша, извещающая, что программа его следующая: 1) Сообщение о задачах Ассоциации; 2) Доклад А.А.Блока «Крушение гуманизма»; 3) Прения. Заседание будет во временном помещении Вольфилы, проспект Володарского, д. № 21, кв. 14.
Маленькое помещение не вмещало всех желавших бывать на воскресниках, и вскоре они были перенесены в «Дом искусств», а потом — в большой зал Географического общества. Там прошла первая годовщина воскресных заседаний. Тема этого заседания — Платон1. Не было единого доклада, а, как это было в Вольфиле, было собеседование на тему о философии Платона. Возник вопрос, чем важен и близок Платон Вольфиле.
А.3.Штейнберг указал: «Платон — философ, для которого не было противопоставления философии и жизни. Такое восприятие Платона в эпоху Возрождения создало вольную Флорентийскую Академию, объединившую свободно мысливших ученых, поэтов, художников. Их объединяла задача соединить философию и жизнь. Для Вольфилы также философия дело жизни, а дело жизни — освещается философией». Математик проф. Чебышев- Дмитриев сказал: «Недавно я пришел в Вольфилу и уже не могу оторваться от этого приюта свободной мысли, от этого оазиса... Всем присутствующим я должен сказать: в Вольфиле нам дана возможность героизма, творческого духа».
Отвечая выступавшим, приветствуя Вольфилу от Наркомпроса, зам наркома просвещения М.П.Кристи сказал: «Советская власть часто слышит от Вольфилы прямые или косвенные упреки. Но Советская власть не боится свободной мысли. Нельзя смешивать суровые меры, применяемые властью в гражданской войне, с по- сягательтвом на свободу мысли. Самый факт существования ВФА показывает, насколько терпима существующая власть и как широки ее задания».
В заключительном слове председательствовавший К.А.Эрберг сказал: «Сегодня объединились 2 темы: о Платоне и о Вольфиле. Вольфила ценит в Платоне творческое, революционное начало. Это начало мы будем ценить и в мудрости мужика, и в мудрости поэта. Вольфила будет находить революционное, творческое начало всегда и везде, иначе она не будет Вольной Ассоциацией».
Нв воскресных заседаниях вставали вопросы философии искусства, творчества, истории культуры. Проходили циклы лекций, объединенных единой темой, или ставился единичный доклад на тему. Все воскресенья в октябре 1921 г. были посвящены Ф.М.Достоевскому, в ноябре — творчеству Данте[6]. В 1922 г. февраль посвящен докладам о Пушкине (аф. 43), август 1922 г. — воспоминаниям о А.А.Блоке, сентябрь — о Хлебникове. Но обычно циклы и целые курсы лекций проходили не на воскресных заседаниях, а в кружках.
Воскресные же заседания каждый раз посвящались новой теме. Приведу из сохранившихся афиш несколько номеров, как иллюстрацию разнообразия Вольфильских работ.
Афиша № 9: Вольная Философская Ассоциация
В воскресенье 2 мая 1920 г. состоится XXIV открытое заседание
Солнечный Град (беседа об Интернационале) при участии: Андрея Белого, С.А. Венгерова, Льва Дейча,
A. А. Мейера, М. В. Орехова, К. С. Петрова- Водкина, Н.Н.Пунина, П.А.Сорокина, А.З.Штейнберга, Конст.Эр- берга.
Начало в 2 ч. дня, вход свободный.
Николаевский зал Дворца Искусств (бывш. Зимний дворец).
Вход с Невы, с Иорданского подъезда.
Афиша № 5: Воскресенье 14 марта 1920 г. XVIII открытое заседание.
Андрей Белый: Лев Толстой и культура.
Начало в 2 ч. дня.
Дом Искусств, Мойка, 59.
Воскресенье 7 декабря 1919 г. Заседание IV. Б.А.Кушнер «Культура в эпоху социальной революции».
Воскресенье 11 января 1920 г. Заседание IX. К.С.Петров-Водкин. «О науке видеть».
Заседание СХИ — Воскресенье 15 января 1922г.
B. Г.Тан-Богораз «Этно-географические основания мирового кризиса».
Заседание СХШ — 22 октября 1922 г.
Л.В.Щерба «Судьба русского языка».
Кроме воскресных заседаний, шли постоянные занятия в кружках. Каждый вечер работало по 2 кружка с 6- 8 ч. и с 8-10 ч.
Были кружки: философия символизма (руков. А.Белый), философия творчества (Конст.Эрберг), философия культуры (Иванов-Разумник), творчество слова (О.Д.Форш), философия математики (проф. Васильева), философия марксизма (С.А.ОранскийУ
По субботам шли собрания клуба Вольфилы, где выступали писатели: Е.И.Данько, Ф.Ф.Зелинский, Е.И.Замятин, Н.Н.Никитин, Вл.Пяст, Ал.Ремизов, О.Д.Форш и многие другие.
Связи Вольфилы были очень широки. В архиве сохранился протокол собрания Организационного бюро по созыву первого всероссийского философского съезда (17 февраля 1921 г.). Составлена программа съезда, намечены секции гуманитарных, биологических и физико-математических наук.
В Москве организовался филиал Вольфилы. Создались и международные связи — близкое Вольфиле издательство «Алконост» выпускало в эти годы книги с меткой на титульном листе Петроград — Берлин. Вероятно, в связи с этим можно поставить и сохранившуюся в архиве копию командировочного удостоверения, выданного Вольфилой 30.IX.21 г.
«Командировочное удостоверение № 112
Настоящее удостоверение выдано Советом Вольно- Философской Ассоциации члену-сотруднику поэту Сергею Александровичу Есенину в том, что он, согласно пункту Г параграф 4 Устава Ассоциации, утвержденного Наркомпросом 10 октября 1919 года, командируется на трехмесячный срок за границу с целью организации, при учрежденном в Берлине Отделе, Ассоциации Русско-Гер- манского союза поэтов, родственных по направлению деятельности Вольфиле».
Изучение деятельности Вольфилы важная и нужная тема потому, что Вольфила охватывала самые различные слои интеллигенции, в ее стенах сталкивались и выступали в дискуссии различные мировоззрения, встречались самые разные люди. Освещение этих встреч — дело будущей истории Вольфилы.
Эрнест Львович Радлов был действительным членом Вольфилы, но не вел там кружка, хотя его семинар по Вл.Соловьеву шел в духе Вольфилы. Эрнест Львович был директором Публичной библиотеки, и туда приходили студенты Университета на семинар. Занимались в Фаустовском кабинете.
Я помню высокие строгие окна с цветными стеклами. Разноцветные блики их на резных стеллажах с книгами.
Расписанный потолок опирал свои своды на лепные колонны. На тяжело темнеющих аналоях лежали прикованные цепями фолианты. Кожаные фолианты лежали на круглом столе, уходили в глубокую темноту коридоров из резных стеллажей. У окна — грузный письменный стол, огромный, покрытый рукописями. В окне — раскрывалась рама с цветными стеклами. За ней, в глубоком проеме шевелятся ветки сквера и белеют колонны Александринского театра.
В старинном кресле с высокой спинкой, опираясь на подлокотники, сидел Эрнест Львович Радлов. Он чуть приподнимался нам навстречу, наклоняя голову в черной
шапочке. Жестом сухой узловатой руки приглашал нас садиться. Какое строгое, прорезанное морщинами мысли, лицо! Может, это действительно Фауст в своем кабинете? Взлетели узловатые брови. Старик поглаживал удлиненную бороду, осматривая нас пристальными глазами. Все десять на местах?
— На чем мы остановились прошлый раз, молодые друзья? Если я не ошибаюсь, сегодня прдолжаются прения по докладу Якова Семеновича Друскина о книге Владимира Сергеевича «Оправдание добра»?
— Совершенно правильно, Эрнест Львович, прения не были прошлый раз закончены, — чуть бычась, говорил Яша Друскин, деловито оглядывая всех зелено-се- рыми выпуклыми глазами.
— Прекрасно! Кто желает выступить?
Минуты молчания. И — разбивая улыбкой напряженность молчания, Эрнест Львович, откинувшись в кресле, говорит:
— Я помню разговор об «Оправдании добра» с Владимиром Сергеевичем. Мы ехали с ним на извозчике. Владимир Сергеевич сказал мне свои стихи:
Милый друг, иль ты не знаешь,
Что все видимое нами Только отблеск, только тени От незримого очами.
— Это незримое несет «Оправдание добра»...
Заблестели воспоминания, как разноцветные стекла
окна: то строгостью философских формулировок, то искрами соловьевского юмора... Почему-то самые живые воспоминания начинались всегда совместной поездкой: «Когда мы ехали с Владимиром Сергеевичем на извозчике...»
Это была как бы формула присказки к сказке о Прекрасной Даме Философии. Как «в некотором царстве, в некотором государстве».
Не было места молчанию, каждый торопился вступить в это царство. Я, захлебываясь азартом, ныряла туда.
— Конечно, Эрнест Львович, «Оправдание добра» зиждется на «Критике отвлеченных начал»! В этой своей книге Владимир Сергеевич блестяще разбил абстрактную германскую философию. Он уводит там от постулатов формальной гносеологии. И перечеркивает Канта!
— Знаю, знаю вашу жажду низвергать кантианство, — усмехался моей горячности Эрнест Львович.
Действительно, я в то время болела Кантом, вгрызалась в «Критику чистого разума». Снова и снова обдумывала концепцию Владимира Соловьева. Писала доклад о его «Критике отвлеченных начал». Прочитала доклад после Друскина, по окончании прений.
Прения обычно затягивались на два-три часа. Наконец, слегка утомленный, старик говорил:
— Ну, молодые друзья мои, на сегодня довольно. Мне пора уходить домой. Кто проводит меня?
Он останавливал глаза и клал руку на плечо кого-ни- будь из студентов. Проводить его на Садовую, до его квартиры — была честь. Он шел, опираясь на палку и положив другую руку на плечо провожавшего. И беседовал. Эта честь часто доставалась мне — единственной девушке. Молодые люди расшаркивались и оставляли нас. Мы медленно двигались по библиотеке, как корабли в море книг. Встречавшиеся сотрудники кланялись нам. И старик поднимал свою черную шапочку.
Это была уже не Вольно-философская ассоциация, а почти средневековое ученичество, но оно сплеталось для меня с Вольфилой напряженностью мысли и жадностью поисков.
«Вопросы философии», 1990.
М. А. Колеров
Философский журнал «Мысль» (1922)
1922 г. окончательно вошел в историю русской философской мысли как внешняя граница ее преемственного развития, прерванного большевиками. Действительно, ленинская высылка большей части русских мыслителей из России во многом оборвала живую связь «русской идеи» и «почвы», подтолкнув мифотворчество и догматические популяризации (О существе проблемы и составе высланных см.: Геллер М.С. «Первое предостережение» — удар хлыстом // Вопросы философии. 1990. № 9; Хоружий С.С. Философский пароход // Литературная газета. 1990. 9 мая и 6 июня). Но самостоятельное, непосредственно продолжающее дореволюционные традиции, философствование в России не прекратилось, хотя и оттеснялось за грань бытия. Речь идет не только о круге Г.Г.Шпета или С.А.Аскольдова. На родине остались и в большинстве своем погибли последние, 1922 г. выпуска или исключения университетские ученики Н.О.Лосского и С.Л.Франка. Наследники своих учителей, они тем не менее оставались в стороне от маньерист- ских устремлений интеллигентной столичной молодежи, чьи интеллектуальные игры на развалинах цивилизации прекрасно описаны К.Вагиновым. Их собственное развитие шло далее. Как вспоминал современник, «для этого круга Шпет, де Соссюр и Гуссерль сменили Вяч. Иванова, С.Булгакова, А.Белого»[7]. Мощный импульс начала века привел в движение мысль столь разных людей, как Л.С.Выготский, Я.Э.Голосовкер, М.М.Бахтин.
Впрочем, в момент разрыва и сами «учителя» стояли на перепутье. Оставшийся в России С.Аскольдов писал
А.С.Глинке 10 июня 1923 г.: «Развал Церкви чувствую очень мучительно для совести, но совершенно бессильно и бездейственно. (...) Нужна была истинная (а не лютеровская) реформация; ее не сделали: пришел черт и подменил. (...) Форма христианства убила самое христиан
ство. (...) Вместо всего этого надо разработать умом и духом: Достоевского, Вл. Соловьева и больше всего
А.Н.Шмидта...»[8] В России зарубежной, споря с Н.А.Бер- дяевым о возможностях эмиграции, С.Л.Франк писал ему 2 ноября 1925 г.: «Я склонен думать, что даже религиозная мысль развивается внутри России здоровее и плодотворнее, чем у нас в эмиграции»[9]. Перед его глазами вставали такие сугубо эмигрантские изобретения, как «Смена Вех» и национал-большевизм. Авторы сборника преклоняли культурные ценности русской интеллигенции перед «восстановленным» большевиками государством и звали ее в Каноссу, к сотрудничеству с новой властью. Усилиями советского агитпропа «сменовеховство» было широко посеяно в России, приводило в лояльность режиму «буржуазных спецов» и провоцировало «буржуазных идеологов». Расколотая гражданской войной, интеллигенция становилась легкой поживой политики, сполна использовавшей в своих целях патриотизм или ненасилие, «приятие жизни» или сохранение культуры. Вовсе не случайно С.Л.Франк возлагал вину за «сменовеховство» на ярого его противника П.Б.Струве, отдавшегося «духовному большевизму» гражданской войны.
В самом деле — итоги 1922 г. оказывались лишь поздним произнесением принципиального выбора 1918 г., когда круг русских мыслителей разделился на два лагеря: активных участников белого движения (А.В.Карташев, П.И.Новгородцев, П.Б.Струве, Е.Н.Тру- бецкой) и его пассивных наблюдателей (большинство остальных). Исторические передряги не только раскололи, но и разрушили традиционную интеллектуальную среду России с ее обществами, университетами, издательствами и журналами. С окончанием гражданской войны эта среда начала восстанавливаться, но уже бессистемно и вне зависимости от личных и кружковых пристрастий. Либерализация первых двух лет нэпа создала узкую, но достаточную нишу для общественных и частных инициатив. Сохранение и собирание осколков прежней культуры — вот что двигало людьми, когда они, отставив интеллектуальные амбиции, начали объединяться в подчеркнуто «диссидентских» предприятиях.
История подцензурных советских альманахов в
1921 г. впервые была отмечена появлением «чисто интеллигентских» изданий. Их невеликое число составило четверть общего количества сборников, а в 1922 г. достигло половины[10]. Без сомнения, политическая гегемония авторитарной (пока еще) власти встретилась с растущим и побеждающим не числом, а умением противником в лице старой культуры. В 1921 г. впервые вышел в свет журнал «Начала», посвященный истории литературы и общественности,. Его редактировали академики С.Ф.Ольденбург и С.Ф.Платонов, а из философов — Э.Л.Радлов. Первый номер журнала содержал, помимо прочего, статью Л.П.Карсавина «Ф.П.Карамазов, как идеолог любви», публикацию стихотворения В.С.Соловьева и его письма к Николаю II. В отделе хроники освещалась «интеллектуальная жизнь Запада» (некролог В.Вундта, рецензия на книгу О.Шпенглера, статья Евг. Браудо «Немецкая интеллигенция в 1920—1921 гг.»). Второй и последний номер за 1922 г. в не меньшей степени отзывался на философские потребности, информируя о творчестве Б.Кроче, «литературной жизни Франции» и «Философии в Англии после мировой войны (1919 — 1921)» (И.Я.Ко- лубовский).
Непременное присутствие философии в интеллигентских предприятиях этого времени засвидетельствовал и широкий отклик полунезависимой печати на «Смену Вех». Редактировавшийся Д.А.Лутохиным «Вестник литературы» повествовал о «рубке вех» (К.Боженко, 1922. № 1). Первый и единственный сборник издательства «Парфенон» (редактор — А.Л.Волынский) устами А.С.Из- гоева пытался восстановить чистоту «веховской» позиции перед национал-большевистскими претензиями[11]. Здесь же Евг.Браудо откликался на сборник «Освальд Шпенглер й Закат Европы». О нем же П.А.Сорокин в «Вестнике литературы» писал как о «начале великой ревизии» (№ 2/3).
Кстати сказать, фигура Сорокина в описываемое время привлекла не менее острые полемические стрелы. Социолог выступил с обоснованием «англо-саксонской
позиции» творцов культуры, согласно которой максимальное неучастие в социальной жизни служило главной гарантией независимости личности от власти. Это вызвало активный протест А.С.Изгоева: тот полагал наивным рассчитывать на какую-либо иную независимость, кроме духовной. Он выводил общий принцип возможного существования старой культуры в условиях государственного диктата: «быть независимой от власти», даже вовсе не самоопределяться по отношению к ней, «не играть роль ее тени, лежащей с правой или с левой стороны»[12]. Ему вторил В.М.Штейн: «Страшен для растерявшейся интеллигенции сон русской революции, да милостив Бог русской культуры»[13].
Видимо, именно этому убеждению намеревался следовать круг университетской профессуры и ее ближайших учеников, чьи творческие интересы лежали в области философии. В условиях прогрессирующих самоорганизации общества и системы его подавления, когда с каждым днем приближался их неизбежный конфликт, 27 февраля 1921 г. в Петроградском университете было восстановлено Петербургское философское общество. 16 октября 1921 г. его Совет принял решение возобновить практическую деятельность с издания философского сборника или журнала, для чего избрал редакционный комитет во главе с Э.Л.Радловым (члены: Н.О.Лосский, Н.В.Болдырев, А.А.Франковский и А.А.Кроленко). Задача, поставленная перед комитетом, ничем не отличалась от тех, что его участникам приходилось решать в 1921 г. Издательства «Наука», «Школа», «Огни», «Берег» и т.д. фактически охватывали единый круг авторов: Н.О.Лосского, Э.Л.Радлова, С.Л.Франка, С.А.Аскольдова, И.И.Лапшина, Н.А.Бердяева и др., новым центром культуры стремилось стать книгоиздательство «Академия» во главе с Н.В.Болдыревым и А.А.Кроленко. На Литейном, 40 открылся книжный магазин Петербургского философского общества. Итак, недоставало лишь журнала, органа именно специального, в отличие от общелитературных «Начал» или «Утренников».
С 1922 г. Общество начало выпускать журнал «Мысль» (под редакцией Э.Л.Радлова и Н.С.Лосского): его тираж, равный тиражам названных «Утренников», составил 4 тыс. экземпляров, что ярче всего свидетельствовало о немалой издательской аудитории, готовой разделить устремления «Мысли». Они также располагались в откровенно анти-идеологических пределах. Редакция заявляла, что собирается «совершенно беспристрастно служить всевозможным направлениям философии, лишь бы только в этих направлениях чувствовались живое искание и живая мысль, а не мертвое топтание на давно сданных и пережитых позициях»[14]. Собственную общую «платформу» авторы журнала вполне могли обнаружить если не в утверждении «непосредственного знания» или прав метафизики, то, по крайней мере, в тезисе
В.В.Зеньковского, о произнесении которого было сообщено одновременно с дебютом «Мысли». В.В.Зеньков- ский в первом заседании «Нового религиозно-философского кружка» в Берлине заключал, что «вся русская философия от Сковороды до В.Соловьева и Лапшина проникнута идеею христианства»[15]. Подобного рода квалификации, прозвучавшие из «белой» эмиграции, не могли не отразиться на призрачном равновесии культуры и власти. Тираж журнала был сокращен вдвое. А летом
1922 г. вместе с созданием объединенной цензуры, началом чистки библиотек и официальной борьбы с «буржуазной идеологией», принятия марксистской программы общественных наук, «Мысль» была закрыта. Многие ее авторы вскоре заняли свои места на «философском пароходе» в изгнании.
Л& /. Январь — февраль.
От редакции. 3
Н.О.Лосский. Конкретный и отвлеченный идеал-реализм. 4[16]
Н.В.Болдырев. Бытие и сознание, созерцание и разум.
Онтологические мотивы критицизма. 13*
С.Аскольдов. Аналогия, как основной метод познания. 34ъ
Л.П.Карсавин. О свободе. 55[17]
О.М.Котельникова. Учение о непосредственном знании в философии Фр.Г.Якоби. 89[18]
B. Э.Сеземан. Эстетическая оценка в истории искусства (К вопросу о связи истории искусства с эстетикой). 117
Некрологи:
Э.Л.Радлов. Николай Григорьевич Дебольский. 148
C. Аскольдов. Памяти Л.М.Лопатина. 150
Н.В.Болдырев. А.С.Лаппо-Данилевский. 152 Э.Л.Радлов. Николай Николаевич Ланге. 154 Н.О.Лосский. Д.В.Болдырев. 156
С.Ф.Ольденбург. Памяти О.О.Розенберга. 157
Критика и библиография:
Э.Л.Радлов: К.Сатонин. Темпераменты. Казань, 1921. 159 Н.О.Лосский: А.Ф.Лазурский. Классификация личностей // Журнал Министерства народного просвещения. 1915. №№ 5-6, 1916. №№ 7-8. 161 М.Н.Маржецкий: С.Аскольдов. Сознание как целое. 1918. 166 Вл.С.Иоф: Кн.Е.Трубецкой. Метафизические предположения познания. М., 1917. 167
Проблемы философии истории:
К.: Теодор Лессинг. История как осмысление неосмысленного. 173
И.: Макс Шелер. О вечном в человеке. 174 К.: Ф.Розенцвейг. Звезда искупления. 176
Хроника:
Новости немецкой философской литературы. 180 Философский конгресс в Оксфорде. 183 Философское Общество при Петроградском Университете. 187
№ 2. Март — апрель.
А.И.Введенский. Судьба веры в Бога в борьбе с атеизмом. 3[19]. Э.Л.Радлов. Очерк русской философской литературы XVIII в. 21
Н.О.Лосский. Конкретный и отвлеченный идеал-реализм. 51
К.М.Милорадович. Роль метафизики в философии. 58 Ф.Ф.Зелинский. Ритмика и психология художественной речи. 68
Н.Н.Яковлев. Вымирание и его причины, как основной вопрос биологии. 87
Некрологи:
B. С.Иоф. Георгий Валентинович Плеханов. 97 Э.Л.Радлов. Федор Дмитриевич Батюшков. 103 Л.Л.Спасский. Яков Фридрихович Озе. 107
Критика и библиография:
Э.Л.Радлов: В.М.Бехтерев. Коллективная рефлексология. Пг., 1922. 108
Э.Л.Радлов: Мысль и Слово. Философский ежегодник. Т. И. Ч. I. М., 1918-1921. 110
Л.П.Карсавин: С.Л.Франк. Очерк методологии общественных наук. М., 1922. 112
Б.В.Казанский: Ф.Ф.Зелинский. Древнегреческая религия. Пг., 1918; Ф.Ф.Зелинский. Религия эллинизма. Пг.,
1922. 117
О.М.Котельникова: В.Шкловский. Розанов. Из книги «Сюжет, как явление стиля». Пг., 1921. 120 Мих.Альтшуллер: П.Маслов. Мировая социальная проблема. Чита, 1921. 122
И.Я.Колубовский. \\^еи1. Каит — 7.еИ — Мазепе. 1920. 130 Еф.С.Берлович: Етз! Сазз1гег. 2иг Етз^етзсЬеп Ке1а- 1т<;аЫ;Ьеопе. В., 1921. 132
А.А.Франковский. Обзор немецкой философской литературы 1914-1921. 135
Хроника:
C. А.Жебелев Новый перевод Платона. 153
А.М.Белецкий. Новый перевод Новалиса. 156 Петербургское Философское Общество. 157 Костромское Философское Общество. 158
№ 3. Май — июнь.
Л.П.Карсавин. О добре и зле. 3
С.Л.Франк. О задачах обобщающей социальной науки. 36 Э.Л. Рад лов. Очерк русской философской литературы XVIII века. 65
С.А.Аскольдов. Время и его преодоление (не оконч.). 80
П.С.Попов. Теория восприятия Аристотеля. 98
B. М.Жирмунский. Мелодика стиха (По поводу книги Б.М.Эйхенбаума «Мелодика стиха». Пб., 1922). 109
Критика и библиография:
И.И.Лапшин. Мистический рационализм проф. С.Л.Франка. 140
Э.Л.Радлов: В.И.Вернадский. Начало и вечность жизни. Пг., 1922. 153
Б.В.Казанский: И.И.Лапшин. Философия изобретения и изобретение в философии. Тт. 1-П. СПб., 1922. 156
И.Я.Колубовский: С.П.Костычев. Натурфилософия и точные науки. Пг., 1922. 159
Н.Аникиева: Введение в науку. Философия / Под ред. Л.П.Карсавина, Н.О.Лосского и Э.Л.Радлова: Вып. I. Э.Л.Радлов. Введение в философию. Пб., 1919; Вып. V.
C. А.Алексеев. Гносеология. М., 1919; С.И.Поварнин. Введение в логику. Пб., 1921. 160
В.Хольцев: Э.Л.Радлов. Этика. Пб., 1921. 163
А.А.Франковский. Обзор немецкой философской литературы 1914-1921. 166
Хроника:
Книга об «американском гении» и об американской философии. 173
Новейшие успехи экспериментальной психологии. 178
Философия индивидуализма в современной Германии. 179
Парижский философский конгресс. 181
Новости философской литературы. 183
Деятельность Психологического Общества при Московском университете за последние 4 года (1918-1922). 186
А.М.Ладыженский. Философское Общество при Донском университете. 187
Философский кружок при Петроградском университете. 189
Труды Петербургского Философского Общества. Готовится к печати. 190
«Вопросы философии», 1993.
Л.А.Коган
«Выслать за границу безжалостно»
(Об изгнании духовной элиты)
О массовой депортации деятелей русской культуры в начале 20-х годов известно в общих чертах давно. Больше всего привлекал, пожалуй, внимание последний акт этой драмы — момент вынужденного прощания с Родиной. Однако эзотерическая сторона изгнания, его внутренняя алогичная логика, его репрессивный механизм и движущие пружины оставались во многом в тени[20]. Все происходило как бы само собой, в таинственно затемненном пространстве, наподобие кафкианского «Процесса»: кого-то куда-то вызывали, что-то выясняли — и вот уже готов финал, трагический и неотвратимый, как судьба.
Но кто за всем этим стоял, кто именно (поименно) этим занимался, где и когда происходили допросы, каково их содержание и что вообще собою представлял этот странный процесс, в котором были следователи и обвиняемые, но не было следствия и суда?
«В начале было слово»
В данном случае это основоположное слово-мысль принадлежит В.И.Ленину. Хотя идея высылки могла возникнуть почти одновременно в нескольких головах, факты свидетельствуют, что Ленин являлся душой, пер- водвигателем этой акции, все ее нити сходятся к нему. Идея изгнания инакомыслящих — не результат чьей-то
эмоциональной вспышки или импровизации, — она упорно и постепенно вызревала, вынашивалась[21].
Далеко не случайно, что это произошло в 1922 г. — рубежном, переломном, судьбоносном. Вспомним некоторые обстоятельства, которыми он ознаменовался. Входит в жизнь, укореняется нэп; 27 марта — 2 апреля происходит XI партсъезд, а 4 —7 августа XII партконференция, задавшие тон официальной пропаганде, делавшие ее все более нетерпимой; усиливается натиск на религию и гонения на священников, весной проводятся массовые аресты среди меньшевиков, в июне-июле — суд над лидерами партии эсеров; сменовеховское движение, возникшее среди белоэмигрантов, получает немалый резонанс внутри страны, становится катализатором политико-идеологической активности старой и перестраивающейся интеллигенции; появляется первый марксистский философский журнал «Под знаменем марксизма»; возникает широкая сеть частных издательств, начинает возрождаться разномыслие.
Оппозиционность властям и господствующему мировоззрению проявлялась и в области философии. Еще в 1918 г. в Москве создается Н.А.Бердяевым Вольная академия духовной культуры, а при ней философско-гума- нитарный факультет. В течение трех лет Бердяевым были прочитаны на этой основе курсы по философии истории и философии религии, Андреем Белым — по философии духовной культуры, Б.П.Вышеславцевым — по этике, С.Л.Франком — введение в философию, Вячеславом Ивановым — о греческой религии, Ф.А.Степуном — о соотношении жизни и творчества. Устраивались и чтения в Политехническом музее для более широкой аудитории, включая рабочих, красноармейцев, матросов.
В 1918 г. ожило Психологическое общество при Московском университете под председательством неолейбни- цианца Л.М.Лопатина, а с 1921 г. — неогегельянца И.А.Ильина. В 1919 г. в Петрограде возникла Вольная философская ассоциация (Вольфила), учредителем кото
рой были Белый, Блок, Лосский, Шестов; отделения Вольфилы появились в Москве и Чите. В 1921 г. при Петроградском университете восстанавливается Философское общество, начавшее издавать свой журнал «Мысль». Только за один год там состоялось 14 заседаний. В 1919 г. в Петрограде возродилось Социологическое общество под руководством Н.И.Кареева и при активном сотрудничестве П.А.Сорокина. Заметно оживилась активность старой профессуры и в провинции. В 1917 г. основывается Общество исторических, философских и социальных наук при Пермском университете, в 1921 г. — Философское общество при Донском университете, в 1922 г. — при Педагогическом институте в Костроме и Институте народного образования в Чите.
После Октября корифеи русского идеализма продолжали издавать свои труды. Только в 1922 г. вышли в свет работы Лосского «Интуитивная философия Бергсона», «Логика», «Современный витализм»; Франка — «Очерк методологии общественных наук», «Введение в философию в сжатом изложении»; Карсавина — «Восток, Запад и русская идея», Сорокина — «Основные проблемы социологии Лаврова». «Голод как фактор», «Милитаризм и коммунизм». Не все намечавшееся удалось осуществить. Готовились, например, к печати три тома сочинений Розанова, работа Флоренского о нем, труд самого Флоренского «У водоразделов мысли», предполагалось продолжение «Очерков развития русской философии» Г.Г.Шпета, намечалась «История русской эстетики» Э.П.Радлова, «Словарь русских мыслителей» Бердяева, Блонского, Голлербаха и Шпета, «История философии на Западе и в России» при участии Лапшина, Лосского, Карсавина.
Ленин с тревогой следил за деятельностью русских идеалистов. В его кремлевской библиотеке представлены — явно не из симпатии к авторам — книги С.А.Алексеева (Аскольдова), Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, А.Я.Волынского, Р.В.Иванова-Разумника, И.А.Ильина, Л.П.Карсавина, И.И.Лапшина, П.И.Новгородцева, В.В.Розанова, Ф.А.Степуна, Е.Н.Трубецкого, Г.Г.Шпета, С.Л.Франка, Б.В .Яковенко. Большинство этих авторов вошло в дискриминационный список и было изгнано.
Кроме книг, являвшихся собственностью Ленина, он пользовался и теми изданиями, которые посылало ему для ознакомления ГПУ. Вот характерная в этом смысле
записка дежурного секретаря Совнаркома Н.Лепешин- ской: «В ГПУ. Тов. Уншлихту. При сем возвращаем вам книги, присланные т.Ленину 12.У1.22»[22].
Не менее характерны — по своей воинствующей целеустремленности — ленинские отзывы об идейно-фило- софских противниках, в частности, давняя характеристика Лопатина (умер в 1920 г. в Москве), человека до крайности отрешенного, далекого от политической борьбы, — как «известного философского черносотенца»[23], и оценка Бердяева, вернее, превентивный приговор ему как духовному антиподу, которого «надо бы разнести не только в специально-философской области»[24]. Именно «разнести», не иначе, то есть взорвать, уничтожить — как это убийственно (в буквальном смысле слова) сказано! Не делалось исключения и для В.С.Соловьева, чей мистицизм, как и у Бердяева, сочетался с свободомыслием и человеколюбием. Интересен следующий эпизод. 30 июля 1918 г. в Совнаркоме рассматривался проект списка новых памятников, подготовленный Наркомпросом. Дошло до Соловьева.
«Ленин слушал, нахмурясь. “А Генрих Гейне? — сказал он, — почему его нет?” Наркомпросовец что-то пробормотал. “И почему вы решили увековечить Владимира Соловьева? Мистик! Идеалист! Этак вы в университетах будете обучать какой-нибудь реакционной чепухе!” Товарищ из Наркомпроса снова что-то пробормотал. “Я думаю, товарищи со мной согласятся, что в таком виде декрет не может быть принят, — сказал Ленин. — Я набросал другой проект, который предлагаю вашему вниманию: О постановке памятников деятелям революции. Совет народных комиссаров постановляет: а) на первое место выделить постановку памятников величайшим деятелям революции Марксу и Энгельсу. Возражений нет? б) Внести в список деятелей поэтов наиболее великих иностранцев, например, Гейне. Думаю, что тут тоже возражений не будет. Принимается? в) Исключить Владимира Соловьева”»[25].
Так, исподволь намечалось «окончательное решение» судеб русского идеализма.
В начале 1922 г. вспыхнула забастовка профессоров МВТУ с требованием университетской автономии и др. Аналогичные волнения прокатились и за пределами Москвы. 21 февраля Ленин обращается к Каменеву и Сталину с предложением: «...уволить 20-40 профессоров обязательно. Они нас дурачат. Обдумать, подготовить и ударить сильно»[26].
В феврале того же года Ленин пишет Каменеву: «Уншлихту предписать серьезно следить за Пешехоно- вым»[27]. В 1922 г. Бердяевым, Степуном и Франком (а также экономистом Букшпаном) была выпущена книга «Освальд Шпенглер и закат Европы». Ознакомившись с ней, Ленин пишет секретарю Совнаркома Н.И.Горбунову 5 марта 1922 г.: «Секретно. Т. Горбунов! О прилагаемой книге я хотел поговорить с Уншлихтом. По-моему, похоже на «литературное прикрытие белогвардейской организации». Поговорите с Уншлихтом не по телефону, и пусть он мне напишет секретно, а книгу вернет. Ленин»[28].
И вот наконец важнейшее звено в этой цепи: 12 марта 1922 г. появляется программная статья Ленина «О значении воинствующего материализма» («Под знаменем марксизма», № 3), известная как его философское завещание. Именно здесь, в конце этой статьи, едва ли не впервые обнародуется формула высылки. Коллектив журнала «Экономист», и в первую очередь его ведущий автор социолог П.А.Сорокин, характеризуются здесь как современные крепостники, прикрывающиеся мантией научности и демократизма. За этим следует итоговая идео- логема: «Марксистскому журналу придется вести борьбу против подобных «образованных» крепостников. Вероятно, немалая их часть получает у нас даже государственные деньги и состоит на государственной службе для просвещения юношества, хотя для этой цели они годятся не больше, чем заведомые растлители годились бы для
роли надзирателей в учебных заведениях для младшего возраста. Рабочий класс в России сумел завоевать власть, но пользоваться ею пока еще не научился, ибо в противном случае он бы подобных преподавателей и членов ученых обществ давно бы вежливенько препроводил в страны буржуазной «демократии». Там подобным крепостникам самое настоящее место»[29].
Итак, слово сказано. Вслед за тем ликвидируются многие несозвучные ему журналы и альманахи, закрываются опальные философские общества и литературные организации; философы-идеалисты увольняются из учебных и научных учреждений. Но это — лишь начало их крестного пути.
Следующим шагом стало письмо Ленина к народному комиссару юстиции Д.И.Курскому от 15 мая 1922 г. Ленин считает необходимым дополнить Уголовный кодекс правом «замены расстрела высылкой за границу по решению президиума В ЦИК (на срок или бессрочно)», а также «добавить расстрел за неразрешенное возвращение из-за границы». И далее: «Т. Курский! по:моему, надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу)»[30]. Непосредственным развитием этих идей является письмо Ленина Курскому от 17 мая 1922 г., в котором предлагается «открыто выставить принципиальное и политически правдивое (а не только юридически- узкое) положение, мотивирующее суть и оправдание террора, его необходимость, его пределы»[31].
Эти письма Курскому ознаменовали, условно говоря, переход от «слова» к «делу». Такую же роль сыграло обращение Ленина к Дзержинскому от 19 мая 1922 г. с прямой директивой и программой действий в этом направлении. «Т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. Прошу обсудить такие меры подготовки. Собрать совещание Мессинга, Манцева и еще кое-
кого в Москве. Обязать членов Политбюро уделять 2-3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг, проверяя исполнение, требуя письменных отзывов и добиваясь присылки в Москву без проволочки всех некоммунистических изданий. Добавить отзывы ряда литераторов-ком- мунистов (Стеклова, Ольминского, Скворцова, Бухарина и т.д.). Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей. Поручить все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ. Мои отзывы о питерских двух изданиях: «Новая Россия», № 2 закрыта питерскими товарищами. Не рано ли закрыта? Надо разослать ее членам Политбюро и обсудать внимательнее. Кто такой ее редактор Лежнев? Из «Дня»? Нельзя ли о нем собрать сведения? Конечно, не все сотрудники этого журнала кандидаты на высылку за границу. Вот другое дело питерский журнал «Экономист», изд. XI отдела Русского технического общества. Это, по-моему, явный центр белогвардейцев, в № 3 (только третьем!!! это по^а Ъепе!) напечатан на обложке список сотрудников. Это, я думаю, почти все — законнейшие кандидаты на высылку за границу. Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу. Прошу показать это секретно, не размножая, членам Политбюро, с возвратом Вам и мне и сообщить мне их отзывы и Ваше заключение. 19.V. Ленин»[32].
Указания Ленина были учтены, и отредактированный им Уголовный кодекс утверждается III сессией ВЦИК IX созыва (12-26 мая 1922 г.). Постановление ВЦИК о введении его в действие подписано Калининым и Ену- кидзе 1 июня 1922 г. Раздел этого кодекса «Роды и виды наказаний и других мер социальной защиты» открывается формулой: «Изгнание из пределов РСФСР на срок или бессрочно»[33]. Статья 70 гласит: «Пропаганда и агитация в направлении помощи международной буржуазии,
указанной в ст. 57, карается изгнанием из пределов РСФСР или лишением свободы на срок не ниже трех лет». Статья 71: «Самовольное возвращение в пределы РСФСР в случае применения наказания по пункту ст. 32-й карается высшей мерой наказания»[34].
10 августа был принят декрет ВЦИК об административной высылке за границу или «в определенные местности» страны — с целью «изоляции лиц, причастных к контрреволюционным выступлениям»[35].
Вдумаемся теперь в представшую перед нами цепочку идейно-политических установок: 21 февраля — 5 марта — 12 марта *- 15 мая — 17 мая — 19 мая — 1 июня — 17 июня — 10 августа. Не выстраивается ли она в единую причинно-следственную событийную линию? Не просматривается ли за ней нарастающая несовместимость тоталитаризма и свободы, его страх перед свободой?
В итоге ленинская формула высылки обрастала юридической плотью, конституировалась и превращалась в действие.
«Операция» набирает обороты
Ленин, разумеется, действовал не один, он опирался на мощный партийно-государственный аппарат и прежде всего — своих ближайших сподвижников — Зиновьева, Калинина, Каменева, Сталина, Троцкого. Из деятелей ГПУ в этом деле непосредственно участвовали (не говоря о рядовых сотрудниках) Дзержинский, Менжинский, Уншлихт, Дерибас, Манцев, Решетов, Ягода.
В партийных и чекистских кругах высылка фигурировала (возможно, с1е ?ас1:о, явочным порядком) под кодовым названием «Операция». Для оперативного руко
водства ею была создана специальная комиссия Политбюро ЦК РКП(6), куда вошли Каменев, Курский, Унш- лихт, Манцев, Решетов[36]. В орбиту этой «Операции» были втянуты, кроме Москвы и Петрограда, многие другие города: Батум, Вологда, Гомель, Екатеринослав, Казань, Калуга, Киев, Новгород, Одесса, Подольск, Саратов, Тверь, Севастополь, Харьков, Ялта. Это был поис- тине общероссийский размах.
Рассмотрим теперь несколько архивных документов, характеризующих этот процесс.
Это прежде всего установочные «Записки» Дзержинского. Вот что он писал 4 сентября 1922 г., фиксируя, по-видимому, и новые дополнительные указания Ленина: «Директивы Владимира Ильича. Совершенно секретно. Продолжайте неуклонно высылку активной антисоветской интеллигенции (и меньшевиков в первую очередь) за границу. Тщательно составить списки, проверяя их и обязуя наших литераторов давать отзывы. Распределять между ними всю литературу. Составить списки враждебных нам кооператоров. Подвергнуть проверке всех участников сборников «Мысль» и «Задруга». Верно. Ф. Дзержинский»[37]
Более развернуто программа действий ГПУ по высылке интеллектуалов сформулирована в обращении Дзержинского к его заместителю 5 сентября 1922 г.: «Т.Уншлихт! У нас в этой области большое рвачество и кустарничество. У нас нет с отъездом Агранова лица, достаточно компетентного, которое этим делом занималось бы сейчас. Зарайский слишком мал для руководителя. Это подручный. Мне кажется, что дело это не двинется, если не возьмет этого на себя сам т.Менжинский. Переговорите с ним, дав ему эту мою записку. Необходимо выработать план, постоянно коррегируя его и дополняя. Надо всю интеллигенцию разделить по группам. Примерно: 1) беллетристы, 2) публицисты и политики, 3) экономисты (здесь необходимы подгруппы: а) финансисты, б) топливники, в) транспортники, г) торговля, д) кооперация и т.д.), 4) техники (здесь тоже подгруппы: 1) инженеры, 2) агрономы, 3) врачи, 4) генштабис
ты и т.д.), 5) профессора и преподаватели и т.д. и т.д. Сведения должны собираться всеми нашими отделами и стекаться в отдел по интеллигенции. На каждого интеллигента должно быть дело. Каждая группа и подгруппа должна быть освещаема всесторонне компетентными товарищами, между которыми эти группы должны распределяться нашим отделом. Сведения должны проверяться с разных сторон, так чтобы наше заключение было безошибочно и бесповоротно, чего до сих пор не было из-за спешности и односторонности освещения. Надо в плане далее наметить очередность заданий и освещения групп. Надо помнить, что задачей нашего отдела должна быть не только высылка, а содействие выпрямлению линии по отношению к спецам, т.е. внесение в их ряды разложения и выдвижения тех, кто готов без оговорок поддерживать советскую] власть. Обратите внимание на статью Кина в «Правде» от 3/1Х. Такими обследованиями следовало бы и нам заняться. Необходимо также вести наблюдение за всей ведомственной литературой Наркомзе- ма, ВСНХ, НК ФИНА и других. Например, авторы сборника НКФ № 2 «Очередные вопросы финансовой политики — явно белогвардейцы... О принятом решении и выработке плана сообщите. 5/1Х. Ф.Дзержинский»[38].
7 сентября 1922 г. Дзержинский обращается с просьбой к Дерибасу составить от его (председателя ГПУ) имени доклад в ЦК РКП/б о положении дел с высылкой интеллигенции за границу и сообщением о том, кому эта мера изменена, кто уже уехал и сколько высылаемых покинули пределы страны. На этом листе сбоку есть пометка, сделанная 18 сентября, что такой проект Дзержинскому дан[39].
Философы составляли сравнительно небольшую группу, но особенно приметную ввиду их известности и высокого интеллектуального потенциала; это были Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, Б.П.Вышеславцев, В.В.Зень- ковский, И.А.Ильин, И.И.Лапшин, Н.О.Лосский, Л.П.Карсавин, Ф.А.Степун, П.А.Сорокин, Г.В.Флоровский, СЛ.Франк. Среди лиц, намечавшихся к депортации, были и многие другие видные интеллектуалы — литераторы, журналисты, экономисты, историки, юристы, представители есте
ственных наук, ректоры и деканы высших учебных заведений, кооперативные и другие общественные деятели, в том числе: В.В.Абрикосов, Ю.И.Айхенвальд, И.А.Артобо- левский, А.Л.Байков, П.М.Бицилли, А.А.Боголепов, Б.Д.Бруц- кус, В.Ф.Булгаков, П.А.Велехов, Н.М.Волковысский, Д.И.Голованов, В.В.Зворыкин, Е.Л.Зубашев, А.С.Изгоев, А.С.Каган, А.А.Кизеветтер, В.М.Кудрявцев, Е.С.Кускова, Д.А.Лутохин, В.Ф.Марцинковский, И.А.Матусе- вич, С.М.Мелыунов, В.А.Мякотин, М.М.Новиков, Б.Н.Один- цов, М.А.Осоргин, А.Б.Петрищев, А.В.Пешехонов, Р.В.Плетнев, С.Н.Прокопович, Л.М.Пумпянский, В.В.Стратонов, П.В.Трошин, С.Е.Трубецкой, А.И.Угримов, В.Г.Черт- ков, В.И.Ясинский и др. Это была своего рода верхушка айсберга, основной корпус которого включал много менее известных специалистов, среди которых, кроме научных работников, были врачи, агрономы, бухгалтеры.
Существовало несколько параллельно разрабатывавшихся списков: московский, петроградский, украинский; последний утверждался сначала местным партийным руководством, например, Екатеринославским губкомом, затем - республиканским, — ЦК КПБУ и, наконец, Комиссией Политбюро ЦК РКП(б). В «украинском» списке числилось на 3 августа 1922 г. 77 человек, в московском на 23 августа — 67 человек, в петроградском — 30 человек; итого 174 человека. Списки эти подвергались корректировке. По имеющимся сведениям в конечном счете изгнанию подлежало примерно 160 человек.
На высылаемых заготавливались характеристики. Их основу составлял компрометирующий материал, которым располагали органы политической полиции («украинский» список подписан председателем ГПУ Украины). Неблагонадежность ученых подтверждалась Наркомпро- сом. Сохранившиеся документы этого года — стандартные политические обличения, несущие печать крайней спешки и субъективизма. Вышестоящая инстанция утверждала их сходу, без тени сомнения.
«Протокол заседания комиссии Политбюро ЦК РКП(б)
Присутствовали: тт. Уншлихт, Каменев, Курский, Манцев, Решетов.



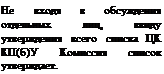
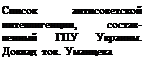 Председатель Уншлихт
Председатель Уншлихт
секретарь Решетов»'.
Далее следуют десятки характеристик, составленных как бы по одному шаблону. Вот некоторые из них.
«Красуский И.А., ректор ХТИ. В прошлом бывший статский советник, личность известная не только Харькову, но и всей России. Бывший член кадетской группы и член правления национального центра... Имеет большое влияние в Госплане, НТО и числится незаменимым ученым и воротилой в Украинском совете народного хозяйства. Своими активными контрреволюционными действиями Красуский тлетворно влияет на всю профессуру и студенчество. Как тип вредный, Красуский должен быть убран, т.к. дальнейшее пребывание его в Институте, и вообще на Украине, может быть чревато последствиями...
Воскресенский М.А. В прошлом бывший статский советник. Работает с 1898 года. Носил звание адъютант профессора (так в тексте — вместо «адъюнкт». — Л.К.) В 1915 г. выбран в профессуру. Своим поведением дает мало материала и походит своею странностью на тип юродивого. Всецело находится под влиянием Красуского и принадлежит к числу его сторонников...
Столяров Я.В. В прошлом бывший статский советник. Профессором состоит с 1903 г. Монархист по убеждению. Недавно прибыл из Владикавказа, куда бежал при отступлении Деникина, где по непроверенным сведениям служил на бронепоезде. Около месяца служил в Наркомпросе и просил назначить его профессором института, т.к. Красуский не хотел принять его в свой лагерь. Такое отношение со стороны Красуского и его группы подает некоторую надежду на возможность ис
пользовать его качестве «яблока раздора» между профессурой, тем более, что все его поведение и отношение к этой компании говорит за то. что он не прочь открыто вступить в борьбу с ними. ...Столяров в настоящее время безвреден в политическом отношении и по тем же мотивам может быть использован по линии ГПУ.
Белецкий А.И. Профессор ИНО. Крупный и активный черносотенец, для дела преподавания опасен и вреден. Разлагающе действует на студенчество. Опасен также в религиозном отношении. Имеет связь с князьями церкви.
Довнавр-Запольский Н.Б. Профессор ИНО. Сов. власть ненавидит... Известен органам ЧК как контрреволюционер, о чем имеются соответствующие дела. Опасный и очень вредный».
В ряде случаев особо отмечаются — правда, в самой общей форме — профессиональные недостатки и дурное поведение высылаемых. О профессоре Медакадемии Крылове Д.Д. сказано, например, что он «тип довольно хитрый» и «как ученый ценности не представляет». Проф. Александров Ф.Е. «как преподаватель, слаб, но довольно вреден». Проф. Инархоза Михайлов «работой не интересуется. Сомнительных знаний. Институту совершенно не нужен». Преподаватель Инархоза Стекачев Г.А., враг сов. власти, «на лекциях хулиганит и иронизирует. Элемент опасный, вредный». Таков же проф. Инархоза Мулюкин А.С. — «с научной стороны слаб, на лекциях хулиганит и иронизирует, что плохо отражается на рабочем студенчестве. Тип весьма вредный». Ассистент ИНО Фролов Б.С. — «анархист-хулиган. Открыто демагогически выступает на собраниях против сов. власти, за что уже сидел в ЧК. Тип весьма вредный». Некоторым преподавателям инкриминировалось, что за их кажущимся нейтралитетом скрывается враждебность. Так, о профессоре ИНО Витухове Л.Б. сказано: «В данный момент внешне он как будто изображает лояльность. Политически подозрителен». Его коллега профессор Тру- фильев Е.П. — «крайне неустойчивый и сомнительный...» Профессор Мединститута Типуев «внешне лоялен, но в сущности крайне вреден»[40].
Таковы и остальные отзывы.
Наряду с секретной «аттестацией», проводилась и явная, публичная. Я имею в виду журнальные статьи и рецензии, открыто громившие русский идеализм. Тут что нй заглавие, то приговор[41]. Формально они существовали как бы параллельно проводившейся репрессивной кампании, независимо от нее, но, по существу, были глубоко с нею идейно связаны. Конечно, их авторы могли исходить из своих личных мотивов. Однако все эти материалы были в основном откликом на статью Ленина «О значении воинствующего материализма», а стало быть, исходили и из его формулы изгнания. Нельзя к тому же исключать и прямой договоренности с авторами в связи с «Операцией», проводившейся ЦК РКП(б) и ГПУ.
Вглядимся теперь внимательнее в инвективы, направленные против высылаемых философов. Это обычно нечто среднее между разносом и доносом, огонь ведется на поражение.
О Карсавине. В.Ваганян в статье «Ученый мракобес» пишет: «Как философ Л.Карсавин нас, по правде сказать, мало интересует... У него две категории поклонников: богомольные старухи... и уездные интеллигенты»[42]. П.Преображенский: «Онтология Л.П.Карсавина является самым откровенным богословием...»[43]. Другие отзывы: «Перлы реакционной метафизики»[44], «всенощное бдение»[45], «галиматья»[46].
О Франке. И.Луппол: «Расхождение Франка с научным знанием так велико, что с ним нельзя полемизировать... Дальше идти некуда, и мы можем заключить нашу операцию выявления Франка как крайнего идеалиста. .. Каким-то диким анахронизмом представляется в наши дни этот выученик Николая Кузанского; за современной философской видимостью Франка сказывается средневековая схоластика»[47]. В Адоратский: «...Г.Франк продолжает заниматься своей мифологией»[48].
О Лосском. И.Боричевский: Перед нами обычная картина всякого сверхнаучного богословско-догматического творчества»[49]. С. Семковский: «Неообскурантизм», «идеология ретроградства»[50].
Таково было «экспертное» заключение «вольных» советских философов об их опальных изгоняемых коллегах, мало, как видим, отличающееся от секретных чекистских характеристик. Оно появилось как нельзя более «вовремя» и могло существенно пополнить следственные досье.
Арест и тюрьма
В середине августа 1922 г. прокатилась волна арестов. И вскоре зам.председателя ГПУ сообщает Ленину о первых итогах операции (на бланке есть пометка «ЫВ»): «Тов. Ленину. Служебная записка. Согласно вашему распоряжению направляю списки интеллигенции по Москве, Питеру и Украине, утвержденные Политбюро. Операция произведена в Москве и Питере с 16-го на 17-е с.г., по Украине с 17 на 18-е. Московской публике сегодня объявлено постановление о высылке за границу и предупреждены, что самовольный въезд в РСФСР карается расстрелом. Завтра выяснится вопрос с визами. Ежедневно буду вам посылать сводку о ходе высылки. С ком. приветом Уншлихт. Все с нетерпением ждем полного восстановления ваших сил и здоровья. 18.8.22»[51].
Одним из первых в Москве был арестован Бердяев. Он не был новичком в этом отношении. Сначала его вызывали для объяснений в ЧК как инициатора и руководителя Вольной академии духовной культуры. Впервые он был арестован в 1920 г. по делу так называемого Тактического центра, к которому не имел прямого отношения. Вот некоторые документы, характеризующие эту страницу его биографии.
«Ордер № 96. Управление Особого отдела ВЧК. Секретный отдел. 18 февраля 1920*г. Выдан сотруднику Особого отдела ВЧК тов. Педан на производство ареста и обыска Бердяева Н.А. и всех подозрительных лиц. По адресу Б.Власьевский переулок, 14, кв. 6.
Председатель Особого отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии В. Менжинский »[52].
Далее следует протокол обыска, который продолжался до рассвета. При этом были изъяты: удостоверение Наркомпроса № 4021, паспорт № 387, членский профсоюзный билет № 3508, записная книжка, 4 тетради, рукопись, 7 лекций, автобиография, переписка, несколько экземпляров журналов «Русская свобода» и «Народоправство», две газеты, каучуковая печать Вольной академии духовной культуры и сургучная печать с гербом Бердяевых. Сестра жены Бердяева вспоминает спокойно сказанные им чекистам слова: «Напрасно делать обыск. Я противник большевизма и никогда своих мыслей не скрывал. В моих статьях вы не найдете ничего, чего бы я не говорил открыто в моих лекциях и на собраниях»[53]. Сотрудник ЧК приложил к ордеру № 96 следующее дополнение: «При аресте гр. Бердяева, он в разговоре заявил, между прочим, что он идейный противник идеализации коммунизма, и пояснил, что это происходит оттого, что он, Бердяев, очень религиозный, а коммунизм “материален” (его выражение). 19.11.20. Комиссар Н.Педан»[54]. В тюрьму Бердяев был отправлен пешком, под конвоем. О
том, что было дальше, узнаем из его автобиографии. Однажды, когда он находился во внутренней тюрьме ЧК, в двенадцатом часу ночи его вызвали на допрос. «С левой стороны, около письменного стола, стоял неизвестный мне человек в военной форме, с красной звездой. Это был блондин с жидкой заостренной бородкой, с серыми, мутными и меланхолическими глазами; в его внешности и манере было что-то мягкое, чувствовались благовоспитанность и вежливость. Он попросил меня сесть и сказал: “Меня зовут Дзержинский”. Это имя человека, создавшего Чека, считалось кровавым и приводило в ужас всю Россию. Я был единственным человеком среди многочисленных арестованных, которого допрашивал сам Дзержинский. Мой допрос носил торжественный характер: приехал Каменев присутствовать на допросе, был и заместитель председателя Чека Менжинский, которого я немного знал в прошлом (я встречал его в Петербурге, он был тогда писателем, неудавшимся романистом). Очень выраженной чертой моего характера является то, что в катастрофические и опасные минуты жизни я никогда не чувствую подавленности, не испытываю ни малейшего испуга, наоборот, испытываю подъем и склонен переходить в наступление. Тут, вероятно, сказывается моя военная кровь. Я решил на допросе не столько защищаться, сколько нападать, переведя весь разговор в идеологическую область. Я сказал Дзержинскому: “Имейте в виду, что я считаю соответствующим моему достоинству мыслителя и писателя прямо высказать то, что я думаю”. Дзержинский мне ответил: “Мы этого и ждем от вас”. Тогда я решил говорить раньше, чем мне будут задавать вопросы. Я говорил минут сорок пять, прочел целую лекцию. То, что я говорил, носило идеологический характер. Я старался объяснить, по каким религиозным, философским, моральным основаниям я являюсь противником коммунизма, вместе с тем я настаивал на том, что я человек не политический. Дзержинский слушал меня очень внимательно и лишь изредка вставлял свои замечания. Так, например, он сказал: “Можно быть материалистом в теории и идеалистом в жизни, и наоборот, идеалистом в теории и материалистом в жизни”. После моей длинной речи, которая, как мне впоследствии сказали, понравилась Дзержинскому своей прямотой, он все-таки задал мне несколько вопросов, связанных с людьми. Я твердо решил ничего не го
ворить о людях. Я имел уже опыт допросов в старом режиме. На один очень неприятный вопрос Дзержинский сам дал мне ответ, который вывел меня из затруднения. Потом я узнал, что большая часть арестованных сами себя оговорили, так что их показания были главным источником обвинения. По окончании допроса Дзержинский сказал мне: “Я вас сейчас освобожу, но вам нельзя будет уезжать из Москвы без разрешения”. Потом он обратился к Менжинскому: “Сейчас поздно, а у нас процветает бандитизм, нельзя ли отвезти г.Бердяева домой на автомобиле?” Автомобиля не нашлось, но меня отвез с моими вещами солдат на мотоциклетке»[55].
Следующий арест Бердяева произошел 16 августа 1922 г., став непосредственным прологом к депортации. Обратимся к связанным с ним архивным документам.
«Ордер № 1722, августа 16 дня 1922 г. Выдан сотруднику Оперативного отдела ГПУ Соколову на произведение ареста и обыска гр. Бердяева Николая Алексеевича (так в тексте — вместо “Александровича”, что свидетельствует о спешке, в которой проводилась “Операция”. — Л.К.) по адресу Б.Власьевский, д. 14, кв. 3.
Зам. председателя ГПУ Нач. Опер, отдела» .
Обыск начался в 1 час ночи, закончился в 5 часов 10 минут утра. Бердяев спокойно сидел сбоку, у письменного стола. Присутствовал управдом Моисеев. Были изъяты: трудовая книжка и переписка на 26 листах, как отмечено в протоколе, частично уничтоженная. Из протокола допроса явствует, что бывший дворянин Бердяев, 48 лет, собственности не имеет; считает себя сторонником христианской общественности, основанной на свободе; до и после Февральской революции 1917 г. жил литературным трудом; с октября 1917 г. служил в Главном архивном управлении, затем профессором в Московском университете, в Государственном институте слова, действительный член Российской академии художественных наук.
Бердяев ответил на вопросы следователя Бахвалова, которые воспроизвожу с сохранением орфографии.
«Вопрос. Скажите, гр-н Бердяев, ваши взгляды на структуру Советской власти и на систему пролетарского государства.
Ответ. По убеждениям своим я не могу стоять на классовой точке зрения и одинаково считаю узкой, ограниченной и своекорыстной и идеологию дворянства, и идеологию крестьянства, и идеологию пролетариата, и идеологию буржуазии. Стою на точке зрения человека и человечества, которой должны подчиняться всякие классовые ограничения и партии. Своей собственной идеологией считаю аристократическую, но не во внешнем смысле, а в смысле индивидуальности лучших, наиболее умных, талантливых, образованных, благородных. Демократию считаю ошибкой, потому что она стоит на точке зрения господства большинства...
Вопрос. Скажите ваши взгляды на задачи интеллигенции и так называемой “общественности”.
Ответ. Думаю, что задача интеллигенции во всех сферах культуры и общественности отстаивать одухотворяющие начала, подчинив материальное начало идее духовной культуры, быть носителем научного, нравственного, эстетического сознания. Думаю, что должно быть взаимодействие и сотрудничество общественности и элементов государственной власти...
Вопрос. Скажите ваше отношение к таким методам борьбы с советской властью, как забастовка профессоров.
Ответ. Я недостаточно знаю этот факт и не могу окончательно судить об этом деле. Если профессора боролись за интересы науки и знания, то это я считаю правильным...
Вопрос. Скажите ваше отношение к сменовеховцам, Савинкову и к процессу партии социалистов-революцио- неров.
Ответ. К сменовеховцам я отношусь скорее отрицательно. Читал только сборник и заметил, что в нем слишком много фраз и недостаточное знание реальной жизни... К попыткам Савинкова отношусь отрицательно. За процессом с.-р. не следил. Считаю ошибочным суровый приговор относительно с.-р. и не сочувствую ему.
Вопрос. Скажите ваши взгляды на положение Советской власти в области высшей школы и отношение к реформе ее.
3 - 151
Ответ. Не сочувствую политике Советской власти относительно высшей школы, поскольку она нарушает свободу науки и преподавания и стесняет свободу прений [в] философии.
Вопрос. Скажите ваши взгляды на перспективы русской эмиграции за границей.
Ответ. Положение большей части эмиграции считаю тяжелым...
Вопрос. Ваш взгляд на политические партии вообще и на РКП в частности.
Ответ. Отношусь отрицательно к партийности и никогда ни к каким партиям не принадлежал и принадлежать не буду. Ни одна из существующих и существовавших партий моего сочувствия не вызывает.
18.VIII.22 Николай Бердяев»[56].
Следующий день — 19 августа — был наиболее драматичным, решающим после ареста. Тем же Бахваловым подписывается постановление, решившее судьбу подследственного. Вот его текст (написанный, кстати сказать, карандашом!):
41922 года, августа 19 дня, я, сотрудник 4-го отделения СО ГПУ Бахвалов, рассмотрел дело № 15564 о гр- не Бердяеве Николае Александровиче, постановил: привлечь его в качестве обвиняемого и предъявить ему обвинение в том, что он с Октябрьского переворота и до настоящего времени не только не примирился с существующей в России Рабоче-крестьянской властью, но ни на один момент не прекращал своей антисоветской деятельности, причем в моменты внешних затруднений для РСФСР свою контрреволюционную деятельность усиливал, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 57-й Уголовного кодекса РСФСР. Как меру пресечения уклонения от суда и следствия гр-на Бердяева избрать содержание под стражей.
Сотрудник IV СО ГПУ Бахвалов. Согласен.
Начальник СО ГПУ И.Решетов.
Настоящее постановление мне объявлено, Бердяев Николай Александрович»[57].
Отмечу лишь некоторые бросающиеся в глаза особенности этого документа, буквально вопиющие о беззаконии. Во-первых, представленные материалы не выделены тут в особое дело, а подверстаны к прежнему судопроизводству 1920 г. о Тактическом центре; во-вторых, из постановления не видно, на основании каких именно фактов и доводов, доказательств строится обвинение; в-третьих, формула обвинения имеет не индивидуализированный характер, она в равной степени относится ко всем, привлеченным по этому делу; в-четвертых, совершенно очевидно, что здесь нет и тени конкретного расследования, — итог заранее предрешен и все материалы попросту подгоняются под него.
В тот же день это постановление было предъявлено Бердяеву. Он отверг его основные пункты.
«От 19 августа 1922 г. постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого по 57 статье Уголовного кодекса РСФСР прочел и не признаю себя виновным в том, что занимался антисоветской деятельностью и особенно не считаю себя виновным в том, что в моменты внешних затруднений для РСФСР занимался контрреволюционной деятельностью.
19 августа 1922 г.
Николай Бердяев»[58].
Несмотря на это несогласие, ГПУ продолжало настаивать на своем и оформило того же числа свое общее Заключение. Оно содержит тот же набор штампов. «1922 года, августа 19-го дня, я, сотрудник IV СО ГПУ Бахвалов, рассмотрел дело за № 15564 о Бердяеве Николае Александровиче, 48 лет... с момента Октябрьского переворота и до настоящего времени он не только не примирился с существующей в России в течение 5-ти лет Рабоче-крестьянской властью, но ни на один момент не прекращал своей антисоветской деятельности, причем в момент внешних затруднений для РСФСР Бердяев свою
контрреволюционную деятельность усиливал. Все это подтверждается имеющимся в деле агентурным материалом. Посему, на основании п. 2, лит. Е, пол. о ГПУ от 6/II с.г. в целях пресечения дальнейшей антисоветской деятельности Бердяева Николая Александровича полагаю его выслать из пределов РСФСР за границу бессрочно...»[59]. Далее следуют подписи Бахвалова, Решето- ва и еще две (неразборчивые), выражающие согласие.
Для тоу'о, чтобы у читателей сложилось достаточно полное представление о высылке 1922 года, мне остается сослаться на итоговую «Подписку» (своего рода клятвенное заверение на грани жизни и смерти), взятую от Бердяева и других обвиняемых.
«Подписка. Дана сия мною, гр-ном Бердяевым, Государственному политическому управлению в том, что обязуюсь не возвращаться на территорию РСФСР без разрешения органов Советской власти. Статья 71 Уголовного кодекса РСФСР, карающая за самовольное возвращение в пределы РСФСР высшей мерой наказания, мне объявлена, в чем и подписуюсь. 1922 года, августа 19 Дня. Г.Москва.
Бердяев Николай Александрович» .
Этим в основном завершался тюремный этап депортации. Бердяев был освобожден с условием, что в течение недели он ликвидирует все свои личные и служебные дела и доложит ГПУ о готовности к выезду. «Мне объявлено, — отмечает он, — что неявка в указанный срок будет рассматриваться как побег из-под стражи со всеми вытекающими последствиями»[60]. Бердяев не хотел уезжать, разлука с Родиной была для него мучительна. «...Когда мне сказали, что меня высылают, — у меня сделалась тоска»[61].
И.А.Ильин, как и Бердяев, побывал узником ЧК еще за несколько лет до высылки. Он арестовывался 6 раз: в марте, августе и ноябре 1918 г., в 1919 г., в 1920 г. и, наконец, в 1922 г. В 1920 г. его путь неожиданно пересекся с ленинским. В.Д.Бонч-Бруевич вспоминает, что в Управлении делами Совнаркома поступило заявление о том, что арестованный профессор Ильин болен и крайне трудно переносит тюремное заключение. При заявлении прилагался труд Ильина «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» (защищенный в 1918 г. в качестве магистерской и одновременно докторской диссертации) и выражалось желание автора продолжить свою работу в этом направлении. Бонч-Бруевич доложил обо всем Ленину, передав одновременно письмо, книги и собранные в связи с этим справки. «Владимир Ильич, — пишет он, — обратил серьезное внимание на это дело, лично сейчас же звонил тов.Дзержинскому, разузнавал, в чем дело, и принял все меры к облегчению участи, а потом и к освобождению этого ученого-пленника революции. И вот эти-то книги, которые раньше ему не попадались в руки, он тщательно, с карандашом в руках штудировал». Ленин говорил Бонч-Бруевичу, что хотя точка зрения Ильина «не наша», но его книги «все-таки хорошие»[62].
Это, впрочем, не спасло Ильина от изгнания. К тому же весною 1921 г. Ленин получил от старого большевика
В.Г.Горина-Галкина, работавшего в то время в МГУ, письмо, в котором сообщалось, что там «под видом Гегеля читается гегелеобразное христианское богословие (профессор Ильин)... Как Вам, конечно, хорошо известно, наши профессора самые хитрые кадеты и как таковые отлично организованы и великолепно умеют втирать очки дуракам из меньшевиствующих коммунистов»[63].
При обыске у Ильина 4 сентября 1922 г. было изъято несколько книг и рукописей.
Из протокола допроса.
«Фамилия, имя, отчество. Ильин Иван Александрович.
Возраст. 39 лет.
Происхождение. Б. дворянин, города Москвы.
Местожительство. Крестовоздвиженский переулок, 2/12, кв. 36.
Род занятий. Профессор.
Семейное положение. Женат.
Имущественное положение. Заработком.
Чем занимался и где служил, а) До войны 1914 года — профессором Московского университета. Преподаватель философии и права, б) До Февральской революции 1917 года — то же. в) До Октябрьской революции 1917 года — то же. г) С Октябрьской революции — то же и в других московских высших учебных заведениях.
Обратимся к показаниям по существу дела.
Вопрос. Скажите, гр. Ильин, ваши взгляды на структуру Советской власти и на систему пролетарского государства.
Ответ. Считаю Советскую власть исторйчески неизбежным оформлением великого общественно-духовного недуга, назревавшего в России в течение нескольких сот лет.
Вопрос. Ваши взгляды на задачи интеллигенции и так называемой общественности.
Ответ. Задача интеллигенции воспитать в себе новое мировоззрение и правосознание и научить ему других; задача старой русской общественности — понять свою несостоятельность и начать быть по-новому.
Вопрос. Ваш взгляд на политические партии вообще и РКП в частности.
Ответ. Политическая партия строит государство только тогда, и только постольку, поскольку она искренно служит сверхклассовой солидарности; я глубоко убежден в том, что РКП, пренебрегая этим началом, вредит себе, своему делу, своей власти в России.
Вопрос. Скажите ваше отношение к сменовеховцам, Савинкову и к процессу ПСР.
Ответ. Сменовеховцев считаю беспринципными и лицемерными политическими авантюристами. 2) Что творит Савинков и его друзья, мне неизвестно, думаю, что роль их сыграна. 3) Процесс ПСР (я не следил за ним подробно), кажется мне, нанес этой партии гораздо более сильный удар, чем тот, который партии С.-Р. уда
лось нанести в самом процессе Советско-коммунистичес- кой власти.
Вопрос. Ваше отношение к таким методам борьбы с Советской властью, как забастовка профессуры.
Ответ. Считаю так называемую забастовку профессуры мерою борьбы, вытекающую из начал здорового правосознания, но подсказанною и навеянною революционной тактикой рабочего класса.
Вопрос. Ваш взгляд на перспективы русской эмиграции.
Ответ. Русская эмиграция в том виде, какова она сейчас, может быть, и не способна к духовному возрождению; положение ее вряд ли не трагично; я мало осведомлен.
Вопрос. Скажите ваши взгляды на политику Советской власти в области высшей школы и отношение к реформе ее.
Ответ. Высшая школа прошла при Советской власти через целый ряд реформ; боюсь, что в результате всех этих сломов от высшей школы останется одно название. На высшие учебные заведения Советская власть смотрела все время не как на научную лабораторию, а как на политического врага.
4/IX-1922 г. Иван Александрович Ильин»[64].
В деле Ильина представлен тот же набор документов, что и у Бердяева. Их резюмирует выписка из протокола заседания коллегии ГПУ от 23 октября 1922 года.
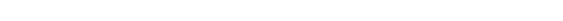
Слушали
Дело № 15778. Ильин Иван Александрович по постановлению коллегии ГПУ ог 12.9.22 г. выслан за границу. Доклад, тов. Шешкен.
Утвердил тов. Уншлихт.
Постановили
Дело прекратить и сдать в архив.
Секретарь коллегии ГПУ[65]
Сотрудник Оперативного отдела ГПУ Мдивани, явившийся 16 августа с ордером № 1732 арестовывать Ф.А.Степуна, не застал его дома. Обыск, несмотря на это, был произведен — с выемкой, как сказано в акте, части переписки. При этом были допрошены соседи, включая дворника; однако выявить факты, порочащие философа, не удалось.
Из протокола допроса Степуна, Федора Августовича.
Возраст. 38.
Происхождение. Отец — директор фабрики.
Род занятий. Литератор.
Семейное положение. Женат. Детей нет.
Имущественное положение. Нет.
Партийность. Беспартийный.
Образование. Общее — доктор философии, специальное — Гейдельбергский университет.
Чем занимался и где служил. До войны 1914 года нигде не служил. Редактировал «Логос». До Февральской революции 1917 года — на фронте прапорщиком, окончил поручиком. Был избран на Юго-Западном фронте членом ЦИК 1-го созыва. С Октябрьской революции до ареста жил у себя в деревне, т.е. в имении родителей моей жены, где велось трудовое хозяйство. Работал в Государственном показательном театре. Член Академии художественных наук. Преподавал в центральных студиях и пр.[66].
Ответы Степуна на вопросы мировоззренческого характера привожу по его воспоминаниям (ввиду того, что протокольные записи трудно поддаются прочтению, да и не все в них фиксировалось). «1) Как гражданин Советской Федеративной республики я отношусь к правительству и всем партиям безоговорочно лояльно; как философ и писатель считаю, однако, большевизм тяжелым заболеванием народной души и не могу не желать ей скорого выздоровления; 2) Протестовать против применения смертной казни в переходные революционные времена я не могу, так как сам защищал ее в военной комиссии Совета рабочих и солдатских депутатов, но уверенность в том, что большевистская власть должна будет превратить высшую меру наказания в нормальный прием управления страной, делает для меня всякое участие в этой влас
ти и внутреннее приятие ее невозможным; 3) что касается эмиграции, то я против нее: не надо быть врагом, чтобы не покидать постели своей больной матери. Оставаться у этой постели естественный долг всякого сына. Если бы я был за эмиграцию, то меня уже давно не было в России»[67]. На вопрос об отношении к марксизму Сте- пун отвечал так: «...“Капитал” Маркса представляет собою остро продуманный и в общем верный социологический анализ капиталистического строя Европы, но превращать социологическую доктрину в применимую ко всем временам и народам историософскую доктрину нет никакого смысла и основания. В России марксизм победил, впрочем, не как отвлеченная философская доктрина, но как захватившая народную душу лжевера. Задача русской интеллигенции распутать эту путаницу. Верить надо в Бога, а не в Карла Маркса...»[68]
Перед Степуном и другими подследственными был поставлен вопрос: намерен ли он отправляться на Запад за свой счет или за казенный. «Хотелось, конечно, ответить, что поеду на свой счет, так как не было твердой уверенности, что казна благополучно доведет меня до Берлина, а не заберет где-нибудь по пути. Но как написать “на свой счет”, когда в кармане нет ни гроша? Подумал, подумал и написал: “на казенный”. Прочитав мой ответ, следователь деловито сообщил, что ввиду моего решения ехать на средства государства я буду пока что препровожден в тюрьму, а впоследствии по этапу доставлен до польской границы. Услыхав это, я взволновался:
— Простите, товарищ, в таком случае еду на свой счет...
— Ну, что же, — благожелательно отозвался следователь, если хотите ехать на свой, то так и пишите. Вот вам чистый бланк, но только знайте, что собираясь ехать на свои деньги, вы должны будете подписать еще бумагу, обязующую вас уже через неделю покинуть пределы РСФСР»[69]. То же вспоминает М.Осоргин в эссе
«Как нас уехали (юбилейное)», впервые опубликованном в 1932 г. в Париже. «Допрашивали нас в нескольких комнатах несколько следователей. За исключением умного Решетова, все эти следователи были малограмотны, самоуверенны и ни о ком из нас не имели никакого представления: какой-то там товарищ Бердяев, да товарищ Кизеветтер, да Новиков Михаил... Вы чем занимались? А чего вы пишете? А вы, говорите, философ? А чем же занимаетесь? — Самый допрос был образцом канцелярской простоты и логики. Собственно, допрашивать нас было не о чем — ни в чем мы не обвинялись. Я спросил Решетова: “Собственно, в чем мы обвиняемся?” Он ответил: “Оставьте, товарищ, не это важно! не к чему задавать пустые вопросы”»[70]. В одном из документов, продолжает Осоргин, указывалось, что в случае согласия уехать на свой счет подследственный освобождается с обязательством покинуть пределы страны в кратчайший срок. В этом контексте следует рассматривать и заявление Бердяева в Коллегию ГПУ 19 августа 1922 г. «Согласно предложению 4-го отделения СО ГПУ о высылке меня, прошу Коллегию ГПУ разрешить мне выезд за границу за свой счет с семьей...»[71] А вот «Подписка» Ильина: «Дана сия мною, гражданином Иваном Александровичем Ильиным, СО ГПУ в том, что обязуюсь: 1) Выехать за границу согласно решению Коллегии ГПУ за свой счет, 2) В течение 7 дней после освобождения ликвидировать все свои личные и служебные дела и получить необходимые для выезда за границу документы, 3) По истечении 7 дней обязуюсь явиться в СО ГПУ к нач. IV отделения тов. Решетову. Мне объявлено, что неявка в указанный срок будет рассматриваться как побег из-под стражи со всеми вытекающими последствиями, в чем и подписуюсь. 6 сентября 1922 г.» И тут же: «В Коллегию ГПУ от профессора Ивана Александровича Ильина. Ввиду предполагаемой высылки моей за границу согласно постановлению ГПУ, прошу разрешить мне выезд за свой счет, а также разрешить выезд моей жене Наталье Николаевне Вокач- Ильиной вместе со мной»[72].
Ситуация поистине парадоксальная и, пожалуй, бес- прецендентная: человека не только выдворяют, вышвыривают из родной страны, но и вынуждают его же самого оплачивать это беззаконие, да еще просить об этом как о милости.
Ряд ярких штрихов к общей картине изгнания добавляет Н.О.Лосский. Он, как и Осоргин, был арестован после вызова в ГПУ. «Меня повели в один из верхних этажей и посадили в коридоре на скамейке у какой-то двери, поставив рядом со мной вооруженного солдата. Через несколько минут я услышал возгласы: “Карсавина ведут!” Мимо меня провели Льва Платоновича в комнату, перед которой я сидел. Через полчаса Карсавин был выведен оттуда, и я был введен в эту комнату. В ней сидела дама, исполняющая обязанности судебного следователя, и допрашивала арестованных в Петербурге 16 августа интеллигентов. Фамилия ее, кажется, была Озоли- на. Вид у нее был такой суровый, что, встретившись с нею в лесу, можно было бы испугаться. Она предъявила мне, как и всем арестованным 16 августа интеллигентам, обвинение, сущность которого состояла в следующем: такой-то до сих пор не соглашается с идеологией власти РСФСР и во время внешних затруднений, то есть войны, усиливал свою контрреволюционную деятельность. Прочитав обвинение, я побледнел, понимая, что это грозит расстрелом, и ожидал, что меня будут допрашивать, с кем я знаком, на каких собраниях, где устраивались заговоры против правительства, я бывал и т.п. В действительности никаких таких вопросов мне, как и всем нам, не было задано: правительство знало, что мы не участвовали в политической деятельности. К тому же было предрешено, что нас приговорят к высылке за границу. В это время большевистское правительство добивалось признания йе Лиге государствами Западной Европы. Арестованы были лица, имена и деятельность которых были известны в Европе, и большевики хотели, очевидно, показать, что их режим не есть варварская деспотия. Говорят, что Троцкий предложил именно такую меру, как высылка за границу. Меня, как и всех нас, допрашивали о том, как я отношусь к Советской власти, к партии социалистов-революционеров и т.п. После допроса меня отвели в большую комнату, где находилось около пятидесяти арестованных из всех слоев населения и по самым различным обвинениям. Здесь находились Карсавин,
Лапшин, профессор математики Селиванов и другие лица из нашей группы. ... Через неделю нас перевели из ЧК в тюрьму на Шпалерной улице... Я сидел вместе с профессором почвоведения Одинцовым и профессором ботаники, поляком, имя которого я забыл, он был арестован в связи с нашею группою»[73].
П.А.Сорокин еще в 1918 г. был заточен в Петропавловскую крепость, позже арестовывался Великоустюжской ЧК. О событиях 1922 г. сообщает кратко. Он, петербуржец, узнал об арестах профессуры и студенчества, находясь в августе в Москве. В питерских газетах появились статьи с угрозами по его адресу, в его квартиру приходили чекисты. Встревоженный, он возвращается домой, но, опасаясь расправы со стороны Гришки Ш-го (Зиновьева) и его команды, снова уезжает в Москву, предпочитая иметь дело с центральной властью. «Я пришел в Чека с тюремным мешком, и через некоторое время меня принял человек, занимавшийся делом высылаемых ученых. “Моя фамилия Сорокин, — сказал я, — Ваши товарищи в Петрограде приходили арестовывать меня, а я был здесь, в Москве. Я пришел узнать, что вам от меня надо и что вы собираетесь со мной делать”. Чекист, молодой человек с бледным лицом кокаинового наркомана, махнул рукой и сказал: “У нас много людей в Москве, с которыми мы не знаем, что делать. Поезжайте обратно в Петроград, и пусть Чека там решит вашу судьбу”. — “Спасибо, — сказал я. — Я не вернусь в Петроград. Если вы хотите арестовать меня, вот я здесь. А если нет, то я, как свободный гражданин, хочу жить в Москве или любом другом городе России, но не в Петрограде”. — “Это невозможно, — сказал он, но, подумав минуту, добавил: Ладно, все арестованные из университета будут высланы за границу. Подпишите две бумаги, и через 10 дней вы должны покинуть территорию РСФСР” ...Выйдя из Чека, я послал жене телеграмму, попросил ее продать все вещи и приехать в Москву. Продавать было особенно нечего, кроме остатков моей библиотеки...»[74] Сорокину было разрешено взять с собой
одно старое пальто, пять рубашек, пять пар брюк, два полотенца, две простыни.
Неудивительно, что «дело» Сорокина, арестованного в сентябре 1922 г., уместилось всего на 6 листах. Тут нет даже протокола допроса. Вот два итоговых документа. «Подписка. Дана сия мною, гр. Сорокиным Пити- римом Александровичем, Государственному политическому управлению о том, что обязуюсь не возвращаться на территорию РСФСР без разрешения Сов. власти. Ст. 71-я Уголовного кодекса РСФСР, карающая за самовольное возвращение в пределы РСФСР высшей мерой наказания, мне объявлена, в чем и подписуюсь». И Заключение, «Выслать бессрочно», утвержденное Г.Яго- дой[75].
К концу августа 1922 г. основной «списочный» состав высылаемых был в руках ГПУ. Кое-кому удавалось, однако, ускользнуть, и «охота.» продолжалась. Через каждые несколько дней Ленину посылались очередные чекистские рапорты. Их острая характерность побуждает меня привести образцы этого жанра.
«Государственное политическое управление. 23 августа 1922 г. № 81521. Москва, Большая Лубянка, 2. Секретариат Коллегии. Тов. Ленину. По поручению тов. Уншлихта посылаю рапорт о состоянии операции по высылке антисоветской интеллигенции на 23-е августа 1922 г. Приложение: упомянутое. Секретарь Коллегии ГПУ Езерская»[76]. И еще: «Т.Ленину. Зампреду тов. Уншлихту. Рапорт. Состояние операции по высылке антисоветской интеллигенции на 23 августа. 1) За отчетные два дня присланы согласно нашим телеграммам арестованные из Вологды — Шишкин и из Новгорода — Булатов. 2) Нами арестованы из оставшихся до сих пор неразысканными 3 человека: Л.Н.Юровский, Осоргин и Изюмов и профессор Велихов переведен с домашнего ареста во внутреннюю тюрьму. 3) Итого, по Московскому списку из 67 человек, подлежащих аресту и высылке за границу, нами арестовано: а) домашним арестом 11 человек, б) арестованы и содержатся во внутренней тюрьме 14 человек... в) освобождены после заявления о желании выехать за границу за свой счет 21 человек... Все они дали обязательства в недельный срок закончить свои дела и вы
ехать за границу; г) не арестованы по Москве 8 человек... д) находятся в других городах И человек... Сделан вторичный запрос местным Губотделам о результатах ареста; е) всего таким образом по списку недостает неуказанных двух человек — Фалина, арестованного ранее и высланного под надзор органов ГПУ, и Ефимова, который содержится в Таганской тюрьме. 4) Из содержащихся во внутренней тюрьме 14 человек Тяпкин, Кравец, Брилинг и Велихов переданы вместе с делами в КРО ГПУ. Остальные 10 человек подлежат высылке за границу за счет ГПУ и под конвоем. 5) С Украины сведений не поступало. Послана вторая телеграмма с предложением поспешить ответом. 6) Петроградский Губотдел представил следующую сводку о результатах операции: с 16 на 17 августа нами арестовано согласно списку антисоветской интеллигенции города Петрограда 30 человек... Все вышеуказанные лица б)адут высланы за границу под конвоем за счет ГПУ»[77]. Следующие семь человек (Замятин Е.И., Карсавин Л.П., Лосский Н.О. и др.) «согласно их желания будут пущены (так в тексте. — Л.К.) за границу за свой счет». Четверо (Садыкова Ю.Н. и др.) высылаются в Восточные губернии для использования в борьбе с эпидемиями. Этот рапорт подписан нач. СО ГПУ И.Решетовым[78].
Спустя несколько дней — 27 августа 1922 г. — из Коллегии ГПУ было направлено новое донесение. «Тов.Ленину. По поручению тов. Уншлихта посылаю копию рапорта о состоянии операции по высылке антисоветской интеллигенции на 26 августа. Приложение: упомянутое. Секретарь Коллегии ГПУ Езерская» (Там же. Л. 13). 4Рапорт состояния операции по высылке лиц антисоветской интеллигенции на 26 августа. 1) За отчетные два дня согласно наших телеграмм прислан из Калуги арестованный Ромадановский. 2) Арестованы из оставшихся неразысканными 2 человека — Пальчинский и Изгарышев. 3) Итого по московскому списку из 67 человек, подлежащих аресту и высылке за границу, нами арестованы: а) домашним арестом 11 человек, указанные в предыдущей сводке, и арестованный 24 августа Изгарышев, итого 12 человек; б) арестованы и содержатся во внутренней тюрьме 14 человек, указанных в предыдущей
сводке, и арестованы 25 августа Пальчинский и Ромада- новский — итого 16 человек; в) не арестованных по Москве 6 человек; г) находятся в других городах 10 человек; е) и освобожденные для выезда на свой счет указанные в предыдущей сводке 21 человек. 4) Из числа подлежащих высылке: а) освобожденных и отправленных за свой счет 33 человека, из них заполнены анкеты и сданы в ИНО ГПУ документы 16 человек на получение паспортов — итого со сданными ранее 23; б) как наиболее активные и серьезные антисоветские деятели высылаются под конвоем 6 человек. 5) Новых сведений
о результатах операции по Петрограду и Украине не поступало. Украине сделано повторное предложение поспешить сообщением о результатах. Зам. нач. 4 отдела СО ГПУ Зарайский. 26 августа 1922 года»[79].
Списки высылаемых продолжали уточняться. Кое- кто освобождался от депортации по секретным мотивам ГПУ или по ходатайству различных советских учреждений и отдельных лиц. Другим предъявлялись новые обвинения. Для того чтобы разобраться во всем этом, была создана еще одна комиссия.
Перед нами ««Выписка из протокола № 1 заседания комиссии под председательством тов. Дзержинского от 31.8 с.г. по пересмотру ходатайств об отмене высылки лиц, о которых соответствующими учреждениями делались заявления об оставлении на местах»[80]. События развивались так быстро, что судьба людей менялась подчас буквально на глазах. Если еще неделю назад Еремеев Г.А., Гусаров И.Е., Савич И.К. и Тельтевский А.В. фигурировали в петроградском списке как присужденные к высылке за границу под конвоем за счет ГПУ, то теперь, в конце августа, они перекочевывают в другой черный список — против них возбуждается дело о принадлежности к антисоветской организации. В связи с этим их высылка отменяется и они продолжают содержаться под стражей. Тельтевскому к тому же инкриминируется, что он правый эсер. Бывший царский прокурор Савич, отказавшийся дать подписку о добровольном выезде из России, высылается в Тюменский уезд. Приостановлена также высылка Рыбникова Л.А., которому предъявлялось обвинение в активной антисовет
ской деятельности, и Кондратьева Н.Д. за содействие эсерам. Депортация ряда лиц задерживалась из-за необходимости дополнительного расследования. Были и иные мотивы пересмотра. Так, высылка Озерова И.Х. временно приостанавливалась в связи с проводимой им специальной финансово-экономической работой. Приостанавливалась и депортация Паршина Н.Е., за которого ходатайствовало Главное управление Горной промышленности. Резолюция комиссии по пересмотру этого дела гласит: 4-му отделению Секретного отдела поручено путем опроса т.Богданова и Стеклова выяснить полезность оставления его, как спеца горной промышленности в РСФСР (карандашная вставка: с единственный по своей специальности»). Более определенное решение принимается по делу Юровского Л.Н.: на основании письменных ходатайств Наркомфина и личных переговоров зам. Наркомфина М.К.Владимирова с Дзержинским Юровского решено оставить в Москве как крупного специалиста-финансиста. Вполне недвусмысленно определяется и участь инженера Сахарова А.В.: «От высылки освобожден по секретным соображениям ГПУ»[81]. Пересмотрен был и вопрос об Е.И.Замятине. Известный писатель, арестованный одновременно с философами, он был приговорен к высылке за границу бессрочно. Но критик А.К.Воронский ходатайствовал об оставлении Замятина на родине. Привожу связанный с этим пункт протокола Комиссии Дзержинского: «Замятин, Евгений Иванович. Вследствие ходатайства т.Воронского об оставлении Замятина в России на предмет сотрудничества его в “Красной нови” высылка временно приостановлена до окончания переговоров»[82]. Понадобились, видимо, дополнительные усилия, чтобы достичь в этом вопросе окончательного решения.
В тот же день, когда Комиссия Дзержинского продолжала решать еще не вполне определившиеся судьбы высылаемых, — 31 августа 1922 г. — в «Правде» публикуется сообщение, подводящее общие итоги операции. «По постановлению Государственного политического управления, — сказано здесь, — наиболее активные контрреволюционные элементы из среды профессуры, врачей, агрономов, литераторов высылаются частью в Северные
губернии России, частью за границу... Советская власть обнаружила слишком много терпения по отношению к этим элементам, надеясь, что они поймут бессмысленность своих надежд о возвращении к прошлому. Она предоставляла им полную возможность работать для дела восстановления нашего хозяйства и для действительно научной работы. Но кадетствующие элементы не пожелали пойти по этой дороге... Среди высылаемых почти нет крупных научных имен. В большинстве это политиканствующие элементы профессуры, которые гораздо больше известны своей принадлежностью к кадетской партии, чем своими научными заслугами... Высылка активных контрреволюционных элементов и буржуазной интеллигенции является первым предупреждением Советской власти по отношению к этим слоям. Советская власть по-прежнему будет высоко ценить и всячески поддерживать тех представителей старой интеллигенции, которые будут лояльно работать с Советской властью, как работает сейчас лучшая часть специалистов. Но она по- прежнему в корне будет пресекать всякую попытку использовать советские возможности для открытой или тайной борьбы с рабоче-крестьянской властью за реставрацию буржуазно-помещичьего режима»[83].
Депортация умов затянулась до конца года. Ленин старался держать ее под своим контролем. В ноябре он запрашивает ГПУ об одном из лидеров меньшевизма
А.Н.Потресове. И получает ответ: «Государственное политическое управление. 22 ноября 1922 г. № 81953. Секретариат Коллегии. Тов. Ленину. На Ваш запрос сообщаю, что гр. Потресов по решению комиссии Политбюро не был включен в список высылаемых за границу. Зам. пред. ГПУ Уншлихт»[84].
Осенью 1922 г. отбыло за рубеж несколько групп высылаемых. С.Н.Булгаков был выдворен из Крыма в конце декабря. В декабре же принято решение Политбюро о высылке историка Н.А.Рожкова, но не на Запад, как намечалось раньше, а в Псков. Именно вглубь страны, в северные и восточные губернии двинулся основной поток репрессированных.
Изгнание или смерть
Судя по всему, эта операция и задумывалась изначально как вариант ссылки, хотя и в непривычном облачении. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что советское правительство обратилось вначале к Германии с просьбой о разовом предоставлении виз всем депортируемым — в государственном, так сказать, порядке, еп Ыок. Комментируя это, Лосский пишет: «Канцлер Вирт ответил, что Германия не Сибирь и ссылать в нее русских граждан нельзя, но если русские ученые и писатели сами обратятся с просьбой дать им визу, Германия охотно окажет им гостеприимство»[85]. Еще нагляднее выступает перед нами истинный характер «Операции», если учесть, что высылка за границу меньшей, элитной части репрессированных прикрывала привычное заточение большинства их в тюрьмах, лагерях и других «зонах». Высылка сочеталась с ссылкой, более того — была ее моментом, частью.
Факты изгнания деятелей культуры имели место и раньше. Еще задолго до нашей эры философ-демократ Эмпедокл был изгнан из Агригента, стоики Сенека и Эпиктет — из Рима, позднее, в начале христианской эры, был изгнан римский поэт Овидий, на рубеже Средневековья и Нового времени — Данте изгоняется из Флоренции. Но такая широко запрограммированная, коллективная депортация умов, какая произошла у нас, — это уже нечто иное, новое.
Пора развеять миф о том, что она являлась частным эпизодом, маргинальным зигзагом истории.
Это был существенный элемент большевистской стратегии, нацеленный на установление духовно-мировоззренческой монополии партии в обществе, на ее диктатуру и в сфере сознания. Свобода объявлялась тем самым вне закона. Диалог как первооснова и душа культуры подменялся директивно-командным монологом, идеологическим диктатом, окриком, угрозой.
Первой жертвой изгнания стали лучшие философы России — культурный цвет нации, но, в сущности, это был удар по российской интеллигенции и интеллигентности, духовности вообще.
Пора развеять и другой миф — о якобы филантропическом, гуманном характере этой партийно-чекистской «Операции»; она, мол, проводилась чуть ли не в интересах самих ее жертв, призвана была спасти их от грозящей гибели. Эту точку зрения выразил, в частности, Троцкий 30 августа 1922 г. в беседе с американской журналисткой Луизой Брайянт: «Те элементы, которых мы высылаем и будем высылать, — говорил он, — сами по себе политически ничтожны. Но они потенциальное оружие в руках наших возможных врагов. В случае новых военных осложнений, — а они, несмотря на наше миролюбие, не исключены, — все эти наши непримиримые и неисправимые элементы окажутся военно-политическими агентами врага. И мы вынуждены будем расстреливать их по законам войны. Вот почему мы предпочли сейчас, в спокойный период, выслать их заблаговременно. И я выражаю надежду, что вы не откажетесь признать нашу предусмотрительную гуманность и возьмете на себя ее защиту перед общественным мнением»[86]. Это безжалостное фарисейство и демагогия. Действительный расчет властей состоял в ином: оторвать, изолировать инакомыслящих от своего народа и Родины, избавиться от нежелательных сильных оппонентов; выбить их «из седла», из привычной жизненной колеи, добиться их деморализации и устранения с исторической арены. Отсюда и альтернатива, которая им предлагалась: изгнание или смерть. Бессрочная ссылка ставилась в один ряд с расстрелом.
Жесточайший удар наносился и по собственной стране, ее традициям и устоям, ее интеллектуально-нравственному потенциалу. Одним из пагубных последствий «Операции» стал разрыв преемственности в развитии отечественной культуры, особенно философии. Изгнание русских мыслителей повлекло за собою их более чем полувековое замалчивание (вперемешку с охаиванием), исключение их трудов из культурного оборота. Многие достижения русской мысли, высоко оцененные на Западе и Востоке, вошедшие в сокровищницу мировой культуры, оказались надолго утрачены, не востребованы в собственной стране. Это вписывается в исторический контекст таких событий, как глобальное обескровливание
России в мировой и гражданской войнах, ликвидация дворянства и купечества, вынужденная массовая белая эмиграция, выплеснувшая за наши рубежи значительную часть интеллигенции. В итоге национальному духовному генофонду был нанесен огромный качественный урон, содействовавший люмпенизации и конформизации общества, распространению догматизма и примитивизма в общественном сознании. Не случайно многие яростные гонители русских идеалистов тогда же, в 1922 г., стали активными недругами философии вообще, проводниками философского нигилизма (И.Боричевский, С.Минин,
В.Рожицин и др.); характерно, что их геростратовский девиз «философию за борт» нашел отклик и в таком оплоте официальной идеологии, как Комуниверситет им. Свердлова, в выступлениях его ректора, старого большевика М.Лядова. Так изгнание философов обернулось отречением от философии.
Отмечу и то, что эта «Операция» создала прецедент, который неоднократно повторялся с теми или.иными вариациями в дальнейшем, в наше время (изгнание Александра Солженицына, Иосифа Бродского, Галины Вишневской, Мстислава Ростроповича и др.). Зло порождает зло.
Нет надобности идеализировать старых русских философов, во всем с ними соглашаться. Они и сами нередко спорили между собой. Но в одном они были едины: в своей беззаветной любви к Родине, в заботе о ее духовном возрождении, о нравственном здоровье общества. И покидая Россию, они оставили нам несколько важных заветов-предостережений.
С.Л.Франк писал, что главный нравственный водораздел в современном русском обществе проходит «между сторонниками права, свободы и достоинства личности, культуры, мирного политического развития, основанного на взаимном уважении, чувства ответственности перед Родиной как великим целым, с одной стороны, — и сторонниками насилия, произвола, разнуздания классового эгоизма, захвата власти чернью, презрения к культуре, равнодушия к общенациональному благу — с другой. В одном лагере хотят свободы для всех, надеются, что отныне не будет политических преследований, относятся с великодушием к побежденным и униженным представителям старой власти; в другом — пытаются завести цензуру, хотят арестовывать всякого инакомысля
щего и дают побежденным чувствовать силу кулака победителя»[87]. Л.П.Карсавин выражал надежду, что русский народ преодолеет ненависть и насилие, положит начало христианской жизни на Земле. П.А.Сорокин предупреждал в статье «Заветы Достоевского»: «Без любви, без нравственного совершенствования людей не спасет и перемена общественного строя, изменение законов и учреждений. Напишите какие угодно конституции, пересадите какие угодно учреждения, но раз люди безнравственны, раз в них и их поступках нет нравственной идеи любви, то никакого улучшения быть не может. Вне любви не только не может быть спасения, но не может быть и никаких спасителей и освободителей. Если только сам спасатель не проникся всецело чувством любви на деле, в своих поступках и поведении, то какими бы высокими словами он ни прикрывался, какую бы великодушную пыль ни пускал в глаза, — такой человек будет лжепророком, мнимым освободителем, вожаком, ведущим к гибели, фальшивомонетчиком, сеющим семена преступлений и зла, великим тираном, а не благодетелем человечества. Таким людям народ нужен только для осуществления их собственных аппетитов»[88]. Эти мысли выдающийся социолог продолжил в год своего изгнания, обращаясь к студенческой молодежи: «В результате войны и революции наше отечество лежит в развалинах... Задача возрождения России падает на ваши плечи, задача бесконечно трудная и тяжелая... Первое, что вы должны взять с собой в дорогу, это знания, это чистую науку, обязательную для всех... Но не берите суррогатов науки, так ловко подделанных под нее псевдознаний, заблуждений, то «буржуазных», то «пролетарских», которые в изобилии предлагают вам тьмы фальсификаторов... Мир не только мастерская, но и величайший храм, где всякое существо, и прежде всего всякий человек — луч божественного, неприкосновенная святыня. Ношо Ьопйш Оеиз (а не 1ириз) ез1: — вот что должно служить вашим девизом. Нарушение его, а тем более замена его противоположным заветом зверской злобы, волчьей грызни друг с другом, заветом злобы, ненависти и наси
лия, не проходила никогда даром ни для победителя, ни для побежденного»[89].
Как провидчески и современно звучат эти слова, проникнутые жаждой духовно-нравственного возрождения России.
Прощаясь с Родиной, опальные мыслители стремились нас образумить, предостеречь. К сожалению, их голос не был услышан.
«Вопросы философии1993.
А.П. Огурцов
Подавление философии
Я новый мир хотел построить, Да больше нечего ломать.
В.Друк
Сталинизм — это прежде всего режим личной власти, автократия с ее отказом от демократических начал социальной и политической жизни, унификацией культуры, репрессивной идеологией, формировавшейся вокруг мифологического культа одной личности — Хозяина и одной ценности — Порядка. Здесь политика подменялась политиканством, наука — служением утилитарнопрагматическим целям, философия — идеологией верхушки, ставшей у кормила власти командно-бюрократи- ческой системы, которая сама также была подавлена деспотической волей автократа.
Сталинизм не нуждался в философии как науке. Ему было совершенно чуждо объективное, критическое осмысление действительности, неприемлемо само искание истины, ибо последняя уже была провозглашена «гениальным учителем и вождем всех народов». Поэтому «уже возвещенную» истину следовало лишь повторять, заучивать и комментировать.
На этой «возделанной» почве и выросли автократический режим и авторитарная идеология с ее культом Вождя, бездумной верой в мудрость принимаемых им решений, с насилием как основным методом воспитания нового человека.
В своем обобщенном виде эти авторитарные догмы были изложены, как известно, в «Кратком курсе истории ВКП(б)», в ее IV главе «О диалектическом и историческом материализме». Но следует, конечно, помнить, что складывались они постепенно. Их совокупность и конфигурация менялись в зависимости от обстоятельств, и лишь в 30-е годы все богатство и многообразие философских исканий, как мы покажем это ниже, было окончательно подавлено и замещено идеологическим катехи
зисом, в котором на примитивные, далекие от жизни псевдофилософские вопросы стали даваться столь же примитивные псевдофилософские ответы.
Культ упрощенно толкуемой борьбы — политической, идеологической, научной — повлек за собой в эти годы негативное, предвзятое отношение ко многим явлениям и корифеям всей прошлой и зарубежной культуры, противостоящей по всем линиям социалистической культуре.
Коротко говоря, эта фетишизация противоборства культур и идеологических направлений, наряду с другими факторами, и привела к утверждению тезиса об усилении классовой борьбы в ходе строительства социализма, послужив идеологическим оправданием репрессий, когда в атмосфере агрессивности и воинствующего нигилизма ликвидировались целые научные школы, уничтожались люди. Это естественно, в свою очередь, вело к отрыву советской науки от научно-исследовательской деятельности за рубежом, к свертыванию международных научных контактов и в конечном счете к отставанию нашей науки в целом ряде наиболее важных и перспективных областей исследования. Но прежде всего эта ги- перкритическая идеология оказалась разрушительной, конечно, для самой философии.
Догмат об усилении идеологической борьбы непосредственно коснулся философии, в которой хотели видеть лишь выражение классовых или групповых интересов. Вульгарно-социологический подход к философии — этой «квинтэссенции всей культуры» — пытался превратить ее в те годы в прямом смысле в идеологическую «пайку»[90], с помощью которой внедрялись бы в общест
венное сознание шаблоны и авторитарные клише вместо поиска ответов на реальные проблемы жизни.
Падение уровня развития философской науки началось с резкого снижения той требовательности, которой, собственно, и измеряются ее содержание и смысл. Арест и высылка за границу в 1922 году тех философов и социологов, которые не приняли Советской власти и в связи с этим были ей идеологически чужды, ликвидация появившихся философских обществ, введение запретов на получение высшего образования детьми из семей интеллигенции и имущих классов — все это заведомо не могло не сказаться на снижении планки указанной требовательности. Средний уровень философской культуры стал формироваться уже не по высшим критериям способности человека к теоретическому мышлению, а по его упрощенным и вульгаризированным формам.
Правда, в первые годы Советской власти наряду с ликвидацией прежних стихийно возникавших философских организаций (обществ, кафедр, объединений) развернулось и создание новых идеологических институтов. Уже 25 июля 1918 года декретом ВЦИК создается Социалистическая академия общественных наук в качестве противовеса социально-гуманитарным отделениям Российской академии наук. В 1919 году организуется Российская академия истории материальной культуры, объединившая вокруг себя тех интеллектуалов, которые не вошли в историко-филологическое отделение академии наук. Формирование новых институтов было особенно активным в первое десятилетие Советской власти. В это время были созданы Коммунистический научно-исследо- вательский институт в Петрограде, Научное общество марксистов, общество воинствующих материалистов, общество «Октябрь мысли», по изучению культуры современности , Г осударственный научно-исследовательский институт изучения и пропаганды естественнонаучных основ материализма им. К.А.Тимирязева, университет им. Я.М.Свердлова и др. Тем самым, казалось бы, создавались институциональные предпосылки для расцвета философии. Однако, если мы проанализируем состав философского сообщества того времени, его образовательный уровень, а также идеологические установки участников этого процесса, вместе с энтузиазмом принесших в духовную жизнь нетерпимость и склонность к революционной фразе, то увидим явное снижение и его
философской культуры, и уровня исследовательских задач. В результате были разрушены традиционные механизмы, обеспечивавшие некогда профессиональную подготовку специалистов и объективность самих философских изысканий. Философия оказалась, таким образом, во власти все более жестокого контроля.
Нередко сталинизм отождествлялся с господством государственной бюрократии над обществом, или с тем, что можно назвать условно партократией. Подобное отождествление, допустимое в публицистике, едва ли, однако, корректно, поскольку при этом смешиваются различные фазы социально-политического и идеологического развития. В действительности партократия и автократия — это два типа социально-политической организации и управления. При всей их близости между ними нельзя не видеть существенного отличия. Суть дела не в том, что в период автократии партийный и государственный аппарат потерял самостоятельность, а в том, что по своим объективным функциям партократия еще не была прямо связана с бюрократией, то есть с тем слоем государственных чиновников, которые обладали компетентностью и ориентировались на соблюдение принятых формальных норм и законов. В условиях появления однопартийной системы, сложившейся в Советской России, партия была лишь частью общества, хотя и тогда претендовала на «Общее лицо и Тотальную функцию». Но автократия действительно родилась из партократии, и случилось это в тот момент, когда большинство ее представителей окончательно прониклись уверенностью в том, что партия всегда права и воплощает в себе все знание законов исторического развития. Если для партократии была характерна ортодоксальность сознания, стремление подчеркнуть верность принципам, то для автократии стали присущи полная беспринципность и сервилистское согласие со всем, что скажет Вождь. Переход от партократии к автократии был сложен, противоречив, и многие деятели партии и государства уловили этот процесс перерождения правящей партии и не приняли нарождающийся автократический режим[91].
Принципиальное различие между партократией и автократией заключается в том, что на первом этапе внутри партии еще допускались дискуссии и обсуждения, но коль скоро решение было принято, партия, стоявшая во главе государства, должна выступать единым фронтом; при автократическом же режиме не было ни внутрипартийных, ни иных споров, ибо самое их допущение означало для авторитарного сознания допущение сомнения в истине, возвещенной Вождем. Переход от партократии к автократии имел самые губительные последствия, в том числе и для философии, поскольку была создана система жесткого контроля за печатью, преподаватели проходили проверку на лояльность, а инакомыслие, не допускавшееся и раньше, стало рассматриваться как политическое (контрреволюционное) действие. Нетерпимость и репрессивность — таково состояние массовой психологии при режиме автократии.
Полемика между «механистами» и «диалектиками»
Сразу же после смерти В.И.Ленина советское философское Сообщество оказалось втянутым в острую дискуссию. Конечно, нельзя забывать, что маховик обвинений и взаимных разоблачений в середине 20-х годов лишь начинал раскручиваться. Но уже в этой первой дискуссии, расколовшей лагерь марксистов на две непримиримые группы, отсутствие научных аргументов компенсировалось грубостью и крепостью эпитетов, обвинениями в ревизионизме и ликвидаторстве, экстремистским фанатизмом в проведении своей позиции, причем любая иная позиция трактовалась при этом как оппозиция. Каждая из полемизировавших сторон не слушала аргументы и контраргументы другой стороны. Каждая из
сторон бесконечное число раз приводила одни и те же цитаты из недавно опубликованной «Диалектики природы» Ф.Энгельса и даже не помышляла обратиться к достижениям естественных наук в XX веке. В группу «механистов», которую возглавляли Л.Аксельрод и А.К.Тимирязев, входили А.Варьяш, И.И.Скворцов-Степанов, Вл.Сарабьянов и др.. В группу «диалектиков», которую возглавлял А.М.Деборин, входили Я.Стэн, Н.Карев, Гр.Баммель и др.
Дискуссия прошла ряд этапов. Уже в 1924—1925 годах между И.И.Скворцовым-Степановым, с одной стороны, и Я.Стэном — с другой, развернулась полемика в журнале «Большевик». Она вспыхнула из-за послесловия И.И.Скворцова-Степанова к книге Г.Гортера «Исторический материализм» (М., 1924), где он проводил точку зрения, согласно которой никакого иного способа мысли, кроме механического, ни естествознание, ни философия не знают и не будут знать. Поэтому все разговоры о формировании диалектического способа мышления и о внедрении его в естественные науки являются, по мнению И.И.Скворцова-Степанова, схоластическими и противоречат реальным тенденциям развития естествознания.
Второй этап — дискуссия весной и летом 1926 года в Институте научной философии, возникшая по случайному поводу, но переросшая в длительное истязание себя и своих оппонентов. После затянувшихся словопрений, на которых лишь Л.Аксельрод выступала трижды, «механисты» объединились вокруг Тимирязевского науч- но-исследовательского института и выпустили в свет несколько сборников «Диалектика в природе» (Вологда, 1928). К 1929 году дискуссия между «механистами» и «диалектиками», по сути дела, закончилась. Закончилась поражением «механистов». 2-я Всесоюзная конференция марксистско-ленинских научно-исследовательских учреждений, заслушав доклад А.М.Деборина «О современных проблемах философии марксизма-ленинизма», приняла резолюцию, в которой отмечалось, что «наиболее активным философским ревизионистским направлением за последние годы являлось течение механистов». «Ведя, по существу, борьбу против философии марксизма-ленинизма, не понимая основ материалистической диалектики и подменяя на деле революционноматериалистическую диалектику вульгарным эволюционизмом, а материализм — позитивизмом, объективно препятствуя проникновению методологии диалектическо
го материализма в область естествознания и т.д., — это течение представляет явный отход от марксистско-ленинских философских позиций»[92].
В чем же существо разногласий между «механистами» и «диалектиками»?
Полемика затрагивала прежде всего статус марксистской философии, ее отношение к естественным наукам. Если для «механистов» не существовало отдельной и обособленной области философствования, в принципе отождествляемого ими с выводами естественных наук, то для «диалектиков» марксистская философия обладала самостоятельным статусом й специфическим содержанием. Она представляла собой методологию и теорию познания.
Для «механистов» был характерен, по существу, отказ от философии. И к тому же позитивистское отождествление философии с общими выводами из естественных наук приводило их в конечном счете к догмати- зации далеко не современного уровня развития научного знания. Но если «механисты» ограничивали все научное знание законами механики и той картиной мира, которая была развита на основе классической механики, то и «диалектики», апеллируя к диалектическому методу немецкого классического идеализма (прежде всего к Гегелю), также фактически не смогли подойти к гносеологическому и методологическому осмыслению достижений естествознания конца XIX — начала XX века. И те, и другие пытались, по существу, реставрировать внутри философского знания компоненты уже отжившие — или механицизм, или идеалистическую диалектику. Так, И.И.Скворцов-Степанов еще в 1924 году писал: «Марксист должен прямо и открыто сказать, что он принимает так называемое механическое воззрение на природу, механистическое понимание ее»[93]. В 1928 году в итоге полемики с «деборинцами» он также отождествляет диалектику с механистическим способом мысли: «Для настоящего времени диалектическое понимание природы конкретизируется именно как механистическое понимание»[94].
Попытка «механистов» универсализировать механические модели и способы объяснения (модели равновесия, баланса, статики, устойчивости), перенести их из механики в биологию и социологию не соответствовала уровню развития научного познания в этот период.
Их стремление превратить механику в лидера естествознания XX века, а механистическую картину мира — в универсально-философское мировоззрение шло вразрез с основными тенденциями науки. Эта гальванизация механических моделей происходила в то время, когда не только биология и социология, но и квантовая механика (в частности, при построении Н.Бором квантовомеханических моделей строения атома) уже положили в основу анализа и начали широко использовать понятия нестационарных состояний, нестатические модели и т.п. В то время как физика уже стала неклассической, защитники механицизма по-прежнему стремились возвратить физику и науку в целом к уже преодоленному ею периоду классической механики, абсолютизировавшей устойчивость природных явлений, модели равновесия и баланса при объяснении природы.
Развернувшаяся в конце 20-х годов полемика с «механистами» касалась острых методологических проблем науки — границ механистической картины мира, моделей и методов механики, необходимости выдвижения новых моделей, строящихся на иных основаниях, например неустойчивости равновесия, неравновесности биологических и социальных систем, их несводимости к механическим процессам.
Объективный смысл борьбы с «механистами» заключался в утверждении новых научных теорий, использующих неклассические, немеханические модели и объяснительные схемы, в оспаривании нигилистического отношения к научным теориям XX века — квантовой механике, теории относительности, теории направленной эволюции, или номогенеза, и др. Негативное отношение к ведущим теориям физики XX века составляло кредо «механистов». Например, один из их лидеров, А.К.Ти- мирязев, на протяжении всей своей жизни был непримиримым противником всех теорий современной физики. Он обвинял всю физику в идеализме, поскольку она отказалась от наглядных механических моделей и заменила их абстрактно-математическими построениями. Так, теория относительности А.Эйнштейна была для
него разновидностью идеалистической философии и диаметрально противоположна марксистской философии. Отождествив теорию относительности с махизмом (на деле А.Эйнштейн выступал с критикой махизма),
А. К.Тимирязев называл основателя теории относительности не иначе как реакционером в науке, который способствовал якобы попятному движению научного знания. Столь же нигилистичным было и его отношение к квантовой механике. Ошибочно отождествив механицизм с материализмом, а критику механицизма с критикой материализма и с идеализмом, он связывал с отказом от механически-наглядных моделей кризис в физике вообще и в квантовой механике в частности. Все критики механицизма, даже среди советских ученых, квалифицировались им как проводники буржуазного идеалистического мировоззрения. К идеалистам, врагам марксизма и Советской власти он причислял таких выдающихся ученых, как П.П.Лазарев, В.И.Вернадский, Л.С.Берг и др. Из квазифилософских квалификаций («идеалист», «метафизик» и т.д.) делались прямые политические выводы о лояльности того или иного ученого.
Хотя в полемике с «механистами» «диалектики» были во многом правы и фиксировали действительные слабости методологической позиции защитников механицизма, однако и представители «деборинской школы» остались далеки от философского обобщения достижений науки XX века. Основные усилия их были направлены на то, чтобы гальванизировать гегелевскую диалектику, доказать ее действенность во всех частностях и деталях. Даже в тех, антикварность которых уже стала очевидной в XIX, а не только в XX веке. Само собой разумеется, что достижения естественных наук и математики XX века не могли быть адекватно интерпретированы с позиций идеалистической философской системы начала XIX века. При всей глубине философского мышления Гегеля нельзя все же забывать (а именно это было характерно для представителей группы А.М.Дебо- рина), что гегелевская концепция и в постановке и в решении многих философско-методологических проблем несла на себе печать культуры вековой давности, что она отражала особенности и ограниченность науки того времени, усиленные идеалистической критикой современной ему науки, развернутой в натурфилософии (в
частности, критики Гегелем атомизма, ньютоновской оптики, дифференциального исчисления). Завышая научность гегелевской диалектики, ее перспективность для гносеологического и методологического анализа естествознания, представители группы А.М.Деборина смотрели сквозь ее шоры и на науку XX века, пытаясь уложить ее достижения в прокрустово ложе гегелевской диалектики. Поэтому обвинения «диалектиков» в схоластике, выдвигавшиеся со стороны «механистов», были во многом не столь уж несправедливы, гегельянская методология, оторванная от процесса познания и навязываемая в качестве схемы всему и вся, действительно превращалась в схоластику. Навязывая естествознанию XX века гегельянские схемы-триады, «диалектики» столь же безапелляционно обвиняли в идеализме и тех ученых, которые мыслили самостоятельно и развивали оригинальные методологические идеи. В этой связи показательна, в частности, дискуссия между А.М.Дебори- ным и В.И.Вернадским, которая будет .освещена чуть позднее.
Одним из центральных пунктов полемики между «механистами» и «диалектиками» был вопрос о возможности редукции нового качества к количественным процессам и отношениям, сведения сложного к простому. Если «диалектики» подчеркивали скачкообразность перехода от низшей формы к высшей, несводимость нового качества к количественным процессам, то «механисты» полагали, что сведение составляет основную характеристику научного познания. «Без сведения (относительного) сложного к простому, разнообразия к однообразию, множества к единству и единства к множеству не существовало бы ни физики, ни математики, ни любой другой науки»[95]. «Механисты», прилагая ко всему один масштаб — механики, не допускали качественных изменений и проводили физикалистскую точку зрения при интерпретации биологических и социальных процессов. Проблема редукции крайне обострилась при попытке объяснить сущность живого. Можно ли свести живое к физико-химическим свойствам? Достаточно ли познавательных средств механики для объяснения жизни? Все
эти вопросы возникли в ходе дискуссии «механистов» и «диалектиков». Трактуя качество как изменение того же количества, а «скачки» как выражение нашего незнания скрытых количественных параметров, «механисты» обвиняли «диалектиков» в витализме, поскольку последние говорили о несводимости живого к физико-химическим процессам. Надо сказать, что и до сих пор эта проблема не нашла окончательного решения и среди современных философов ведутся дискуссии о редукционизме, о возможности сведения живого к физико-химическим процессам и о границах такой редукции.
Спор между «механистами» и «диалектиками» был далек от научной полемики. Стороны не стеснялись в средствах, обвиняя друг друга в идеализме, ликвидаторстве, схоластике, эклектизме, антимарксизме, философской беспомощности и т.д. Например, А.М.Деборин обвинил Л.Аксельрод в сионизме, а Л.Аксельрод своего оппонента — в мещанстве и в соединении марксистской фразы с антимарксистским содержанием. Полемика между ними завершилась идеолого-политической квалификацией «механистов» в 1929 году, как «наиболее активного философского ревизионистского направления». После этого их влияние идет на убыль и окончательно побеждает программа «диалектиков».
Свою основную задачу группа А.М.Деборина усматривала в разработке диалектики как метода изучения природы и общества, как особого способа мышления, противостоящего формальной логике, неправомерно отождествляемой с метафизикой. Диалектизация естествознания — таково ядро их программы. Диалектика, примененная к естествознанию, рассматривалась ими как некая «диалектика природы», цель которой — решение наиболее значимых проблем, таких, как сведение высших форм к низшим, объективность качества, «узлов» и «скачков», взаимоотношение причинности и случайности, необходимости и целесообразности.
Подвести под естествознание фундамент материалистической диалектики — так мыслилась «деборинцами» основная линия философских исследований. Для этого было создано Общество воинствующих материалистов- диалектиков, организован журнал «Естествознание и марксизм», ответственным редактором которого стал акад. О.Ю.Шмидт. На 2-м Всесоюзном совещании марксистско-ленинских научных учреждений в 1929 году он
4 — 151
выступил с докладом «Задачи марксистов в области естествознания». В редакционной статье первого номера названного журнала подчеркивалось: «Нам нужны не мнимоматериалистические формулы, не терминологический псевдомарксизм, а добросовестная, самостоятельная, включающая проникновение в самые специальные вопросы науки упорная работа, направленная на расширение области применения марксистской методологии и на выявление ее плодотворности в применении к конкретному материалу естествознания»[96]. В первых номерах журнала были опубликованы статьи ведущих советских ученых — Л. А. Л юстерника, А. С. Серебровского, М. М. Завадовско- го, Н.П.Дубинина, И.И.Агола и др. Однако «диалекти- зация» естествознания не была достигнута, под него так и не был подведен марксистский фундамент. Вскоре Общество воинствующих материалистов-диалектиков обросло прилипалами и лакействующими псевдоучеными, которые ради якобы научных интересов были готовы подвести марксистскую базу под все что угодно, даже под «классификацию туберкулеза». Доклад на эту тему обсуждался, в частности, Обществом врачей — материалистов при 1-м МГУ. Программа «диалектизации», а точнее — идеологической переориентации ученых стала означать, по сути дела, прямое «внедрение» марксизма в естествознание и шельмование многих ученых и целых научных направлений. Между тем то, к чему призывали сторонники группы А.М.Деборина, основывалось не только на неприятии достижений естествознания XX века, но и на открытом противопоставлении диалектической методологии методологическим нормам и регуляти- вам естественных наук.
В 1929 году выходит очередной, 4-й выпуск сборника Научно-исследовательского института им. К.А.Тимирязе- ва «Диалектика в природе. Одна из его статей — статья
С.С.Перова «Диалектика в биохимии» начинается с уверения: «Лет через пятьдесят историк естествознания с похвалой отзовется о попытке Тимирязевского института впервые в СССР проследить диалектические законы в природе, доказывая их наличие и экспериментом и методологическими соображениями»[97]. Если же обратиться к содержанию и сборника, и этой статьи, то его трудно
оценить с похвалой, зная судьбу советской генетики. Дело в том, что генетика трактуется С.С.Перовым как одно из плодовитейших проявлений метафизики. По его словам, «все генетики являются прямыми антидарвинистами, ибо принятием генов они совершают основную ревизию дарвинизма»[98]. В генетике, которую он называет супраметафизическим туманом, он видит основную причину трудности проникновения диалектики в биологию. С аналогичной критикой генетики с позиций ламаркизма выступает и другой автор этого сборника — Ф.Дучин- ский. Разрыв между «механической» методологией и естествознанием XX века становился все более и более очевидным.
«Диалектизация естествознания» и полемика между Дебориным и Вернадским
То, насколько далеки были «диалектики» от реальных философско-методологических проблем науки, ярко демонстрирует полемика их лидера А.М.Деборина с акад. В.И.Вернадским. Со стороны Деборина спор с Вернадским носил отнюдь не отвлеченно философский характер,. «Философская критика» идей Вернадского сразу же приобрела характер сугубо политический — разговор, вместо поиска философских аргументов и контрдоводов, превратился, по существу, в розыск злокозненных философских построений, в разоблачительст- во, в обвинение в нелояльности к Советской власти. Пафос мнимонаучного и мнимофилософского разоблачи- тельства, а на деле идеологического доноса основывался на передержках, на сознательном искажении текстов и существа работ Вернадского, на приписывании ему того, что он никогда не думал.
Формально первым выступил против Деборина Вернадский, который 20 ноября 1928 года написал «Записку о выборе члена Академии по отделу философских наук». Однако эта «Записка» отнюдь не предназначалась для печати и касалась внутриакадемических проблем. И уж тем более она не предназначалась для ознакомления кандидату в академики. Но, очевидно, она все же стала известна Деборину, против избрания которого в академики выступал в своей «Записке» Вернадский. Однако содер
жание этого документа было гораздо шире и глубже, чем просто отрицательный отзыв о работах кандидата в академики. Речь в данном случае шла не столько об одном из советских философов, и даже не о критериях выбора академика, сколько о состоянии философии в нашей стране в целом и ее воздействии на развитие науки. Планка требований, предъявляемых Вернадским к кандидату в академики по философии, весьма высока: «Он должен обладать непререкаемым большим авторитетом, признанным если не на свободной мировой арене философской мысли, что едва ли возможно для официальной философии, хотя бы даже такой большой страны, как наша, — то в кругу идейных исканий господствующей партии... Удовлетворяет ли всем этим условиям А.Дебо- рин? Мне кажется, что нет. Сейчас в русском диалектическом материализме нет единого течения... А.М.Дебо- рин является авторитетом для своих последователей, но абсолютно никакого философского значения не признают за ним его партийные философские противники»[99].
В.И.Вернадский проводит мысль о том, что трудно разобраться, какое течение внутри официального диалектического материализма является правым. Поэтому единственным критерием оценки философского направления может быть лишь «отражение того или другого понимания диалектического материализма на точной научной работе в нашей стране» (С. 111). Если же сопоставить философские идеи «механистов» и «диалектиков» по этому критерию, то «течение, возглавляемое А.М.Дебо- риным, может привести по отношению к научной работе к нежелательным для роста научного знания в нашей стране результатам» (С. 111). Негативное воздействие «диалектиков» на развитие науки Вернадский объясняет тем, что эта школа стремится возродить гегельянство, которое противоречило научным результатам уже в XIX веке и оказало губительное влияние на научные искания в тех странах, где оно утвердилось. «Диалектика гегельянства уже не первый раз пытается проникнуть в естествознание и математику — в первой половине XIX века оно привело к ненаучным построениям, главным образом немецкой, отчасти и нашей науки и ослабило научную
работу... Едва ли кто из научных работников может сомневаться, что и сейчас мы подойдем к тому же результату — к схоластическим построениям вместо точного знания» (С. 112).
Обсуждение кандидатуры Деборина послужило для Вернадского поводом для размышлений о состоянии советской философии, об увеличивающемся разрыве между философией и наукой, о необходимости разных философских направлений. По мнению Вернадского, не может существовать одной-единственной философии. Философия всегда многолика и многообразна. Унификация философии означает превращение ее в официальную государственную идеологию и губительна как для философии, так и для науки в целом. Философия по своему существу должна быть представлена в многообразии философских течений и направлений. И эту принципиально важную мысль Вернадский обосновывает с разных позиций.
Важнейшим положением здесь является тезис о существенном различии философии и науки. Не приемля рас- суждений о классовости науки, которым отдал дань и Деборин, Вернадский подчеркивает, что «наука одна и едина», ’а «ее установления в конечном своем развитии общеобязательны» (С. 108). Философия же отличается от науки тем, что она не обладает общеобязательностью научного знания, в ней гораздо более сильно проявление мировоззрения личности философа, интерпретации им бытия, культуры, науки. Стремление построить одну- единственную философию Вернадский называет утопией, которая может оказать разрушительное влияние на философские и научные искания, если эта утопия начнет осуществляться и станет принципом государственной политики в области духовной жизни.
26 декабря 1931 года В.И.Вернадский выступает на общем собрании АН СССР с докладом «Проблема времени в современной науке». Этот доклад переиздан в его книге «Философские мысли натуралиста» (М.: Наука, 1988. С. 228-255). Поэтому мы не будем пересказывать его содержание, весьма глубокое как в научном, так и философском отношении. Скажем, лишь, что этот доклад вызвал яростную критику со стороны Деборина и его последователей/ Еще летом 1931 года в журнале «Под знаменем марксизма» была опубликована статья Д.Новогрудского «Геохимия и витализм. О научном ми
ровоззрении акад. В.И.Вернадского»[100], где последний обвинялся в витализме, идеализме, фидеизме и прочих «грехах». Нетерпимость, стремление унифицировать философские искания в стране и сохранить «чистоту» марксистской философии от «классово чуждых» элементов — такова позиция автора, перекликавшаяся с заявлением Сталина в 1929 году о необходимости «выкорчевывания теорий, засоряющих головы наших практиков». «Постепенно развиваясь в законченную систему виталистических взглядов, — писал Новогрудский, — научное мировоззрение акад. Вернадского становится знаменем реакционных сил в области теоретического естествознания и тормозом в реконструкции науки и техники на службе строительства социализма»[101]. Это же обвинение в идеологической и политической нелояльности выдвинул и Де- борин: «Все мировоззрение В.И.Вернадского, естественно, глубоко враждебно материализму и нашей современной жизни, нашему социалистическому строительству»[102]. Совершенно ясно, что к таким аргументам прибегают не в научной полемике. Но важно отметить и другой момент — в противовес трактовке времени Вернадским Деборин апеллирует к натурфилософской концепции пространства и времени, развитой Гегелем. Естественно, что Вернадский был вынужден ответить Деборину. В своем ответе он показывает, как сознательно искажаются Дебориным его мысли, подменяясь совершенно чуждыми идеями. «Становится жутко, — писал Вернадский, — как мог он думать, что среди научно работающих представителей точного знания, точных наук могут существовать в XX веке такие монстры, каким он меня в полете своей философской фантазии или свободы от наук рисует?»[103]. Вернадский подчеркивает, что методы, используемые Дебориным в своей критике, вредны и опасны, ибо могут привести лишь к ослаблению научной работы. «Ученые должны быть избавлены от опеки представителей философии» (С. 401) — таково требование выдаю
щегося ученого. Он считает, что недопустимо «на основании философской критики научной статьи выводить из нее философское мировоззрение ученого» (С. 402), что нельзя прибегать в научном споре к политическим ярлыкам и к фальсификации идей критикуемого автора.
Одним из наиболее ярких примеров сознательной фальсификации Дебориным идей своего оппонента может служить обвинение Вернадского в проповеди расизма. В его идее о взрыве научного творчества в XX веке Деборин увидел расизм: Вернадский-де исходит из мысли о специфических свойствах «нашей расы» и защищает «биологическую теорию истории науки и, по-видимому, исторического процесса вообще»[104]. Вся глубина историко-научной концепции Вернадского, его идей об организации науки, о социальных и культурных условиях взрыва научного творчества в эпоху научных революций прошла мимо Деборина. Он увидел в его учении нечто совершенно фантастическое и идеологически чуждое, хотя именно такая оценка, как показали последующие события, и задержала, в частности, развитие биогеохимии и радиохимии в стране. Прав оказался В.И.Вернадский, в работах которого была дана не только критика деборинской программы «диалектизации естествознания» и натурфилософских построений «по Гегелю», но и справедливо подчеркнуто, что некомпетентное вмешательство философии в научные области приходит в резкое столкновение с научной работой и опасно как для научных, так и для философских исканий.
Сталинизация философии
Летом 1930 года началась новая философская «дискуссия». На этот раз политическому и идеологическому разгрому уже были подвергнуты сами сторонники
А.М.Деборина во главе с их руководителем. В июне 1930 года три молодых философа, из которых два — будущие сталинские академики М.Б.Митин, П.Ф.Юдин и вместе с ними В.Ральцевич, опубликовали в «Правде» статью «О новых задачах марксистско-ленинской философии». Главным редактором «Правды» тогда был один
из самых рьяных исполнителей сталинской воли — Л. 3. Мех лис. В октябре 1930 года на президиуме Кома- кадемии и в институте красной профессуры устраивается «дискуссия» с представителями группы А.М.Деборина. Окончательная и полная победа группы молодых сталинистов наступила после беседы И.В.Сталина с бюро ячейки ИКП. Именно в этой беседе И.В.Сталиным была предложена политико-идеологическая квалификация взглядов группы А.М.Деборина как «меныневиствующе- го идеализма». Эта квалификация вошла затем и в постановление ЦК ВКП(б) от 25 января 1931 года «О журнале «Под знаменем марксизма».
При этом речь, разумеется, не шла об углублении философских исследований или о повышении теоретического уровня философских исканий. Речь шла о «большевизации философской теоретической работы», причем эта линия полностью соответствовала тому курсу на большевизацию рабочих и коммунистических партий, который был принят в этот период. На деле же это было избиение кадров, верных партийно-государственным ценностям бюрократии и не принимавших идеологии беспрекословного послушания директивам авторитарной системы. По своей сути, это был курс на полную политизацию теоретической работы, на превращение философских исследований не просто в идеологию сталинского партаппарата, а в авторитарную идеологию авторитарной власти, прямая линия на изгнание (а через несколько лет, после убийства С.М.Кирова, на репрессии) всех прежних философских кадров. Этого не скрывали молодые сталинисты, рвавшиеся к власти. В статье «За большевизацию работы на философском фронте» отмечалось: «В подготовке теоретических кадров необходимо взять самый решительный курс на создание их из среды пролетариев, из среды членов партии, имеющих опыт гражданской войны, опыт массовой, партийной, общественной работы, из среды стойких большевиков-ленинцев, проверенных на опыте внутрипартийных битв со всякого рода антиленинскими уклонами, из среды пролетариев, батрачества, из среды колхозников, бедняков и середняков»[105]. Авторов этой статьи надо назвать. Это —
А.Весна, В.Егоршин, Ф. Константинов, М.Митин,
В.Ральцевич, В.Тимоско, И.Тащилин. П.Юдин. Эта статья — плод коллективного творчества и должна была продемонстрировать «поворот» даже в подготовке текста, который состоял в том, чтобы «преодолеть индивидуализм в области философии и перейти к плановой социалистической работе»[106]. Философские кадры должны быть лояльны И.В.Сталину, а их лояльность должна быть проверена участием во внутрипартийной борьбе. Именно так понимались «большевистские требования» к философским кадрам.
Подобно тому как борьба внутри партии велась на два фронта — против «правых» и против «левых», подобно этому и в философии было необходимо открыть два фронта — наряду с борьбой против механистов» следовало начать борьбу и на другом фронте — против «меньшевиствующего идеализма». Взгляды «механистов» оценивались сталинистами как идеология «правого уклона», а взгляды представителей группы Деборина как «откровенно ревизионистское, антимарксистское, антиле- нинское философское течение»[107]. М.Б.Митин недвусмысленно заявлял: «Сейчас, после вскрытия фактов вредительства, становится еще более ясным, становится кристаллически прозрачным объективный смысл борьбы в области политэкономии и в области литературоведения, а также и на других участках теоретического фронта»[108]. До обвинения во вредительстве и в создании контрреволюционных групп оставался лишь один шаг, и он был сделан тем же, в частности, Митиным через несколько лет в предисловии к книге «Боевые вопросы материалистической диалектики» (М., 1936) в отношении Я.Э.Стэна и Н.А.Карева. Репрессии против философских и теоретических кадров начались именно после этой «дискуссии».
Поразителен ее язык: «открыть большевистский огонь», «открыть жестокий бой», «дать решительный отпор», «открыть решительный огонь», «бороться за чистоту нашего теоретического оружия», «дать беспощадный отпор всяким попыткам притупить острие материалистической диалектики»[109] и т.д. Военизированная стилистика должна была создать образ врага, предста
вить вчерашних единомышленников, учителей и своих же товарищей как злостных врагов и прямых идеологических противников. Такого рода стилистическими фигурами «оттачивалось оружие», которое вскоре будет пущено в ход не только против теоретических и идеологических кадров партии, но и против своего же народа. Философия становится в буквальном смысле идеологической дубиной, с помощью которой сталинисты завершили разгром вольнолюбивой философской мысли, покончили даже с минимальными островками независимых теоретических исканий.
Атмосфера взаимной подозрительности, политических обвинений, идеологического разоблачительства и доносительства начала формироваться именно в эти годы. Ее создателями и проводниками в философской среде были именно молодые сталинисты, выдвинувшие в качестве центрального принципа идеологии лояльного единомыслия принцип партийности. При этом партийность мыслилась крайне упрощенно, прямолинейно. «Партийность науки приобретает важное значение, — говорилось в «статье трех» (М.Б.Митина, В.Ральцевича, П.Юдина), положившей начало шельмованию деборинской школы, — ибо это в первую очередь означает то, насколько наука близка в настоящий момент коренным задачам социалистического переустройства общества»[110]. Вновь стали распространяться вульгарно-социологические идеи о классовости науки, о партийности любой теории, включая и философию: «Партийность философии означает, что она должна быть в первую очередь большевистской философией», должна превратиться «в верное оружие в руках партии для критики всяких антипартийных течений и уклонов от генеральной линии партии»[111]. В учебнике по диалектическому и историческому материализму, выпущенному в 1932 году под редакцией М.Митина и И.Разумовского, был целый параграф, посвященный «буржуазной науке», доказательству того, что наука является прежде всего формой идеологии и в классовом обществе носит классовый, буржуазный характер. Это узкое, сектантское понимание партийности, естественно, вело к дискредитации не только отдельных ученых, но и науч
ных направлений, объявлявшихся «буржуазными» и противоречащими социалистической идеологии. Приведем лишь один пример, который ярко показывает, насколько были безграмотны «новые философы». Он касается теории различных групп крови, которая была объявлена одним из них «теоретической базой фашизма»[112].
С 1931 года журнал «Естествознание и марксизм» меняет главного редактора, название и теоретическую программу. Он стал называться «За марксистско-ленинское естествознание», а его редактором вместо О.Ю.Шмидта становится Э.Кольман — один из наиболее откровенных сталинистов того времени. Вместо кропотливой работы с учеными и обобщения достижений естественных наук журналом ставится иная задача — построить новое, марксистско-ленинское естествознание. По сути дела, это была попытка расшатать нормы научности и критерии профессионализма в наиболее трудной для этого области, хотя и не безуспешная. Как откровенно писал Э.Кольман, заявивший в конце жизни — «не так надо было жить»: «Партийность в математике — вот основной урок, который мы, математики-марксисты, должны вывести из философской дискуссии»[113].
Журнальные и газетные статьи все более начинают походить на печатные доносы: громят «виталиста» Л.С.Берга, «махиста» Я.И.Френкеля, «конвенционалис- та» С.А.Богомолова, «мракобеса» и «фашиста» Н.Н.Лузина и многих других выдающихся советских ученых. Ведутся поиски представителей «деборинской школы» в медицине, физике, биологии. К «меньшевиствующим идеалистам» были причислены, помимо физика Я.И.Френкеля, биологи-генетики И.И.Агол, С.Г.Левит, М.Л.Левин, которые погибли в сталинских застенках в 1937-1938 годах. Был выслан С.С.Четвериков, начинаются гонения на медицинскую генетику и на ее лидера Н.К.Кольцова.
Философия, низведенная до уровня «идеологического оружия», сама превращается в средство подавления науки. Появляются статьи о марксизме в хирургии, о диалектике двигателя внутреннего сгорания, о марксистско-ленинской теории в кузнечном деле, о применении материалистической диалектики в рыбном хозяйстве. Со
ветский журнал венерологии и дерматологии формулирует новые задачи перед медиками — ставить все вопросы под углом зрения диалектического материализма. Вновь возрождается идеология Пролеткульта, но теперь уже поддержанная мощью государственной идеологии и власти.
Когда-то Козьма Прутков предложил проект о введении единомыслия в России. Никто не мог подумать, что этот проект через полвека действительно воплотится в жизнь, что утвердится идеология бессловесного послушания и прислуживания. Антидемократическая идеология автократии совершенно не нуждалась в профессионализме ученых, в их самоуважении, чувстве собственного достоинства, инициативе, компетентности, в собственном мнении и оригинальном мышлении. Она основывалась на монопольном принятии решений и развивала в людях лишь одну способность — чиновничье-лакейское сознание «чего изволите». Стремление нивелировать людей, насильственно разрушить многообразие их позиций и установок практически привело к утрате гражданственности и инициативы, к тому, что личность передоверила сначала сакрализованному коллективу — партии и государству, а затем — лидерам этого коллектива свою духовную и правовую автономию и свободу. В этих актах «передоверия» и сакрализации фундаментальных начал человеческого бытия и заключается исток идеологии культа. Складывание этой «культовой авторитарной идеологии» приходится именно на эти годы. И в становлении культа личности немалую роль сыграли «новые философы» — М.Б.Митин, П.Ф.Юдин, В.Егоршин, М.Каммари и др. Уже в сборнике «За поворот на философском фронте» М.Б.Митин писал об образцах решения кардинальнейших вопросов современности, данных товарищем Сталиным, об образцах творческого решения им теоретических вопросов. В этом же сборнике П.Ф.Юдин проводил идею о том, что «работы т.Сталина продолжают лучшие традиции основоположников марксизма»[114]. Статья о Сталине появляется уже в первом философском словаре, вышедшем в 1931 году. Работы Сталина были канонизированы как высший образец творческого марксизма и марксистско-ленинского решения тео
ретических проблем. «Подобно работам Ленина, работы Сталина являются непревзойденным примером единства теории и практики... Вот почему неверно было бы думать, будто Сталин является одним из лучших учеников Ленина только в том смысле, что он претворяет марксистско-ленинскую теорию в жизнь, в практику. Сталин является крупнейшим теоретиком нашей эпохи»[115]. Восторженный тон, безмерные эпитеты, приписывание Сталину заслуг, ему не принадлежащих, забвение его теоретических и политических ошибок — все эти проявления лакейства махровым цветом распустились на переломе 20-30-х годов и стали привычными во второй половине 30-х. Но своего апогея безудержное восхваление работ Сталина достигло после выхода в 1938 году очерка «О диалектическом и историческом материализме». Философские вопросы решались в этом очерке крайне упрощенно и примитивно: диалектика как метод излагалась в отрыве от освещения материализма, методология марксизма и мировоззрение были сведены к совокупности черт, не связанных друг с другом.
Этот очерк, несмотря на его примитивность и крайнюю схематичность, был объявлен непревзойденным образцом творческого марксизма. Он был положен в основу преподавания философии. По его схеме отныне строились философские учебники, о нем были написаны тысячи статей, брошюр, книг и коллективных монографий. По существу, этот очерк выполнял функцию катехизиса. Его автор (хотя до сих пор не ясно, был ли И.Сталин автором) обожествлялся. Именно в предвоенный период окончательно складывается даже не идеология, а мифология культа личности Сталина, с помощью которого страна была превращена в лагерь, а ее просторы — опутаны колючей проволокой.
В философии, ставшей идеологией автократии, все более утверждались и окончательно победили серость, раболепство, прислужничество, доносительство и страх. Уже были расстреляны или умерщвлены в лагерях Н.А.Карев, И.К.Луппол, С.Ю.Семковский, Я.Э.Стэн, Г.Г.Шпет, П.А.Флоренский и сотни мыслящих философов. Черное крыло репрессий, колесница смерти и убийств подмяли под себя философскую мысль. Стали
нисты от философии (а их было немало) были не только оруженосцами палачей, одетых в форму НКВД, но и сами палачами, преданными «гению всех времен и народов» и поставившими эту преданность выше нравственности.
Именно в предвоенный период сложился догматический образ марксизма, сталинистская версия марксистской философии, многие постулаты которой и сегодня еще присутствуют в нашем сознании. Вся философская «работа» рассматривалась тогда только как изложение и комментирование трудов и идей Сталина. Все, что выходило за рамки философских указаний «гениального мыслителя», должно было отсекаться и пресекаться. Поэтому в советской философии расцвели трусость и боязнь новых проблем, страх перед мыслью о том, что может возникнуть какая-то новая идея. Вместо философской мысли — государственно-партийная идеология с ее мифологическим культом личности. Вместо взаимной научной, объективной критики — доносительство и разобла- чительство, навешивание политических ярлыков и нетерпимость друг к другу. Это та атмосфера, в которой М.Б.Митин называл даже юношеские статьи И.В.Сталина наиболее зрелым итогом в развитии человеческой мысли, а в его последующих «теоретических» трудах он видел воплощение всего опыта мировой борьбы пролетариата, всего богатства содержания марксистско-ленинской теории. С каждым годом все красочнее становились эпитеты, которыми награждался Сталин, все громче хор, поющий осанну «великому Учителю».
Уже в 1938 году специальным постановлением ЦК ВКП(б) от 14 ноября «Краткий курс истории ВКП(б)», а тем самым и глава «О диалектическом и историческом материализме» были объявлены «энциклопедией философских знаний в области марксизма-ленинизма», где дано «официальное, проверенное ЦК ВКП(б) толкование основных вопросов истории ВКП(б) и марксизма-ленинизма, не допускающее никаких произвольных толкований»[116].
Философская жизнь на одной шестой части планеты была подавлена. Ведь нельзя же считать философией литературу, комментирующую квазитеоретические труды
И.Сталина и разного рода решения по идеологическим вопросам, единодушно принимавшиеся партийными руководителями, которые были движимы лишь чувством страха за свою жизнь и свои привилегии.
Подавление историко-философских исследований
Единственная область, где еще теплилась до 40-х годов философская мысль и осуществлялась кропотливая философская работа, — история философии. Сюда труднее было добраться дилетантам от философии, ведь помимо языка надо было знать труды мыслителей прошлого, литературу, полемизирующую с ними или анализирующую их идеи, раскрывающую социально-культурный контекст возникновения философских систем прошлого. И на этом островке философии были успехи. Выполняя программу историко-философских исследований, намеченную В.И.Лениным в статье «О значении воинствующего материализма» (1922), советские философы разрабатывали проблемы истории материализма, истории диалектики, развития утопического социализма. Уже в 20-е годы выходят переводы выдающихся философов-ма- териалистов прошлого — труды французских материалистов (Гельвеция, Гольбаха, Дидро, Ламетри), английских материалистов (Д.Пристли, Д.Толанда и др.), работы Л.Фейербаха. Появляются журнальные статьи и монографии о жизни и творчестве различных представителей домарксова материализма. Большое внимание в 20-е и 30-е годы уделяется генезису и развитию диалектического метода в немецкой классической философии. Издаются переводы основных трудов Канта, Фихте, Шеллинга. В 1929 году выходит 1-й том Сочинений Гегеля (в переводе Б.Столпнера, под редакцией А.М.Деборина и Н.Карева). Сохраняют свою ценность и сегодня историко-философские исследования немецкой диалектики, осуществленные В. Ф. Асмусом, В. К. Брушлинским, Н.А.Каревым, Б.С.Чернышовым, С.А.Яновской.
Издание трудов социалистов-утопистов, предпринятое
В.П.Волгиным, его исследования по истории социалистических учений существенно расширили представления о развитии социальной философии в XVII — XIX веках. Круг трудов мыслителей прошлого, изданных в 20-50-е годы, был весьма широк. Здесь представлены и филосо
фы античности (Аристотель, Платон, Демокрит, Лукреций, Ксенофонт и др.), и мыслители Нового времени (Декарт, Спиноза, Бруно, Галилей, Ф.Бэкон, Беркли, Гоббс). Значительны и историко-философские исследования таких советских ученых, как И.А.Боричевский, П.П.Блонский, А.Ф.Лосев, С.Я.Лурье, А.О.Маковельский, Д.Д.Мордухай-Болтовской, В.К.Сережников, О.М.Фрейден- берг.
Однако приход и утверждение в советской философии когорты философов-сталинистов привели к падению уровня историко-философской работы, к резкому сужению тематики, к пересмотру всех прежних оценок мыслителей прошлого. Это уже заметно в статьях, опубликованных в 1932 году в юбилейном сборнике «Гегель и диалектический материализм», в частности в статьях М.Б.Митина «Гегель и диалектический материализм», П.Ф.Юдина «Борьба на два фронта и гегелевская диалектика», В.Ральцевича «Гегель — идеолог буржуазии». Количество издаваемых на русском языке трудов классиков философии начинает сокращаться. Они выходят только в сопровождении идеологического «конвоира» — его вступительной или заключительной статьи, где выносится вердикт о недостатках и заслугах того или иного мыслителя прошлого.
С 1940 года начинает выходить «История философии» под редакцией Г.Ф.Александрова, Б.Э.Быховско- го, М.Б.Митина и П.Ф.Юдина, задуманная в 7 томах. В 1941 году выпущен II том, а в 1943 году издан III том, посвященный развитию философии первой половины XIX века. Это издание подводило своеобразный итог историко-философских исследований в стране и отличалось многими достоинствами. Оно было с интересом встречено и учеными, и широкой советской общественностью. Так, В.И.Вернадский в мае 1942 года, прочитав первые два тома «Истории философии», заметил, что они «лучше и интереснее, чем ожидал» (Вернадский В.И. Письмо Б.Л.Личкову от 22 мая 1942 г. // Переписка
В.И.Вернадского с Б.Л.Личковым. 1940-1944 гг. М., 1980. С. 95). Однако III том «Истории философии», достаточно высокий по профессиональному уровню, подвергся резкой критике в партийной печати, в частности в редакционной статье журнала «Большевик» (1944, № 7- 8) под весьма примечательным названием «О недостатках и ошибках в освещении истории немецкой филосо
фии конца XVIII и начала XIX века». После выхода этой статьи, заклеймившей немецкий идеализм как реакционную философию прусского юнкерства, как идеологию захватнических войн и расизма, всякая работа над этим изданием была прекращена и начался радикальный пересмотр прежних оценок мыслителей прошлого. При этом III том был вообще изъят из научного обихода.
В послевоенный период пересмотр оценок немецкого идеализма и всей домарксистской философии продолжался. В 1945 году выходит книга Г.Ф.Александрова (возглавлявшего Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), а затем ставшего директором Института философии АН СССР) «История западноевропейской философии», которая, по сути дела, была учебным пособием по истории философской мысли. Однако по этой единственной историко-философской книге, выпущенной в эти годы, устраивается сначала первая дискуссия, которая не удовлетворила И.Сталина, а затем — вторая, на которой выступил А.А.Жданов, заявивший, что «потребовалось вмешательство Центрального Комитета и лично товарища Сталина, чтобы вскрыть недостатки книги»[117]. Дискуссия, проведенная 16-25 июня 1947 года в Институте философии АН СССР, была, разумеется, далека от научной. На ней господствовал все тот же стиль брани, политических ярлыков и обвинений в адрес фактически одного из приспешников сталинщины. Совершенно очевидно, что причина проведения этой дискуссии не в достоинствах или недостатках книги, а в том, что кто-то вообще притязал на лидерство в философии. Необходимо было уничтожить даже не «фронду», а последний островок философской работы, иссушить историко-философские искания, навязать истории философии схему, далекую от реального историко-философского процесса, или, проще сказать, подчинить ее установкам «гениального мыслителя всех времен и народов», что и было осуществлено в выступлении А.А.Жданова.
Сам факт проведения этой дискуссии в первые послевоенные годы производил и производит по меньшей мере странное впечатление. Громадные территории страны лежали в развалинах. Не было пищи, крова над головой, не хватало одежды. В стране еще были продуктовые кар
точки, голод 1946 и 1947 годов усугубил и без того ужасное положение в сельском хозяйстве. Нищенская оплата по трудодням в колхозах, широкое использование женского и детского труда, драконовские законы, применяемые даже к подросткам, «шарашки», куда были согнаны лучшие интеллектуальные силы страны, разгул бериевщины... А в это время партийное и идеологическое руководство разворачивает дискуссию по истории философии!
Выступление А.А.Жданова было движимо стремлением навязать «философскому фронту» догматические клише, заставить историков философии пересмотреть оценки мыслителей прошлого, подчинить их работу прямолинейным схемам и догматам. Именно в эти годы складывается и утверждается сталинско-ждановская версия истории философии. Необходимо хотя бы вкратце охарактеризовать ее особенности, чтобы понять, насколько она была далека от реального развития философской мысли.
Во-первых, эта версия продолжала все ту же линию догматической трактовки классовости и партийности философии, о которой говорилось выше. Подвергнуть своих противников «уничтожающей критике» (С. 261), «быть непримиримыми в борьбе» (С. 263), отказаться от мысли, что «одна и та же идея в различных конкретных исторических условиях может быть и реакционной, и прогрессивной» (С. 263), — таково, по мнению Жданова, содержание принципа партийности. Это означало, что все представители домарксистской и современной философии должны рассматриваться как философские лакеи империализма, использующие весь арсенал средств для того, чтобы «поддержать перепуганного хозяина» (С. 263).
Идея классового подхода к духовной культуре, высказанная впервые французскими историками XIX века, оказалась для идеологов сталинизма (к тому же вульгаризировавших ее) удобным средством «расщепления» культурного процесса, инструментом, с помощью которого формировался образ врага и идеологического противника. Авторитарная идеология поддерживала в общественном сознании этот образ и, в свою очередь, сама зиждилась на такого рода психологических ориентациях.
Во-вторых, согласно этой версии существовал лишь один путь развития философии: «Научная история фи
лософии, следовательно, является историей зарождения, возникновения и развития научного материалистического мировоззрения и его законов» (С. 257). То есть все, что не укладывается в эту схему, должно рассматриваться как нечто ошибочное и не имеющее никакого значения для развития мысли. В развитии философской мысли не допускалась многовариантность, а те альтернативы, которые допускались, например материализма и идеализма, диалектики и метафизики, по сути дела, представляли собой псевдоальтернативы, поскольку заранее было ясно, что материализм выше идеализма, а диалектика плодотворнее метафизики. Итак, однолинейная трактовка истории философии, связанная с отказом от изучения осознанного исторического выбора, осуществляемого в ходе философских исканий, приводила к неприятию многообразия и многокрасочности философской мысли.
В-третьих, этот жесткий подход к истории философии, не допускающий альтернатив и противоположных философских позиций, был обусловлен догматическим толкованием наследия основоположников марксизма-ленинизма. В нем не должно было быть ошибок, и оно оценивалось как выражение «абсолютной истины». Такой подход и способ философской работы, естественно, приводил как к «цитатничеству», так и к ужасающему единообразию в историко-философских исследованиях.
В-четвертых, вся прежняя философия, впадая в «грех» идеализма и метафизики, характеризовалась как нечто сугубо негативное и бесплодное. Согласно оценке А.А.Жданова она «была не годна как инструмент практического воздействия на мир, как инструмент познания мира» (С. 259). По его словам, «творцы философских систем прошлого... не могли способствовать развитию естественных наук» (С. 259). Такого рода оценка классической философии и ее отношения к естествознанию, конечно, давала искаженное представление об отношении философской мысли к естествознанию.
В-пятых, вне поля зрения историков философии оставались такие проблемы, как динамика философского сообщества, развитие философских школ, развертывание исследовательских программ на том или ином этапе истории философии. Тем самым философская мысль обезличивалась, деперсонализировалась, лишалась связи с личностным видением проблем бытия, науки, нравственности, искусства. Любой философ прошлого выступал пред
ставителем только определенного класса. Этот деперсонализированный подход к истории философии, лишавший философа какого-либо значения в историко-фило- софском процессе, приводил к тому, что все философские системы превращались в идеологии неких безличных сил, а немецкая классическая философия превращалась в феодально-аристократическую реакцию на французскую буржуазную революцию.Эта оценка неверна не только потому, что она умаляет революционно-демократическую линию в немецкой философии и не позволяет осмыслить историю немецкого идеализма во всей ее сложности и противоречивости, но и потому, что с историко-философского горизонта исчезает при этом личность философа, драматичность и нередко трагичность ее философских исканий и борьбы за истину.
В-шестых, в послевоенные годы авторитарной идеологией все более превозносилась отечественная наука и техника, а зарубежная мысль, в том числе и философская, по мере развертывания «борьбы с космополитизмом» умалялась. Число историко-философских исследований западноевропейской философии уменьшалось из года в год. Так, за три года (1951 — 1953) в 18 номерах журнала «Вопросы философии» было опубликовано всего 8 статей по зарубежной домарксистской философии. Статьи же по истории русской домарксистской философии писались в большом количестве и по одному шаблону, без анализа реальной философской ситуации в дореволюционной России. В итоге многие наши отечественные философы не издавались, их философское наследие объявлялось далеким от «столбовой дороги» человечества, что, конечно же, деформировало представление об истории философии. Развитие отечественной философской мысли было настолько «выпрямлено», что она оказалась весьма далека от проблем и особенностей русской культуры. «Борьба с космополитизмом» на самом деле обернулась лишь схематизмом нашей собственной истории, отсечением многих линий в ее развитии, отрывом от социокультурных истоков и научно-теоретическо- го контекста ее философских идей.
Подобная вульгаризация и схематизация историко- философского процесса, лишавшая историю философии проблематичности, поискового характера, закономерно порождала нигилистическое отношение к истории философии, на что, видимо, и рассчитывали люди типа Жда
нова. Историко-философские исследования постепенно свертывались, разработка архивных материалов не поддерживалась, издание трудов мыслителей прошлого сокращалось, история философии, по сути дела, сводилась к некоему «историко-философскому введению» и из программ многих, даже гуманитарных, вузов исчезла.
Поистине ум, лишенный памяти прошлого, не обогащенный его опытом и тем самым не улавливающий перспективы в настоящем, легко свернуть на путь конъюнктурщины и официальной апологетики. Сталинско-ждановская версия истории философии была опасна уже тем, что она вела к апологетике сталинизма, к прославлению сиюминутных решений, к идеологизации философской мысли и к повторению прошлых ошибок.
Судьба философии в эпоху сталинщины трагична. Подавление философии, а затем подавление с помощью идеологизированной философии многих перспективных научно-исследовательских направлений имели губительные последствия как для самой философии, так и для научного знания в целом. Вся структура философского знания была искажена. Долгое время совершенно не развивались такие области философии, как гносеология и методология науки, этика и эстетика. Социология и социальная психология третировались как «буржуазные науки». Громадный круг проблем социальной философии, философии культуры и права вообще остался вне поля зрения советских философов. Крайней деформации подверглись нормы и ценности научного сообщества в целом и философского сообщества в частности. Эта деформация отражала деморализацию общественной жизни в эпоху сталинщины, утверждение авторитарных принципов в социальной, политико-идеологической и культурной жизни страны.
Весна 1956 года и весна 1985 года — таковы основные вехи на пути десталинизации нашего общества и нашей культуры. Прошедшие между ними годы показали всем нам, сколь трудно изживание дракона сталинизма из экономической, политической и культурной жизни, сколь нелегок процесс очищения наших душ от яда авторитарной идеологии и сколь велики должны быть усилия для создания правового общества, для утверждения гласности и перестройки всей нашей жизни на демократических началах.
Суровая драма народа. Сб. ст. М., 1990.
А.А.Пружинина, Б.И.Пружинин
Из истории отечественного психоанализа
(Историко-методологический очерк)
Начало
На рубеже 60-70-х годов в нашей психиатрической, психологической и соответствующей философской литературе отчетливо обозначился осторожный, не очень систематический, но достаточно устойчивый интерес к феномену «бессознательного психического». Вышла монография Ф.В.Бассина «Проблема бессознательного» (М., 1968). Оживилась работа школы Д.Н.Узнадзе — единственной в стране психологической школы, в йоле зрения которой всегда так или иначе находились проблемы неосознаваемой деятельности. Тогда же были предприняты и первые попытки дифференцированно рассмотреть «западный» психоанализ — совокупность психотерапевтических, психологических и философско-психологических концепций, интерпретирующих феномен бессознательного на базе или в контексте фрейдовских идей. О том, однако, что еще в 20-е годы у нас существовали собственные психоаналитические течения, никто тогда не вспоминал. По крайней мере, с конструктивными целями.
Не вспомнили об этом обстоятельстве и в 70-е годы, хотя в этот период многое было сделано для того, чтобы избавиться от склонности к «разоблачительным» декларациям и, в частности, преодолеть оценки психоанализа, прочно укоренившиеся еще с 30-х годов. Этот очистительный процесс продвинулся тогда настолько далеко, что наши психологи, психиатры и философы совместными усилиями сумели обеспечить проведение в стране крупнейшего научного мероприятия — Международного симпозиума по проблеме неосознаваемой психической деятельности (г.Тбилиси). Это событие и публикация сопутствующих материалов — 4 тома докладов[118] — стало
действительно вехой на пути избавления от застывших схем и губительной для любой науки самоизоляции. Казалось даже, что событие это не только сделало невозможным возврат к старому, но наконец-то открыло широкие перспективы теоретической и практической работы в новом для нас направлении.
Ожидания, однако, сбылись лишь отчасти. Действительно, сегодня мы практически не встречаем в отечественной литературе ни простого отрицания идеи бессознательного психического, ни огульных негативных оценок психоаналитической трактовки этой идеи. Однако и никаких серьезных исследовательских программ в данной области в отечественной психологии предложено не было. Для верного понимания сложившегося у нас после Тбилисского симпозиума положения дел следует иметь в виду, что этот симпозиум вызвал несоизмеримо больше откликов в зарубежной печати, нежели в отечественной: только во Франции перечень положительных и отрицательных публикаций, имеющих отношение к симпозиуму (во время его проведения и сразу же по его окончании), включал более сотни наименований и был на порядок выше, чем в стране-организаторе. А когда в 1980 г. в Новом Орлеане (США) открылся международный семинар, по существу, продолживший тему Тбилисского симпозиума, — советских представителей на нем не было вообще.
Впрочем, ту, десятилетней давности, ситуацию можно объяснить некоторыми привходящими для отечественной науки обстоятельствами. Сложнее это сделать применительно к ее сегодняшнему дню, ибо сегодня такого рода обстоятельства вроде бы отсутствуют, а между тем ситуацию, складывающуюся вокруг психоаналитической тематики, трудно определить иначе как двусмысленную. С одной стороны, нельзя сказать, что сегодня отечественная психология и психиатрия совсем обходят эту тематику. Но вместе с тем публикации по проблеме бессознательного (так или иначе рассматриваемой в контексте фрейдовской концепции) появляются лишь на периферии сложившихся направлений исследования. И работы эти носят как бы маргинальный характер, хотя интерес к проблеме у психологов и практикующих психиатров огромен. Ведь отдельные элементы психоаналитических методик давно и прочно вошли и у нас в повседневную терапевтическую практику. Да и в теории теперь уже
никто не решается оспаривать, что именно «психоаналитическая трактовка бессознательного представляет собой наиболее яркую и стройную систему представлений в истории развития идей о бессознательном, сформировавшуюся в русле клинического подхода»[119].
И тем не менее, создается впечатление, что необходимостью осмысления соответствующей реальности озабочены скорее философы, нежели психологи и психотерапевты. Во всяком случае, опубликованные в 80-е годы монографические исследования (хороши они или плохи) носят по преимуществу философский характер. Лишь в самые последние годы в собственно психологических изданиях появились публикации по психоаналитической тематике и сообщения о вселяющих надежду научных мероприятиях. И все же в целом ситуация в этой области исследований (а еще более в сфере приложений) выглядит весьма удручающей. Целый пласт психической реальности, фактически уже освоенной и в мировой и в отечественной психиатрической практике, как. бы и признается, но и не принимается. Причем эта ситуация вряд ли может быть теперь даже отчасти объяснена простым указанием на существовавшие когда-то административно- идеологические запреты. Сегодня уже отчетливо видно, что наша психологическая теория просто не обнаруживает эффективных концептуальных средств для позитивного исследования соответствующей реальности. А это значит, что дальнейшее движение отечественной психологии (по крайней мере в данной области) возможно лишь на пути радикальной критико-рефлексивной переоценки ее концептуально-методологических оснований.
Выполнение этой критико-рефлексивной работы, как и позитивное развитие психологической теории — в значительной мере дело самих психологов и психотерапевтов. Нам представляется, что такого рода работа уже началась в рамках отмеченных выше публикаций и мероприятий, Но при этом важное значение приобретает и прямое обращение к методологической проблематике, в частности, обращение к опыту того уникального периода в развитии советской психологии, когда психоанализ занимал у нас достаточно видное место.
Правда, период тот, по историческим меркам, был довольно кратким: речь, строго говоря, может идти лишь об одном десятилетии — о 20-х годах. Уже в середине 30-х произошла переориентация на совсем иные стандарты, где психоанализу места не было, и установившаяся затем исследовательская «парадигма» безраздельно господствовала до 60-х годов. Однако этот краткий период вместил в себя очень многое. Он охватывает признание, расцвет и экспансию психоанализа, шумные баталии вокруг основных психоаналитических идей и время заката, исчезновения психоанализа — события и обстоятельства, сделавшие невозможными дальнейшее существование этого направления психологической науки. Причем последний временной отрезок представляет сегодня тем больший интерес, что, в отличие от многих других направлений отечественной науки, психоанализ именно исчез как психологическое направление, а не пал жертвой прямого вмешательства внешних для науки сил.
Никто из отечественных психоаналитиков, насколько нам известно, не пострадал именно за свои психоаналитические взгляды. Даже признанный лидер послеоктябрьского психоанализа А.Б.Залкинд, фактически лишенный’к середине 30-х годов возможности как-то влиять на развертывание исследований в области психологии и психиатрии, был отстранен не за свою психоаналитическую активность, а за пропаганду педологии. Собственно, к середине 30-х годов психоанализа практически уже не было и большинство его сторонников (таких, например, как ученый секретарь образованного в 20-е годы Психоаналитического общества А.Р.Лурия или профессор Б.Э.Быховский) занимались разработкой совсем иной проблематики. Что же касается тех уничтожающих, в буквальном смысле слова, характеристик, которыми до недавнего времени наделялось у нас фрейдовское учение, то они были по большей части отзвуками значительно более поздних идеологических демаршей 40-50-х годов, ритуальные цели которых лишь весьма косвенно имели в виду собственно отечественный психоанализ.
Короче, психоанализ у нас перестал существовать раньше, чем были осознаны причины для его идеологического осуждения и прямого административного запрета. Эта особенность его судьбы уже сама по себе заслуживает внимания историков и философов науки. Но еще более важным нам представляется выяснить причины,
которые, судя по всему, действуют и сегодня в отечественной психологии, мешая развертыванию психоаналитических исследований. Во всяком случае, обращение к истории позволяет хотя бы отчасти пролить свет на ту странную ситуацию, в которой психоанализ находится сегодня у нас.
Психоанализ в России: пути освоения
В отличие от Франции и даже Австрии, где в ходе распространения психоанализа происходили шумные баталии, отечественная наука быстро и без особого шума освоила соответствующие концепцию и терапевтические методики. Но отсутствие шумных дискуссий отнюдь не означало, что отечественная психиатрия и психология не отличались особой методологической разборчивостью, а культурное сознание русского общества было нечувствительно к поднятым Фрейдом вопросам. Причина была в ином. Просто психоаналитические идеи с самого начла обрели в России именно тот интеллектуальный и культурный статус, который только и допускал их безболезненное усвоение: психоанализ осваивался у нас прежде всего как инструментальная терапевтическая теория и лишь затем, постепенно и осторожно, стал восприниматься как общепсихологическая концепция, имеющая к тому же значение для культуры в целом.
Русская академическая психология и психиатрия первоначально реагировала на психоанализ примерно так же, как официальная наука Германии или Франции. Петербургская школа Бехтерева и московская школа Корсакова (позднее и Сербского) отнеслись к идейному содержанию психоанализа весьма сдержанно. А такое респектабельное научное сообщество, как «Психологический семинарий» Челпанова, просто игнорировало фрейдовское учение: с 1907 по 1913 гг., за все шесть лет работы этого семинара, преобразованного в 1911 г. в Психологический институт, лишь единожды было заслушано сообщение, специально посвященное учению Фрейда[120]. Однако идеи Фрейда проникали и помимо академических школ - они находили для себя благоприятную почву в
среде земских врачей-психиатров. Именно лечащие врачи заинтересовались концепцией, по самой сути неотделимой от практических приложений и в собственно медицинском, и в социально-терапевтическом плане. Врач- психиатр Н.А.Вырубов довольно быстро сгруппировал вокруг себя молодых и энергичных специалистов-практи- ков — Ю.Каннабиха, Л.Белобородова, А.Залкинда, Н.Осипова и уже в 1910 году приступил к изданию психоаналитического (в своей основе) журнала. Направление сформулировалось буквально за несколько лет.
На ситуации, которая складывалась внутри научного сообщества отечественных психологов и психиатров, сказывались, естественно, и особенности общекультурного российского контекста. В частности, было более сдержанное, что ли, чем на Западе, отношение к сексу и эротике. В начале века это отношение только лишь начинало меняться. Мы не хотели бы вскользь обсуждать эту сложнейшую тему, но не отметить данное обстоятельство нельзя, ибо оно, конечно же, определило и «врачебно-терапевтические» рамки усвоения психоанализа, и даже характер его интерпретаций, во всяком случае в таком центральном для психоанализа вопросе, как роль сексуальности.
Поскольку психоанализ в России принимался по преимуществу врачами-практиками, его идейное содержание представало и в глазах просвещенной публики, и в глазах специалистов прежде всего как концептуализированная определенным образом врачебная практика. В свою очередь, внутри психоанализа эта инструментальная трактовка оборачивалась своеобразным методологическим либерализмом и идейной открытостью (хотя, конечно же, не произволом). Несмотря на распространенность идей и методов, в стране так и не сложилось школы, которая бы последовательно применяла и развивала концепции 3.Фрейда. Даже самые горячие сторонники психоаналитических идей и методов всегда стремились теоретически интегрировать фрейдовскую теорию в концептуальный контекст тех или иных течений отечественной психологии. Именно поэтому, надо полагать, усвоение психоанализа не было сопряжено с какими-либо серьезными идейными или организационными трудностями. Во всяком случае, Русское психоаналитическое общество без особых сложностей конституировалось уже в 1910 г., тогда как Парижское — лишь в 1926 г. (и то усилиями
прежде всего иностранных последователей и учеников Фрейда).
К концу первого десятилетия XX века сообщества ученых-психоаналитиков складываются в таких крупных научных центрах, как Москва, Казань, Харьков, Одесса. А уже через несколько лет, перед войной, происходит на первый взгляд незначительное, но весьма показательное событие: одним из ассистентов В.П.Сербского в его клинике становится Н.Е.Осипов — практикующий врач-психоаналитик. В 1911 г. Русское психоаналитическое общество направляет своих представителей в Веймар для участия в работе I Международного психоаналитического конгресса. В 1913 г. Альфред Адлер дает согласие войти в состав редколлегии издававшегося с 1910 г. под редакцией Н.Вырубова журнала «Психотерапия». Журнал устанавливает тесные контакты с Юнгом, Штекелем, Дюбуа, Ференци и с редакцией «2еп<:га1Ыаи ?иг РзусЬо- апа1узе») редакторы А.Адлер и В.Штекель); идет интенсивный взаимный обмен информацией, постоянно реферируются отдельные статьи. Кроме того, регулярнейшим образом переводятся статьи ведущих западных психоаналитиков и широко освещаются научные и практические мероприятия. В «Психотерапевтической библиотеке» под редакцией Н.Е.Осипова и О.Б.Фельцмана и в «Библиотеке» журнала «Психотерапия» под редакцией Н.А.Вырубова выходят отдельные произведения Фрейда и его последователей. В результате этих усилий практически все выходившие в то время работы Фрейда очень быстро становятся доступными русскому читателю.
Появлялись, естественно, и работы, отражавшие результаты отечественных исследований. Российский психоанализ не претендовал в те годы на особую оригинальность — это были годы ученичества, и никто не стеснялся учиться. Исследовательские работы не были особенно многочисленны. Как правило, они были посвящены анализу социальных проявлений бессознательного психического (не «коллективного бессознательного»).
Небольшое отступление. К началу века в психологии и психиатрии в качестве базовой методологической альтернативы рассматривалась оппозиция «субъективных» и «объективных» подходов к психике. Эта оппозиция в своеобразной форме выражала внутреннюю противоречивость науки о психике как науки гуманитарной. «Субъективную» («субъективистскую») психологию пред
ставляли главным образом течения, ориентированные на самонаблюдение, на интроспекционистские методы; «объективную» («объективистскую») — направления бихевиористской, физиологической ориентации, определившейся у нас в основном в связи с работами Сеченова. Психоанализ, заметим, никак не вмещался в рамки этой дихотомии. Вопрос о том, какой метод предпочтительнее — объективный или субъективный — в общей форме психоанализом не ставится: «Все зависит от обстоятельств». Первоначальный интерес отечественных психологов и психиатров к медицинской, по преимуществу, стороне психоанализа акцентировал в нем и без того достаточно сильные «объективистские» установки. Причем этот интерес как бы заслонял собой столь же характерные для психоанализа «субъективистские» представления о внешней жизненной среде как условии раскрытия психических потенций, о психической болезни как следствии подавления внутренних импульсов и т.д.
Однако инструментально-прикладная трактовка психоанализа сама по себе отнюдь не обязательно акцентирует именно «объективистские» его аспекты. «Объективистское» истолкование психоанализа связано с пониманием его как практики по преимуществу медицинской, индивидуально-врачебной. Усиление же социокультурной ангажированности психоанализа, превращающее его в разновидность социальной практики — в тип социально-психологической терапии, напротив, акцентирует как раз «субъективистские» пласты его содержания. Очевидно, социально-терапевтическая ориентация столь же органично присуща психоанализу, как и медицинская; психоанализ по сути своей невозможен вне обоих этих практических измерений. Но их удельный вес может варьировать в достаточно широких пределах. В отечественном психоанализе смещение акцентов от «объективизма» к «субъективизму» в полной мере проявилось позднее, в 20-е годы, когда особую актуальность приобрели именно социально-практические возможности психоанализа.
Надо заметить, что смысл и методологическая значимость социально-терапевтической координаты была осознана очень быстро: «Мы приходим к тому выводу, — замечал Н.Е.Осипов, практикующий врач-психиатр, фигура весьма известная, — что практическая психиатрия есть не естественнонаучная, а культурно-научная дисцип
лина»[121]. Причем, такая «социологизированная» позиция заметно отличалась от установок самого Фрейда. Фрейд даже в случаях обращения к социальным и культурным реалиям сохранял за сексуальностью функцию теоретического основания психоанализа. В работах же отечественных исследователей, посвященных анализу таких явлений, как сценический страх, тексты писателей, сектантство, оговорки, выявленные в ходе политических дебатов в Думе, и пр.[122], явно проступает тенденция не замыкаться в объяснительных апелляциях на теме сексуальности. Н.Е.Осипов подчеркивал: принимая взгляды Фрейда на психические механизмы вытеснения, не следует вместе с тем думать, что «вытеснению подлежат только сексуальные чувствования и что только сексуальный вытесненный материал обусловливает собой продукции психоневрозных симптомов[123]. Продуктивность такого рода концептуальных изменений в интерпретации психоаналитических идей считал нужным подчеркнуть, например, Бехтерев[124], хотя связанный с социально-терапевти- ческими приложениями психоанализа «субъективизм», конечно же, вызывал его негативные оценки[125].
Расширение интерпретативной базы психоанализа с самого начала протекало как резонирующий, самоусили- вающийся процесс, ибо в свою очередь и во все возрастающих масштабах вело к включению теории и практики психоанализа в сферу социально-психологических коллизий, где формируются конкретные оценки жизненнопрактической и социальной роли тех или иных психических явлений и болезней. В предреволюционных работах российских психоаналитиков достаточно много социальных намеков, коннотаций, прямых обращений. При этом можно увидеть, как в них на передний план выступают прежде всего те концептуальные элементы, которые выражают определенную независимость психики от внешних обстоятельств, имманентную структурированность
психической жизни индивида. Более того, в соотнесениях с внешними обстоятельствами, в оценках столкновений индивида с жизненной средой эти имманентные структуры психической жизни индивида представлялись психоаналитиками как масштаб оценки социальных условий. В таких случаях вектор критических оценок обычно направляется от личности к обществу: «... так как тип невротика подходит более под ... разновидность яркой индивидуальности, несколько несимметрично развившейся уже вследствие самой своей сложности, — дегенеративными приходится назвать те условия жизни, то социальное и воспитательное болото, которое систематически мешает проявлению этих ценных теоретических потенций... Наиболее убедительные тому доказательства даст нам профилактика и психотерапия неврозов, во-первых, и дальнейшее совершенствование общих условий жизни человечества, во-вторых»[126].
Приведенное рассуждение А.Залкинда ясно демонстрирует и еще одну особенность социально-культурного измерения отечественного психоанализа: его исходные субъективистские посылки оказываются почти напрямую соотнесенными с определенной социально-идеологичес- кой позицией. Здесь можно было бы проанализировать соответствующие рассуждения Н.А.Вырубова, Н.Е.Осипова, Л.Я.Белобородова, И.А.Бирштейна, а также многих других российских земских врачей, психиатров и психологов, так или иначе принимавших идеи психоанализа и так или иначе затрагивавших в контексте этих идей социально-культурную проблематику, и во всех этих рассуждениях вы могли бы проследить, как психоаналитические представления об имманентных структурах психики прямо выступают в качестве основы для личностной оценки внешних социальных условий. Медицинская терапия при этом свободно трансформируется в социальную позицию и притом с ясно выраженной критической установкой по отношению к социальной среде.
Видимо, любой психоаналитик (как, впрочем, и любой честный психиатр) в той или иной мере является критиком социальной реальности, поскольку он разделяет точку зрения личности и поскольку с этой точки зрения личность всегда, так или иначе, деформирована
внешней реальностью. В отечественном дореволюционном психоанализе теоретические возможности для такой позиции в силу отмеченных обстоятельств открывались весьма широкие. Однако усваивался психоанализ, повторяем, как концепция прежде всего инструментальная, терапевтическая, медицинская, имеющая конкретную сферу приложения. Именно поэтому вполне конструктивно, хотя и не без проблем, соотносились с проникающим в Россию психоанализом различные направления психиатрии, а публикации по психоаналитической тематике можно было обнаружить тогда в изданиях, принадлежащих к самым различным психологическим направлениям[127]. Во всяком случае, никаких следов сколько-нибудь заметного принципиального сопротивления психоанализу в этих изданиях нам обнаружить не удалось[128].
Представляется, что после Октябрьского переворота, в условиях новой социально-политической и идеологической ситуации, психоанализ был также сначала поддержан и принят прежде всего как инструментально-медицинская концепция (с общей «прогрессивной» социально-идеологической ориентацией).
После Октября: новый виток в распространении психоанализа
В 1929 году, излагая в Комакадемии свои взгляды на итоги и перспективы развития отечественного психоанализа, А. Б. Залкинд счел возможным выделить в его семилетней послеоктябрьской истории три вполне самостоятельных периода.
Первый этап — просветительский (1922-1923): в этот период главным образом издаются и переиздаются вышедшие до революции труды Фрейда. Залкинд, заметим, предельно сдержан в оценках этой работы — он лишь выражает недовольство отсутствием серьезных комментариев и напоминает, что первые критические статьи принадлежали ему. Мы же от себя добавим, что особый авторитет тогда приобрела «Психологическая и психоаналитическая библиотека» под редакцией И.Д.Ермакова. Многие работы Фрейда и его учеников увидели свет именно благодаря подвижнической деятельности Ермакова и М.Вульфа. И когда в 1923 году конституировался Государственный психоаналитический институт, его возглавил (вплоть до закрытия в 1925 г.) опять же И.Д.Ермаков[129].
Затем, констатирует Залкинд, приходит время резких •нападок на фрейдизм (вплоть до лозунгов «выжигать все элементы фрейдистских построений каленым железом из марксизма в СССР, из коммунистической партии»). Что касается сути этой критики, то весьма примечательна, на наш взгляд, статья В.Юринца, где, в частности, говорится, что «социология фрейдизма является самой слабой частью системы психоанализа, она полна прямо чудовищных противоречий. Кроме того, она является выражением слепой, бешеной ненависти по отношению к марксизму»[130].
Довольно скоро, однако, идеологическая ситуация вокруг психоанализа вновь начинает смягчаться, так что койец 20-х годов (третий период) Залкинд характеризует как время спокойной деловой критики.
И действительно, если судить по тону публикаций (имея в виду, конечно, принятую тогда манеру полемики), третий период был относительно спокойным. Но завершился он, во-первых, довольно скоро, и завершился, во-вторых, исчезновением психоанализа. Самое начало 30-х годов — время нешумного, но радикального исчезновения даже признаков работы в этом направлении. Последний, по существу, серьезный всплеск активности отечественных психоаналитиков — так называемый «поведенческий» съезд (1930), последнее серьезное обсуждение перспектив психоанализа — дискуссия по реактологической психологии (1930), последняя крупная переведенная работа Фрейда — «Будущность одной иллюзии» (1930). Так что когда в 1932 г. на волне укрепления «большевистской бдительности» (поднятой известным письмом Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма») психоанализ был объявлен «троцкистской контрабандой»[131], нести ответственность за эту «контрабанду» в общем-то было уже некому. Продолжали работать в психологии Залкинд, Лурия/ Франкфурт и другие психологи и психиатры, но психоанализа как отдельного течения в советской психологии уже не было. Более того, в той самой статье, где говорилось о «троцкистской контрабанде», Залкинд и Франкфурт подверглись жесткой критике вместе с Дебориным за отсутствие «подлинной борьбы с механическими извращениями марксизма и идеалистическими течениями»[132].
Далеко не все психоаналитики принимали приведенные выше залкиндовские оценки тех или иных периодов истории психоанализа. Так, И.Д.Ермаков уже в 1925 г. считал, что время ожесточенных нападок на психоанализ прошло, и на первый план, по его мнению, должна выдвинуться задача практического применения тех или иных выводов психоанализа. Чуть позднее И.Перепель в одной из своих работ весьма скептически отнесся к подобным заявлениям Ермакова, полагая их скорее «оптимистичными, нежели реалистичными». Поводом для та
кого утверждения послужили резкие критические замечания в адрес психоанализа со стороны известного невропатолога М.Аствацатурова, изложенные в его работе «Психотерапия и психоанализ» (Л., 1925). Но как бы ни разнились оценки тогдашних психоаналитиков, в них нет и намека на грядущее печально-тихое завершение судьбы столь блестящего и многообещающего направления. Причем, насколько можно судить по тогдашним дискуссиям, исчезновение психоанализа было неожиданным и для его теоретических оппонентов. Во всяком случае, такого оборота событий они тоже не предполагали.
Последние обстоятельства, очевидно, означают, что искать причины произошедшего следует в более широком идейном и практическом контексте, нежели теоретико-методологические дискуссии специалистов психологов и психиатров. Правда, в нашей историко-научной литературе представлена и иная точка зрения, согласно которой причины исчезновения психоанализа следует искать нее же именно в области теоретико-методологической критики его оснований. Но сторонникам данной точки фения приходится в этом случае признать, что сама критика выходила тогда за рамки обычной «академической оппозиции» психоанализу. Как заметил академик Д.В.Петровский, «падение психоаналитических школ в Советской России связано не с условиям этой «академической оппозиции», а с тем наступлением на фрейдизм, которое развернулось во второй половине 20-х годов в философии и психологии и которое носило характер партийной, марксистской критики. История «академической оппозиции» Фрейду в России, как и история партийной критики психоаналитической теории... является — на его взгляд — еще одним свидетельством того, что разоблачить самую сущность реакционного учения Фрейда можно только на основе марксизма-ленинизма»1.
Мы также считаем, что психоанализ исчез в результате столкновения с марксизмом, но думаем, однако, что дело обстояло несколько иначе, чем это представлено академиком. Во-первых, мы сомневаемся в изначальной реакционности психоанализа; во-вторых, на наш взгляд, психоанализ исчез в результате столкновения не с теорией марксизма (такое «столкновение» дало позднее, на
пример, фрейдо-марксизм), а в результате давления со стороны тогдашней «практической» марксистской идеологии. Во всяком случае, организаторы постреволюцион- ного отечественного психоанализа не хуже своих оппонентов владели марксистской фразеологией. А вот в сфере практических установок они оказались бессильными против тех политико-идеологических ориентаций, которые утвердились во всех областях общественной практики к началу 30-х годов.
Психоанализ был готов принять самое активное участие в марксистски ориентированных исследовательских и практических программах (относящихся прежде всего к научной организации труда). Практический, зачастую утилитарный интерес скрывался за его методологическими установками. И когда один из инициаторов создания «марксистской» психологии профессор Рейснер обосновывал «необходимость психологической науки для пролетариата»[133] и, соответственно, выдвигал требование материалистического переосмысления психологии, речь у него шла, по сути, об инструментальном психологическом знании, способном конкретизировать исторический материализм влоть до технических выводов и приложений. А когда, в свою очередь, психоанализ безропотно принимал такую интерпретацию собственных задач, он безболезненно вписывался в систему и получал ее поддержку.
Практически сразу после окончания гражданской войны, в начале 1923 г., в разрушенной, голодной стране собирается 1-й Всероссийский съезд по психоневрологии, где констатируется, что за прошедшие годы в данной области отечественной науки наблюдался прогресс, поднявший ее до уровня «других культурных стран». При этом, однако, отмечается и то обстоятельство, что прогресс был достигнут благодаря расширению области прикладной психологии — окрепли педагогическая психология и педология, развилась криминальная психология, сложился ряд исследовательских направлений, тесно связанных с задачами научной организации труда, в частности, психотехника[134]. Съезд фактически зафиксировал новую (принципиально иную по сравнению с дорево
люционной) структуру психоневрологических исследований в стране. Хотя в работе съезда далеко не второстепенную роль играли представители традиционной «философской» психологии, в частности Г.И.Челпанов, наибольший интерес вызывали все же исследования практического толка — педология, психотехника и психоанализ. В том же году детский дом-лаборатория «Международная солидарность», работавшая под эгидой Нарком- проса и занятая в основном изучением бессознательных влечений у детей, была преобразована в Государственный психоаналитический институт[135]. А когда в январе 1924 г., через год после первого съезда, в Петрограде собрался Н-й психоневрологический съезд, психоаналитическая тематика была в центре всеобщего внимания.
Постреволюционный психоанализ был представлен сразу целым рядом весьма заметных фигур (М.Вульф, И.Ермаков, М.Рейснер и др.). В новых условиях эти ученые, как правило, стремились сохранить традиции. Однако центральной и наиболее характерной фигурой постреволюционного психоанализа является, на наш взгляд, А.Б.Залкинд — «педагог, врач-психоневролог, автор работ по вопросам педологии, психологии и педагогики, чл. ВКП(б). Один из учредителей общества пси- хоневрологов-марксистов. Внимания заслуживают работы, посвященные проблемам трудового детства и сексуальной педагогики. Уклон в сторону механистического понимания учения об условных рефлексах и тяготения к фрейдизму»[136].
Область его теоретических интересов определилась до революции — но в новой ситуации иной смысл приобрели и его психотерапевтическая практика, и его теоретические установки. После революции резко меняется контингент пациентов Залкинда, он становится как бы «врачом партии»; одновременно он становится и фактическим лидером наиболее представительного терапевти- чески-педагогического направления.
Новая ситуация, стимулируя социологизацию психоанализа, в то же время ввела этот процесс в рамки марксистских практических программ. Всяческие попытки социологической универсализации психиатрических идей немедленно пресекались на уровне методологии. Поэтому
в отечественном психоанализе, в отличие от психоанализа фрейдовского, не получили развития попытки объяснять общественно-исторические процессы действием индивидуальных психологических механизмов. Отечественные психоаналитики обращались к социальной среде, как правило, с целью прямо противоположной, а именно: чтобы с помощью апелляции к условиям общественного бытия объяснить особенности функционирования индивидуальных психических структур. В результате психоаналитические построения приобретали черты социальному манитарной теории, практически не выходя за рамки собственной предметности, т.е. не выходя за рамки исследований психики индивида. Лишь такое направление исследований было методологически открыто. И потому большинство отечественных психоаналитиков, подобно Залкинду, апеллировало к социальной среде с целью объяснить состояния индивидуального сознания и бессознательные влечения так или иначе марксистски понятого общественного индивида. Надо сказать, что и в этой методологической ориентации психолбгических исследований можно усмотреть вполне достаточно редукционизма, но редукционизма особого типа, с необычным для традиционной положительной науки вектором редукции — от «низшего» к «высшему» (происходит социоло- гизация психики и даже физиологии индивида). «Психофизиология, — настаивает Залкинд, — во много раз глубже и теснее связана с социологией, чем это мерещилось бы даже самым ярым оптимистам марксистского метода. Все новейшие завоевания физиологии, связанные с учением о рефлексах, и все последние этапы развития психологии, исходящие из активистических воззрений психоаналитиков, представляют собой совершенно непочатый и неисчерпаемый материал для глубочайшей марксистской революции внутри психофизиологии. Помимо и против воли самих авторов этих научных открытий, вряд ли ожидавших такого их применения, марксисты обязаны немедленно заняться социологированием психофизиологии»[137].
В середине 20-х годов А.Б.Залкинд выступил с серией программных статей по вопросам полового воспитания. Сначала появляется его статья «Половой вопрос и
красная молодежь СССР», затем, разъясняя свою позицию по просьбе различных просветительских организаций, в частности московского Пролеткульта, он написал очерки «О классовом подходе к половому вопросу» и «О нормах полового поведения с классовой точки зрения». Все эти выступления не остались незамеченными. Мгновенно появились рецензии (в основном критические) в «Правде» (1924, № 241; 1925, № 187; 1926, № 20), в «Известиях ЦИК СССР» (1925, № 1), в «Красной молодежи» (1925, № 1), «Книгоноше» (1925, № 42). Дискуссия в общей сложности длилась два года! В 1926 г. Залкинд соединяет все эти очерки и издает отдельным изданием «Половой вопрос в условиях советской общественности» с послесловием «Два года дискуссии по половому вопросу».
Предпринятая Залкиндом попытка выработать новую, марксистскую модель полового поведения опирается на идеологическую позицию, согласно которой нельзя в новых условиях ограничиваться старыми, узкими неврологическими толкованиями того, что происходит в «организме молодежи», т.е. нельзя «подходить к ее нервно-психическим процессам исключительно с докторским молоточком и микроскопом, без всестороннего учета совершенно нового содержания среды, ее окружающей, без анализа внутреннего содержания ее совершенно специфических, неизвестных пока неврологии, переживаний»[138].Собственно, эта позиция крайне незамысловата: «Октябрьская революция проделала чрезвычайно сложную ломку в идеологии масс, достаточно сложные сдвиги вызвала она и в их психофизиологии. Меняющаяся социальная среда изменяет не только сознание, но и организмы»[139]. Интересны, однако, теоретические последствия принятия этой установки. Дело в том, что соци- ологизация психоанализа повлекла за собой существенную и вполне определенную трансформацию идей Фрейда. Залкинд, вынужденный одновременно и защищать, и критиковать фрейдовское учение, приходит к выводу, что основой фрейдизма является не половая теория, но принцип удовольствия, принцип реальности и описание процессов вытеснения, цензуры, бегства в болезнь и т.д.
Второй важной особенностью постреволюционного психоанализа была резко возросшая в нем теоретическая значимость ссылок на физиологические механизмы. Многие сторонники психоанализа, в частности Залкинд, еще до революции апеллировали в такого рода объяснениях к рефлексологии Бехтерева. Но на первом психоневрологическом съезде Залкинд настаивает уже даже не на обращении, а на соединении с рефлексологией, полагая при этом, что последняя тем и ценна (заметим, для марксизма), ибо позволяет перенести центр тяжести проблемы соотношения социального и биологического с отдельного человека на социальную среду, благодаря чему позволяет оперировать с «цельным» человеком, не разделенным на «фиктивные» категории «физиологических» и «психологических» явлений. Это, полагал Залкинд, как раз и позволяет соотнести рефлексологию с фрейдизмом, который, вводя в научный обиход важный социально-физиологический материал, со своей стороны раскрывает богатейшую диалектическую пластичность человеческого организма[140].
«Состав революционной среды» — вот то главное, что определяет все психофизиологические процессы в эпоху революции. Такой вывод, считает Залкинд, логично вытекает из соответствующим образом переработанных фрейдовских построений. И в этой связи он, например, считал возможным говорить о «рефлексе революционной цели» (ссылаясь, кстати, на И.П.Павлова)[141].
«Социологизация» постреволюционного психоанализа демонстрирует нам старую истину: крайности сходятся. Когда в русле социологизации психологии преступали известный предел, совершенно безразличным становилось, имеем ли мы дело с редукцией социального к психофизиологическому или психофизиологического к социальному. И в том и в другом случае результатом будет своеобразный психо-идеологический фантом, далекий не только от науки, но и от здравого смысла. Пример тому — работа Г.Малиса «Психоанализ коммунизма». Автор полагает, что «в час, когда «экспроприаторы экспроприируются», в распоряжении общества будет все, чтобы
разрешить каждому работнику полноценное удовлетворение. Удовлетворение это не будет непосредственно сексуальным. Инфантильные переживания нами вытесняются навсегда и безвозвратно. Но у каждого человека есть своя возможность претворения, сублимирования его бессознательных сил. Эту возможность даст ему коммунистическое общество со своей сменой впечатлений, работ, прав и обязанностей, коммунистическое общество, в котором, как в биологическом растворе равных единиц, каждая будет кристаллизоваться в любой форме. Величие нашего времени в том, что Коммунизм — формы жизни, при которых одинаково удовлетворены и социальные (сознательные), и личные (бессознательные) потребности человека; общественный строй, к которому биологически предопределенными дорогами двигались тысячелетиями и личность, и коллектив, — этот общественный строй вызван сейчас и исторической необходимостью»[142].
Надо полагать, что именно такого рода социальносексуальные утопии и вызвали волну критики психоанализа, причем критики настолько резкой, что, напомним, Залкинд счел возможным маркировать этой критикой целый период в развитии отечественного психоанализа. Вместе с тем надо заметить, что и сама эта критика носила откровенно идеологический характер.
Из рецензии Ник. Карева на книгу Г.Малиса: «В Советском Союзе он (психоанализ. — Авт.) приобретает особую известность после перехода к нэпу, когда значительная часть наименее устойчивых мелкобуржуазных и интеллигентских попутчиков революции заколебалась в условиях возрождающегося товарного хозяйства и видимого спада, для поверхностного глаза, революционной волны. Мелкий буржуа и интеллигент, не понимая в новых условиях положительных задач строительства социалистического хозяйства, ушел в свое личное «я», в вопросы пола, найдя себе на этом пути верного проводника в лице глубоко субъективной, целиком построенной на ковырянии в душах теории Фрейда. Вокруг теории закружился какой-то дикий хоровод из протестантских попов, мистиков, психиатров, зараженных своими боль
ными... и марксистов, не весьма твердых в марксизме и падких ко всему сенсационно-новому»[143].
И тем не менее ориентированный подобным образом анализ психической жизни человека легко превращается в общее социально-психологическое исследование деформаций индивидуального сознания «общественного человека», а психотерапевтическая практика — в тип социально-психологической терапии таких деформаций. При этом перед психоанализом, как кажется, открывались самые заманчивые исследовательские и практические перспективы, отнюдь не противоречащие марксизму, но весьма далекие от строго понятого психоанализа.
Так, например, если считать, что идеология, с точки зрения марксизма, является системой «неправильных отражений мотивов или источников человеческой деятельности» и если, кроме того, считать, что основные понятия психоанализа (вытеснение, замещение и т.д.) описывают структурные деформации сознания, вызванные отнюдь не только сексуальными переживаниями, то в объяснении процессов формирования и функционирования идеологии вполне может быть использован также и концептуальный аппарат психоанализа[144].
Любопытная попытка разработать программу исследования идеологии на базе психоанализа была предпринята А.Варьяшем. В 1924 г. он выступил в Комакадемии с докладом о концепции подготавливаемого фундаментального труда по истории новейшей философии. В качестве методологической основы историко-философских исследований он предлагал, с одной стороны, традиционный для марксизма анализ производственных отношений, а с другой — «основательный и подробный анализ обрабатывающих функций психической деятельности человека»[145]. В последнем случае, полагал он, как раз и следует обращаться к психоанализу: «Поставим в предложение, в котором Энгельс говорит об истинных побудительных причинах, движущих человека, вместо слова «неизвестный» слово «неосознанный», и мы получим, — по
лагает Варьяш, — одну из основных идей новой психологии»[146]. Очевидно, однако, что подобные подстановки вряд ли могут служить сколько-нибудь серьезным аргументом в пользу использования психоанализа в объяснительных схемах марксистской истории философии. На это Варьяшу было указано сразу и очень жестко[147]. Но даже отступая от своих первоначальных взглядов под давлением критики (содержащей, между прочим, уже и термин «фрейдо-марксизм»), Варьяш тем не менее продолжал настаивать на своеобразном «соответствии» теорий Фрейда и Маркса. Он писал по поводу понятия бессознательного: «Если мы расширим и объясним его из экономических и политических причин, то получим Марксово понятие. Только надо знать, — подчеркивает Варьяш, — что не Маркс расширил Фрейдово понятие бессознательного, Фрейд сузил это Марксово понятие»[148].
Надо сказать, все эти на первый взгляд бесплодные спекуляции имели вполне серьезные последствия для отечественного психоанализа. Таким путем его концептуальные структуры как бы встраивались в один ряд с концептуальными структурами социальной доктрины марксизма, приобретая тем самым общественно-историческое измерение. В попытках представить психологические механизмы в качестве факторов, формирующих содержание человеческих представлений, с одной стороны, складывалась «историческая» (культурно-историческая, как это будет позднее названо Лурия и Выготским) трактовка психической деятельности, а с другой — внутри собственно психоанализа происходила весьма существенная перегруппировка проблематики. В центре ее оказалась проблема личности.
Что касается «культурно-исторической» трактовки психики, то сама по себе она фактически уже выходит за рамки психоанализа — это иная тема. Но можно проследить, как споры о материалистической (научной, естественнонаучной) природе психоанализа и о его месте в структуре марксистской психологии и марксизма вообще
приобретали все более схоластический характер, между тем как конкретные попытки прояснить общественно-исторический смысл индивидуальных психических механизмов и структур человеческой субъективности открывали новые перспективы для психоаналитической работы. Рассуждения, выражавшие желание представить психоанализ в качестве естественнонаучной дисциплины, как это ни странно, все более идеологизировались, тогда как поиск социальных смыслов психических структур выводил психоаналитическое исследование к вполне реальной проблематике целостности личности. Поэтому, кстати, все более или менее серьезные психоаналитики ограничивались общими фразами о естественнонаучной природе психоанализа. В оценках действительных интенций психоаналитических исследований конца 20-х годов следует, на наш взгляд, доверять не подобным (и довольно многочисленным) декларациям, но рассуждениям, скажем, А.А.Ухтомского по поводу работ И.А.Пере- пеля: «Предмет исканий автора — физиологическая подпочва того клинического опыта о человеческой природе, который открывается психоаналитическим методом. Это очередная и горячая тема наших дней. Ибо психоанализ, как терапевтический метод и как мировоззрение, вскрывает в человеке и его поведении работу, с одной стороны, физиологических, а с другой — социальных сил; и выразить психоаналитический материал в терминах физиологии значило бы заполнить живою тканью тот провал, который существует между социологией и физиологией и который одинаково беспокоит и социологов, и физиологов»[149].
Суть этой позиции лучше всего выразил весьма активный в то время сторонник психоанализа А.Р.Лурия: «Все... требования, предъявляемые марксизмом к современной психологии, мы могли бы свести к требованию — поставить на место рассуждения о сущности психического и его отличия от телесного — монистический подход к изучению не «психики вообще», но конкретной нервно
психической деятельности социальной личности, выражающейся в ее поведении»[150].
Что же касается общих теоретико-методологических дискуссий, то в них, повторяем, психоаналитики все более настойчиво и все более декларативно подчеркивали как раз объективность своих концепций, тем более что идеологический натиск на психоанализ нарастал именно с этой стороны. Любые попытки серьезно дискутировать на эту тему стали к тому времени практически бесплодными. Яркий пример тому — вышедшая в 1927 г. книга М.Н.Волошинова[151]. Выполненный в ней критический разбор фрейдовского учения был направлен против отечественных пропагандистов психоанализа — Залкинда, Быховского, Лурия и Фридмана. Основные обвинения — пансексуальность, биологизм, субъективизм. Но критика не достигала цели, ибо постреволюционный психоанализ мало походил на классический фрейдизм. В самом деле, какой смысл могло иметь для отечественных психоаналитиков обвинение в пансексуальности? Волошинов был прав, настаивая на том, что психоанализ без акцента на сексуальность — не психоанализ (на том же, кстати, всегда настаивал сам Фрейд: за отступление от примата сексуальности он неоднократно предавал анафеме своих ближайших учеников). Аналогичным образом бессмысленно было упрекать отечественный психоанализ в «биологизме». Хотя в принципе, как это опять-таки отмечал Волошинов, «биологизм» является существенной чертой фрейдизма.
Впрочем, Волошинов ставит в вину отечественному психоанализу и субъективизм, т.е. полагает, что психоанализ принадлежит к числу психологических течений, которые хотя и используют объективный эксперимент, однако допускают, что «центр тяжести всего эксперимента лежит... во внутреннем переживании испытуемого; на него и направлена установка экспериментирующего. Это внутреннее переживание и является, собственно, предме
том психологии»[152]. «Объективисты» же, с точки зрения Волошинова, хотя и не отрицали внутреннюю психическую жизнь, тем не менее настаивали на том, что все заслуживающее внимания «внутренее» выражается во внешних реакциях, образующих поведение человека, и что «только это материально выраженное поведение человека и животных и может быть предметом психологии, желающей быть точной и объективной»[153]. Таким образом, операциональный смысл оппозиции субъективизм — объективизм у Волошинова как бы отодвигается, и на передний план выходят ее общеметодологические коннотации. Надо сказать, что эволюция смысла этой оппозиции на Волошинове не завершилась.
К 30-м годам в общеметодологической дихотомии субъективизм — объективизм резко усиливаются особого рода мировоззренческие и идеологические акценты. И по мере того, как это происходило, дихотомия превращалась в оппозицию субъективно-идеалистического и объ- ективно-научного. Причем психоанализ, несмотря на его откровенно объективистские установки, в силу того лишь обстоятельства, что он действительно придает принципиальное значение имманентным структурам психики, автоматически попадал в разряд течений субъективно-антина- учных. Такая квалификация его методологической природы, сыгравшая в 30-е годы роковую роль, сказывается и сегодня, хотя никаких оснований для однозначной квалификации психоанализа как течения субъективистского даже по данным параметрам нет. В дихотомии субъективизм — объективизм основным является все же конкретно-операциональный план, а именно: противопоставление интроспекционистских методов методам объективного исследования психики. Психоанализ с этой, собственно методологической точки зрения, есть течение бесспорно так же и объективистское, решительно выступавшее против методологии классического интроспекционизма и много сделавшее для разработки объективных методов исследования психики.
Волошинов, однако, настаивает на субъективизме отечественного психоанализа. И в определенном смысле он прав. Не в методологических постулатах, где так или иначе подчеркивались стимульно-физиологические аспек
ты психики, а в социально-ориентированных приложениях психоанализа отчетливо выступала у наших психоаналитиков установка на личность, на имманентную структурированность психической жизни человека и на ее самоценность в отношении к внешней среде. Это действительно так. Целый ряд направлений отечественной психологии и психиатрии, по преимуществу практической направленности, такие как психотехника, эргономика, педология, были также и в том же самом смысле субъективистски ориентированы. И точно так же, как психоанализ, они были разгромлены. Психоанализ исчез среди них первым. Но, конечно же, не в результате во- лошиновской критики и не в результате теоретической критики вообще. Субъективизм всех этих направлений питался практическим запросом своего времени, И исчез этот запрос, когда характер общественно-исторической практики в стране изменился круто и однозначно, когда бессмысленным и ненужным сделался и вопрос о личности, и вообще проблема человеческой субъективности.
Финал
Процессы, кор'енным образом изменившие лицо отечественной психологии, психиатрии и вообще всего комплекса наук о психике, завершились в 1936 г. Мы, пожалуй, иожем даже точно назвать дату, венчающую этот переходный период, — 4 июля 1936 г., день, когда появилось постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов».
Другое время началось с тех пор для отечественной психологии, другая история: обсуждались иные проблемы, шли иные дискуссии, а споры разрешались через апелляцию к иным ценностям и стандартам. Наша психология, ее цели и задачи стали с тех пор пониматься настолько по-своему, что, в отличие от прежней отечественной, эта психология получила свое особое наименование — советская. Во всяком случае, в ней, в этой новой науке о психике, уже не было места для психоанализа, как и еще для целого ряда психологических направлений. Эти направления отечественной психологии просто исчезли в период между 1929 и 1936 гг.
Можно ли рассматривать данный процесс как естественное продолжение всей предшествующей борьбы за «марксистскую перестройку психологии» (начатую Кор
ниловым, Выготским, Лурия, Блонским и многими другими учеными, ставшими в конечном счете и первыми жертвами этой перестройки)? В общем — да. Но с массой оговорок. Мы, во всяком случае, хотели бы подчеркнуть своеобразие и особую значимость периода 29-36 гг. Ибо именно в это время произошло то, что в современной литературе называют фундаментальной сменой парадигмы: 1) многообразие подходов и точек зрения, постоянно сталкивающихся, но и сосуществующих, взаимодействующих, взаимообогащающих друг друга, резко сузилось, временами «схлопываясь» до одного, «единственно верного» подхода; 2) изменился стиль научной жизни, изменились цели, стандарты и сам смысл научной деятельности; и наконец, 3) только в эти годы и определилось, чему так или иначе быть в советской психологии, а чему не быть никогда.
Примерно к 1930 году разрушительный приступ самобичевания захватил практически все тогда существовавшие направления отечественной психологии и психиатрии. Причем речь шла не о переосмыслении и критике, а о самороспуске, о саморазрушении этоса отечественной психологической науки. Этот приступ не был вызван внутренними потребностями психологии. Изменился общественно-политический контекст, заставивший ученых выступать со статьями-покаяниями по поводу «порочащих» их связей (даже с вполне материалистическими школами): «Связав свое марксистское определение со школой Бехтерева, я поддерживал скверные традиции буржуазной науки с ее авторитарностью и филистерской этикой, с традициями антагонизма ее односторонних направлений, теорий, школ и школок, пытаясь канонизировать «с точки зрения марксизма» одно из этих направлений, отождествив его с марксизмом»1. Так разрушились самые основания науки психологии, чтобы внедрить новую парадигму, которая представала тогда еще в самом общем, но уже довольно определенном виде: «Подлинными основоположниками советской психологии, — продолжал тот же кающийся автор, — как психологии диалектико-материалистической, являются, понятно, не отдельные школы и направления, хотя и шест-
1 Ананьев Б.Г. О некоторых вопросах марксистско-ленинской реконструкции психологии // Психология, 1931, т. IV, вып. 3-4,
с :ш/
вующие «под знаменем марксизма» (что буквально относится к Корнилову и его «школе»), а основоположники марксизма-ленинизма. Между тем до настоящего времени имеются попытки вывести советскую психологию не из философского наследства Маркса-Энгельса-Ленина, не из истории большевизма и работ Сталина, образующих единственно верный критерий по отношению к истории психологической науки, а из отдельных направлений, по своим корням и содержанию несомненно буржуазных»[154]. Цитата, верно, длинная, но привести ее полностью, думаем, необходимо хотя бы для того, чтобы показать, вопреки каким установкам, тем не менее, продолжали работать психологи (и среди них, кстати, автор приведенных цитат).
Первый номер журнала «Психология» за 1931 г. открывался не научной публикацией, но резолюцией общего собрания ячейки ВКП(б) ГИПППа (Государственный институт психологии, педологии, психотехники и дефектологии) от 6 июня 1931 г. «Итоги дискуссии по реактологической психологии». В этом постановлении содержатся выпады практически против всех направлений тогдашней психологии. Критика как бы распределяется на всех, имея своей целью не то или иное направление (в психологии), а само представленное в ней многообразие точек зрения и подходов. Однако можно уловить и тенденцию: преимущественным объектом разрушительной критики оказываются, с одной стороны, те психологические течения, которые ориентированы на объективное исследование индивидуальной физиологической и биологической базы психики (рефлексология, реактология и т.д.), а с другой — те направления, где в осмыслении психики отчетливо проступает «субъективизм» социологических установок, где в центре оказываются имманентные психические структуры, с точки зрения которых рассматривается и оценивается психическая значимость (социальной) среды. Причем эти имманентные психические структуры зачастую прямо соотносятся с физиологическими механизмами. Таковы психотехника (Шпиль- рейн), педология (Блонский, Залкинд). Таков был и психоанализ.
Откуда шли эти мощные, меняющие лицо отечественной психологии импульсы? Собственно, в начале 30-х годов изменилось то, что называют запросом обществен- но-исторической практики. И психология, которая вообще всегда была весьма чувствительной к движениям общественного интереса, быстро отреагировала на это изменение. Еще в начале 20-х годов много внимания уделялось разработке научно-обоснованных норм труда. Причем научное обоснование норм исходило из самочувствия человека, его потребностей, т.е. внутренней нормы. Идеологически эта задача выступала как определение гуманных норм труда в отсутствие рынка и эксплуатации. Психологи живо откликнулись на этот запрос, участвуя в поиске методик и принципов нормирования. Разработка принципов НОТ и программ профессиональной подготовки стимулировала исследования по психотехнике, составление профессиональных психограмм, психофизиологические поиски. В этой работе непосредственно участвовали практически все ведущие психологи — Корнилов, Блонский, Выготский, Шпильрейн* и пр. Еще в 1928 г. К.Н.Корнилов писал: «...ударная задача поднятия нашего производства вполне естественно вызывает неудержимый рост психотехники, как, с другой стороны, забота о подрастающем поколении вызывает столь же интенсивный рост педологии»[155].
С начала 30-х годов меняются цели НОТ и рационализации. Соответственно меняются задачи, стоящие перед исследователями, в том числе и психологами. Превалировать начинает не гуманитарная, а техническая норма — нужная, потребная, определяемая директивным решением, техническими заданиями, планом и не принимающая в расчет психофизиологический комфорт человека, физиологическую и тем более психологически-лич- ностную норму. Мы не будем здесь задаваться вопросом о том, насколько эффективна и вообще возможна организация труда, построенная исключительно на «физиологически и психологически обоснованных нормах». Нам важно уяснить вектор вновь возникшего практического запроса. Так вот, в рецензии некоего В.Исакова с многообещающим заглавием «О меньшевистской теории рационализации Ерманского» читаем: «Установление
зарплаты на основе физиологического нормирования есть, по существу, пропаганда уравниловки»[156]. Это свидетельство времени достаточно ясно показывает, какие психологические направления могли выжить в то время, а какие — были обречены.
Еще председательствовал А. Залкинд на I Поведенческом съезде (1930). Еще удавалось под руководством Шпильрейна собрать съезд по психотехнике (1931). Еще достаточно активно работали педологи. Но дни этих направлений были сочтены: 1931 год был уже провозглашен «Бригадой ГИППП» годом борьбы за решительный поворот в деле перестройки психологии на основе марксизма-ленинизма, за преодоление отставания психологической теории от практики социалистического строительства. Причем борьбы на два фронта — против механицизма и меньшевиствующего идеализма[157].
Наиболее жесткие меры были применены, естественно, к направлениям, имеющим непосредственные социально-экономические приложения, — к эргономике, психотехнике. Лидер последней, Шпильрейн, уже через два года, в 1933 г., был арестован. Затем перешли к уничтожению более теоретичных направлений — рефлексологии, культурно-исторической теории, педологии. Однако самым первым из всей группы прекратил свое существование психоанализ — направление, далеко не прямо связанное с экономикой или организацией производственных отношений, но зато очень сильно социологизирован- ное у нас и потому имеющее отношение к весьма тонким социально-экономическим жизненным структурам.
В 1929 г., к самому началу описанного выше процесса, в Советский Союз приезжает Вильгельм Рейх — австрийский психоаналитик, марксист по убеждению, утерявший всякую надежду реализовать потенции психоанализа в условиях господства буржуазии. Здесь, в Союзе, его ожидал, однако, более чем прохладный прием. Своими выступлениями и публикациями он вызвал дискуссию, основным результатом которой можно, пожалуй, считать лишь широкое распространение термина «фрей- до-марксизм».
Для нас, однако, эта дискуссия представляет известный интерес, ибо являет нам столь редкий в истории момент повторяемости. Дело в том, что планы использования психоанализа, которые Рейх привез в Россию, представляли собой аналог отечественных планов на этот счет начала 20-х годов. Во всех своих выступлениях Рейх подчеркивал, что психоанализ, именно как естественнонаучная дисциплина, имеет весьма большое значение для пролетарского государства, и марксистская критика должна лишь скорректировать его приложения в двух пунктах. Во-первых, марксизм с самого начала должен умерить мировоззренческие претензии психоанализа. Психоанализ не может ни заменить, ни восполнить материалистический взгляд на историю: как естественнонаучная дисциплина, он просто несоизмерим с марксовым пониманием истории; подлинный предмет психоанализа — душевная жизнь отдельного человека, замкнутая в конечном сете на сексуальность. Феномены же классового сознания, проблемы массовых движений, стачки и прочие явления, относящиеся к учению об обществе, непосредственно не могут быть его объектами. Психоанализ не может заменить собой учение об обществе или развить из себя такое учение. Но зато, во-вторых (и здесь также должна проявляться направляющая роль марксизма), он может успешно выполнять роль вспомогательной дисциплины — хотя бы в виде варианта социальной психологии. Например, он способен вскрыть те иррациональные мотивы, которые могли бы побудить какого-нибудь будущего вождя примкнуть именно к социалистическому или националистическому движению, или проследить влияние общественных идеологий на душевное развитие индивида.
Однако и теоретическая и жизненно-практическая ситуация конца 20-х годов существенно отличалась от по- стреволюционной ситуации начала 20-х. И это отличие в полной мере испытал на себе Рейх. Отечественный психоанализ за прошедшее время окончательно утвердился в своем отказе от теоретической и практической ориентации на сексуальность и возвращаться к фрейдизму в его узком понимании он, во всяком случае, не желал. Но главное, пожалуй, заключалось в том, что размежевание с фрейдизмом в конце 20-х годов приобретало предельно заостренные идеологические и даже политические формы. Неудивительно поэтому, что наиболее решитель
ными и жесткими противниками Рейха оказались именно психоаналитики, среди коих особо выделялся А. Залкинд.
Редакция журнала «Под знаменем марксизма», публикуя статью Рейха[158], посчитала необходимым сразу отмежеваться от авторской трактовки фрейдизма и поместила в том же номере полемическую статью И.Сапира[159]. Выступление Рейха в Комакадемии «Психоанализ как естественнонаучная дисциплина» немедленно вызвало возражения[160]. При этом Залкинд заметил, что выступление Рейха «является попыткой западной эклектики проникнуть в начинающий всерьез консолидироваться в Советском Союзе марксизм»[161].
Впрочем, Залкинд столь же сурово оценил вообще всю ситуацию от литературной критики (где Воронский, Сейфуллина, Пильняк пытаются представить творчество как «бессознательную» стихию) до психогигиены, где наиболее выражен «правый идеологический лагерь». Но именно беспредельная широта, разброс залкиндовских оценок свидетельствует о том, что пугает Залкинда не столько собственно теоретическая позиция Рейха, сколько независимая поза психоаналитика-профессионала, претендующего на какое-то самостоятельное суждение в общественной жизни. Залкинда пугают теперь те самые претензии психоанализа, которые несколькими годами раньше его вдохновляли. Во всем он улавливает идеологический подтекст. Так, Рейх заявляет: «Если вы хотите разрешить вопрос о профилактике органических заболеваний, вы должны сначала запросить некоторые науки — физиологию, патологию и другие дисциплины, а затем создать ряд экономических мероприятий, соответствующих данным органической медицины. Когда вы через несколько лет (возможно, уже после благоприятного завершения пятилетки) подойдете к вопросу душевной гигиены и профилактике неврозов, — а если вы к этому не подойдете, то он сам встанет перед вами, вам понадобится действительно объективная психология, которая ска
жет вам, каковы законы психической экономии и при каких условиях возможны достижения в этой области. Этой диалектико-материалистической психологией, которая даст вам правильные методы, будет психоанализ. В самом скором времени вас, конечно, начнет интересовать, какие условия способствуют наилучшему развитию работоспособности индивидуумов. Тогда наступит тот момент, когда нужно будет воспользоваться основными концепциями психоанализа в психическом аппарате и применить их на практике»[162]. Возражая такого рода пассажам, Залкинд апеллирует не к теоретикам или общеметодологическим соображениям, а к практически-жизненным контекстам, упрекая Рейха за то, что он видит в СССР лишь «страну цели», страну, устремленную к социализму, но не замечает ни конкретной политической ситуации, ни политической истории этой страны и потому не способен дать оценку действительной роли фрейдизма.
Сам Залкинд, надо полагать, отчетливо ощущал давление этой социально-идеологической ситуации. Может быть, потому, что был отнюдь не безгрешен. Во всяком случае, к этому времени он мог уже догадаться, что даже если взгляды психоаналитика, представляющие позицию личности по отношению к обществу, совпадают с господствующей в обществе идеологической тенденцией, сами претензии психоанализа на самостоятельное выражение этой личностной позиции и тем более на практическую деятельность и практическую оценку становятся неуместными в условиях абсолютного господства этой «общезначимой» идеологии. Содержательное совпадение социально-исторических и психоаналитических оценок лишь маскирует их несовместимость. Поэтому даже тогда, когда Залкинд провозглашал революционной молодежи свои более чем классовые заповеди, он, провозглашая их от лица психоанализа, брал на себя чужую с точки зрения всепроникающей идеологии роль (и действительно, позднее оказалось, что не рекомендации психоаналитика — даже вполне классовые, — а соображения «ячейки» правомочны регулировать половые отношения; и не к психоаналитику, а к секретарю этой «ячейки» следовало обращаться молодежи в затруднительных с социаль
но-классовой точки зрения случаях). Залкинд, очевидно, ощущал приближение того времени, когда даже эти политически невинные экскурсы в социальную проблематику могут быть оценены очень сурово, когда «психограмму» заменит «характеристика», когда будут четко определены темы, запретные для социально-психологического анализа, а тем более запретные для анализа с личностно-критических позиций пациента. И уж во всяком случае не врачу-психоаналитику будет предоставлено тогда право оценивать здоровье РКП, если даже этот врач — член РКП. Очерк Залкинда «О язвах Р.К.П.» — один из наиболее реалистичных, но дело даже не в качестве этого социально-психологического анализа здоровья партии. Дело в том, что в 1924 г. такого рода исследования были еще допустимы, а в 1929 — уже нет.
С точки зрения сегодняшнего нашего исторического опыта ясно, что у Залкинда было больше оснований опасаться репрессий за этот очерк, чем за все теоретико-методологические ошибки психоанализа вместе взятые. И, видимо, потому, что он вовремя понял это и тихо прекратил всякую психоаналитическую работу, мы можем найти статью о нем в БСЭ за 1933. Сама жизнь, складывающая в стране с 30-х годов, отторгла психоанализ с его утверждением определенной самостоятельности психической жизни индивида, с его склонностью к субъективизму в социально-психологических исследованиях и критицизму в социальной позиции практикующего психоаналитика. Все это, по-видимому, поняли и Лурия, и Выготский, и Быховский, и многие другие лидеры отечественной психологии и психиатрии.
Заключение
Менее всего мы хотели, чтобы этот очерк был воспринят как упрек в адрес нашей психологии — как той, которая сложилась в 30-е годы, так и той, какая она сегодня. Наша психология, пусть даже и в усеченном виде, была и остается продолжением традиций отчасти отечественной, отчасти мировой психологии. Ее односторонность — не ее вина; она страдала и страдает до сих пор от отсутствия внутреннего диалога различных психологических направлений. Тем не менее есть достижения и есть имена, которыми эта наука вправе гордиться - Вы
готский, Рубинштейн, Гальперин, Леонтьев. Отнюдь не упрека, иных оценок требует ее судьба.
Но наша современная психология, видимо, приблизилась к тому рубежу, когда дальнейшее движение становится невозможным без радикального обновления ее оснований; основания же эти необходимо и расширить и углубить так, чтобы включить целый ряд течений современной психологии, в частности — психоанализ. Однако, как показывает тот же исторический опыт, подобные процедуры не производятся по желанию, а в случае наук о человеке не являются даже частным делом самой науки. Во всяком случае, применительно к психоанализу исторический опыт достаточно ясно свидетельствует о том, что это психологическое течение может существовать лишь в общественных структурах определенного рода, отличительной особенностью которых является отсутствие господствующей тотальной идеологии. Можно назвать эти структуры демократическими, хотя это и не совсем точно. И чтобы пояснить (а не объяснить!), уместным здесь будет напомнить одно* замечание И.Бреса: «Даже поверхностный взгляд на ряд обычаев нашей эпохи свидетельствует о том, что именно к психологу все больше и больше обращаются за помощью и советами в тех случаях, когда раньше обращались прежде всего к кюре, судье, должностному лицу, учителю или философу. Не будет ошибкой сказать, что психология «питается» прежде всего определенной секуляризацией наших обществ, а в более широком плане — духовным упадком властей»[163].
Именно этот «упадок» оставляет место для психоанализа. Поэтому, принимая в расчет все сказанное, можно заключить: будет наше общество развиваться в направлении этого «упадка» — и психоанализ, и многие другие дисциплины так или иначе найдут себе место в отечественной психологии. А нет — значит нет.
«Вопросы философии», 1991.
А.Я.Зись
Чему свидетелем был
Ницше как-то сказал, что если ему сообщат по два- три эпизода из жизни каждого философа, то ему и того будет совершенно достаточно, для того чтобы сочинить историю философии. Разумеется, это шутка. Но не только. В парадоксальном этом высказывании много намеков, и притом серьезных, не лишенных мудрости. Не задумывался ли тем самым немецкий философ над странным соотношением направления интеллектуальной мысли в ту или иную эпоху, явным или неявным влиянием ее на всю духовную ситуацию времени, с одной стороны, а с другой — судеб самих мыслителей, то властителей дум, то изгоев, то баловней сильных мира сего, то мучеников, становившихся «героями акций, подобных той,в что свершилась в свое время на площади Цветов в Риме. И когда речь идет о таких, скажем, именах, как Дж. Бруно или Галилей, Д’Акоста или Спиноза, то здесь все более или менее понятно — плыли против течения и встречная волна не могла не захлестнуть их.
Несравнима в этом отношении с прошлым судьба советских философов, сложившаяся на рубеже первых двух десятилетий русской революции (а именно об этом времени речь идет в настоящих заметках). Никто из них не находился ни в каких противостояниях ни с социально-политическими структурами, ни с официальной идеологией. Более того, идеология эта ими пропагандировалась. А между тем жизнь многих из них была как слеза на реснице. К концу 20-х годов положение в идеологической жизни становилось все более сложным и противоречивым: с одной стороны, казалось, что идеологические ориентации отличались достаточной устойчивостью, но, с другой, все в большей мере набирал силу волюнтаризм, политические ожидания и оценки оказывались непредсказуемыми. И поэтому, подобно герою грибоедовской пьесы, люди нередко «шли в комнату», которая еще вчера была надежной, а оказывались совсем не в той, куда идти следовало сегодня, — вытекающие из этого
следствия долго ждать себя не заставляли. В связи со сказанным представляется показательным эпизод, относящийся, правда, к концу 30-х годов, но по своему характеру типичный и для более раннего времени.
В предвоенные годы директором Института философии был П.Ф.Юдин, который, как известно, был вхож в «высшие сферы». Встречался он довольно часто и с самим Сталиным, который, к слову говоря, не изменил к нему своего доброго отношения до конца своих дней. Время от времени получал наш директор от него и поручения, связанные с подготовкой теоретических трудов. Об одном из них — речь. Предложил ему Генеральный секретарь подготовить усилиями философов, историков и других гуманитариев труд по истории культуры, — такой, в котором должны сочетаться философские обоснования и историческое исследование. Задействована была вся Волхонка (имеются в виду гуманитарные институты Академии наук, размещенные в здании бывшей Комакадемии на Волхонке, 14). К подготовке издания были привлечены многие известные ученые, дело спорилось, и макет книги в сафьяновой обложке с тисненным золотыми буквами названием вскоре был готов. Но Генсек остался недоволен и, как рассказывал об этом авторскому коллективу его руководитель, Сталин сказал: «Вы не только не выполнили задания, но и не поняли его. То, что вы сочинили, это не история культуры, а история гражданского общества». На вопрос: «А что есть история культуры?» — последовал ответ: «История культуры — это история первобытного общества». Что все это означает, понять вряд ли возможно, как и трудно догадаться о том, как сложилась в голове его эта конструкция. Может быть, в его сознании мелькнули отрывки воспоминаний, навеянных знаменитыми книгами Моргана и Тэйлора или кусками из «Происхождения семьи, частной собственности и государства», — кто знает, и кто смел бы его спросить об этом. В общем «лаборатория» его мысли оставалась при нем, а исследование было велено провести вновь в указанном направлении. Я видел лица крупных ученых, ничего, разумеется, не понимавших в сталинской редукции культуры к первобытному укладу жизни, но призванных к исполнению... Что бы из этого вышло, сказать трудно, но в том, что от характера исполнения этого непостижимого замысла зависела судьба его участников, сомневаться не приходится.
Однако печальная эта история случилась тогда, когда до июньской трагедии сорок первого года оставались считанные месяцы. Так жизнь избавила культуру от своеобразной, уникальной в своем роде, интерпретации, а ее авторов от неожиданных поворотов судьбы.
К слову говоря, участвовал в подготовке этого издания замечательный наш историк Е.В.Тарле, мифический министр иностранных дел в мифическом правительстве Рамзина, отбывавший в первой половине 30-х годов административную ссылку в Средней Азии. Не то летом 1937, не то 1936 г. (точно не помню, но, кажется, все же было это в 37-м году), в одно и то же время в «Правде» и в «Известиях» были опубликованы развернутые разборы его книги «Наполеон», — разборы, резко отрицательные, тенденциозные, в лингвистической манере духа времени. Но примерно через неделю на страницах тех же газет появились новые подвалы о той же книге, — на этот раз положительные, весьма похвальные, с мягким указанием на отдельные недостатки. Гнев сменили на милость, и о причинах такой перемены не трудно было догадаться (разнесся слух: после первой публикации книга легла на стол Сталину, и ему она понравилась. Так ли это было, не знаю, но в том, что нечто подобное в таком роде произошло, сомневаться не приходится). Действительно, как шутили еще в 20-е годы, ЦК играет человеком. Впрочем, в это время — уже и не ЦК... Не думал ли на упомянутом собрании маститый ученый о странных превратностях жизни, и не только своей? И не аналогичные ли вопросы возникали перед другими его участниками? Очевидно, все-таки не зря острил Ницше — в определенном плане история мысли может быть представлена как история биографий.
В 20-е годы столь произвольные, чуть ли не иррациональные конструкции, к тому же грубо навязываемые в качестве непререкаемой директивы, еще не дают о себе знать, но соответствующая тенденция уже обозначается. В центре публикаций последнего времени, посвящанных 20-м годам, оказались дискуссии между философами различных ориентаций, принадлежавших, с одной стороны, к так называемой деборинской школе, иначе — к «диалектикам», а с другой — к механистическому направлению. Публикации эти, особенно документальные, представляют несомненный интерес и научную значимость, но не всегда содержащиеся в них сведения доста
точно достоверны. В виде примера можно назвать книгу М.Капустина «Конец утопии», в которой страницы, по- свящанные сторонникам из вышеназванных направлений, характеристике их отношения к партийно-государственным структурам и т.д., не отличаются достаточным соответствием действительности. По мысли автора, спор между оппонентами носил не философский, а скорее политический характер, что верно только отчасти, — политический привкус наличествовал, но в основе дискуссий все же находились проблемы философские. Я не вхожу в этих заметках в рассмотрение этих споров по существу, — об этом в другой раз, но не могу согласиться с категорическим утверждением автора, согласно которому одна из этих школ — деборинская — была якобы обласкана властями в силу своей чуть ли не сервилистской политики, а другая — механистическая — была более научной по своим позициям, но находилась в тени и подвергалась остракизму. Все было не так. В 20-е годы деборинцы действительно занимали ведущее положение, именно они возглавляли общество воинствующих материалистов-диа- лектиков, редактировали философский журнал «Под знаменем марксизма» и т.д. Но и так называемые механисты чувствовали себя достаточно вольготно, активно выступали в печати, печатали книги и т.п. Так, в те годы вышли книги Л.И.Аксельрод-Ортодокс «Против идеализма», «Карл Маркс как философ», «Этюды и воспоминания»; В.Н.Сарабьянова «Введение в диалектический материализм», «В защиту философии марксизма», «Диалектический и исторический материализм»; А.И.Ва- рьяша «Логика и диалектика»; А.К.Тимирязева «Естествознание и диалектический материализм», «Диалектика в науке». Так что в особенно угнетенном положении они не находились. Но нельзя не обратить внимания на то, какая разная участь выпала на долю будто «обласканных» и «преследуемых». Трагедией завершилась жизнь большинства представителей «обласканной» школы. Называю только некоторые имена. Ближайший сотрудник Деборина Карев — расстрелян, Стэн — расстрелян, Баммель — расстрелян, менее известный, но придерживавшийся этой ориентации Столяров — расстрелян и т.д. Причудливо сложилась жизнь И.К.Луппола. В 1931 — 1937 гг. он не разделил драматической участи своих товарищей по так называемой школе «диалектиков». Казалось, его пощадили, грехи были отпущены. В конце 30-х
годов он был избран действительным членом Академии наук, назначен директором Института мировой литературы, женился на интересной женщине и счастливым человеком уехал отдыхать на Юг. Но вернулся он отнюдь не в кабинет директора Института. Больше его никто никогда не видел. И его судьба тоже была решена. Самого мэтра судьба пощадила, но долгие годы он, по существу, был «изгнанником на свободе». Что же касается «преследуемых», то, к великому счастью, ни Л.И.Аксельрод, ни А.К.Тимирязев, ни В.Н.Сарабьянов, ни Степанов- Скворцов, ни Варьяш не подвергались репрессиям, не преследовались в административном порядке. Я тем самым отнюдь не склонен усматривать во всем этом какое-то особое различие в отношении властей к философам неодинаковой ориентации. Все они — и те, кто заканчивал свою жизнь в лагерях, и те, кому посчастливилось оставаться на воле, — все они были «унесенными ветром». Но было это так.
Что же касается Бухарина, имя которого традиционно принято перечислять в ряду механистов, то это все же не так или, во всяком случае, не совсем так. И, как это понятно каждому, репрессирован он был не за свои философские взгляды, а по сталинской логике внутрипартийной борьбы. По существу, Бухарин был ближе к де- боринцам, взгляды их разделял, а по ведомству механистов был зачислен опять же по мотивам чисто политическим. В борьбе против правого уклона Сталину нужно было создать иллюзию наличия у него особых теоретических, философских корней, и они были найдены. В книге Бухарина «Теория исторического материализма» есть безобидное место: в жизни общества бывают иногда такие периоды, когда между различными социальными группами устанавливается определенное равновесие. И эта сакраментальная фраза послужила основанием криминального заключения: взамен материалистической диалектики Бухарин выдвигает механистическую теорию равновесия, на которую и опирается политика правых уклонистов. Этому было посвящено множество статей, были и соответствующие книги. Возможно, автор «Конца утопии» ими и был введен в некоторое заблуждение.
Сколько могу судить, картина философских противостояний во второй половине 20-х годов более объективно и корректно представлена в вышедшей на Западе книге
И.Яхота «Подавление философии в СССР (20-30-е годы)» и воспроизведенной на страницах журнала «Вопросы философии» (1991, № 9-11).
Но, во-первых, автор ограничил свою задачу лишь рамками рассказа о драматической судьбе участников философского движения того времени и оставил вне рассмотрения содержательную сторону, проблематику дискуссий 20-х годов. В отличие от разоблачительных собраний начала 30-х годов они, эти дискуссии, были острыми, привлекали внимание научной и в какой-то мере творческой общественности, велись не только в печати, но и на достаточно массовых собраниях, отдельные такие собрания происходили в Бетховенском зале Большого театра. И привлекали эти собрания публику как раз проблематикой споров. Философское движение того времени не было бесплодным, это была существенная страница в истории нашей культуры, и к ней, к ее освещению, на мой взгляд, следует обязательно вернуться. Во всяком случае я об этом напишу, а напечатает ли журнал, — будет видно. Во-вторых, автор этого содержательного исследования имел счастливую возможность представить хотя бы некоторых философов в их личностном измерении. Скажем, к вышедшей еще в 1916 г. книге А.М.Деборина «Введение в философию диалектического материализма» предисловие написал, как известно, Плеханов, а Л.И.Аксельрод какое-то время, кажется, даже жила в швейцарском доме Плеханова. Бывшие единомышленники, ставшие оппонентами — на каждом из них была печать плехановского влияния, — но каждый из них пронес через жизнь свою плехановскую «интонацию», и это по-своему одних привлекало к Деборину и отталкивало от Аксельрод, как и, напротив, другие сочувствовали Аксельрод и не принимали Деборина. Впрочем, у меня нет оснований упрекать автора. Я поймал себя на мысли, что я сам в этих заметках сознательно обезличил свой рассказ (ведь мог я, например, рассказать, какая растерянность была на лицах участников собрания, посвященного проблемам истории культуры, о котором речь шла выше, но не сделал этого). А жаль. И, наконец, в-третьих, в книге Яхота все же есть отдельные неточности фактологического характера. Об одной такой неточности — ниже. Речь идет о С.И.Новикове.
Характеризуя Новикова как интересного философа и прекрасного оратора, что верно, Яхот, однако, ошибает
ся, утверждая, что тот был репрессирован. Репрессиям не подвергался, во всяком случае тогда, когда я знал его (конец 20-х — 30-х гг.), но гонений выпало на его долю более чем достаточно: безработица, партийные взыскания, публичная несправедливая критика, запреты на выступления в печати и т.д. Останавливаюсь на его судьбе потому, что сквозь его тернистый путь просматривается многое, ощущается атмосфера тех суровых лет. В пятом номере журнала «Под знаменем марксизма» за 1930 г. было опубликовано несколько статей, в которых подвергалась критике печально знаменитая статья Митина, Юдина и Ральцевича «За разработку ленинского философского наследства», напечатанная в «Правде» поздней весной того же года. В статье этой слов «меньшевист- вующий идеализм» еще нет, они появятся лишь в декабре, когда Сталин будет беседовать с членами партбюро философского института красной профессуры. Но в ней уже содержались все необходимые предпосылки для этой зловещей квалификации. Если я не ошибаюсь, редакция и авторы «ПЗМ» тогда еще не понимали, что статья в «Правде» была инспирирована сверху, и полемизировали они с ней в манере академической. Исключением бь*ла статья Новикова. Написанная в яркой публицистической форме, она была скорее сатирическим фельетоном, в котором статья в «Правде» характеризовалась как «воинствующая философская путаница» и высмеивалось невежество авторов. Именно эту сатирическую остроту автору никогда не могли простить, и платил он за нее всю жизнь. На нем как на действующем философе был поставлен крест. О печатании не могло быть и речи. Зато он часто появлялся на трибуне и, к добру это его, как правило, не приводило. Быть может, устные его выступления были для него определенной формой психологической компенсации, на трибуне он бывал резок, язвителен, остроумен, не всегда следил за речью, тормоза отказывали, и после каждого выступления он наживал новых врагов, порой весьма могущественных. Но против совести не шел и чаще всего был прав. Приведу три эпизода из его жизни.
16 июня 1941 г. в кабинете академика-секретаря Отделения общественных наук АН шло обсуждение философского журнала «Под знаменем марксизма». Председательствовал П. Ф. Юдин, с докладом выступил М.Т.Иовчук, тогда — зав.отделом печати Коминтерна. В
выступлении Иовчука анализ материалов, опубликованных в журнале, занимал весьма скромное место, это был скорее инструктивный доклад чиновника высокого ранга, разъяснявший, какой должна быть линия журнала в сложившейся международной обстановке с учетом нового характера советско-германских отношений. Этот «указующий перст» произвел на всех гнетущее впечатление, но все молчали, а выступавшие даже высказывали одобрение направленности доклада. Все, но не Новиков. По высказанному им мнению, журнал не только не должен менять своей линии в соответствии с духом новых международных соглашений, а напротив, обязан публиковать материалы, критически анализирующие расовые теории и геополитические концепции немецкого фашизма. В отличие от докладчика Новиков обнаруживает беспокойство, он не согласен с тем, что «на Шипке все спокойно». Последовала гневная реакция Иовчука: «Вы выплыли из своего философского небытия. Уходите туда обратно». Выступление Новикова квалифицируется как вражеская вылазка, следуют неприкрытые угрозы, но до нападения Германии на Советский Союз оставалось всего шесть дней.
В 1953 г. сектором исторического материализма Института философии было организовано обсуждение книги Шария «О коммунистической морали». Книга эта была сумбурной, неинтересной, пустой, по существу, обсуждать там было нечего. Руководивший сектором Г.Е.Глезерман предложил и мне выступить в дискуссии. Я отказывался по мотивам субъективного характера. Мой собеседник сказал мне тогда, что расхождений в оценке книги нет, отрицательное к ней отношение единодушное, и посоветовал переговорить с Баскиным. Популярный в те годы М.П.Баскин, человек по природе мягкий, деликатный, по сути конформист, никогда не выступал «против», в его лексиконе не было слова нет, о нем иронически, но без злости говорили: «друг народа». Звоню Баскину: «Марк Петрович, как Вы относитесь к книге Шария?» — «Вы знаете, я никогда никого не критикую, но в данном случае не могу смолчать. Я вынужден буду сказать, что книга неудачная, непродуманная, а ее издание, на мой взгляд, является ошибочным. Между прочим, — прибавляет М.П., — такого же мнения придерживается и Дынник. Позвоните ему». Звоню: «Михаил Александрович, что Вы думаете о книге Шария?» —
«Это ужасная, банальная книга. В своем выступлении скажу: «Я не считаю себя компетентным в проблематике книги, но в ней есть глава, посвященная истории этических учений. Это уже моя область, это история философии и об этом я могу сказать — уму непостижимо, как можно на двадцати страницах наговорить столько банальностей и сделать столько ошибок». Примерно так думали и многие.
На деле все оказалось совсем не так. Выступивший в прениях первым М.П.Баскин произнес похвальное слово автору и его книге. Никого уже не удивило, от Баскина ничего другого никто и не ждал. Он органически не мог иначе выступать. Слушая его, оставалось лишь обменяться ироническими взглядами. Но вот на трибуну вышел Дынник. Первые фразы его выступления вполне соответствовали известному всем сценарию: «Я не считаю себя компетентным говорить о книге Шария в целом. Но в книге есть глава, посвященная истории этических учений, это история философии, и об этом я скажу». Но далее вместо ожидаемого обличения последовало: «...уму непостижимо, как можно на 20 страницах с таким талантом раскрыть столь сложные проблемы и обнаружить глубочайшую эрудицию», и далее нечто в том же роде. Остальные ораторы — в том же ключе. Откуда такая метаморфоза? За 20 минут до собрания стало известно, что Шария назначен помощником Берии, в то время зам.председателя Совмина и министра госбезопасности. Переориентация свершилась мгновенно. И здесь Новиков оказался опять «в своей тарелке». Правда, он не знал о возвышении автора книги (а если бы знал?) и был единственным, кто прибавил несколько капель горечи в столь обильно лившийся елей. Реакция Шария была гневной, но судьба и на этот раз была на стороне Новикова, — для автора книги, как и для шефа, уже «недолго музыка играла». Я здесь не осуждаю никого из участников обсуждения. Какие были времена, такими были и нравы. В первый постсталинский год атмосфера сталинского времени, особенно конца 40-х — начала 50-х годов, еще не ушла из жизни, на костер, кажется, никто добровольно идти не собирался.
Я вовсе не хочу представить С.И.Новикова как рыцаря без страха и упрека. Личностью он был сложной, неоднозначной, и ему можно предъявить претензии как интеллектуального, так и человеческого характера. Мне
всегда казалось, что в психике его было что-то патологическое, какой-то фермент, побуждавший его поступать даже помимо собственной воли, как бы играть им самим избранную роль. На трибуне любовался собой, искал и, как правило, находил улыбавшихся, сочувствующих слушателей, и это было ему платой за неустроенную, неуютную жизнь. Писал, как теперь сказали бы, «в стол», сочинил громадный 4-томный труд, посвященный теории национального вопроса, хотел представить его в качестве докторской диссертации. Ничего из этого не вышло. Вице-президент АН академик Волгин, к которому он обратился с просьбой о содействии, как мне об этом говорил Новиков, сказал ему: «Конечно, Вы давно заслужили присуждение вам докторской степени, но вы должны понимать свое положение. Сейчас вам никто ее не присвоит. Защищайте сначала диссертацию кандидатскую». Институт философии принять к защите его диссертацию отказался. Защищался он пожилым человеком в 1947 г. в Государственном педагогическом институте. Защита была мучительной, заседание Ученого совета скандальным. Особенно усердствовал проректор института профессор Ионисян, стремившийся всячески дискредитировать диссертанта и его исследование. Оппонировали чл.- корр. АН Аржанов и я. Как могли, так и старались. Степень ему присвоили, но у меня сложилось впечатление, что именно тогда ему окончательно перебили позвоночник, на заседание пришел страстный полемист, ушел с него сломленный человек.
Я намеренно обратился к человеку, чье имя никогда не было среди первых и кто в 30-е и 40-е годы никакого реального места в философской литературе не занимал. Дело в том, что в аналогичном положении тогда оказались многие, — о них не пишут, они не оставили следов своей деятельности, но они, каждый по-своему и в разной мере, участвовали в движении времени. Одних постигла трагическая участь, других судьба пощадила, но они были сломлены, третьи приспосабливались и т.д. Процессы эти захватили не только центр (Москва, Ленинград), но и многочисленные регионы страны.
В конце 20-х — начале 30-х годов я жил на Украине, в Киеве. Тогда на Украине было немало интересных философов и действовали они достаточно активно. В Харькове (до 1934 г. столице Украины) выходил философский журнал «Знамя марксизма» («Прапор марказму»),
существовала Всеукраинская ассоциация научно-иссле- довательских институтов по общественным наукам («ВАУМЛИН»), работы харьковских и киевских авторов публиковались в Москве и других городах за пределами республики. Среди лидеров несомненно выделялись в Харькове С.Ю.Семковский и В.А.Юринец, в Киеве — Я.С.Розанов. Каждый из них был личностью неординарной, но все они были по разным причинам изначально обречены. Репрессии в сфере идеологической жизни, первоначально в виде осуждения в печати, освобождения от занимаемых должностей, лишения права трудиться в качестве преподавателей или научных сотрудников, а затем — арестов и т.д., усилились на рубеже десятилетий. Но повальный характер они приобрели с приездом на Украину нового партийного руководства во главе с П.П.Постышевым. Первым секретарем украинского ЦК партии оставался еще длительное время С.В.Косиор, но фактически хозяином положения в республике стал второй секретарь ЦК. В идеологической области линия нового руководства была необычайно жесткой, неустанно искали и находили «врагов». Криминальные обвинения шли в основном по двум линиям — украинский национализм и троцкизм, неверие в возможность построения социализма в одной стране. Под такого рода криминал подводился любой поступок, любое высказывание, даже формально не имевшее к нему отношения.
До конца 1933 г. президентом ВАУМЛИНа, структурированного на манер московской Комакадемии, был А.Г.Шлихтер, славившийся как человек мягкий, и в его время жизнь там шла относительно спокойно. В 1933 г. его сменил на посту Президента ассоциации Дзенис, а правой его рукой (точнее — его наставницей) стала По- волоцкая, жена Постышева. Нетрудно догадаться, что указания шли «из первых рук». Первыми жертвами на философском участке и стали его лидеры.
С.Ю.Семковский был фигурой колоритной. В 20-е годы он составил хрестоматию из философских текстов. Она выдержала, кажется, семь изданий и имела широкую аудиторию во всей стране. «Марксистская хрестоматия» — так она называлась — была тогда среди основных пособий по изучению философии, а имя ее составителя весьма популярным. Круг его интересов был широк. Среди опубликованных им книг выделялись, с одной стороны, труды по истории философии — «Людвиг
Фейербах» (1922), «Этюды по философии марксизма» (1924), а с другой — по философии естествознания — «Теория относительности и материализм» (1924), «Диалектический материализм и принцип относительности» (1928). В расхождениях между «диалектиками» (дебо- ринцами) и «механистами» примыкал к последним. В связи с этим в журнале «Большевик Украины» была опубликована статья молодого философа П.Демчука «Как профессор Семковский ликвидирует диалектический материализм», на что последний ответил публичным докладом «Ликвидация диалектического материализма или ликвидация марксистской неграмотности». Полемистом он был сильным, оратором превосходным. В свое время он был меньшевиком, участвовал в деятельности II Интернационала, но в более поздние годы от политической деятельности отошел, однако психологически чувствовал себя очень неуютно. Возможно, что этими его душевными состояниями объяснялись и некоторые странности его поведения. В последние годы оно отличалось явно выраженным негативизмом. Он всегда был «против», — не так важно даже «против» чего. Полемика была его отдушиной. Слушать его всегда было интересно, но речи его все чаще становились неорганизованными, в чем-то даже сумбурными. Состояние его было легко объяснимо. Дело в том, что Семковский (настоящая фамилия — Бронштейн) был двоюродным братом Троцкого, и этого одного было вполне достаточно не только для подозрений, но и для «естественного» развития событий. К тому же некоторые его суждения были подвергнуты критике Лениным. В полемике с Р.Люксем- бург по национальному вопросу Ленин дважды называл Семковского, и оба раза нелестно. В одном случае он замечает, что Люксембург не решается сформулировать выводы, вытекающие из ее концепции, но что делает это Семковский, и по этому поводу он иронически добавляет: туда умного не надо (мы пошлем туда Реада) — именно: Реада — Семковского. В другом он, ссылаясь на известную метафору Салтыкова-Щедрина, — мальчик в штанах и мальчик без штанов, — именно «мальчиком без штанов» и назвал Семковского. Кстати, все это ему и припомнили после упомянутого выше доклада. Он знал, что его ждет, и его ожидания не были обмануты. Вскоре судьба его была решена.
Антиподом Семковского во многом был В.А.Юринец. Семковский — неуемный темперамент, фейерверк на трибуне, жажда полемики; Юринец — скорее флегматик, тихая спокойная речь, сосредоточенность на самой рассматриваемой проблеме и т.д. В отличие от Семковского, Юринец был более близок к направлению «диалектиков» в деборинской интерпретации. Но различные позиции не сталкивали этих философов в острой полемике, как то имело место в Москве во взаимоотношениях сторонников различных течений. Диапазон научных интересов Юринца был многообразным. Его исследования были посвящены западноевропейской философии XX в. (Гуссерль, Фрейд), философским вопросам естествознания, занимали его и вопросы искусства, особенно поэзия. Под его руководством в начале 30-х годов авторским коллективом был создан учебник для вузов «Диалектический материализм» (книга опубликована на украинском языке). И с учетом обстоятельств того времени он, как я думаю, по уровню своему стоял выше 2-томного учебника, вышедшего в Москве под редакцией М.Б.Митина. В сущности, это был не учебник, а коллективная монография, посвященная актуальным проблемам философской науки. Монография эта была рекомендована отделом агитации и пропаганды украинского ЦК в качестве учебника для вузов. Казалось, в отличие от Семковского, все было благополучно в жизни Юринца — всеобщее уважение и признание властей, прочное положение в науке, да и в самой жизни, но и над ним тучи начали сгущаться. И вот почему.
Юринец родился в Галиции (нынешней Западной Украине), входившей до первой мировой войны в состав Австро-Венгрии, учился в Вене и в 1910 г. окончил Венский университет. Правда, он вскоре оказался в России и в 1921 г. окончил аспирантуру в московском РАНИОНе (Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук) у Деборина. И, следовательно, во-первых, зарубежное происхождение, австрийское образование, и кто его знает, какие остались там связи и, во-вторых, непосредственный ученик лидера «меныневиствующих идеалистов» — основания для подозрений само собой напрашивались. Но в том еще полбеды. Основной источник бед впереди.
Напомню, что Львов был тогда польским городом, и гам образовалось эмигрантское украинское правительст
во, известное под названием УНДО (украинское национально-демократическое объединение). Идеологом в этом УНДО был Дм. Донцов, довольно плодовитый автор различных националистических, главным образом, антирусских сочинений. Собственно, все его сочинения были об одном, в них звучал один и тот же мотив — Украина русифицируется, украинская культура погибает. И вот в одном из своих очередных опусов Донцов называет имена некоторых деятелей украинской культуры, среди них В.А.Юринца, как идеологов, на которых можно надеяться, что они сумеют противостоять разрушительным процессам и отстоять национальное достоинство. Все перечисленные Донцовым деятели были арестованы как националисты. Кстати, «указаний Москвы» на то не понадобилось. Украинские власти сделали это по собственной инициативе.
Погибший в тюремных застенках Юринец никаким националистом не был, как не были националистами подвергнутые ранее преследованиям ни писатель Хвыле- вой, ни общественный деятель Шумский,‘ни критиковавшийся и покончивший с собой Н.А.Скрыпник. Как не было и никакой искусственной русификации. История гибели Семковского (троцкизм) и Юринца (национализм) была моделью репрессивной политики на Украине.
Арест Юринца послужил поводом для расправы с вузовскими преподавателями, рекомендовавшими студентам вышеназванный учебник по диалектическому материализму, подготовленный под его руководством. А так как этот учебник рекомендовали все, то «неприятностей» избежали очень немногие. Приведу диалог в инстанции, свидетелем и участником которого мне довелось быть: «Вы рекомендовали этот учебник?» — «Да, конечно». — «Но вы знали, что этот учебник изъят из употребления?» — «Я рекомендовал его тогда, когда он был рекомендован агитпропом ЦК, а не тогда, когда его изъяли». — «Ну, это различие чисто формальное» и т.д. Естественно, что «оргвыводы» следовали немедленно. Что же касается непосредственных сотрудников Юринца и даже просто тех, кто когда-либо отзывался о нем или о ком сам он положительно отзывался, то все они становились предметом особого внимания. Пусть простит читатель, но проиллюстрирую это собственным примером. Заведующая отделом пропаганды Киевского горкома партии
М.Шмайонек предложила мне выступить в печати с разоблачением «лжефилософа» Юринца. А так как я этого поручения не выполнил, то вскоре я прочитал в газете «Пролетарская правда», что в докладе на пленуме украинского ЦК Постышев назвал среди последышей ундо- фашизма и мое имя. О том, что за этим последовало, я говорить здесь не стану. Но кое-что из области «смешного». Среди самых мягких криминальных моих поступков, квалифицированных как идеологическое вредительство, в одной из публикаций было отмечено, что я излагал законы формальной логики без единого слова критики, а философии Платона и Аристотеля отвел целых шесть часов. Смешно? Теперь это звучит смешно. А тогда... Говорю об этом лишь потому, чтобы читателю было ясно — дело не в реальных поступках или действительных идеологически неприемлемых позициях было. Нужен был криминал, а что под него подвести — за этим дело не станет. Сплошь и рядом то был настоящий трагифарс.
В Киеве в то время (примерно 1929—1934 гг.) философы в основном занимались преподавательской работой, но была и научно-исследовательская группа в составе специального подразделения Всеукраинской Академии наук. Кафедрой философии в Университете, преобразованном на несколько лет в Институт народного образования, заведовал Я.С.Розанов, ученый большой философской культуры. В 20-е годы им были составлены и изданы в Москве книги по проблемам искусства, этики, религии, которые в традиции тех лет выходили под названиями «Марксизм и искусство», «Марксизм и этика» и т.д. С переводом украинской столицы из Харькова в Киев он был смещен со всех занимаемых им должностей, а руководителем кафедры был назначен приехавший из Харькова молодой философ Билярчик, в науке еще не зарекомендовавший себя, но уже имевший заслуги в борьбе против меньшевиствующего идеализма. Впрочем, это не спасло и его от печальной доли.
Киевские философы — Нырчук, Очинский, Львович, Люмкис, Гофман, Лехтман, Загорулько и др., — каждый из которых в той или иной мере уже заявил о себе в печати как интересный и перспективный исследователь, с приездом Постышева и его команды должны были пройти своеобразную проверку на верность и преданность. И, как правило, результаты проверки были не в
их пользу. Одни оказались за тюремной решеткой, другие выброшенными из жизни. Арестован был, правда немного ранее, и повесился в тюрьме один из наиболее талантливых ученых Гофман. Арестовали Нижника, Люм- киса и многих других наших товарищей. Нижника — за то, что в какой-то лекции недостаточно оценил вклад Сталина в марксистскую философию, Люмкиса — за то, что в частном разговоре иронически высказался на тему «Два мира, две системы». Не могу утверждать, что это было именно так, но такова была молва, а если это в данном случае было иначе, то следует учитывать, что так оно быть могло. Так что греха против достоверности здесь нет. Драматически сложилась жизнь тех, кого «пощадило» суровое время, кто был просто отовсюду изгнан и заклеймен, но оставался на свободе. Так, например, сложилась жизнь И.В.Очинского. Автор рабрт о Сковороде, Чернышевском, Гегеле, но и о «теоретических корнях правого уклона», — значит, уже никак не был противником режима, — аресту не подвергался. Молдаванин по национальности, он в 1932 г. переехал в Тирасполь, столицу существовавшей тогда автономной молдавской республики, создал там комитет по делам науки, перевел на молдавский язык несколько философских текстов, но через год был исключен из партии. Предвидя дальнейший ход событий, Очинский не стал их дожидаться и уехал в Среднюю Азию. В Коканде он устроился учителем литературы, через несколько лет рискнул защитить кандидатскую диссертацию по филологии, что позволило ему, бывшему профессору философии, добиваться должности вузовского преподавателя, — разумеется, не по философии. Не останавливаясь на том, как шла его жизнь на протяжении трех десятилетий в Узбекистане, скажу только, что через 33 года после исключения из партии, в 1966 г. он был в ней восстановлен и вернулся в Молдавию, в Кишинев, глубоким стариком, больным и разбитым человеком. Талантливый ученый, не реализовал он своих возможностей, а жизнь прожил в тоске и страхе. В Кишиневе вышла о нем книга, но самого его тогда уже не было на этой земле. Я не знаю, что произошло в жизни Нырчука и Загорулько, Львовича и Лехтмана, но я ничего не мог узнать о них ни на Украине, ни в Москве. Можно только догадываться, и хорошо бы ошибиться, но вряд ли. Эмиссары П.П.Постышева в идеологической сфере Килерог, Карпов, Косман, заведо
вавшие соответственно агитпропом в ЦК, Киевском обкоме, Киевском горкоме, свое костоломное дело «и знали, и умели» хорошо выполнять. Их имена тоже не следует забывать. В силу того, что и сами они потом не избежали трагической участи, их порой склонны расценивать лишь как жертвы, как это сделано, например, в известном докладе Н.С.Хрущева XX съезду партии применительно к Карпову. Верно, стали жертвами, но ведь до того играли совсем иную роль... И сколько жертв на совести каждого из них, еще не подсчитано.
В тяжелом положении при этой команде находились вузовские преподаватели. Среди иезуитских приемов ловли жертв было широко распространено стенографирование лекций. Лекторов не предупреждали, как правило, стенографирование велось втайне от них, и уж, конечно, авторской правке стенограммы не подвергались. Они и становились основанием криминальных обвинений. Они, эти обвинения, носили типичный характер — почему не раскрыто (или недостаточно раскрыто) содержание и значение ленинского этапа в философии марксизма; почему не сказано (или мало сказано) о роли Сталина в развитии, марксистско-ленинской философии; почему не раскрыто (или недостаточно раскрыто) содержание борьбы на два фронта — против механистов и против мень- шевиствующих идеалистов; почему не выявлены (или недостаточно выявлены) различия между идеалистической и материалистической диалектикой и т.д. Вопросы эти задавались совершенно безотносительно к проблематике лекции, не принимался во внимание ее курсовой характер, иначе говоря, связи между предшествующими и последующими темами, не придавалось значения и тому, что стенограммы не правились и не подписывались автором. При обсуждении стенограмм ставились главным образом два вопроса: можно ли доверить автору чтение такой партийной дисциплины, как диалектический материализм? Сознательно ли допущены эти пробелы? Потери в преподавательском корпусе были громадными, на смену изгнанным приходили недостаточно подготовленные, но хорошо проверенные кадры.
Философские дискуссии 20-х — начала 30-х годов на Украине не отличались такой остротой, так в России. Они были, скорее, своеобразным эхом московских споров, но в настоящем фрагменте я о них не говорю. Скажу только, что с уже упомянутой деятельностью
новой партийной команды обращение к дискуссии, к вопросам борьбы на два фронта — против механистов и меныневиствующих идеалистов — стало формой «охоты на ведьм», средством разоблачения явных и скрытых идейных греховодников. Само же существо этих вопросов мало кого интересовало.
И все же вспоминаются те далекие годы не без ностальгии. Несмотря на то, что сталинизм уже правил бал, о том времени судить однозначно нельзя. Но в этих беглых заметках разговор о другом — о репрессивной политике, жертвами которой были и наши товарищи по философскому «цеху», об утратах, отзывающихся человеческой болью. Я назвал имена забытые, только некоторые, а было их много. И каждое из них заслуживает упоминания. Мартиролог этот не должен быть предан забвению. И в этом не только долг перед памятью ушедших поколений, но и свидетельство течения интеллектуальной жизни.
Все, о чем здесь рассказано, — отдельные штрихи. Более полная картина проступает в обращении к центру. Именно в Москве развертывались основные события, свидетелем которых мне посчастливилось быть в течение более шести десятилетий. Но об этом — в другой раз.
«Вопросы философии», 1996.
Г. С. Батыгин, И. Ф.Девятко
Советское философское сообщество в сороковые годы: Почему был запрещен третий том «Истории философии»?
Герой знаменитого пастернаковского романа, рассуждая об этиологии мелких кровоизлияний в сердце — этой болезни новейшего времени, — связал ее с постоянным, в систему возведенным криводушием: нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противником тому, что чувствуешь, распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастье. Если так, то история советской общественной мысли должна быть написана как история болезни сердца. Эта история несет в себе некое физически-страда- тельное знание, темное и невыразимое в комфортабельных фигурах любопытствующего литературного дискурса. Смыслообразующий центр химеры, на периферии которой развертываются концептуальные построения советской философии, явлен странным хтоническим, постоянно вытесняемым из рефлексирующего рассудка импульсом уничтожения и, одновременно, конструирования искусственной, призрачной реальности. «Идея» не знает покоя, постоянно стремясь к какой-то непонятной «практике» и отвращаясь от нее. Слово и дело не могут жить друг без друга, но и ужиться не могут. А философствование становится здесь мучительным избавлением от безысходности и отчаяния даже тогда, когда в нем упражняется мастер категориального бельканто. Кажется, советская философия — вовсе не теоретическая доктрина. Если бы это было так, ее понимание исчерпывалось бы злой кантовской аллегорией: один доит козла, а другой подставляет решето. Советская философия — не просто мировоззрение и весьма своеобычная рецепция марксизма, но особый настрой ума, возникающий от боли идейного существования. Этот настрой трудно эксплицировать иначе, чем в описании судьбы людей, попавших в философию, хотя даже самое тщательное опи
сание не проникнет в действительный смысл происходящего. И, тем не менее, такое описание должно быть осуществлено.
♦ * *
События, связанные с постановлением ЦК ВКП(б) о третьем томе «Истории философии», обычно интерпретируются с позиций «святой простоты» — историографические дискурсы здесь нимало не замутнены всякими «по-видимому» и «может быть». Тот факт, что даже тяжелая кровопролитная война не смогла уменьшить интерес к философии со стороны не только самих «философских работников», но и части партийного аппарата, принято расценивать, следуя фундаментальному исследованию Густава Веттера, как очевидное доказательство огромного значения, которое придавалось философии в Советском Союзе [1]. Так, действительно можно подумать, будто изучение философии Гегеля выдвинулось в предпоследний год войны в число первоочередных проблем. Хотя к тому времени общественная мысль России была взбудоражена Гегелем на протяжении лет ста, трудно поверить, что дело ограничивалось Гегелем.
Не стояли ли за интересом к философии интересы в философии? Если да, то во всех этих событиях следует искать нечто вроде смыслового контрапункта: для исторических личностей, преследовавших свои цели в нестабильной номенклатурной ситуации (входили в силу люди А.А.Жданова), в качестве значимых выступали иные обстоятельства, нежели те, которые декларировались в печати как причины инцидента. В любом случае при расследовании происшедшего круг источников должен быть расширен таким образом, чтобы «ошибки» авторов тома и даже «указания Сталина» не расценивались как необходимые и достаточные основания для заключения по делу. Поэтому вопрос о причинах запрета третьего тома транспонируется в вопрос несколько иного плана: «Кто был кто в философии 40-х годов?».
К началу второй половины XX столетия советская философия приняла завершенную форму. Еще до войны были разработаны и утверждены программы по диалектическому и историческому материализму, заново созданы философские факультеты, во многих институтах организованы кафедры диалектического и исторического
материализма [2]. Вообще сталинский режим придавал большое значение философскому образованию не только в вузах, но и в системе партийно-политической учебы, и в школах. В 1941 г. ЦК ВКП(б) принял решение о введении в школьные программы логики и психологии и Институт философии получил задание подготовить соответствующие учебники. С началом войны исследовательская работа была в значительной степени свернута, одних специалистов мобилизовали в армию, другие занимались пропагандистской деятельностью в тылу. Зимой 1941 г. Институт философии был эвакуирован в Алма- Ату, в Москве оставались несколько человек. Но долговременную тенденцию определяло иное обстоятельство. Тематическая программа философии формировалась под знаком канонизации «Краткого курса истории ВКП(б)». Процесс систематизации советского марксизма после «дискуссий» 30-х годов завершил помещенный в «Краткий курс» очерк «О диалектическом и историческом материализме». Вопрос об авторстве очерка остается открытым, хотя некоторые исследователи склоняются к тому, что он принадлежит Сталину [3].
Каждый более-менее образованный человек должен был знать наизусть основные формулы советского марксизма. Например, основные черты марксистского диалектического метода заключались в следующем: «1) все находится в связи и взаимодействии; 2) все находится в движении и изменении; 3) количество переходит в качество; 4) противоречие ведет вперед» [4, с. 147-148]. Нужно было заучивать и три основные черты марксистского философского материализма: «1) признание материальности мира, признание того, что мир развивается по законам движения материи; 2) признание первичности и объективной реальности материи и вторичности сознания; 3) признание познаваемости материального мира и его закономерностей, признание объективной истинности научного знания» [там же, с. 153]. Изучение исторического материализма предполагало четкое уяснение трех особенностей производства: первая особенность состояла в том, что производство является базисом, определяющим характер всего общественного и политического уклада общества; вторая особенность устанавливала определяющую роль производительных сил, и третья особенность характеризовала возникновение новых производительных сил и соответствующих им производственных
отношений в недрах старого строя не в результате преднамеренной, сознательной деятельности людей, а стихийно, бессознательно, независимо от воли людей [5].
С тех пор, как в ноябре 1938 г. было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)», началось формирование единой системы философско-политического образования. В постановлении энергично осуждалось «как дикость и варварство пренебрежительное отношение к советской интеллигенции » и предписывалось изучать основы марксизма-ленинизма во всех учебных заведениях, а также в многоступенчатой системе пропаганды. Положение философской науки принципиально менялось. «Овладение марксистско-ленинской теорией — дело наживное». Эта общеизвестная тогда формула трактовалась как установка на преодоление заумных философских рассуждений, «жонглирования гегелевской терминологией» и «создание там, где это надо, новой философской терминологии, понятной и доходчивой для каждого советского интеллигента» [б]. Любовь к мудрости — философия — совмещалась, таким образом, с общенародной склонностью к философствованию, и нельзя сказать, что профессиональное сообщество не было подготовлено к встрече с «профанным низом». Единство мира — в его материальности, движение — способ существования материи, ощущение — субъективный образ объективного мира, мышление — свойство высокоорганизованной материи и продукт общественного развития, от живого содержания — к абстрактному мышлению и от него к практике, практика — критерий истины и узловой пункт познания, Иван — человек, Жучка — собака и т.п. [7] — эти формулы составляли содержание курса философии, преподававшегося в течение последующих пятидесяти лет почти без существенных изменений.
В период, обозначаемый тогда как «ленинско-сталинский этап» в истории философии, сложился довольно многочисленный корпус научных сотрудников и преподавателей. По данным единовременного обследования преподавателей общественных наук, проведенного Министерством высшего образования в 1948 г., в стране насчитывалось 4836 преподавателей, 125 профессоров, в том числе 44 доктора наук, 75.6 процентов преподавателей не имели ученых степеней [8, л. 49]. В вузах СССР дей
ствовала 41 кафедра философии, диалектического и исторического материализма. Как правило, такие кафедры создавались в университетах. В начале 1949 г. Минвуз СССР проверил 213 университетов и институтов Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Ростова-на-Дону, Саратова, Казани и Свердловска. Был установлен чрезвычайно низкий уровень квалификации преподавателей, особенно на кафедрах основ марксизма-ленинизма. При этом в секретной докладной записке в ЦК ВКП(б) отмечалось, что 23 процента профессорско-преподавательского состава на кафедрах философии не внушают политического доверия [8, л. 37]. Из числа проверенных 2018 преподавателей 81 примыкал в прошлом к антипартийным оппозициям, 57 привлекались к судебной ответственности по политическим мотивам, 65 состояли в других партиях, 117 исключались из ВКП(б), около 150 имели партийные взыскания за ошибки в преподавании или за притупление бдительности [9].
Обществоведы составляли идеологическую элиту общества и, наряду со всеми научными сотрудниками и преподавателями, занимали весьма высокое положение в статусной иерархии. Должностной оклад кандидата наук, старшего научного сотрудника академического института составлял 3 тыс.руб., доктора наук и заведующего сектором — соответственно 4 и 5 тыс.руб. Многие философы работали по совместительству в нескольких местах на полставки, получали немалые гонорары за пропагандистские лекции и публикации. Доходы особенно активных профессоров исчислялись десятками тысяч рублей. Так, в доносе замсекретаря парторганизации Института философии М.А.Скрябина на имя Л.П.Берия в декабре 1950 г. приводятся сведения, что за учебник «Исторический материализм» Ф.В.Констатинов получил от издательства 27 тыс.руб. плюс еще 100 тыс. от распространения тиража [10]. Средний советский служащий зарабатывал тогда примерно 800 руб. в месяц, да и партноменклатура не могла тягаться с философами по зарплате. Об основной массе народа нечего и говорить. Люди голодали, и снижения цен на продукты питания и одежду были настоящим праздником. Эти обстоятельства небесполезно учитывать, когда речь идет об угнетении философии в СССР.
Профессиональные занятия философией были сосредоточены в академическом Институте философии, на фи
лософских факультетах Московского, Ленинградского, Свердловского и других крупных университетов. В подавляющем большинстве высших учебных заведений преподавался единый обязательный курс «Основы марксизма-ленинизма». Здесь философские занятия отличались, как правило, безысходностью. В публикации 1947 г. в качестве типичного приводится пример преподавательского стиля некоего Гинзбурга из Минского педагогического института:
«Преподаватель: Откуда взялась теория? Студент: Теория взялась извне, а выведена она из класса имущих.
Преподаватель: Рабочие это начинают делать? Они знают свою историческую роль?
Студент: Нет, не знают!
Преподаватель: А учение социализма близко по духу рабочим? Что нужно было делать? Студент: Нужно было создавать марксистскую партию.
Преподаватель: Нужно было это учение соединить с чем?
Студент: С массой рабочих» [11].
Такова была стандартная философия, которую можно упрекать в чем угодно, но не в банальности, — за про- фанной, на первый взгляд, фразеологией скрывались хрестоматийные сюжеты из марксистской литературы. В столичных исследовательских учреждениях и некоторых вузах существовала и элитная философия. Критерием элитарности выступала прежде всего непосредственная приближенность к верховной власти, но и интеллектуальный респект имел немалое значение. Философская наука состояла под административным и политическим контролем Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). К концу 40-х годов это был огромный аппарат почти из 300 сотрудников, отвечающих за все направления идеологической работы, науки, культуры и искусства. С 1939 по 1947 г. Управлением руководил Г.Ф.Александров, ранее преподававший историю философии в Московском институте истории, философии и литературы (МИИФЛИ). Рядовой доцент философии, он начал карьеру партийного активиста еще в институте, работал заведующим издательским отделом Коминтерна и оттуда перешел в 1939 г. в только что созданное по решению XVIII съезда ВКП(б) Управление пропаганды и агита
ции. Александров был профессиональным историком философии и, вероятно, не без его явного или неявного одобрения исследовательская деятельность в Институте философии Академии наук СССР сосредоточилась главным образом на вопросах истории философской и общественной мысли. Этому способствовало и то молчаливо признаваемое обстоятельство, что последнее слово в диалектическом и историческом материализме уже сказано партией. Вообще, в советской философии очень многое подразумевалось и говорить о некоторых очевидных вещах считалось неполитичным. Например, осенью 1947 г., когда профессор И.Д.Панцхава в своем доносе на книги Леонова и Розенталя по марксистской диалектике предложил объявить «сталинский этап» в философии марксизма [12], он не получил одобрения, хотя сталинский этап существовал. Формулы диалектического и исторического материализма считались установленными, и мало кто рисковал вносить в них какую-либо отсебятину. Иное дело — история философии. Несмотря на обязанность разоблачать классовую сущность немарксистских идей, она обеспечивала своеобразную интеграцию советской науки в мировую философскую традицию. Во всяком случае, профессоров, даже членов Ученого совета Института философии, принуждали изучать иностранные языки. Историки философии имели высокую интеллектуальную репутацию и занимали влиятельные позиции в академическом сообществе. В 1945 г. из семнадцати членов Ученого совета института большинство составляли авторитетные специалисты по истории западноевропейской и русской философии М.А.Дынник, О.В.Трахтенберг, В.Ф.Асмус, Э.Кольман, Г.С.Васецкий, 3.А.Каменский, М.Т.Иовчук, А.А.Максимов, М.П.Баскин и другие [13]. В 1947 г. Васецкий, директор института, свидетельствовал, что «за последние 8-9 лет почти все докторские диссертации защищались на историко-философские темы и ни одной докторской диссертации не было на актуальную тему исторического материализма в связи с социалистическим строительством» [14]. Действительно, с января 1940 г., когда в Институте философии стали проводиться защиты кандидатских и докторских диссертаций, предпочтение отдавалось историческим темам. «Диссертационная эпоха» советской философии открылась докторской защитой В.Ф.Асмуса по теме: «Эстетика классической Греции». В марте 1940 г. дис
сертацию по философии Декарта защищал Б.Э.Быхов- ский [15]. До этого времени присуждались только ученые степени кандидата философских наук в МИИФЛИ. В 1937—1938 гг. здесь были защищены 36 кандидатских диссертаций по философии. Из них 27 посвящены проблемам истории философии (в том числе 15 по истории философии народов СССР) и 9 по диалектическому и историческому материализму [16]. Такая ситуация действительно означала отрыв философской работы от «практики социалистического строительства». Иное дело, что философы старались держаться подальше от этой практики.
Если поставить вопрос об оценке уровня советской философии конца 40-х годов по воображаемому индексу интеллектуальности, то легче всего ограничиться уничижительными высказываниями. Удобнее всего это делать извне. Хотя все будет правильно, мы не увидим величайшей изощренности в построении мыслительных и риторических конфигураций, эзотеричности лексикона, обвивающего жесткие несущие конструкции официальной философской доктрины. И — самое главное — мы не заметим уникального умения философов распознавать невидимые движения идейной атмосферы, пренебречь коими мог себе позволить только дилетант. Но дилетантов тогда практически не было. «Сталинизм можно обвинить в чем угодно, но не в дилетантизме», пишет А.Зиновьев, и он прав [17]. Догматизм и ортодоксия создавали своеобычный философский стиль, внутри которого, как и внутри любого канона, хватало немножко места и для свободомыслия, и для школьного прилежания, и для плюрализма мнений. Разумеется, в философии эпохи сталинизма подвизалось немало отъявленных негодяев и бездарей, но их с избытком хватает и в иные эпохи. Так или иначе, мы не хотим ограничиваться предубеждением, что это были времена мракобесия и полного подавления свободной мысли.
Особый круг историко-научных вопросов образует неофициальная философская работа — скажем, «катакомбная философия» и «философская периферия» (не территориальная, а тематическая). На январской дискуссии 1947 г. по книге Г.Ф.Александрова З.А.Каменский ссылался на слова «крупного ученого-историка» о своеобразной двуслойности общественной науки: «У нас существуют две науки. Одна более бедная, подчас однооб
разная, сухая и поверхностная — та, о которой все знают и которая заключена в печатных произведениях. И существует другая, более богатая, многообразная и глубокая — та, о которой знают немногие. Это наука многочисленных монографий, исследований, статей, диссертаций, докладов, которые не видят света и которых не видит свет». Эта характеристика в известной степени относится и к истории философии, — говорил 3.А.Каменский [18].
Интеллектуальное подполье в советской стране никогда не затухало, оставляя следующим поколениям возможность изумиться непрерывности философской традиции и открыть для себя славные имена. Трудно, например, представить членом ученого совета по философии
А.Ф.Лосева. После монографии «Диалектика мира» (1930) он отработал на Беломорканале и в 40-е годы был белой вороной в философском сообществе. По конфиденциальным сведениям, поступившим в ЦК ВКП(б) из Краснопресненского райкома партии, Лосев однажды заявил на философском факультете, в присутствии коллег: «Да, я идеалист» [19, л. 2]. В конце 1943 г. его уволили с факультета, и с тех пор он преподавал классическую филологию. «Я чудом выжил. Классическая филология спасала...», — говорил он впоследствии [20]. Философская работа Лосева не прерывалась, несмотря на то, что в 1947 г. он был вынужден обратиться к Жданову с заверениями в своем переходе на позиции марксизма.
Многие имена советских философов получили известность спустя десятилетия. Например, философские рукописи И. Д. Л евина, работавшего в те годы в Институте государства и права АН СССР, впервые увидели свет в 90- е годы [21]. Вообще, «катакомбная философия» ставит ученого перед дилеммой: либо создавать — для себя — дисциплинарные нормы школы и следовать им в «катакомбной» работе, либо заниматься самовыражением и ни к чему не обязывающей самодеятельностью. Создать вне- институциональную школу удалось, пожалуй, только Лосеву. Подавляющая же часть «катакомбных» философских идей, возникающих по ходу внеслужебных интеллигентских разговоров, не вмещалась в рамки дисциплинарных норм ни в 40-е годы, ни позже, когда возникли неофициальные философские кружки. Кроме того, историк науки обязан сознавать, что «катакомбная» интеллектуальная традиция хранит идеи, не желающие зву
чать публично. Они избегают признания и даже не противостоят господствующим доктринам, являя собой нечто вроде герметической традиции.
Вернемся все же к официальной науке. Ведущим исследовательским направлением, как было сказано, выступала в те годы история философии. Именно с историко-философскими вопросами связаны осложнения во взаимоотношениях философов с властью. Были даже попытки обвинить беспартийных профессоров Московского университета В.Ф.Асмуса и М.А.Дынника в распространении антимарксистских идеалистических взглядов — как-никак они преподавали историю немарксистских идей. В этот раз ЦК ВКП(б) решил не принимать никаких мер [19, л. 1], но очень серьезные коллизии возникли в связи с подготовкой семитомного издания «Истории философии», над которым Институт философии работал с 1939 г. Первый, второй и третий тома посвящались соответственно древней и средневековой философии, философии Нового времени и Просвещения, немецкой классической философии. Марксистскую философию предполагалось рассмотреть в четвертом томе. Философия СССР составляла содержание пятого тома. Наряду с русской философией здесь были представлены история грузинской философии, история армянской философии, азербайджанское Просвещение и развитие философии на Украине — именно в таком порядке и в таких формулировках национальные советские «философии» перечислялись в проекте издания. Шестой и седьмой тома посвящались соответственно буржуазной философии эпохи империализма и разработке диалектического материализма в трудах Ленина и Сталина. Таков был замысел издания по крайней мере весной 1941 г., когда первый том уже вышел в свет [22, с. 53-54]. В дальнейшем в план были внесены некоторые несущественные коррективы (в частности, «русский» том стал шестым), но основная историографическая концепция декларировалась отчетливо: изучать историю философских идей как особую область идеологической борьбы классов [там же, л. 55]. Руководили изданием Г.Ф.Александров, Б.Э.Быховский, М.Б.Митин и П.Ф.Юдин. К 1943 г. вышли в свет три тома, оставшиеся в памяти многих поколений советских студентов-философов как «серая лошадь» — на экзаменах вывозит. Практически весь труд по подготовке книги взял на себя Быховский — его можно считать соавтором
всех глав этих томов и архитектором издания в целом [23, с. 206], а остальные члены редколлегии выступали, скорее всего, в роли «свадебных генералов».
Как уже говорилось, злополучный третий том был посвящен главным образом немецкой классической философии. Когда работа над тремя томами была в 1943 г. отмечена Сталинской премией, никто не догадывался о последствиях. М.Б.Митин, Г.Ф.Александров, П.Ф.Юдин,
В.Ф.Асмус, О.В.Трахтенберг и другие авторы стали лауреатами первой Сталинской премии, которой удостоились советские философы [24]. Концепция третьего тома, казалось бы, была продумана в деталях. В рецензии на книгу, опубликованной в журнале «Под знаменем марксизма», 3.А.Каменский (в то время сотрудник группы Быховского) отчетливо сформулировал основное требование партии к историко-философской науке: «История философии не есть имманентный процесс... выдвижение тех или иных идей в истории философии определяется не только и не столько теми историческими условиями, в которых этот процесс происходил. Философия, а следовательно, ее история должны быть поняты как формы отражения действительности» [25, с. 37]. Стоит обратить внимание на то, что аналогичная идейная установка послужила основой критики книги в постановлении о третьем томе, а через четыре года прозвучала в выступлении А.А.Жданова на философской дискуссии — история философии была определена им как борьба материализма с идеализмом. Разумеется, трактовка истории философии как формы отражения действительности принадлежит не Каменскому. Она сложилась еще в ранней большевистской литературе и с тех пор воспроизводилась постоянно. В случае с третьим томом основной вопрос заключался в определении «классовой сущности» немецкой философии. Шла война, и проблема ответственности Канта, Фихте и Гегеля за идеологию фашизма приобрела принципиальную остроту. В частности, Гегеля невозможно было объявить реакционным мыслителем, поскольку в этом случае пришлось бы выпутываться из более сложной ситуации: гегелевская диалектика имела статус неприкосновенности как один из источников марксизма — опубликованные высказывания Ленина не оставляли на сей счет никаких сомнений. Поэтому была принята взвешенная и хитроумная линия на защиту немецкой классики от профашистских интерпретаций. Ви
димо, немаловажную роль здесь сыграло и то обстоятельство, что «красная профессура» была в значительной степени воспитана на Гегеле. Третий том «Истории философии» был выполнен именно в таком ключе. В упомянутой рецензии Каменского акцентируется обособленность немецкой философии от фашизма: «Приводимые в книге материалы и положения дают возможность читателю противопоставить современной растленной и растлевающей идеологии немецкого фашизма те духовные богатства, которые создали в свое время передовые умы Германии, и убедиться в глубине падения современных немецких каннибалов» [25, с. 93].
В личном архиве Каменского сохранился экземпляр тома, в котором частично расписаны авторы глав и параграфов (в опубликованном тексте авторы не указаны). Отсюда сведения, что главу о немецком Просвещении писала Л.И.Аксельрод, главу о Канте — В.Ф.Асмус, главу о Фихте — В.И.Пиков, параграфы пятой главы (о философии Гегеля) написаны Б.Э.Быховским, Б.С.Чернышевым, А.А.Максимовым, В.Ф.Гороховым, М.А.Дын- ником, а шестую главу о младогегельянстве выполнил опять же Быховский [26]. Опять же следует повторить, что Быховский так активно обрабатывал текст всей книги, что его можно без особых натяжек считать соавтором всех разделов. На него и легла ответственность за содержание тома.
В 1944 г. в постановлении ЦК ВКП(б) «О недостатках и ошибках в освещении истории немецкой философии конца XVIII и начала XIX вв.» третий том подвергся партийной критике за то, что в нем «смазано противоречие между диалектическим методом и догматической системой Гегеля» [27, с. 14]. В.Ф.Асмус, Б.Э.Быховский и Б.С.Чернышев ошиблись в том, что «приписали распространение диалектики на общественную жизнь» и не критиковали «возвеличение Гегелем немцев как «избранного народа» [там же, с. 18]. Авторский коллектив был обязан этим постановлением заведующему кафедрой диалектического и исторического материализма Московского университета 3.Я.Белецкому, который написал Сталину письмо с обвинениями авторов книги в серьезных теоретических и идеологических ошибках. Оригинал письма Белецкого обнаружить не удалось, но его содержание достаточно исчерпывающе устанавливается из докладной записки Александрова на имя Маленкова и Щербакова,
датированной 29 февраля 1944 г. В документе подробно анализируется каждое положение письма Белецкого, пытавшегося обнаружить в книге тайную приверженность авторов немецкому идеализму. «Нам, марксистам, — писал Белецкий, — спасать сейчас этот идеализм не к лицу» [28, л. 19].
Вполне возможно, Белецкий был не единственным инициатором разгрома «Истории философии». Говорят, решающий вклад в критическую оценку книги принадлежал лично Сталину. Такая версия отчасти противоречит тому факту, что прямые упоминания о мнении Сталина по этому поводу не устанавливаются. В других аналогичных обстоятельствах указания вождя приобретали первостепенное значение. Так или иначе, необходимо сослаться на сообщение Р.А. Медведева об идеологическом совещании в ЦК, где Сталин высказал мысль, будто немецкая классическая философия является консервативной реакцией на французскую революцию (Медведев оценивает эту мысль как многозначительную по форме, но нелепую по содержанию). Кроме того, Сталин якобы сказал, что для немецких философов была характерна апологетика прусской монархии и третирование славянских народов [29]. К сожалению, сведения, сообщаемые Медведевым, не сопровождаются ссылками на источник. Поэтому вопрос о роли Сталина в оценке немецкой философии остается открытым.
Зато имеются документальные свидетельства о совещании по проблемам немецкой классической философии, которое провел Маленков без участия Сталина. Философы собирались в маленковском кабинете три раза: 25 февраля, 10 и 11 марта 1944 г. Кроме Маленкова в совещании участвовали Щербаков, Александров, Митин, Юдин, Быховский, Белецкий, Поспелов, Кафтанов, Ильичев, Федосеев, Светлов, Кружков, Асмус, Чернышев, Михайлов, Шаталин, Шамберг, Ицков и Иовчук. На мартовских заседаниях присутствовал еще и Кольман [30, л. 32,88]. Стоит обратить внимание на состав «команд». Явно доминировала александровская группа, и, скорее всего, операция по устранению Митина и Юдина из «философского руководства» была тщательно продумана. Что касается инициатора всей истории с «Историей философии», то он тогда вряд ли подозревал, на чью мельницу льет воду. Белецкий наивно полагал, что в центре внимания — его заявление.
Митин сразу приступил к делу. Довольно уверенно и мощно он изложил замысел третьего тома, замысел, казалось бы, безупречный. Надо ли было выпускать третий том в обстановке войны? «Думали, как быть? — говорил Митин. — Можно было бы самым простым образом подойти к делу, а именно так: Кант, Гегель, Фихте — немцы, и поэтому можно с ними разделаться, не учитывая действительного содержания, которое они дали, не учитывая их роли, которую они сыграли в истории философии. Но это означало бы полный пересмотр всего того, что по этому вопросу писали основоположники марксизма, что по этому вопросу имеется у товарища Ленина и у товарища Сталина. Мы пришли к выводу, что надо вскрыть и показать в томе действительное содержание, которое имеется в достижениях развития немецкой философии и вместе с тем, само собой разумеется, показать и раскрыть тот мистифицированный туман и идеализм, который получил свое развитие в немецкой классической философии» [там же, л. 4]. Позицию Белецкого, считавшего всю гегелевскую философию «идеалистической шелухой», Митин назвал «крайне вульгаризаторской, пределом вульгаризма и ревизией ленинских и сталинских установок» [там же, л. 7]. Действительно, высказывания Белецкого, известные философской общественности, отличались крайней экстравагантностью. Что там Гегель! По словам Чернышева, до зимы 1943 — 1944 г. возглавлявшего философский факультет 1-го МГУ, Белецкий утвержал, что и Гете — порядочная сволочь. В мятежном порыве Фауста профессор усмотрел сходство с империалистическим «беспокойством» Гитлера [там же, л. 201]. Белецкий требовал выбросить из плана семинарских занятий студентов всех идеалистов и изучать только материалистов. На этом основании Чернышев с Быховским назвали его невеждой, а Асмус со свойственным ему дипломатическим достоинством сказал так: «Не понимаю, как можно такое писать» [там же, л. 23]. И самый мощный удар по пасквилянту нанес директор Института философии Юдин. Он рассказал, что Белецкого уволили из института в 1943 г. за «бурную бездеятельность», что он ничего не написал и даже не защитил диссертацию. Этот вопрос вновь возник на следующем заседании, когда Белецкий по-товарищески спросил Юдина: «А сам ты защищал диссертацию?». Юдин простодушно ответил: «Нет». К этому обстоятельству
вдруг проявил большой интерес Маленков. «Никакой?!», — спросил он. «Никакой», — ответил Юдин, который уже несколько лет был членом-корреспондентом Академии наук. Тема повисла в воздухе и обвинять Белецкого в том, что он не кандидат наук, стало как-то неловко. А Кольман — комиссар, эрудит и полиглот — засвидетельствовал, что диссертацию Белецкого о развитии психики Быховский с Юдиным просто не пустили на защиту, хотя работу положительно оценил Рубинштейн. «Я считаю, — сказал Кольман, — что Белецкий знает Гегеля лучше, чем Быховский» [там же, л. 50].
В первый день совещания режиссура была закручена вокруг одиозной фигуры Белецкого и казалось, что творцам третьего тома удалось отбиться от «красного террориста». Но через две недели, 10 и И марта, обстановка резко изменилась — обнаружилось, что в схватке участвуют не две стороны, а три, в теории такая ситуация известна под названием «триангулярный конфликт». Его особенность в том, что исход игры определяется альянсом двух слабых сторон против сильной третьей. Белецкий был независимо от его «сознания» присоединен к группе Александрова. Сделано это было элементарно. Будущий директор Института философии «александро- вец» Светлов обрушил серию мощных ударов на третий том и вскрыл положение в философской науке. Вылезла на божий свет афера с выдвижением «русского» тома на соискание Сталинской премии. «Разве это не позор, разве это не скандал?» — ужасался Светлов. Мало того. Он довел до сведения Маленкова и других участников совещания, что, хотя «русский» том не был опубликовкн даже в макете, в первом номере журнала «Под знаменем марксизма» за 1944 г. уже напечатана хвалебная рецензия Быховского. Хорошо, что Федосеев успел приостановить тираж и произвести операцию, называемую на редакционно-издательском жаргоне «выдиркой».
Так в прорыв, подготовленный Белецким, вошли тяжелые колонны Александрова, который все время многозначительно молчал. А Светлов продолжал рассказывать
о том, как Быховский заграбастал себе весь шестой том, претендуя на роль основоположника истории русской философии, как не допускал к русской философии Иовчука и других опытных специалистов; как профессор Лосев, недавно уволенный из университета, назвал работу Сталина «О диалектическом и историческом материа
лизме» наивной, а потом объяснял, будто имел в виду ее гениальную, почти античную простоту, и еще много чего. Наступление развил Кружков — будущий директор ИМ ЭЛ а — и без особых хитросплетений заявил, что Митин и Юдин — против русской философии. Так, 10 марта, само собой прояснилось, что во всем виноваты Митин и Юдин. «Александровцы» наперебой давали им принципиальную партийную оценку: «Митин и Юдин стали на неправильный, ложный путь» (Ильичев), «Юдин и Митин совершают грубейшие политические ошибки» (Кафтанов), «Юдин и Митин пренебрежительно относятся к русской философии» (Иовчук). Даже Кольман, непричастный к аппаратным интригам и не поступавшийся принципами ради тактических успехов, пожаловался на то, что «все руководящие научные высоты в области философии заняты одним Юдиным». А главный редактор и первого, и второго, и третьего, и шестого томов «Истории философии» Александров не только не чувствовал себя ответственным за ошибки, но укоризненно смотрел на Митина и Юдина. Лишь одйажды его фигура попала в прорезь прицела. Иовчук, усердие которого, вероятно, возобладало над разумом, сказал, что ни Александров, ни Митин шестого тома не читали.
Маленков среагировал моментально: «Кто редактор?»
Наступил момент, когда приходится принимать решение. Быховский ответил: «Фактически редактор я».
«Официальный редактор кто?» — повторил вопрос Маленков.
И тут Быховский не назвал Александрова, а сослался на свое официальное положение заведующего сектором [там же, л. 78 — 79]. «Много берете на себя, товарищ Быховский», — проницательно резюмировал второй человек в партии, человек, от одного имени которого тряслись секретари обкомов. Он не стремился вникать в тонкости диалектики, зато очень интересовался фактами, в частности тем, кто послал неподготовленный том в Комитет по Сталинским премиям. Видимо, надеясь выйти сухим из воды, Александров заявил, что ничего не знал
о выдвижении шестого тома на соискание премии. Тогда Юдин, как директор Института философии, взял вину на себя. Таковы были неявные правила аппаратной службы: сам погибай, а начальника выручай, даже если он тебя продает, — завтра ты его продашь. Через день
- это было 13 марта — Юдин решил чистосердечно признаться во всем и написал «Приложение к стенограмме» , где говорилось об обстоятельствах выдвижения «русского» тома на премию. Книга завершалась в спешке, надо было срочно изготавливать ее макет в Госполит- издате, но к заседанию экспертной комиссии ничего сделать не успели. Когда Юдин, по его словам, понял, что над томом «никто не работает», он решил отозвать рукопись, что и было сделано незамедлительно [31]. По сведениям из других источников, Юдин отозвал шестой том уже во время его обсуждения на заседании Комитета по Сталинским премиям, после того, как Федосеев «вынес сор из избы».
Апофеоз философского сражения — 11 марта. Юдин понял, что пришло время признавать ошибки. При этом он нашел некоторое оправдание своему двойственному отношению к немцу Гегелю: «Я, например, ненавижу румын, считаю, что румын больше профессия, чем нация, но не поднимается рука у марксиста написать» [30, л. 106]. Здесь на авансцену выступил Александров и нанес неотразимый удар, поставив вопрос об ошибках вредительского характера в издании сочинений Ленина и работе ИМЭЛа [там же, л. 148]. Это было посильнее, чем недочеты третьего тома.
Маленков молчал...
Последующие инвективы Поспелова о необходимости разоблачить всю политическую фальшь выступления Митина и Юдина являли собой нечто вроде угроз в адрес поверженного противника. Однако роль Поспелова в рассматриваемом инциденте второстепенной назвать нельзя. Хорошо понимая замысел авторов учебника, он сформулировал обвинительное заключение. «Вы в понимании гегелевской философии исходили из определенной ложной концепции — не отдадим Гегеля фашистам», — заявил Поспелов [32, л. 16]. В теоретическом наследии Гегеля он предложил различать две стороны. Консервативную, реакционную сторону гегелевской философии Поспелов связал с «нравственным оправданием войны» [там же, л. 16], а революционная сторона, конечно же, соотносилась с диалектикой. Никакого нового понимания Гегеля в этой позиции не содержалось — то же самое утверждали и авторы «Истории философии». Но этот по- спеловский «реверс», разумеется согласованный с Александровым, давал возможность всем присутствующим
уяснить, что вердикт не будет слишком грозным. Примечательное обстоятельство: основные идеи постановления ЦК ВКП(б) о третьем томе «Истории философии» буквально совпадают с автографом выступления Поспелова. Что же касается «русского вопроса», то и здесь поспе- ловские оценки текстуально воспроизведены в последующей публикации В.И.Светлова — преемника Юдина на посту директора Института философии [33]. Таким образом, проясняется довольно важный вопрос: кто бы ни был инициатором постановления (нет сомнений, что оно было санкционировано Сталиным), текст его готовил Поспелов, он формулировал оргвыводы и, скорее всего, был «мозговым центром» всей операции. Здесь можно видеть результат активных действий прочного альянса в научно-политической иерархии: Александров —Поспелов. И нельзя однозначно утверждать, что начальник Управления пропаганды играл роль ведущего. «Тандем» сформировался, вероятно, еще в 1939—1940 гг., когда Поспелов занимал должность заместителя начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), т.е. был шефом Александрова. Мудрый человек, он предпочитал держаться на заднем плане. Хорошо понимая актуальность «русского вопроса», они инкриминировали Митину и Юдину не только ошибки в истолковании Гегеля, но и нечто вроде «космополитизма» (тогда это слово еще не вошло в идеологический лексикон).
Дело решилось просто. Через неделю после совещания «александровцы» подготовили суровое, но выдержанное в спокойных тонах постановление о недостатках и ошибках в освещении немецкой классической философии, где, по существу, повторялись все основные положения третьего тома и даже речи не было об отрицании революционного содержания гегелевской диалектики. Зная только текст постановления и сопоставляя его с концепцией третьего тома, невозможно понять, на кой черт партия заинтересовалась Гегелем в тяжелые годы войны. Ответ прост: философия Гегеля понадобилась для очередного революционного переворота и нового решения основного вопроса советской философии — вопроса о власти. Митин и Юдин должны были войти в историю общественной мысли как жертвы сталинских репрессий, однако репрессии, последовавшие за постановлением ЦК ВКП(б), можно считать почти символическими. Были отстранены от руководящих должностей
заведующий сектором истории философии Института философии АН СССР Б.Э.Быховский, директор Института Маркса, Энгельса, Ленина при ЦК ВКП(6) М.Б.Митин и директор Института философии П.Ф.Юдин. Главный редактор трех томов Г.Ф.Александров, разумеется, сохранил свою позицию начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(6). Сталинская премия за третий том была аннулирована, но все лауреаты остались лауреатами — как-никак, за ними числились и безгрешных два первых тома. История с «Историей философии» закончилась ритуальным покаянием причастных к делу лиц на партийном собрании в институте и обещанием исправить допущенные ошибки [32, л. 1].
Некоторая параллель с реакцией интеллигентского разума на германскую войну 1914 г. не кажется чрезмерно искусственной. В истории многое повторяется. На совещании в ЦК ВКП(б) об отношении к немецкому философскому наследию обсуждался, по существу, тот же вопрос, что и на заседании религиозно-философского общества памяти В л. Соловьева 6 октября 1914 г., когда
В.Ф.Эрн выступил со своей знаменитой речью «От Канта к Круппу». И там, и здесь вопрос ставился прямолинейно: повинны ли Кант, Фихте и Гегель в германском милитаризме? Русские интеллектуалы тогда, в 1914 г., «все разом, дружно решили: да здравствуют Кант и Гегель, и да погибнут тевтонские звери» [34, с. 21]. Примерно так же думали до 1944 г. профессор Быховский и другие авторы третьего тома. На совещании в ЦК возобладала иная точка зрения, практически совпадающая с позицией Эрна: немецкая классическая философия отчетливо сопряжена с энергетизмом промышленного напряжения германской нации. Хотя и отмечалось, что Гегель виновен лишь одной своей стороной — реакционной, социологическая схема хорошо работала в, казалось бы, разных «менталитетах».
Развертывание событий вокруг вопроса о немецкой классической философии в немалой степени объясняется обстоятельствами, связанными с «русским» томом. До последнего времени они оставались практически неизвестными, во всяком случае историография не придавала им существенного значения. Но при ближайшем рассмотрении вырисовывается довольно странная ситуация: острый конфликт вокруг «русского» тома нашел своеобразное разрешение в инциденте с «немецким» томом, по
скольку не имел возможности явить себя в своей непосредственности. На этом следует остановиться подробнее. К 1943 г. первоначальный план издания изменился. В новой версии «Истории философии», получившей отражение в документации Управления пропаганды, приводится следующий план: том 1 — античная и средневековая философия; том II — Возрождение и философия Нового времени; том III — философия первой половины XIX века; том IV — философия К.Маркса и Ф.Энгельса; том V — буржуазная философия второй половины XIX и XX века; том VI — история русской философии; том VII — Ленин и Сталин [28, л. 6]. Обратим внимание на то, что речь идет уже не «о философии СССР», а
о русской философии. Так вот: в 1943 г. обстановка вынудила Быховского форсированно готовить к печати шестой том. К этому времени русская патриотическая тема приобрела первостепенное значение, и редколлегия «Истории философии» во главе с Александровым намеревалась получить Сталинскую премию за первый, второй, третий и шестой тома. Зная строгую административно-бюрократическую дисциплину того времени и практическую невозможность что-либо утаить от руководства, нельзя назвать ординарной предпринятую Александровым авантюру — в Комитет по присуждению Сталинских премий был представлен неизданный том (который никогда не увидел света). Александров, конечно же, чувствовал себя неуязвимым. И Юдин был вынужден стать исполнителем опасного замысла. К чему это привело, мы знаем из стенограммы совещания у Маленкова.
Официальная оценка «русского» тома отчасти отражена в уже упоминавшемся докладе директора Института философии Светлова на собрании партийного актива Академии наук СССР. Светлов указывает, что книга была представлена в совершенно сыром, недобросовестно подготовленном виде, она не была подвергнута при подготовке никакому коллективному обсуждению даже в стенах института, дирекцией и Ученым советом не рассматривалась и не утверждалась [33, с. 28]. Скорее всего, дело обстояло именно таким образом, хотя произошло стандартное для советских административных мероприятий выявление виновных и наказание невиновных. Не исключено, что авантюра с выдвижением шестого тома на Сталинскую премию сыграла в «философской катастрофе» 1944 г. не меньшую роль, чем ошибки в
оценке гегелевского диалектического метода и идеалистической системы.
Зная последующие события, можно предполагать, что авторам «русского» тома повезло — они отделались сравнительно небольшим испугом. В книге наверняка осталась куча ошибок и непродуманных высказываний, которые бы позднее, когда началась политическая кампания по усилению роли отечественного культурного и научного наследия, с рук не сошли. Каменский совершенно прав в том, что попытка осуществить такое издание была большой смелостью [23, с. 206]. Даже того, что упомянуто Светловым, с лихвой хватило бы для раздувания показательного «дела»: «Некоторые авторы даже не знали, что их старые работы включены в том» (имеется в виду текст Иовчука о Белинском); «восхвалялся и превозносился Владимир Соловьев» (несомненно, включение в «Историю философии» раздела о выдающемся русском религиозном мыслителе было по тем временам делом чрезвычайно рискованным); восхвалялись и «прямые изменники русской земли», например, князь Курбский, в то же время умалялась роль царя Ивана Грозного» [33, с. 29]. Самое же главное обвинение состояло в отсутствии в книге указания на самостоятельность и оригинальность русской философии, «вместо этого в ряде глав сквозит другая неправильная линия — что русская философия стала передовой только благодаря немецкой философии» [там же]. Последствия таких обвинений могли бы быть намного более тяжелыми — если бы дело ограничивалось вопросами интерпретации гегелевской и русской философии.
Попытаемся реконструировать последовательность событий, обратив внимание на инциденты, не имеющие прямого отношения к «Истории философии». В марте
1943 г. Митин направил в ЦК ВКП(б) докладную записку о выступлении Александрова на межобластном совещании лекторов. Он обвинял начальника Управления пропаганды в абстрактном теоретизировании и «профессорском» резонерстве по поводу войны [35, л. 38]. Из объяснений Александрова следует, что их враждебные отношения с Митиным имеют давний характер [там же, л. 41]. В двадцатых числах февраля 1944 г. в ЦК поступило упоминавшееся выше письмо Белецкого на имя Сталина. В марте Александров провел через секретариат ЦК ВКП(б) решение сократить объем журнала «Под
знаменем марксизма» с двенадцати печатных листов до восьми — «в целях экономии бумаги» [36, л. 24]. Это был удар по позициям Митина, тогда главного редактора журнала. За счет освободившихся фондов был возобновлен выпуск журнала «Плановое хозяйство», что, вероятно, означало готовность Управления пропаганды быть полезным Н.А. Вознесенскому, входившему в окружение Сталина. Так Александров продемонстрировал свои возможности враждебной группировке — редколлегии «ПЗМ». Одновременно на заседании секретариата рассматривался вопрос об уголовном расследовании в «наркомате издательств» — ОГИЗе, которым руководил Юдин. В феврале 1944 г. там застрелился начальник отдела материальных фондов, и в результате проверки обнаружились крупные хищения: сахара — 3 тонны, кожи «шевро» — 20 тыс.кв.дцм и большого количества спирта. Причастные к делу были арестованы [36, л. 37]. Хотя на начальной стадии расследования непосредственно Юдину ничего не инкриминировалось, его положение стало весьма уязвимым. Круг мало-пбмалу*сужался.
Таким образом, не будет чрезмерным преувеличением считать постановление об ошибках третьего тома «Истории философии» лишь искусственно созданным эпизодом, который должен был инсценировать правдоподобное объяснение существенных перемен в философском руководстве. Хотя это вовсе не означает, что проблема интерпретации гегелевской философии была придумана. Проблема обсуждалась совершенно серьезно, но не имела существенного значения для изменения обстановки на философском фронте. Замысел событий получил более адекватное отражение в секретном постановлении ЦК ВКП96) от 1 мая 1944 г. «О недостатках в научной работе в области философии» (№ 1143/110). Именно оно положило конец влиятельному митинско-юдинскому альянсу и, вероятно, завершило целый период в истории советской философии — с разгрома «меньшевиствующе- го идеализма» в 1931 г. до 1944 г. Руководство Института философии обвинялось, главным образом, в неудовлетворительной подготовке томов «Истории философии». Более серьезный характер имело служебное расследование деятельности Института Маркса, Энгельса, Ленина, которым руководил Митин. Подготовленный новым директором ИМЭЛа Кружковым и «александровцем» Иов- чуком при участии Поспелова подробный доклад «О ре-
зультатах приема т. Кружковым и сдачи т. Митиным дел ИМЭЛа» (21 июня 1944 г.) являет собой как раз тот документ, который объясняет происшедшее. В отличие от постановления о третьем томе «Истории философии», доклад был известен очень узкому кругу ответработников. В нем констатируются срыв планов работы ИМЭЛа за несколько предшествующих лет, катастрофическое положение с кадрами, стремление научных сотрудников удрать из ИМЭЛа в Академию наук, закрытие аспирантуры и ученого совета, свертывание исследовательской работы, грубейшее нарушение принципов опубликования ленинских документов и политические ошибки, в том числе пропуски и поправки в ленинских текстах, снятие личных обращений в письмах и записках, замена фамилий названиями учреждений и должностей, снятие некоторых подписей — причем все это делалось без ведома ЦК. Вряд ли подобные нововведения были инициативой Митина, но в докладе его отношение к выполнению решений ЦК ВКП(б) определялось как безответственное, указывалось на «нарушение элементарных правил научной добросовестности и в ряде случаев потерю политической бдительности» [37]. После того, как Митина отправили заведовать кафедрой в Высшую партийную школу, ИМЭЛ возглавил Кружков. Нельзя отрицать, что благодаря реорганизации института в 1944 г. в нем были созданы более благоприятные возможности для марксистских источниковедческих исследований.
С весны 1944 г. существенно изменилась и обстановка в Институте философии. Кроме Светлова, здесь стали работать член-корреспондент АН СССР С.Л.Рубинштейн (заместителем директора и заведующим сектором психологии), М.П.Баскин (заведующим сектором исторического материализма), С.И.Вавилов — президент Академии наук (заведующим сектором философии естествознания), но он, конечно, не имел возможности регулярно заниматься своими обязанностями в секторе, Г.С.Васец- кий (заведующим сектором истории философии), М.Э.Омельяновский (ученым секретарем института). Старшими научными сотрудниками .работали профессора Б.М.Теплов, А.П.Гагарин, В.К.Никольский, Б.М.Кедров, Ф.М.Путинцев и другие [38, л. 11-12]. Всего в институте к началу 1945 г. работали 36 старших научных сотрудников и руководителей, в том числе один академик, два члена-корреспондента Академии, восемь докто
ров, одиннадцать профессоров, двенадцать кандидатон наук, два доцента, один без степени плюс 35 аспирантов [38, л. 12,13].
Условия были нелегкими. Зимой 1944 г. температура в помещениях «Волхонки» опускалась до 7-8 градусов. Только в начале августа философам выделили 10 боль ших комнат. Из обломков мебели они изготовили 50 письменных столов, 100 стульев и стали работать [там же, л. 18, 36]. В числе структурных изменений, происшедших в институте после его переформирования в мае
1944 г., наиболее примечательно резкое усиление сектора исторического материализма — с двух до четырнадцати человек. Это была попытка скорректировать дисбаланс в тематическом репертуаре института и компенсировать - хотя бы численно склонность к истории философии. При этом хорошо сознавалось, что приоритет исторического материализма — чисто формальная реакция на идеологическую критику. Эти четырнадцать человек «не зарекомендовали себя серьезными научными трудами» [там же, л. 33]. История философии, казалось бы, отошла на второй план, сосредоточившись на подготовке новой версии раскритикованного учебника, но ни исторический, ни диалектический материализм не могли составить конкуренцию историко-философской работе. Учебник по диамату и истмату пробовали писать Митин, Гак, Мильнер, Баскин, Леонов, Омельяновский, Трахтенберг, но что-то препятствовало сдаче рукописи. За гегелевский раздел нового третьего тома «Истории философии» взялись было Митин и Белецкий. И они сами, и компетентная общественность не сомневались, что, обнародовав свою версию философии Гегеля, авторы обрекли бы себя на серьезные неприятности. Не сдав работы в 1944 г., Митин и Белецкий твердо пообещали завершить главу к 15 февраля 1945 г. [38, л. 4]. Следующее обещание относилось уже к 5 марта [там же, л. 23], но гегелевский раздел так и остался неприступным. Впрочем, на первый план стали выдвигаться новые темы. В плане изданий института доминировали наименования «Ленин и Сталин
о...». История философии, можно сказать, перешла к глухой обороне, не потерпев слишком серьезных потерь. Началась мучительная переработка многотомника, продолжавшаяся лет десять. Шло бесконечное обсуждение макетов отдельных глав книги, пока не менялось начальство — и работа начиналась сызнова. Приспособить ис
торию философии к изменениям в политической ситуации оказалось весьма затруднительным. Забегая вперед, надо сказать, что в 1955 г., когда интеллектуальная атмосфера в философской науке стала сравнительно либеральной, макет второго тома нового издания был раскритикован уже за цитатничество и рецидив культа личности Сталина (видимо, секретный доклад Хрущева на предстоящем XX съезде партии для многих не был неожиданностью). Отчасти критика была связана с персоной Александрова, опороченного своим «сталинским» прошлым [39]. Пять томов издания вышли в 1957 —
1961 гг., а шестой — о советской философии — так и не получился [40]. Версию истории советской философии, опубликованную во второй половине 80-х годов в двух частях пятого тома «Истории философии в СССР» [41, 42], вряд ли можно считать близкой к оригиналу. Сразу же после выхода в свет обнаружилось, что книги не соответствуют политике «гласности».
Что же произошло в советской философии в конце зимы 1944 года? О некоторых сторонах инцидента можно судить вполне уверенно. В частности, ясна безосновательность широко распространенной в историографии вопроса версии, согласно которой запрет третьего тома «Истории философии» был проявлением сталинских репрессий по отношению к свободомыслящим интеллектуалам. Причины партийного вмешательства в историю немецкой классической философии следует искать в развертывании нового витка позиционного конфликта внутри философского сообщества. После разгрома «философского руководства» во главе с академиком А.М.Дебориным в 1931 г. главными фигурами в диалектическом и историческом материализме (разумеется, после Сталина и других руководителей партии) были М.Б.Митин и П.Ф.Юдин. В их руках находились и журнал «Под знаменем марксизма», и Институт философии, и центральные издательства — все, кроме «Старой площади». В начале 40-х годов на философском небосклоне взошла новая звезда — профессор Г.Ф.Александров. Тогда и определилась ось позиционного конфликта: Александров- Митин. Нужен был лишь случай для того, чтобы произошло столкновение. Такой случай представился, когда Белецкий написал Сталину донос об ошибках третьего тома. Личный враг Александрова, он вряд ли мог предвидеть, что следствием его письма станет постановление
ЦК ВКП(6) и удар будет направлен рикошетом протин Митина и Юдина, которые были «завязаны» на зло счастном томе как члены редколлегии. Фактически же им инкриминировалось нечто вроде философского вредительства. Так или иначе, Александров сумел добиться решающего превосходства в противостоянии с Митиным и Юдиным. В этом же, 1944 г. тихо угас созданный Лениным и Троцким орган воинствующего материализма - теоретический журнал «Под знаменем марксизма». С тех пор погоду в философии стали делать Александров и его люди: Васецкий, Иовчук, Кружков, Федосеев. А жертвами инцидента, имевшего, в общем-то, весьма косвенное отношение к Гегелю, стали Б.С.Чернышев, умерший вскоре от инфаркта [43], Б.Э.Быховский, которого выгнали с работы, В.Ф.Асмус — словом, те, чьим ремеслом действительно была история философии.
ЛИТЕРАТУРА
1. ^еМ:ег С. 01а1ес{лса1 Ма^епаНзт: А Шз1х)пса1 апс! 5уз1:етаис Зигуеу оГ РЬПозорЬу т 1Ье 5оу1е1: Утоп Тгапз1. {тот Сегтап Ьу Р.Неа1:Ь. Ые\у Уогк; Ргеёепс А.Ргеа^ег, 1958. Р. 182.
2. Митин М. О философском образовании в СССР // Под знаменем марксизма. 1938. № 3. С. 15-16.
3. Вайгаускас 3. «Энциклопедия сталинской философии» (Заметки о работе Сталина «О диалектическом и историческом материализме») // Отечественная философия: опыт, проблемы, перспективы исследования. Вып. IV. Философия в тисках политики. М.: Акад. обществ, наук при ЦК КПСС,
1991. С. 74-114.
4. Краткий философский словарь / Под ред. М.Розенталя и П.Юдина. М.: ГосПолитиздат, 1939.
5. О диалектическом и историческом материализме (из IV главы «Истории Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)» // Под знаменем марксизма. 1938. № 9. С. 13-19.
6. По-большевистски овладеть марксизмом-ленинизмом // Под знаменем марксизма. 1938. № 11. С. 39.
7. Программа курса диалектического и исторического материализма: Для высших учебных заведений / Министерство высшего образования СССР; Отдел преподавания общественных наук. М.: Всесоюзный юридический заочный институт, 1948. С. 9.
8. Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ). Ф. 17. Оп. 132. Д. 64.
9. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 209. Л. 45.
10 РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 133. Д. 8. Л. 29.
II Кузьмин Л., Яковлев М. Улучшить преподавание основ марксизма-ленинизма в высших учебных заведениях // Культура и жизнь. 1947. 30 марта.
Г.* РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 492. Л. 77 (вторая часть дела).
1.1. Архив Российской Академии наук (АРАН). Ф. 1922. Оп. 1. Д. 177. Л. 34.
I I Дискуссия по книге Г.Ф.Александрова «История западноевропейской философии», 16-25 июня 1947 г.: Стенографический отчет // Вопросы философии. 1947. № 1. С. 273.
I > О защите диссертаций в Институте философии Академии наук СССР // Под знаменем марксизма. 1940. № 6. С. 176- 177.
И» Хасхачих Ф.О. О кандидатских диссертациях по философии // Под знаменем марксизма. 1939. № 4. С. 180.
I / Зиновьев А. Желтый дом: Романтическая повесть в четырех частях с предостережением и назиданием. Т. 1. Ьаизаппе. Ь’А^е О’Нотте, 1980. С. 248.
1Н АРАН. Ф. 1922. Оп. 1. Д. 234. Л. 145.
М> РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 257.
.4) Из рассказов А.Ф.Лосева / Публикация В.В.Бибихина // Вопросы философии. 1992. № Ю. С. 146.
.4. Левин И.Д. «Шестой план» // Историко-философский еже годник’91 / Отв. ред. Н.В.Могрошилова. М.: Наука, 1991.
У1. Александров Г.Ф. «История философии» // Вестник Академии наук СССР. 1941. № 4.
АЧ. Каменский З.А. Из истории изучения русской философской мысли в 40-х годах XX века: воспоминания, материалы личного архива // Отечественная философия: опыт, проблемы, ориентиры исследования. Вып. X. XX век: неизвестное, забытое: публикации, сообщения / Сост. А.И.Володин. М.: Российская Академия управления; Гуманитарный центр,
1992.
М. Кафтанов С. Всенародный смотр достижений советской науки и техники // Большевик, 1943. № 3. С. 1, 13.
Ах Каменский З.А. История философии. Том III. Под редакцией Г.Ф. Александрова, Б.Э.Быховского, М. Б. Митина. П.Ф.Юдина. Огиз. ГосПолитиздат, 1943: [Рецензия] // Под знаменем марксизма. 1943. № 3.
2(у. Каменский З.А. Философская дискуссия 1947 года: преимущественно по личным воспоминаниям // Отечественная философия: опыт, проблемы, ориентиры исследования. Вып. VI. Изживая «ждановщину». М.: Академия обществ, наук при ЦК КПСС, 1991. С. 10.
27. О недостатках и ошибках в освещении истории немецкой философии конца XVIII и начала XIX вв. // Большевик. 1944. № 7-8.
2Н. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 254.
29. Медведев Р. Они окружали Сталина: Несостоявшийся «на следник* Сталина // Юность. 1989. № 9. С. 73.
30. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 289.
31. АРАН. Ф. 1636. Оп. 1. Д. 184. Л. 2-3.
32. АРАН. Ф. 1922. Оп. 1. Д. 146.
33. Светлов В.И. О недостатках в разработке вопросов истории западноевропейской и русской философии // Вестник Академии наук СССР. 1944. № 7-8.
34. Эрн В.Ф. От Канта к Круппу // Эрн В.Ф. Меч и Крест: ста тьи о современных событиях. М.: Типография Т-ва И.Д.Сытина, 1915. С. 21.
35. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 131.
36. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 117. Д. 401.
37. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 117. Д. 407. Л. 66-81.
38. АРАН. Ф. 457. Оп. 1а - 44 г. Д. 17.
39. АРАН. Ф. 499. Оп. 1. Д. 380. Л. 13.
40. История философии в шести томах / Под ред. М.А.Дынни- ка и др. М.: Изд. Академии наук СССР, 1957—1961.
41. История философии в СССР в пяти томах / Под ред.
В.Е.Евграфова и др. Т. 5. Кн. первая. М.: Наука, 1985.
42. История философии в СССР в пяти томах / Под ред.
В.Е.Евграфова и др. Т. 5. Кн. вторая. М.: Наука, 1988.
43. Каменский З.А., Жучков В.А. Б.С.Чернышев и его лекции
о философии Канта // Вопросы теоретического наследия Иммануила Канта: межвузовский сборник. Вып. 5. Калининград: Калининградский гос.университет, 1980. С. 119- 121.
«Вестник Российской Академии наук*, 1993.
Г.С.Батыгин, И.Ф.Девятко
Дело академика Г.Ф.Александрова: эпизоды 40-х годов
Основной вопрос советской философии — вопрос о иласти. Конечно, это историографическое «открытие» не дает ни малейших оснований для пренебрежительного отношения к удивительному интеллектуально-идеологическому монстру, прожившему совсем немного — лет шестьдесят. И будет очень жаль, если за фигурами умолчания либо показной ненависти, бытующими в современном историко-философском чистописании, уже никто не сумеет распознать предельное духовное напряжение, которое претерпевала Идея в своем советском инобытии. Образцовые формулировки очерка «О диалектическом и историческом материализме» филигранны и напряжены — попробуй-ка сфальшивить или хотя бы расслабиться, философствуя, когда отвечать за мысль приходится судьбой. Сочинителю, привыкшему радостно гоняться за своими свободными мыслями, трудно понять, как тогдашние профессора философии умудрялись подчинять сознание бытию. Это великое послушание нужно было философии вовсе не для тривиального унисона, а для того, чтобы достичь изощренного энгармонического звучания — его слышит тот, кто слышит. Ни одна из философских доктрин не испытывала подобного напряжения от встречи с профанным «низом».
К началу 40-х годов советская философия приобрела завершенную систематизированную форму. Уже стала забываться неприятная история с «философским руководством» А.М.Деборина, попытавшегося в конце 20-х годов диктовать красной профессуре прописи марксистской диалектики. Власть над философией, основанная исключительно на виртуозном умении цитировать «Науку логики», оказалась весьма эфемерной. Единственный оставшийся в живых «меньшевиствующий идеалист», Деборин, вероятно, так и не смог понять, почему плохо разбиравшиеся в Гегеле «молодые товарищи» из партбюро Института красной профессуры М.Б.Митин и
П.Ф.Юдин решили основной вопрос философии в свои» пользу всерьез и надолго: почти десять лет в этой облас ти науки можно было наблюдать лишь тихие персонал 1» ные перемещения: кто-то исчезал, а кто-то жил премуд рым пескарем либо на авось. В 1938—1939 годах в фи лософии стали происходить шевеления: под эгидой Уп равления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) стала со здаваться система всеобщего обучения интеллигенции диалектическому и историческому материализму, возро дился философский факультет Московского института истории, философии и литературы (МИИФЛИ); Инсти тут философии АН СССР принялся за многотомную «Историю философии», и среди звезд первой величины зажглась «сверхновая» — доцент Г.Ф.Александров. До 1938 года он преподавал в МИИФЛИ историю филосо фии, а затем перешел в аппарат Коминтерна, а оттуда н Управление пропаганды. Основной вопрос философии стал опять актуализироваться и был решен весной 1944 года в форме постановления ЦК ВКП(б) о третьем томе «Истории философии» (Архив Российской Академии наук. Ф. 1922. Оп. 1. Д. 55. Л. 18, 19. Далее АРАН), который был запрещен, как содержащий грубые ошибки в оценке немецкой классической философии. За этим «явным» постановлением стояло еще одно, секретное постановление о состоянии философской науки. Западные исследователи и сегодня немало удивлены эпизодом с третьим томом, свидетельствующим, по их мнению, об огромном значении, которое партия придавала философской мысли Гегеля. Тогда же был обсужден и шестой том, посвященный русской философии. Реже вспоминают, что Б.Э.Быховского выгнали из Института философии, умер от инфаркта Б.С.Чернышев, а В.Ф.Асмус был обвинен в крупных ошибках. Историки философии попали под огонь, направленный на Митина и Юдина. После их снятия с руководящих должностей «главным философом» страны стал академик Александров, сделавший стремительную карьеру в период, когда в высший эшелон партийно-идеологической элиты пришли люди А.А.Жданова. Интеллектуал, написавший немало научных трудов по истории философии, Александров поче- му-то не догадывался, что путь вверх и путь вниз — один и тот же. Он расставил на ключевые посты своих людей (М.Т.Иовчук — заместитель начальника Управления пропаганды, В.И.Светлов — директор Института
философии, В.С.Кружков — директор Института Маркса, Энгельса, Ленина, П.Н.Федосеев — главный редактор «Большевика») и, вероятно, считал, что основной иопрос философии в принципе решен, задача заключается лишь в его дальнейшей доработке. До 1947 года все было относительно спокойно, но рано или поздно, как творится, на каждого Вольфа находится свой Юм. Уже тогда в тихой московской квартире на Сретенке один из профессоров писал первый вариант ужасного доноса на лкадемика. Таков абрис событий, предшествовавших знаменитой философской дискуссии 1947 года.
Путь вверх
После войны, когда стало очевидным «отставание теоретической работы по общественным наукам», наметились существенные изменения в расстановке сил и тематике исследований. Новая элита, занявшая высокие номенклатурные кресла в результате очередной ротации, должна была обозначить свое существование ак- швными мероприятиями. Немножко пахло жареным.
< )дно цз многообещающих изменений в тематическом репертуаре философских исследований было связано с ростом интереса к русской общественной мысли и усилением «патриотической» тенденции в марксистско-ленинской теории. Эта тенденция возникла по меньшей мере в 1938 году — именно тогда в план Института философии был включен злосчастный «русский» том «Истории философии», который был осужден в 1944 году, так и не увидев света. Осенью 1946 года в советской философии прозошло знаменательное событие: в только что открытой Академии общественных наук при ЦК ВКП(б) состоялась защита докторской диссертации М.Т.Иовчука, которая называлась «Из истории русской материалистической философии XVIII —XIX веков» (В академии общественных наук при ЦК ВКП(б). Защита докторской диссертации по истории русской философии // Культура и жизнь. 1946. 20 ноября). Обстоятельства ной защиты не вполне ясны. На заседание ученого сонета могли попасть только те, кто имел пропуск в здание Академии или специальное приглашение. Сама диссертация была недоступной, и попытки исследователей ус тановить место ее нахождения оказались безрезультатными. Это, конечно, не означает, что диссертации не
было вообще. Скорее всего, автор принял меры, чтобы оградить свою работу от пристрастных читаталей уже и конце 40-х годов, когда в ЦК приходили сообщения о служебных злоупотреблениях заместителя начальника Управления пропаганды и затем секретаря ЦК Компар тии Белоруссии по пропаганде. В середине 50-х годом диссертацию безуспешно пытались почитать молодые фи лософы Э.В.Ильенков, Ю.Ф.Карякин, Е.Г.Плимак и Л.А.Филиппов, которые вели активную борьбу протии 3.Я.Белецкого, И.Я.Щипанова и М.Т.Иовчука на фило софском факультете МГУ (Плимак Е.Г. «Ждановщина* и вопросы изучения русской общественной мысли и фи лософии // Отечественная философия: опыт, проблемы, ориентиры исследования. Вып. VI; Изживая «Жданов щину». М.: Академия общественных наук при ЦК КПСС, 1991. С. 41). Не касаясь вопроса о научном уровне диссертационного исследования М.Т.Иовчука, можно уверенно утверждать, что он сумел предугадать последующие эволюции внутриполитического курса, декларировав идею «самобытности» материалистической традиции в русской философии.
В 1947 году предполагалось созвать Всесоюзное философское совещание (АРАН. Ф. 1922. Оп. 1. Д. 230. Л. 36-37), где, по всей вероятности, наряду с вопроса ми истории западноевропейской и русской философии готовилось обсуждение перспектив логики, психологии и социологии, новых идей в философии естествознания. Сектор философии естествознания, созданный по инициативе Б.М.Кедрова, ставил целью осуществить новую концепцию философской работы, включив в нее известных физиков, химиков, биологов. Правда, оставались большие сомнения в том, какова роль философов в междисциплинарном синклите (АРАН. Ф. 1922. Оп. 1. Д. 177. Л. 58). Впоследствии, когда начался новый виток борьбы с «физическим идеализмом», сотрудничество философов с естествоиспытателями стало весьма проблематичным. Немного преувеличивая, можно сказать, что философское отделение всегда воспринималось в Академии наук как политотдел и вызывало опасения у специалистов. Но тогда, после войны, философы жили предощущением кардинальных изменений. Значительным достижением советской общественной науки обещала стать новая Программа ВКП(б), проект которой был подготовлен П.Н.Федосеевым, М.Б.Митиным, Д.Т.Шепиловым
(Российский Центр хранения и изучения документов но- нейшей истории. Ф. 17. Оп. 125. Д. 476. Л. 159. Далее: РЦХИДНИ). Однако ситуация оказалась более сложной и непрогнозируемой, чем можно было ожидать. Для перестройки философии был избран испытанный способ проведения дискуссии и под критику попал как раз тот, кто по должности сам был обязан давать руководящие критические указания, — Г.Ф.Александров.
После присуждения Г.Ф.Александрову Сталинской премии за учебник «История западноевропейской философии», вышедший в 1946 году вторым, дополненным изданием, и избрания его действительным членом Академии наук, казалось бы, ничто не предвещало грозы. Во всяком случае, в ноябре 1946 года обстановка на философском фронте, в том числе в кабинете Александрова, была вполне спокойной. В записных книжках редактора «Правды» П.Н.Поспелова имеется запись от 26 ноября
1946 года, сделанная, вероятно, во время телефонного разговора с высокопоставленным собеседником и с его слов: «Работа Г.Ф.Александрова по марксистской философии стоит на весьма высоком научно-исследователь- ском уровне (Ф. 629. Оп. 1. Д. 94. Л. 262). Скорее всего, речь шла о присуждении Александрову Сталинской премии. Личные успехи начальника, вероятно, создавали настроение благодушия у философов. Постановления о репертуаре драматических театров, о кинофильме «Большая жизнь», о ленинградских литературных журналах воспринимались философами несколько от- страненно. Институт философии находился под личным надзором Александрова и чувствовал себя в относительной безопасности даже в январе 1947 года, когда ЦК ВКП(б) поручил подвергнуть критике учебник по истории западноевропейской философии.
Мы имеем возможность установить если не причину, то «первотолчок», приведший в действие механизм дискуссии о книге Александрова. 18 ноября 1946 года профессор 3.Я.Белецкий (тот самый, который в 1944 году «заложил» третий том «Истории философии») опять обратился с письмом к И.В.Сталину, где не только критиковалось содержание учебника, но и предъявлялись серьезные обвинения самому Александрову. Белецкий писал, что сейчас, после войны, существует точка зрения, что решение ЦК по третьему тому «Истории философии» было конъюнктурным и «теперь следует все по
ставить на прежнее место» (РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 454. Л. 80). Возрождение историко-философского объективизма автор письма связывал с книгой Александ рова, преимущество которой по сравнению с другими и с ториями философии (имелись в виду труды Геффдинга и Виндельбанда) только в том, что «в ней приводятся цитаты из классиков марксизма-ленинизма» (Там же. Л. 81). Позиция Белецкого была жесткой и последова тельной. Он отвергал философию как науку о «чистом познании, чистой истине, благе, добре и т.д. — ...фило софия при таком представлении изображается как самостоятельный процесс, где формируются общие законы мира и познания», а история философии «начинает излагаться... как чистая филиация идей... Такое изложение истории философии доставляет автору наслаждение. Он погружается в сферу чистой мысли и конструирует там мир» (Там же. Л. 82). «Марксистский подход, — пишет Белецкий, — требует умения понять (философскую фразу. — Авт.) как идеологию определенного общества, класса, государства... Только при таком изложении история философии приобретает смысл и перестает быть сборником философских терминов, она предстает как наука партийная» (ЦРХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 454. Л. 83).
Белецкий обвинил Александрова в том, что тот переиздал «с какими-то» улучшениями свою книгу 1939 года, не учитывая решения ЦК о третьем томе. Но главное обвинение сводится к академичности в трактовке истории философии, тогда как «идейно-политическая сторона этой философии автора не интересует» (Там же. Л. 84). Идейно-политическое воззрение на историю философии отчетливо представлено в письме Белецкого Сталину. Требовалась немалая решительность и, возможно, большевистская принципиальность, чтобы выступить против руководящих работников «философского фронта», которые одновременно возглавляли Управление пропаганды ЦК и пользовались покровительством вождей. «У них в руках и печать, и академии, и пр. и пр.», — писал Белецкий (Там же. Л. 89). В итоге «совершенно непригодные диссертации оказались утвержденными только потому, что речь шла о работниках Управления пропаганды» (автор письма назвал диссертацию Иовчука); когда началась кампания выборов в Академию наук, «руководство Управления пропаганды пожелало в полном составе
войти в состав академиков» (Там же. Л. 90). Письмо завершалось уверением, что устранить недостатки в работе без личной помощи Сталина невозможно.
Если отвлечься от раздумий об аморальности доносительства, то правоту Белецкого не признать нельзя. «Красный террорист» советской философии, он часто изображается злобным и невежественным обскурантом. О Белецком ходят анекдоты, за достоверность которых трудно поручиться. Рассказывают: когда профессора спросили, что есть истина, он, распахнув окно аудитории и указав на Кремль, воскликнул: «Вот она — истина!». По существу, Белецкий виноват лишь в том, что вел линию марксистского теоретического дискурса дальше, чем остальные интеллектуалы, не лукавил и не останавливался перед необходимостью вступить в борьбу с сильными мира сего. Через некоторое время Белецкого подвергли жестокой травле на философском факультете МГУ. «Старые» философы не могли простить ему писем Сталину, а «молодые» — невиданной ортодоксии, хотя некоторые его ученики были увлечены бескомпромиссной принципиальностью профессора. До самой смерти Белецкого его имя было сопряжено с идеей борьбы за чистоту марксизма против коллег по философскому цеху.
Темой январского обсуждения 1947 г. стали замечания Сталина «о существенных, крупных недостатках и ошибках в освещении истории философии». Эти замечания не были нигде опубликованы, точно не формулировались, а «доводились» до аудитории посвященными в них лицами, которые ссылались на «одну из бесед Сталина».
О содержании сталинских замечаний мы можем судить по «доксографам». Первый из них — свидетельство М.Джиласа, в то время одного из югославских коммунистических вождей, который был вхож в высшие круги советского руководства и даже присутствовал на одной из неформальных встреч на даче у Сталина, когда разговор коснулся книги Александрова. Обстановка была доверительной (в рамках допустимого), все были свои: кроме Джиласа — Маленков, Берия, Жданов и Вознесенский. Предписывалось угадать температуру воздуха за окном и затем выпить столько рюмок водки, сколько градусов составляло отклонение «субъективного» значения переменной от истинного. Джилас ошибся всего на
один градус и свидетельствует, что в непринужденном разговоре собравшиеся (в том числе Сталин) оценивали книгу Александрова как догматическую, поверхностную и банальную (Ц)Па8 М. СопуегзаНопз \уИ:Ь 5Ыт.
Уогк: Вгасе апс! Шог1с1 1пс., 1962. Р. 158). Свидетельство Джил аса отражает, скорее всего, реальное мнение Сталина и его окружения об «Истории западноевропейской философии». Джилас и сам был неплохо знаком с книгой, которую под его руководством вскоре перевели на словенский язык и исправили десятки недочетов в тексте. По крайней мере, можно считать установленным, что книгу читали на самом верху и мнение о ней сложилось умеренно отрицательное. Иное дело — «указания» Сталина. Они принадлежат области идеологического мифотворчества и вполне могут не отражать реального мнения вождя о книге. «Указания» раскрываются во втором источнике — стенограмме обсуждения книги, в тех ее фрагментах, где содержатся ссылки на Сталина. Некоторые выступления включают нечто похожее на аннотацию «указаний» (АРАН. Ф. 1922. Оп. 1. Д. 233. Л. 87), но относиться к ним следует весьма осторожно. Есть и третий источник, в котором особо акцентируются «замечания товарища Сталина». В.С.Кружков и Г.С.Васецкий готовили проект записки на имя Сталина и сообщение об итогах обсуждения книги в журнале «Большевик». Имеется несколько вариантов текста, один из которых построен на разъяснении сталинских «замечаний»: «Основные недостатки книги... идут по линии объективистского изложения философских систем прошлого. Книга не написана тем боевым языком, как это требуется для марксистской книги по истории философии... В книге недостаточно точно и удовлетворительно вскрывается историческая, классовая основа и причины возникновения различных философских систем...» (РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 478. Л. 54-55). Далее следует ссылка на указание товарища Сталина о причинах возникновения древнегреческой философии — они заключались не в раздробленности общественно-политического устройства Греции, а в становлении рабовладельческого общества (Там же. Л. 56). Следующее замечание повторяет известный с 1944 года тезис о философии Гегеля как аристократической реакции на французскую революцию (Там же. Л. 57). «В книге не выявлено принципиальное различие между философскими учениями мыслителей-оди-
ночек и марксистско-ленинской философией, как мировоззрением и знаменем пролетарских масс» (Там же. Л. 58) — это замечание приводится в разных источниках. И, наконец, формулируется отношение к фразе Ленина в работе «К вопросу о диалектике» по поводу «кругов в философии». Сталин полагает, что «нет оснований... фрагментарное замечание Ленина превращать в особое учение» (Там же. Л. 61). «Круги в философии» в дальнейшем ставились в вину и Кедрову.
Задача дискуссии формулировалась в терминах предъявления к учебнику повышенных требований (АРАН. Ф. 1922. Оп. 1. Д. 233. Л. 2), следовательно, изначально существовала установка на мягкий исход дела. Обсуждение проходило три дня в большом зале Института философии на Волхонке без особой идеологической ажитации. Зал был набит до предела, только сотрудников ЦК ВКП(б) было 68 человек (АРАН. Ф. 1922. Оп. 1. Д. 233. Л. 140). В президиуме в генеральском мундире сидел А.Н.Поскребышев. В общем, обсуждение не предвещало никаких серьезных последствий ни для автора книги, пока находившегося на вершине философской пирамиды, ни для сообщества советских философов. Аудитория хорошо сознавала рамки допустимого в критических демаршах, хотя не обошлось и без эксцессов.
Критика книги в духе «указаний товарища Сталина» не вполне соответствует тем оценкам, о которых сообщал Джи л ас. В этом нет ничего удивительного» публичные обсуждения всегда подчинены жестким схемам идеологической эристики, безразличным к тому, что критикуется. О догматизме и банальности «Истории западноевропейской философии» не было сказано ни слова. Дискуссия развертывалась в плане противопоставления ленинского принципа партийности объективизму, бесстрастной академической оценке философского наследия. Возвращаясь к причинам (в той мере, в какой мы можем говорить о причинах в истолковании событий) недовольства Александровым и его книгой со стороны высших политических инстанций, следует отдавать отчет в том, что они не сводились ни к догматизму и поверхностности, ни к буржуазному объективизму и академичности. Все это метафоры, требующие расшифровки и угадывания их действительного содержания. Дело в том, что «стиль, язык книги не проникнут боевым марксистским духом» (Там
же. Л. 22. АРАН. Ф. 1922. Оп. 1. Д. 234. Л. 24). Эта инвектива попадает прямо в цель: не ошибки важны, а «дух». «Дух» же прекрасно улавливался всеми, кто имел философско-политическое чутье. Опытный О.В.Трахтенберг назвал александровскую работу «книжной» книгой (АРАН. Ф. 1922. Оп. 1. Д. 235. Л. 10) — превосходный диагноз. И все-таки представленную в ней версию истории западноевропейской философии трудно назвать академической. Вина Александрова, скорее всего, состояла в том, что он обнаружил себя не столько политиком-пар- тийцем, сколько доцентом марксистской философии. Самым лучшим для него, вероятно, было бы не привлекать к себе особого внимания сильных мира сего, но начальник Управления пропаганды переоценил свою роль в иерархии, и ему решили показать его настоящее место.
Некоторые факты свидетельствуют, что предварительная разработка «александровского дела» велась в конце декабря 1946 года. Не исключено, что готовился ответ Сталина на «письмо простого советского человека» с разъяснением историко-философских вопросов, но эта версия не была принята и от нее остались легендарные «замечания». Иногда они фигурировали как «указания ЦК ВКП(б)». Ход событий можно со значительной степенью достоверности реконструировать следующим образом. В Институте философии постоянно обретался некий инженер П.В.Михалевич — «представитель десятков тысяч читателей философских книг» (Там же) — и терроризировал своими философскими идеями и критическими замечаниями начальство и сотрудников. Такие субъекты в коридорах Института философии никогда не переводились. В один прекрасный день — 15 декабря
1946 года указанный инженер Михалевич обратился с письмом к товарищу Сталину, где сообщил о серьезных недостатках учебника по истории философии. Почти каждый абзац этого сумбурного полуграмотного письма начинался со слов: «Надо было показать...» (РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 478. Л. 2 — 5). Отзыв о книге заканчивался недвусмысленным акцентом на национальный характер русской философии, историческую прогрессивную роль русской общественной мысли, затем следовало многозначительное указание «на отсутствие талмудизма, присущего людям, могущим со свежей головой, со стороны разобраться в существе вопроса» (РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Л. 478. Л. 4об). В отличие от руководи
телей института, Центральный Комитет отнесся к сигналу Михалевича по-партийному. Письмо читали «большие товарищи» (АРАН Ф. 1922. Оп. 1. Д. 236. Л. 43), с автором беседовали на Старой площади и в конце концов ему дали возможность выступить на дискуссии от имени народа. Михалевич не только разнес Александрова, но и предложил разделаться аналогичным образом с С.Л.Рубинштейном (вероятно, «талмудист» Рубинштейн провинился в том, что будучи заместителем директора института, без должного энтузиазма воспринял философские мысли представителя народа).
Критические замечания к учебнику, прозвучавшие в ходе дискуссии, в основном соответсвовали «указаниям» Сталина. В.С.Кружков, ссылаясь на «указания», говорил о партийности философии, о том, что домарксистская философия — это философия мыслителей-одино- чек, об объективизме языка книги, боевом духе марксизма. Остальные замечания привязаны к тексту учебника и не вносят в дело каких-либо принципиально новых моментов. По словам Г.Ф.Александрова, Сталин обратил его внимание на отличие марксистской философии от прежних философских систем, как систем мыслителей- одиночёк, которые не могли стать знаменем миллионов (Там же. Л. 15). Свидетельство М.Т.Иовчука звучит так: «Товарищ Сталин подверг критике книгу тов. Александрова по истории западноевропейской философии за книжный, абстрактный, небоевой подход к решению историко-философских проблем». Б.М.Кедров в конце 80-х годов назвал некоторые замечания Сталина абсолютно правильными, а «объявление гегелевской философии аристократической реакцией на французский материализм и французскую буржуазную революцию конца XVIII века» глубоко ошибочным (Кедров Б.М. Как создавался наш журнал // Вопросы философии. 1988. № 4. С. 93). Это свидетельство, по всей вероятности, относится к более раннему эпизоду — критике третьего тома «Истории философии» в 1944 году. В целом, имеющиеся факты не создают уверенности, что сталинские замечания — не миф.
На дискуссии Г.Ф.Александров избрал тактику признания и выявления причин собственных ошибок, но так и не смог преодолеть в себе доцента. В его речи не было недостатка в идеологических заклинаниях, интонация же оставалась «объективистской» и «академической». Ака
демизм здесь был представлен ровно настолько, насколько это было возможно для советского философского начальника, но те компоненты, которые предназначались для выражения «боевого духа марксизма», отчетливо отделялись от философского материала — он упорствовал и не хотел смешиваться с этим «духом». Если здесь уместно слово «менталитет», то в менталитете Александрова умник никак не мог перестроиться в идеолога, хотя изо всех сил стремился это сделать. После беседы со Сталиным у Александрова возникла надежда на благополучный исход дискуссии — во всяком случае беседа имела отеческий характер. «Когда в беседе с товарищем Сталиным я сказал, что поработаю над книгой год, может быть больше, товарищ Сталин мне сказал — не торопитесь, может быть и не один, может быть два года надо будет поработать, — свидетельствует Александров. — Когда я спросил товарища Сталина — надо ли работать над этой книгой, выйдет ли у меня, справлюсь ли я, он мне сказал: не торопитесь, выйдет» (АРАН. Ф. 1922. Оп. 1. Д. 235). Впоследствии вопрос о доработке отпал.
5 августа 1947 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о выпуске коллективной книги «История философии». Ее надо было написать за полтора года (РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 617. Л. 73).
На дискуссии мнения о книге разделились. М.Б.Митин и П.Ф.Юдин (их способность чувствовать требования «партийности» всегда была непревзойденной) заняли по отношению к недочетам автора непримиримую позицию, но в идеологических обвинениях за рамки допустимого не вышли. Митин оценил книгу как «провал» в философской работе, хотя все знали о его письме в комиссию по Сталинским премиям, где он превозносил работу Александрова до небес (РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 478. Л. 24-25). Копия письма Митина была направлена в ЦК ВКП(б) вместе с резюме его выступления — так Институт философии попытался сообщить партии о беспринципности академика. 3.Я.Белецкий, повторяя основные положения своего письма Сталину (о письме никто не знал, или делали вид, что не знали), обвинял Александрова в идеализме и аналогичных прегрешениях. В проекте записки для Сталина, обобщающей итоги дискуссии, его выступление названо демагогическим. Более того, Белецкого пытались поймать на буржуазном объективизме, придравшись к его
отказу критиковать Фалеса. «За что мы будем критиковать Фалеса? — спрашивал Белецкий. — За что мы будем критиковать Дидро? За то, что не был диалектиком. Да ведь он и не мог быть диалектиком. Он был представителем своего времени, опирался на знания своего времени, отражал интересы своего времени» (РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 478. Л. 114).
Ведущей фигурой среди защитников Александрова был П.Н.Поспелов. Он посвятил свое выступление разбору отдельных положений книги, стремясь показать, что не все в ней так плохо. Вот тут-то опытный Юдин, делавший карандашные заметки по ходу дискуссии, записал поразительную по точности проникновения в замысел спектакля фразу: «Такие защитники только ухудшают дело. Они —.лишены верного чутья, а руководствуются другими соображениями» (АРАН. Ф. 1636. Оп. 1. Д. 48. Л. 85). Среди защитников Александрова были также Б.М.Кедров, И.Н.Новинский, М.П.Баскин, П.Е.Вышинский, М.А.Дынник и другие. Некоторые из них, не имея возможности выступить, изложили свое мнение в письменном виде. Разумеется, никто, даже авторы рецензий, опубликованных в центральных журналах в 1946 году (Баскин М.П. Выдающийся труд по истории западноевропейской философии // Вестник Академии наук СССР. № 946, № 10. С. 121-123; Баскин М.П. Рец. на кн.: Г.Ф.Александров История западноевропейской философии // Советская книга. 1946. № 5. С. 65-69; Вышинский П.Е. Научный труд по истории философии // Большевик. 1946. № 14-15. С. 65-79), не настаивал, что обсуждается «выдающийся труд по истории западноевропейской философии». В целом, январское обсуждение учебника вышло за рамки историко-философских проблем и обнаружило серьезные коллизии в философском сообществе. К этому времени «группы интересов» вполне определились, и среди московских обществоведов (прежде всего в Институте философии и на философском факультете Московского университета) шла тихая, но безжалостная война. Далеко не все полемические демарши могут быть выведены из логики групповой борьбы. В марксистской философии всегда было изрядно представлено и романтическое подвижничество. Оно вынуждало своих адептов воспринимать административно-политический диктат как внешний и поддающийся исправлению.
Вероятно, некоторые философы знали, что критика Александрова — жанр опасный. В 1939 году Е.П.Сит- ковский, «красный профессор» и видный политработник Красной Армии, написал рецензию на книгу Г.Ф.Александрова (Александров Г.Ф. Очерк истории новой философии на Западе. М.: Издание «Советской науки», 1939) — курс лекций, прочитанный в Московском университете марксизма-ленинизма и МИИФЛИ. В этой рецензии вскрывались недостатки книги. Ситковский показал рукописный текст своему учителю профессору И.К.Лупполу (вскоре расстрелянному). Луппол, как свидетельствует Ситковский, сообщил ему простую вещь: «Сегодня в газете напечатано, что на ваше место в ЦК партии назначен Александров, и будет неправильно политически, если Вы напечатаете эту рецензию. Не давайте ее, не лезьте в драку». Совет учителя оказался своевременным. Желание публиковать рецензию отпало. Однако Ситковский допустил серьезную ошибку, впрочем, весьма типичную для большевистских романтиков того времени. Он посоветовался с Ф.В.Константиновым, работавшим тогда в редакции «Правды». Константинов сказал: «Так большевики не поступают, это аморально. Дай эту рецензию мне, я никому ее не покажу, ни к кому она от меня не уйдет. Мне она нужна для ориентации» (Ситковский Е.П. «Работать собственной головой...» // Отечественная философия: опыт, проблемы, ориентиры исследования. Вып. VI. Изживая «жданов- щину». М.: Академия общественных наук при ЦК КПСС, 1991. С. 5). Ситковский дал Константинову рецензию для ориентации, и события стали развертываться в нежелательном направлении. «Федя (Ф.В.Константинов. — Авт.) отправил мою рецензию Александрову... — свидетельствует Ситковский. — Тут я первый раз подумал о том, что, конечно, придется мне сидеть за эту рецензию. Началась борьба, которая приняла тогда очень неприятные формы» (Там же. С. 5-6). Никакими другими сведениями об этой борьбе мы не располагаем, но скорее всего, вопрос о рецензии уже потерял остроту, когда Ситковского неожиданно откомандировали на фронт, а там арестовали и отправили «к Абакумову» («К Абакумову» — означало арест органами госбезопасности. — Прим. ред.). Следует заметить, что вряд ли неопубликованная рецензия имела прямое отношение к аресту Ситковского. Вероятно, он как работник Главпо-
литуправлекия РККА попал в довольно многочисленную группу генералов и офицеров, арестованных в 1943 году. Но в любом случае сам факт его борьбы с Александровым и последующего ареста был известен многим из тех, кто участвовал в критике александровского учебника в
1947 году (Ситковский тогда был в лагере).
Спокойное течение январской дискуссии было нарушено З.А.Каменским, который не очень много рассуждал об ошибках Александрова, но зато резко и отчетливо поставил вопрос о свободе философского исследования. Каменский заявил о засилье бюрократизма и протекционизма в руководстве наукой и поставил под сомнение профессиональные способности начальства (АРАН. Ф. 1922. Оп. 1. Д. 234. Л. 150). Впоследствии, когда пришло время сведения счетов, ему отомстили за этот выпад. В дискуссии принял заочное участие член ЦК, начальник Совинформбюро С.А.Лозовский. Он прислал текст своего выступления, где нанес удар заместителю Александрова М.Т.Иовчуку. «Когда я прочитал о том, что Иовчук сразу получил докторскую степень, причем до опубликования книги стал членом-корреспондентом Академии наук, меня очень заинтересовали габариты этого вундеркинда, который сразу же перескочил несколько стадий, обязательных для каждого научного сотрудника, — писал Лозовский. — Но оказывается дело просто. Заместители хвалят начальника, начальник хвалит и продвигает своих заместителей» (РЦХИДНИ. Ф. 7. Оп. 125. Д. 491. Л. 52). Так, исподволь, нашли общий язык будущие «космополиты».
Б.М.Кедров, защищая Александрова, выступил против М.Б.Митина. Сознательный антагонист митинского стиля в науке, пришедший в философию с опытом уче- ного-естествоиспытателя, Б. М. Кедров определил этот стиль следующим образом: «Дождись, пока твои ошибки повторит другой, и тогда смело, принципиально, бесстрашно критикуй свои собственные ошибки, повторенные другим, но не называй при этом свою фамилию» (АРАН. Ф. 1922. Оп. 1. Д. 234. Л. 4).
Январская дискуссия завершилась с «ничейным» результатом. В документе, направленном в ЦК ВКП(б), присутствовали как критические, так и положительные оценки книги. Пространно перелагались сталинские указания, которые должны были помочь Александрову «исправить имеющиеся недостатки и учесть все полезные за
мечания в дальнейшей работе над учебником» (АРАН. Ф. 1922. Оп. 1. Д. 235. Л. 57). Это предположение оказалось неоправданным.
Путь вниз
Январская дискуссия по книге Г.Ф.Александрова «История западноевропейской философии» осталась незавершенной. Было решено нанести более мощный удар по злосчастному учебнику, и причины этой эскалации остаются не совсем понятными. Александров был и оставался последовательным проводником линии А.А.Жда- нова — во всяком случае, нет никаких сведений о противоположном, если не считать появившихся после дискуссии публикаций в западных газетах о самоотверженном философе, бросившем вызов партийной диктатуре: «Вашингтон Пост» (20 августа 1948 года) назвала Александрова «самым выдающимся советским философом». Решение повторить обсуждение было принято Сталиным исходя из каких-то тактических соображений. Новой дискуссией было поручено руководить самому члену Политбюро ЦК ВКП(б) А.А.Жданову. Решение это оказалось для философов шокирующим. 14 мая 1947 года директор Института философии Г.С.Васецкий сообщил новость ученому совету. На вопросы ошеломленных коллег он смог ответить лишь то, что в подготовке решения работники института участия не принимали (АРАН. Ф. 1922. Оп. 1. Д. 230. Л. 21).
Дискуссии планировалось придать общесоюзный масштаб, и Управление пропаганды затребовало списки советских философов с указанием должности, ученой степени и звания. Такие сведения в институте были, поскольку ранее велась подготовка к Всесоюзному философскому совещанию. Примечательно, что в начале марта Васецкий обсуждал вопрос о философском совещании в ЦК ВКП(б) и тогда о новой проработке Александрова не упоминалось АРАН. Ф. 1922. Оп. 1. Д. 230. Л. 93). Всего набралось около 160 философов — доцентов, старших научных сотрудников, кандидатов и докторов наук (АРАН. Ф. 1922. Оп. 1. Д. 222. Л. 4-8, 10-14, 18). Значительная часть этого контингента находилась на партийной работе. Какими критериями руководствовались при составлении списка — сказать трудно. По данным проведенного через год единовременного учета
преподавателей общественных наук, в стране было 4836 преподавателей общественных наук, в том числе профессоров — 125 человек и 44 доктора наук (РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 64. Л. 49). Разумеется, элиту советских философов составляли сотрудники Института философии. Практически все они присутствовали на дискуссии вместе с представителями научных учреждений Ленинграда, Киева, Минска и других городов страны.
Открывая дискуссию, А.А.Жданов сразу же заявил о необходимости вскрытия серьезных недостатков не только в учебнике Александрова, но и в положении дел на философском фронте. Попутно надо заметить, что в сочинениях эпохи перестройки и либерализации принято оценивать выступления А.А.Жданова как догматические, поверхностные и обскурантистские. Если дистанцироваться от оценок, то нельзя не признать яркость и точность его формулировок, свободу рассуждения и уверенность в оперировании материалом. Это проявляется даже в опубликованной стенограмме дискуссии. Участники обсуждения, которых трудно упрекнуть в симпатиях к «ждановщине», тоже подтверждают данное обстоятельство. «Речь Жданова произвела на участников дискуссии сильное впечатление, — пишет З.А.Каменский. — На фоне по преимуществу догматических выступлений ее участников она выгодно отличалась имманентностью хода рассуждения, претензией на крупномасштабные обобщения и глобальные формулировки, как бы выводящие методологию историко-философского исследования на новый и высокий уровень». При этом Каменский существенным образом корректирует свою оценку: «Первое впечатление было поверхностным и растаяло, как только появилась возможность... проанализировать текст в напечатанном виде» (Каменский З.А. Философская дискуссия 1947 года (преимущественно по личным воспоминаниям) // Отечественная философия: опыт, проблемы, ориентиры исследования. Вып. VI. Изживая «жданов- щину». М.: Акад. обществ, наук при ЦК КПСС, 1991.
С. 14).
Обсуждение книги происходило уже не в конференц- зале Института философии, как это было в январе, а в ЦК ВКП(б) — симптом сам по себе многозначительный. Кроме Жданова, на дискуссии присутствовали секретари ЦК ВКП(б) А.А.Кузнецов и М.А.Суслов. Обвиняемый опять признавал ошибки и каялся в объективизме, а по
пытки некоторых философов привести оправдательные аргументы выглядели уже совершенно наивными и беспомощными. Вообще в полемике присутствовал отчетливый компонент недоразумения. Партия добивалась от философов вовсе не того, что они ожидали: не работы, а преданности. Интеллектуалы же проявляли принципиальность, не зная, как эту преданность выразить. В результате складывались ситуации курьезные и, одновременно, драматические. Например, в центре внимания диспутантов оказался М.П.Баскин, чье имя упоминалось на дискуссии столь же часто, сколь имена Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и критикуемого Александрова. Профессор М.П.Баскин развивал тогда социологическое направление в советской философии и был тесно связан с Г.Ф.Александровым еще со времени их совместной работы на философском факультете ИФЛИ (Более подробно научная деятельность М.П. Баскина в данный период рассмотрена в статье: Батыгин Г. С. Советская социология на закате сталинской эры // Вестник Академии наук СССР. 1991. № 10; С. 90-107). Совершенно непонятно, зачем Баскину, изрядно скомпрометированному своими рецензиями на учебник, нужно было дразнить гусей и активно вмешиваться в обсуждение ситуации на философском фронте. Он мог бы промолчать, как это сделал П.Н.Федосеев (заместитель Александрова и главный редактор журнала «Большевик»), или вести себя скромнее. Наоборот, Баскин выступил с резким требованием свободы философского творчества. «Если мы пишем статью оригинальную, с определенным выражением мысли автора, выходящей за пределы установленных редакцией шаблонных норм, — сказал Баскин, — такая статья или не принимается, или еще чаще так редактируется, что все индивидуальное уничтожается, и, таким образом, все статьи выглядят одинаково» (Дискуссия по книге Г.Ф.Александрова «История западноевропейской философии» стенографический отчет // Вопросы философии, 1947, № 1. С. 160). Такого рода ламентации были сопоставимы с гласом вопиющего в пустыне — дискуссия предназначалась вовсе не для того, чтобы преодолевать «шаблонные нормы». Если принять оценку Ждановым философии как «тихой заводи», где идут споры о том, насколько мышление может отстать от бытия, чтобы не обнаружить своей отсталости, то дискуссия стала водоворотом, взбаламутившим «философскую заводь». Вы
лезли наружу тайная вражда, зависть, подозрения. В стенограмме дискуссии исчерпывающе представлен диапазон философской аргументации. Как свидетельствует Б. М. Кедров, в опубликованном тексте отсутствуют какие-либо исправления, связанные с конъюнктурными соображениями. Сталин приказал, чтобы дискуссия была совершенно свободной и каждый мог говорить все, что считает нужным. Кедров пишет, что добился у Сталина разрешения на два исключения: он снял из текста речи А. К.Тимирязева «клеветнические выпады» против А.И.Иоффе, В.А.Фока, С.И.Вавилова и других физиков, а также полностью устранил из стенограммы выступление Аджемяна, который предлагал взять в союзники диалектического материализма православие в целях борьбы с Ватиканом (Кедров Б.М. Как создавался наш журнал // Вопросы философии. 1988. № 4. 96-97). Документы, хранящиеся в бывшем Центральном партийном архиве, содержат подтверждения, что без санкции Сталина в стенограмму не вносилось исправлений. 26 июля — ровно через месяц после окончания дискуссии — Б.М.Кедров написал письмо Жданову, где просил разрешения изъять из номера выступления Аджемяна, Бердника и Тимирязева. «Дискуссия» послужила тов. Адже- мяну лишь поводом для того, чтобы пропагандировать в корне враждебные нам взгляды», — писал Кедров (РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 492. Л. 47 (вторая часть дела)). Бердник отклонялся им как душевнобольной, а речь Тимирязева Кедров назвал сплошным поклепом на передовых советских физиков (Там же). Жданов не смог взять на себя решение данного вопроса и в письме к Сталину от 28 июля предложил речь Аджемяна не публиковать, как «враждебную марксизму-ленинизму галиматью», из речи Бердника устранить преувеличения и вредные выпады, а из речи Тимирязева убрать огульные обвинения против советских физиков (Там же. Л. 41 (вторая часть дела)). Так что свобода обмена мнениями в данном случае сверху не ограничивалась. В эти июньские дни 1947 года в доме на Волхонке сложилась ситуация, во многом предопределившая направленность и исход политических преследований полутора годами позже.
«Человек», 1993.
Г.С.Батыгин, И.Ф.Девятко
Дело профессора З.Я.Белецкого
Историю философии принято писать как историю мудрых мыслей, крупных научных школ и значительных личностей. Рядом с этой — магистральной — историей существует история «второстепенная». Она не содержит исторических событий, а наоборот, соткана из тривиальных, почти бытовых, маловразумительных происшествий; ее личности совершенно заурядны даже тогда, когда одержимы великими идеями. Большая, магистральная история, где все взаимообусловлено и логично, часто кажется нарисованной на театральной фанере. Если ее изображения прописаны в деталях, они все равно остаются изображениями. Не хватает малого: изумления перед незначительностью «значительных фигур» и * незаурядностью малозначительных, можно сказать, неисторических лиц. Об этом не принято писать, чтобы не портить хрестоматийные изображения, но все-таки во «второстепенной» истории и ее малозначительных личностях есть нечто неподдельное и сопротивляющееся изображению.
О философе Зиновии Яковлевиче Белецком (1901 — 1969) сегодня помнят преимущественно те, кто учился на философском факультете Московского университета в конце 40-х — начале 50-х годов. Пройдет еще немного времени, и Белецкого окончательно забудут, потому что его имя не только не вошло в многотомные «Философскую энциклопедию» и «Историю философии народов СССР», но старательно обходится в историографии общественных наук. Чем объяснить, что все профессора удостоились хотя бы краткой биографической справки, а он в числе персоналий энциклопедии не значится? В принципе, рано или поздно забывают всех, но в данном случае забвение преждевременно, преднамеренно и несправедливо — в судьбе и деле профессора Белецкого явил себя дух отчаянного марксистского философствования, которого уже не воскресить. Скажут: «Было бы о чем жалеть...» Жалеть есть о чем. Без этого «белецкиан- ства» советская философия неполна, ущербна — в ней остаются лишь бессовестные злодеи и угнетенные умники
с фигой в кармане. Разумеется, научные сотрудники опубликуют толстые тома с изображением борьбы прогрессивных мыслителей с тоталитарным режимом, но в этой картине не найдется места таким людям, как Белецкий. Наша цель более скромная: на основе доступных источников показать, каким был профессор Белецкий[164].
Судьба Зиновия Яковлевича Белецкого складывалась примерно так, как у тысяч образованных молодых людей, попавших в революцию. Ему было тогда, в 1917 году, шестнадцать лет. Есть сведения, что учился он в духовной семинарии, но в документах это не отражено. Указывается только учеба в учительской семинарии. В восемнадцать лет Белецкий вступил в Российскую коммунистическую партию (большевиков) и никогда ни в каких уклонах и в оппозициях не участвовал. Ему не довелось командовать эскадроном и комиссарствовать, хотя в душе он был отчаянным комиссаром. Вместо этого — учеба на медицинском факультете 1-го МГУ, диплом врача (1925 год) и Институт красной профессуры (ИКП — 1929 год).
Стоит сказать несколько слов о том, как проходила учеба юного «красного профессора». Достижения слушателя'естественного отделения ИКП Белецкого оценивались более чем скромно. Вероятно, уже тогда он никак не мог приспособиться к философской среде. Дело в том, что в ИКП было принято обсуждать работу каждого коллективно в присутствии декана — так предписывалось инструкцией академической части. Из архивных документов известно, что на первом курсе Белецкий сделал доклады по историческому материализму и истории естествознания. В протоколе обсуждения написано так: «Параграф 1. Оценка с методологической стороны. Т.Слепков считает Белецкого с методологической стороны не устоявшимся, эволюционирует в сторону диалектического материализма. Т. Перельман считает методологию т. Белецкого в общем удовлетворительной. Т.Великанов,
как и Слепков, также считает наличие промахов с методологической стороны. Общий вывод: в общем с методологической стороны удовлетворительно. Параграф 2. Способность критического отношения к материалу. Тов. Перельман считает критическое отношение к материалу со стороны т. Белецкого недостаточным. Общий вывод семинара: критическое отношение не совсем достаточно. Параграф 3. Степень проработки программы семинария — удовлетворительно. Параграф 4. Способность к научной и преподавательской работе. Данных для суждения по этому вопросу нет. Параграф 5. Построение докладов. Т.Перельман считает доклады несколько слабыми, особенно первый, материала им охвачено довольно мало, особенно если учесть отсутствие работы по специальности; тов. Рубановский отмечает то же самое. Тов. Белецкий объясняет слабость своих докладов тем, что они не были записаны. Общая оценка т. Белецкого: перевод на 2-й курс считать возможным. Занятие языками. Т. Белецкий — не знает языков. Председатель — т. Великанов, секретарь — т. Рубановский» (Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 5284, оп. 1, д. 192, л. 45-51).
На втором курсе положение Белецкого еще более осложнилось. В октябре 1926 года он не получил зачет и в соответствии с постановлением семинара ему было предложено принести отзыв Завадовского (его научного руководителя) о работе за прошлый год, а в июне правление ИКП решило отчислить Белецкого из института. Вероятно, ему стоило немалых усилий добиться восстановления в декабре 1927 года. В 1929-м Белецкий уже числится в списках окончивших четыре курса ИКП[165].
Затем началась карьера «красного профессора», карьера неординарная и в некоторых отношениях блистательная. Четыре года работы в Ростовском-на-Дону университете и с 1934-го по 1943 год — Институт философии Коммунистической Академии (в 1936 году институт вошел в состав Академии наук СССР). В Институте философии Белецкий был бессменным парторгом, пока его не выгнали в 1943 году[166].
Публикаций у него было по пальцам перечесть. Многочисленные враги имели основания обвинять его в «бурной бездеятельности» (если считать «деятельностью» опубликованные печатные листы). Правда, он написал немало статей по вопросам биологии в «Философском словаре» (1939 год). Но вклад профессора Белецкого в философию выражался не печатными листами. В течение многих лет он терроризировал философскую общественность своей бесстрашной критикой и держал в напряжении столичный Институт философии и философский факультет МГУ, по крайней мере до 1955 года, пока его не исхитрились выгнать из университета. Карьера Белецкого заканчивалась уже на кафедре философии Московского инженерно-экономического института.
В характеристике 1950 года его заслуги описываются следующим образом: «В 1942 — 43 гг. тов. Белецкий провел большую работу на факультете по борьбе с извращениями идеалиста Лосева, работавшего в то время на философском факультете. В эти же годы тов. Белецкий проделал большую работу по исправлению ошибок, допущенных в третьем томе «Истории философии» (по немецкой классической философии). В 1947 — 48 годах он и возглавляемая им кафедра вели активную борьбу с морганистами на биологическом факультете» (Архив МГУ, фонд отдела кадров, оп. 2, короб. 17, д. 694, л. 35). Надо добавить, что в 1944 году с подачи Белецкого было принято постановление ЦК ВКП(б) по немецкой классической философии, и в этот же год он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а директор Института философии член-корреспондент АН СССР П.Ф.Юдин и директор Института Маркса, Энгельса, Ленина академик М.Б.Митин лишились должностей1; в
1947 году ему удалось свалить начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) академика Г.Ф.Александрова — своего личного врага[167]. Такого вклада в философию не сделал никто из советских ученых за весь период существования этой сложной науки. Впрочем, за Белецким числятся и дела помельче, оценить ко
торые может только осведомленный человек. После войны опять же по инициативе Белецкого парторганизация Института философии рассматривала вопрос об исключении из своих рядов будущего академика Ф.В.Константинова, который якобы назвал русский мороз причиной победы над фашистской Германией. Охота Белецкого на будущих академиков Б.М.Кедрова и Т.И.Ойзерма- на практически не прекращалась. Коротко говоря, он не давал жить никому из философского начальства.
Стоит сказать несколько слов об облике этого человека. Всю жизнь он рвался в бой за чистоту марксистско- ленинского учения, не преследуя для себя лично никаких выгод. Он был белой вороной среди советских философов — людей умных, осторожных и склонных к договоренностям. Вероятно, его непримиримость к ожиревшим гуманитариям притягивала молодых преподавателей и студентов. «Мы любили эту команду...» — вспоминает профессор М.С.Слуцкий, тогда заместитель секретаря партбюро факультета. Белецкий был пламенным революционером. Фото 1949 года: горящий взгляд, глаза чуть навыкате - весь устремлен вперед, лоб мыслителя, сильный волевой подбородок, большие уши немного оттопырены, губы сжаты упрямо. Наглухо застегнутый френч со стоячим воротничком. Неподкупный часовой философского фронта. Кроме того, он был горбатым и, видимо, по этой причине недолюбливал столичный бомонд. Но ни в коем случае его нельзя назвать нелюдимым: вокруг Белецкого сложилась тесная группа учеников и приверженцев — они называли себя «малый хурал». Вообще философы часто собирались выпить-по- говорить и, бывало, пели песни. Особенно хорошо пел
С.С.Гольдентрихт, арестованный в 1948 году как враг народа. Как ни странно, в Белецком привлекало его свободомыслие. Доказать ему его неправоту было практически невозможно, но при этом на его семинарах шли постоянные дискуссии, где можно было высказывать любые точки зрения (разумеется, в рамках разумного).
Так получилось, что в воспоминаниях о Белецком старшего поколения философов больше язвительного и обидного, чем доброго и сочувственного. Бывает, в рассказах о нем промелькнет теплая интонация и тотчас же спрячется: противоречивый, дескать, был человек... Из философских иерархов того времени, пожалуй, только Эрнст Кольман понимал его, по мере возможности защи
щал и нашел для него пару добрых слов в своих мемуарах. Не исключено, что субъективное впечатление о Белецком работавших с ним людей ближе к истине, чем стереотипный образ неистового мракобеса. Младший коллега Белецкого Ш.М.Герман рассказывает о нем так: «Когда я окончил аспирантуру в Институте философии, меня пригласил к себе Белецкий. После философской дискуссии в фаворе-то он никогда не был..., негативное отношение к нему со стороны философских кругов было практически абсолютное. Но все-таки с ним были вынуждены считаться. Он пригласил меня на свою кафедру в Московском университете... Я начал работать там с февраля 1948 года, а оформили меня на работу с сентября. Так что я учеником Белецкого в буквальном смысле этого слова не являюсь. Ученики — это, главным образом, те, кто кончал у него аспирантуру. Потому что как руководитель аспирантуры он был абсолютно бесподобен. Как научный руководитель — нет, а вот семинарские занятия — я у него потом присутствовал на нескольких семинарских занятиях — это был блеск мысли. И самое главное, это была мысль, которая никого не давила. Если ты с ним в чем-то не соглашался, ты мог смело, выступить, хотя в подавляющем большинстве случаев он тебя раскладывал на обе лопатки. Но иногда и его раскладывали, и он это признавал и соглашался. Я думаю, что главное, чему учил Белецкий своих учеников, это... Вот, слово «свободомыслие», наверно, не подходит... просто самостоятельности мышления. И думаю, что в этом его действительная заслуга.
Вопрос: Его часто вспоминают как какого-то обскуранта...
Ш.М.Герман: Да, я знаю. Я вот перелистал эту статью... (Речь идет о публикации в «Независимой газете», где обливаются грязью все советские философы. — Г.Б., И.Д.) Читать противно. Отвратительная статья. Автор всех называет там идиотами, дураками. А об обскурантизме Белецкого говорят еще и потому, что он не поддавался ни на какие... ну ни на какие, так сказать, уговоры официального, официально-формального характера. Он действительно был человеком самостоятельно мыслящим. В чем-то он ошибался, в чем-то не ошибался, некоторые проблемы, в общем-то пустяковые, он поднимал на какой-то немыслимый пьедестал. Все так. В истории с Лысенко, конечно, он оказался не совсем на высоте, хотя
там тоже не все так просто, как могло бы показаться. Меня он привлек в пору пребывания моего в аспирантуре. В то время он читал в Московском университете, в Коммунистической аудитории, цикл публичных лекций по немецкой философии. Лекции были очень трудны для восприятия, но при напряжении собственных мыслительных способностей они поражали своей поразительной внутренней логичностью и последовательностью анализа в рассмотрении тех вопросов, которые он в этих лекциях поднимал. Это привлекло мое внимание. Впоследствии это способствовало тому, что я стал его... не абсолютно верным приверженцем, но во всяком случае... приверженцем. Впоследствии у меня установились с ним и личные, очень дружественные связи» (Интервью Г.С.Батыгина с Ш.М.Германом, май 1993 года).
Так вот. Принято полагать, будто в советской философии приживались одни приспособленцы, премудрые пескари и умники умеренно-либеральных настроений. Белецкий разрушает эту грустную картину. Он был человеком вертикали и нес в себе отсвет героического подвижничества революции, когда общественное сознание всецело определялось пайками и должностными окладами.
Кафедра диалектического и исторического материализма философского факультета МГУ, которой руководил Белецкий, годами находилась на осадном положении. Если классовая борьба — естественное состояние философа-марксиста, то заведующий кафедрой был самым последовательным марксистом в советской философии 40-х годов. С 1943-го по 1948 год его трижды пытались снять с работы, но каждый раз ему удавалось отбиться. Весной 1948 года кафедру опять проверяла комиссия. Помимо всего прочего, Белецкий участвовал в столкновениях университетских биологов-вейсманистов с лысенковцами и проводил в этом споре жесткую марксистскую линию, осуждая и тех, и других. Но Лысенко был ему ближе из-за веры в «среду» и «сому». Поэтому Белецкий активно поддерживал взгляд И.И.Презента на «среду» и «сому» как сферу практического воздействия на биологическую изменчивость и процессы наследования приобретенных признаков.
В то время ведущие биологи университета занимали антилысенковские позиции, и работавшая на философском факультете комиссия ЦК ВКП(б) во главе с завсек
тором науки Ю.А.Ждановым и Д.И.Чесноковым сделала неутешительные для Белецкого выводы. До принятия окончательного решения он был отправлен в «творческий отпуск». Прерогативой назначать и увольнять заведующих кафедрами высших учебных заведений формально обладал министр высшего образования СССР
С.В.Кафтанов, хотя эти должности входили в то же время в номенклатуру ЦК. По всей вероятности, Кафтанов поддерживал Белецкого и организовал «творческий отпуск». Дело заключалось в том, что заведующий кафедрой не имел ученой степени. Ее отсутствие он мотивировал недостатком времени для написания диссертации. Таким образом, он получил шанс стать хотя бы кандидатом наук. Но воспользоваться им Белецкому не удалось.
Когда в августе 1948 года восторжествовала теория Т.Д.Лысенко, Белецкий вернулся из творческого отпуска к руководству кафедрой, опять отложив диссертационную работу. Атмосфера на факультете была крайне напряженной. Группировавшиеся вокруг Белецкого сотрудники кафедры (»малый хурал») пытались проводить линию «папаши» — так называли профессора в своем кругу — не только в преподавательской деятельности, но и в позиционной борьбе. Партийное бюро, которое являло для «малого хурала» вражеский лагерь, опасалось экспансии людей Белецкого. Тогда в партбюро входил «белецкианец» В.Ж.Келле. Парторг факультета П.Никитин сообщал в ЦК ВКП(б) о совещаниях «малого хурала» на квартире у Келле, где якобы обсуждался вопрос о назначении Белецкого начальником Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)[168].
Борьба Белецкого с руководством факультета распространялась непосредственно на учебный процесс. Студенты должны были постоянно выкручиваться из двусмысленных ситуаций, изучая материал либо «по Белецкому», либо «по Чеснокову», который тоже преподавал на факультете — по совместительству. Если экзамены или зачеты принимал Белецкий, студенты освещали вопросы
об объективной истине, родине марксизма, относительной самостоятельности идеологии так, как требовал Бе-
лецкий; если же за преподавательским столом сидел Чес- ноков, отвечали «по Чеснокову».
Вообще вопрос об объективной истине превратился на факультете в основной вопрос философии: в мае 1949 года, когда и без того было невыносимо жить, студент пятого курса Я.Ф.Аскинадзе обратился к Сталину с письмом «Что такое объективная истина» — двадцатитрехстраничным трактатом весьма глубокого содержания1. К счастью, Отдел пропаганды подшил трактат в досье, не доводя его до сведения высшего руководства, иначе могла сложиться ситуация, содержащая извращенную аллюзию на эпизод во дворце прокуратора Иудеи. На факультете и без того распространялись слухи, будто дочь товарища Сталина, заинтересовавшись философией, однажды спросила отца о том, что есть истина, а Сталин ответил, что «разделяет точку зрения Белецкого» (там же, л. 166). Еще рассказывают такую студенческую легенду: когда Белецкого спросили, что есть истина, он распахнул окно аудитории и, указар на Кремль, воскликнул: «Вот она — Истина!». Тогда университет находился на Моховой, как раз напротив Кремля. Уже в постперестроечный период эту байку пересказал А.Ф.Зотов, чтобы продемонстрировать, сколь невыносим был гнет марксистской ортодоксии.
Если не выходить за рамки эзотерического концептуального лексикона советского марксизма, позицию Белецкого нельзя не признать логически безукоризненной и превосходящей по своей аргументированности и последовательности рассуждения философов-либералов об «относительной самостоятельности идеологии». Не принимая никакого ослабления постулатов ортодоксального марксизма, Белецкий исходил из того, что проблема сознания и истины «имеет видимость гносеологическую, но ее сущность всецело политическая» (там же, л. 72). На самом деле, «относительная самостоятельность характеризует идеологию лишь антагонистических формаций. Только для этих формаций характерно — относительный отрыв надстроек от базиса и их противопоставление базису». Отсюда — мнимая относительная самостоятельность категорий мышления и бытия. Параллели с социологией знания здесь чисто умозрительные, но несомнен-
но, что такая постановка вопроса восходит к дискуссии конца 20-х годов, и Белецкий своим острым чутьем марксиста угадывал в идее «относительной самостоятельности идеологии» меныыевиствующий идеализм. Возможно, в этом заключении он не обошелся без консультаций М.Б.Митина, которому — пожалуй, одному из немногих тогдашних философов — доверял. Белецкий идет в своей аргументации дальше. «В нашем обществе идеология ... вступила в гармоническое отношение со своим материальным базисом, — пишет он. — У нее нет сейчас никаких относительно самостоятельных задач, отличных от задач нашего народа, нашего государства и партии. Сутью нашей идеологии является не сохранение относительной самостоятельности, а как раз наоборот, — окончательное преодоление относительной самостоятельности, как буржуазного пережитка, на почве практически революционного преобразования общества ... Наша идеология по своему существу не может быть относительно самостоятельной» (там же, л. 74).
Таким образом, суть теоретической концепции Белецкого заключалась в том, что вопрос о природе и назначении философии как формы идеологического и теорети- ' чёского отражения действительности преодолевается преобразующей практикой марксизма. Пожалуй, единственная логическая непоследовательность (может быть, под влиянием «патриотической» экзальтации того времени?) была допущена Белецким в утверждении, что «русская революционно-демократическая философия — единственная из всей домарксовской философии — не обладала относительной самостоятельностью, потому что она не противопоставляла себя народу», в то время как «на Западе до появления марксизма не было философии, которая выражала бы интересы трудящегося народа» (там же, л. 75).
Схеме Белецкого нельзя отказать в строгой прямолинейности: коль скоро идеи являются отражением материальных интересов классов, то изучать следует классовую борьбу, а не идеи. Г.Ф.Александров предпочитает «оставаться на старых буржуазных позициях анализа гносеологических понятий» (там же, л. 78). Именно данный аргумент Белецкого и послужил поводом — во всяком случае, поводом «гносеологическим» — для искуссий о немецкой классической философии в 1944 году, о книге
Александрова «История западноевропейской философии» в 1947 году.
Вряд ли возможно установить, насколько обоснованны философские и политические воззрения Белецкого. Однако в любом случае его позиция отличалась неординарностью и не укладывалась в стандартные обществоведческие клише, равно как и в привычную для современной историографии дихотомию: либерализм — консерватизм. Чего стоит, например, его взгляд на правомерность критики древнегреческого мудреца Фалеса, наивного материалиста. На философской дискуссии 1947 года Белецкого пытались, что называется, подловить на буржуазном объективизме, придравшись к его тезису о неправомерности критики Фалеса. «За что мы будем критиковать Фалеса? — спрашивал Белецкий. — За что мы будем критиковать Дидро? За то, что не был диалектиком. Да ведь он и не мог быть диалектиком. Он был представителем своего времени, опирался на знания своего времени, отражал интересы своего времени» (там же, ф. 17, оп. 125, д. 478, л. 114).
Судя по воспоминаниям современников, Белецкий был самоотверженным, даже одержимым человеком, который менее всего стремился приспособиться к обстановке. Его преданность марксизму переходила разумные границы, и, действительно, он чем-то напоминал роман- тиков-богдановцев. Хорошо знавший Белецкого Эрнст Кольман свидетельствует, что в 1941 году, зимой, когда дивизии вермахта стояли под Москвой, Белецкий доказывал ему — невероятно! — что нации-пролетарии, в том числе фашистская Германия, одержат победу над на- циями-капиталистами. Капитализм для него олицетворялся Америкой. Классовая борьба воспринималась Белецким как версия агонального столкновения «героя» и «торгаша» во имя спасения мира, что вносило некоторого рода метафизическое оправдание в его кажущуюся циничной трактовку политики как борьбы за власть1. Дело пролетариата представало как воля к власти и прорыв к запредельному, где нет места грязному торгашеству, философии и тому подобной лжи.
В конце сороковых годов на советском философском Олимпе стали происходить существенные перестановки.
Поражение Александрова в дискуссии 1947 года резко снизило его весовую категорию и сделало более открытым для последующих ударов. С осени 1948 года сильным противником Александрова стал назначенный вместо Б.М.Кедрова главным редактором журнала «Вопросы философии» Д.И.Чесноков. Он был формально заместителем Александрова (директора института), но его функция заключалась в том, чтобы при ненадежном директоре проводить в философской науке линию ЦК. К весне 1949 года он пользовался явным доверием не только Ю.А.Жданова, но и самого Г.М.Маленкова.
Несмотря на то, что Белецкий находился в эпицентре всех философских столкновений, дело было не в нем и даже не в теории «объективной истины». Основной конфликт в философском сообществе развертывался между александровской и митинско-юдинской группировками. Иной вопрос: как тематизировался этот конфликт? Массовая политическая кампания борьбы с космополитизмом использовалась в данном случае не столько для антиев- рейских преследований, сколько для подавления «традиционных» противников[169]. Естественно, что столкновение Александрова и Митина, как ожидалось, должно было завершиться поражением того из них, кто окажется «космополитом». «Объективно» евреем был Митин, но сразу же после мартовских «космополитических» собраний Чесноков направил письмо Маленкову, в котором доложил о подготовке номера «Вопросов философии» с материалами о космополитах и, что особенно примечательно, предложил открыть новый этап борьбы с ошибками в третьем томе «Истории философии» и в учебнике Александрова[170].
Новая стадия «александровского дела» была заветной целью и Митина, и Белецкого, но Чесноков исключал какой-либо альянс с ними. Зрелый политик, он просил у Маленкова санкции на то, чтобы «разгромить ошибки Митина и Александрова» (там же, л. 26.). Теоретически такого рода «триангулярные конфликты» завершаются альянсом двух сторон против третьей. Но в данном случае каждая сторона предпочитала действовать «на два фронта». Другие фигуры в этой игре можно считать вто
ростепенными. Б.М.Кедров и И.А.Крывелев были отстранены от влияния на расстановку сил и вместе с
З.А.Каменским служили фигурами для битья, причем такую возможность не упускали ни Митин, ни Александров, ни Чесноков. Белецкий производил заметный шум, но не воспринимался как опасный игрок. Он вызывал неприязненное отношение большинства философов, за исключением, может быть, Митина и Юдина (Юдин тогда работал в Белграде и философской политикой не занимался). Так или иначе, никто не был заинтересован в помощи Белецкому. Его лишь использовали в борьбе с Александровым. Александров — академик, директор Института философии — представлял собой тигра без зубов. Его сотрудники имитировали преданность начальству, но прекрасно понимали, что лучшая стратегия — соблюдать нейтралитет. Видные «александровцы» Иовчук и Федосеев находились тогда в «положении вне игры». В 1948 году и в начале 1949 года М.Т.Иовчук работал секретарем по идеологии ЦК Компартии Белоруссии. Его назначили туда после снятия с должности заместителя начальника Управления пропаганды, где он оставил о себе, как сказано в одном из писем в ЦК ВКП(б), печальную память. В отличие от удобной московской жизни, в Минске преобладали суровые нравы. Автор письма назвал Иовчука «зазнавшимся, зарвавшимся и обнаглевшим партбюрократом», «прощелыгой, матерым спецом по устройству личного благополучия», «завзятым авантюристом, до дна использовавшим свой высокий партийный пост для своих низких и корыстных целей». Говорилось о том, «как ловко Иовчук в недельный срок заработал звание профессора, доктора и влез в члены-корреспонденты Академии наук СССР», что все его статьи писались подчиненными, диссертация сфабрикована, жена ходит в бриллиантах и золоте[171]. Летом 1949 года Иовчук, отозванный из Минска, покаялся перед Сталиным и Маленковым в том, что в январе по наивности подписал некролог Михоэлса, назвал своего бывшего шефа Александрова «носителем катедер-социализ- ма», и был направлен на должность завкафедрой диалектического и исторического материализма Уральского университета[172]. В июле лишился места главного редакто-
ра журнала «Большевик» Н.П.Федосеев и, по своему обыкновению, предпочел уйти в тень. На этом фоне подозрения и инвективы, адресованные Белецкому, ни в коей мере не затрагивали чистоту его морального облика. В этом отношении он был безукоризненным — в отличие от своих противников, которые уже тогда были по уши в грязи.
Мартовские антикосмополитические собрания ломали судьбы виновных и невиновных, но не привели к каким- либо существенным изменениям баланса сил в философском сообществе. Поэтому конфликт развивался кумулятивно. 29 июня 1949 года Митин почему-то счел своевременным атаковать Чеснокова и написал заявление Суслову. Он сообщил о явном неблагополучии в редколлегии «Вопросов философии» и подверг критике только что вышедший в свет номер журнала за 1949 год. Митин обвинил редакцию в «саботаже указаний ЦК ВКП(б) по философским вопросам» и стремлении освободиться от политики партии в области идеологии1. Кроме того, резкие обвинения были выдвинуты против Александрова и Кедрова. Цель заявления заключалась в том, чтобы «основательно освежить состав редколлегии», причем в роли «освежающего компонента» Митин видел себя.
Однако попытка опорочить Чеснокова Митину не удалась. Влияние главного редактора философского журнала на высокие партийные инстанции к середине 1949 года заметно усилилось. Именно Чесноков подготовил для Суслова развернутый анализ письма Митина, в котором рассматриваемая ситуация в философском сообществе получила глубокую и точную оценку. «Общеизвестно, — писал Чесноков, — академики Митин и Александров ненавидят и боятся друг друга, готовы использовать всякую возможность для того, чтобы скомпрометировать друг друга и создавать неблагоприятное впечатление друг о друге в мнении Центрального Комитета, и в то же время не решаются открыто и честно выступить на собраниях или в печати с критикой взаимных ошибок» (там же, д. 161, л. 9-10). В этом же документе содержится жесткая идеологическая квалификация вульгаризаторской тенденции в марксизме, выразителями которой являются Митин и Белецкий. Названы и их пред
шественники: Шулятиков, Богданов, Покровский, враг народа Бухарин1. По всей вероятности, в намерения Чеснокова входило устранение Митина из круга влиятельных фигур в философской иерархии. Но хотя его влияние на Ю.А.Жданова, Д.Т.Шепилова, М.А.Суслова и Г.М.Маленкова было несомненным, попытка свалить Митина была обречена на неуспех. Митин был исключительно осторожен, да и статус академика давал пусть не стопроцентный, но достаточно сильный иммунитет.
В конце сентября 1949 года Ю.А.Жданов в обобщающей докладной записке М.А.Суслову констатировал, что «положение на философском фронте продолжает оставаться тяжелым .... Среди философов, это не секрет, пышным цветом расцвела групповая борьба». Вместо мелочного разбора взаимных притязаний Жданов предложил радикальный и необычный для практики паратийно- го руководства наукой способ решения проблемы. «Философию развивали революционеры и ученые (вероятно, имеются в виду естествоиспытатели. — Г.Б., И.Д.), — пишет он. — Что же касается наших философов-профес- сионалов, заполняющих институты философии и философские кафедры учебных заведений, партийных школ, то никто из них за тридцать лет советской власти и торжества марксизма в нашей стране не высказал ни одной новой мысли, которая вошла бы в сокровищницу марксистско-ленинской философии. Более того, никто из наших философов-профессионалов не высказал ни одной мысли, которая обогатила бы какую-либо конкретную область знания. Это в равной степени относится к Дебо- рину и Митину, Юдину и Александрову, Максимову и Кедрову и всем остальным» (там же, д. 160, л. 93, 94). Не ограничившись уничижительной оценкой научного уровня философов, Жданов указал, что они являются тормозом на пути развития марксистско-ленинской теории. Философские факультеты, по его мнению, воспитывают начетчиков и верхоглядов. Отсюда — предложение реформировать систему подготовки философских кадров, принимать на философский факультет специалистов с высшим «конкретным» образованием и учить их там 2- 3 года. Здесь Жданов буквально повторяет мнение своего наставника Б.М.Кедрова, высказанное им в статье
1948 года: «Тот, кто считается у нас философом, должен знать не только самый инструмент, которым он пользуется, но хотя бы одну специальную область знания (математику, физику, биологию, историю, политическую экономию, право и т.д.), которую он, как философ, должен пронизать марксистским методом» (За творческую разработку марксистской философии» // Вопросы философии, 1948, № 1, с. 8). Конечно, столь радикальные перемены не могли быть осуществлены, но заключение завсектором науки о неспособности Александрова организовать перестройку работы Института философии влекло за собой возможность определенных кадровых перемещений. Удивительно, что на пост директора Жданов предложил кандидатуры П.Ф.Юдина, Ф.Ф.Чернова и Ф.В.Константинова. Однако Александров остался на посту директора.
Через много лет, в 1965 году, на совещании Идеологической комиссии ЦК КПСС П.Ф.Юдин представил дело так, будто в советской философии было засилье александровцев. «С 40-го года монопольная группа управляет делами идеологии и развитием марксизма, — говорилен. — Это такая группа: сначала Александров, Федосеев, Поспелов, Ильичев. Эта группа имела в своем распоряжении колоссальный аппарат, пропагандистский и агитационный, всю печать, издательства, газеты, радио, телевидение. Они менялись местами — один уходил в «Правду», другой — в заместители Александрова, третий — еще куда-то, но в целом они оставались как группа монопольная, неизменно держа в своих руках вопросы идеологии, вопросы пропаганды и агитации. В чем они сошлись между собой, на чем они объединились? Их объединяла, я думаю, все-таки культовая идеология». Юдин имел в виду не приверженность александровцев сталинизму, а их склонность превозносить очередного вождя. Он, в частности, рассказал о поспелов- ском освещении исторической победы над фашизмом, основной вклад в которую якобы внес Хрущев, несмотря на ошибки Сталина». «Что там Сталин! Сталин порой казался просто мальчишкой по сравнению с Хрущевым», — говорил Юдин (Центр хранения современной документации (ЦХСД), ф. 5, оп. 35, д. 210, л. 131).
Понятно, что гибель сталинизма означала и гибель Белецкого — он не мог принять новый культ. Здесь стоит заметить, что сталинизм как тип политической ор
ганизации жизни исключал продолжительное доминиро вание какой-либо группировки, и Юдин не вполне прап в своей оценке монополизма александровцев. Их доми нирование уравновешивалось противодействием Митина, Белецкого, Чеснокова и других влиятельных фигур. Таким образом, иерархия сохраняла состояние устойчивого равновесия.
Когда начались антикосмополитические преследования, многочисленные враги Белецкого предприняли все усилия для полного и окончательного уничтожения «красного террориста». 18 марта 1949 года на собрании сотрудников Института философии взгляды Белецкого были объявлены антимарксистскими, космополитическими. Собрание философского факультета началось 22 марта, когда руководство академического института уже направило в ЦК ВКП(б) документ «О мерах ликвидации космополитизма в философии». Александров с товарищами намеревался взять опорный пункт Белецкого, что называется, с ходу. Однако собрание* философского факультета, в котором участвовали сотрудники Волхонки (многие из них работали в МГУ по совместительству, но на партучете там, естественно, не стояли), продолжалось шесть вечеров. Если не считать теоретического доклада П.Т.Белова о подрывной деятельности евреев, обсуждался один вопрос — об антипартийной группировке профессора Белецкого. Группа из Института философии во главе с Чесноковым организовала мощную атаку с требованием разгромить антипартийную группировку. Необходимо обратить внимание, что «антипартийных групп» в советской стране уже давно не было. Даже злосчастных театральных критиков назвали «антипартийной группой» случайно, один раз — на собрании писателей, — и то но ошибке. Они были «антипатриотической группой». Нигде в печати «космополиты» не квалифицировались как враги народа, в то время как антипартийная деятельность предполагала немедленные репрессии. Александров, Чесноков и Константинов не рискнули даже намекнуть на антипартийность кого-либо из «космополитов» в официальных бумагах для ЦК ВКП(б), а здесь, на собрании, об антипартийности Белецкого говорилось совершенно открыто, вероятно, с надеждой провести это обвинение в резолюцию собрания, которую в общем-то не они должны были подписывать.
В значительной степени Чеснокову и его коллегам, партийному бюро факультета удалось создать на собрании атмосферу разгрома антипартийной группировки. Члены кафедры диалектического и исторического материализма оказались слабонервными. В группе «молодых» начался разлад. Как писал Белецкий, они «под угрозой привлечения к партийной ответственности и исключения из партии... начали оговаривать устно и письменно друг друга и меня; начали подтверждать, что на кафедре действительно была антипартийная группировка и вела работу. Работник кафедры Келле, выступивший в защиту кафедры, был немедленно выведен из президиума партийного собрания, а на следующий день он был немедленно выведен из состава партийного бюро. Та же мера была принята по предложению т. Чеснокова и в отношении меня» (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 132, д. 222, л. 95-96). Группа Белецкого обвинялась в тайных заседаниях, в антимарксистских взглядах, в отрицании того, что Германия — родина марксизма, в национализме и т.п. Попытавшегося возражать Германа согнали с трибуны. Белецкий, по словам Никитина, «объективно» призывал к- сплочению и объединению евреев1. Здесь требуется некоторый комментарий. «Объективно призывал» означало в идеологическом лексиконе вовсе не факт призыва к объединению евреев всех стран, а некую, если использовать знаменитую неокантианскую категорию, «объективную возможность» призыва, логически выводимую из обстоятельств дела. Фигурант, следовательно, отвечал не только за то, что он сказал или сделал, но и за то, что он «объективно мог» сказать или сделать. Еврейский национализм как раз и был такой «объективной возможностью» дела Белецкого и его группы. Евреи на философском факультете были давно подсчитаны, как это водилось в советских учреждениях. В документах Отдела пропаганды ЦК ВКП(б) имеется социологическая таблица, показывающая распределение евреев по кафедрам. На кафедре основ марксизма-ленинизма из 54 преподавателей таковых было шесть; на кафедре диалектического и исторического материализма — у Белецкого — из девятнадцати преподавателей — семь; на кафедре истории русской философии из семи человек не оказалось
ни одного еврея, равно как и на кафедре логики; на ка федре зарубежной философии евреев было двое из восьми, на кафедре психологии — пять из одиннадцати[173]. Таким образом, кафедра Белецкого занимала по числу евреев второе место после психологов, с которых спроса не было. На этом фоне весьма существенным оказался вопрос, не еврей ли сам Белецкий. В личном деле профессора даже появились «откуда-то», по его словам, подложные документы, свидетельствующие, что он еврей, а вовсе не белорус, как он уверял коллег и администрацию[174]. Собрание единодушно потребовало снять Белецкого с работы. 12 апреля 1949 года решение об увольнении вынес Ученый совет философского факультета.
Вероятно, никто из философов не знал, что в большой политике наметился поворот. Собрание завершало свою работу в понедельник, а еще в субботу Суслов на совещании редакторов центральных газет и журналов предупредил их о недопустимости антисемитизма.
Догадываясь о возможности позитивного исхода дела и продолжая борьбу до конца, Белецкий еще 9 апреля обратился с письмом в высшую инстанцию — лично к Сталину. Не впадая в истерику, он ясно и отчетливо изложил свое понимание объективной истины, а также подлинные причины преследования со стороны Александрова и его группы[175]. Никаких сведений о резолюции Сталина не имеется, но дело взял на контроль Маленков, и конфликт принял затяжной позиционный характер. Время стало работать в пользу Белецкого. Без санкции ЦК профессора не снимали с должности, хотя летом и партийное собрание, и Ученый совет подтвердили свои предыдущие требования.
В очередном письме — уже на имя М.А.Суслова и Д.Т.Шепилова — Белецкий жаловался на травлю со стороны руководства факультета и просил личного приема в ЦК ВКП(б), утверждая, что находится в положении «обвиняемого, фактически отстраненного от работы, лишенного элементарных прав члена партии». Продиктованные ему пункты обвинения, указано в письме, «наполовину состоят из ложно понятого марксизма, а наполо-
вину из заведомой клеветы» (там же, л. 29). Факультет же продолжал настаивать на первоначальных обвинениях. Секретарь парткома МГУ М.А.Прокофьев, новый декан философского факультета В.Ф.Берестнев (по основной работе — заместитель директора Института философии) и новый парторг факультета А.М.Ковалев 16 июня доложили Маленкову, что «партийная организация разоблачила существовавшую на кафедре диалектического и исторического материализма группу преподавателей во главе с профессором Белецким, извращавших в преподавательской работе марксистско-ленинскую теорию. Было установлено, что бывший руководитель кафедры профессор Белецкий насаждал на кафедре групповщину, семейственность, культивировал зажим критики и самокритики, подбирал кадры из числа своих сторонников» (там же, д. 31).
«Старая площадь» до поры не вмешивалась в конфликт. Баланс сил сохранялся отчасти благодаря министру Кафтанову, который находил аргументы в защиту Белецкого. Складывается впечатление, что, несмотря на значительные усилия, прикладывавшиеся весьма влиятельными врагами Белецкого для его устранения, Маленков, Суслов и Шепилов не считали возможным принять меры против него. Не исключено, что Сталин дал понять о своем, во всяком случае, нейтральном отношении к этому делу. 14 июня 1949 года (как раз за два дня до обращения университетского начальства в ЦК) Белецкого принял начальник Отдела пропаганды и агитации Д.Т.Шепилов и сообщил заведующему кафедрой, что вопрос о его снятии с работы не стоит1. Тем не менее война продолжалась. Коллектив не мог поверить, что Белецкий добился победы. Но возможности коллектива были исчерпаны, и ему оставалось только пойти по второму кругу. 30 июня опять собрали партийное собрание и вынесли резолюцию «возражать против вовращения Белецкого на работу». В начале июля аналогичное решение принял Ученый совет, а Белецкий опять написал жалобу в ЦК Шепилову, не дожидаясь результатов разбирательства. Он писал, что после приема в ЦК и заверений со стороны Шепилова в том, что его взгляды не считаются антимарксистскими, положение в МГУ не изменилось,
сотрудников кафедры и студентов продолжают привлекать к партийной ответственности, «пошла прежняя свистопляска с обращением к студентам, аспирантам», к старым инсинуациям прибавились обвинения в богданов- щине, в связи с Тито и т.п. Если ЦК разобрался в деле, то «почему же меня треплют как антимарксиста на собраниях?» — спрашивал Белецкий (там же, л. 151, 151об., 152). 7 июля в дело вмешался сам Суслов — секретарь ЦК. Он распорядился прекратить преследования Белецкого. А 8 июля было принято решение ЦК ВКП(б), где большая часть обвинений против него признавалась необоснованной.
Видимо, власть высшего партийного руководства не распространялась столь далеко, чтобы травля заведующего кафедрой диалектического и исторического материализма прекратилась. Даже летние каникулы в университете не отразились существенным образом на накале борьбы. 27 июля 1949 года к Суслову обратился аспирант философского факультета А.И.Вербин и сообщил «маленькие факты, которые... помогут распутать большие факты». Он писал: «Мне кажется, что парторганизация философского факультета МГУ при поддержке парткома МГУ сделала ошибку, когда на партсобрании путем голосования (выделено в оригинале. — Г.Б., И.Д.,) решила теоретические вопросы и обвинила профессора Белецкого в извращении ряда теоретических положений марксизма... Раздув в действительности имеющиеся практические ошибки профессора Белецкого, начали привлекать к партответственности и исключать из аспирантуры за извращение теории марксизма аспирантов, научным руководителем которых был профессор Белецкий. Например, меня исключили из партии и поставили вопрос об исключении из аспирантуры за поддержку и некритичесое восприятие ошибочных положений профессора Белецкого... Правда, партком МГУ мне вынес строгий выговор с предупреждением, но мне думается, что практика исключения из аспирантуры и привлечения к партответственности аспиранта за ошибки... научного руководителя — не правильна» (там же, л. 40, 40об.). Действительно, не имея возможности расправиться с Белецким, факультетское начальство подвергло систематическому террору студентов и аспирантов — даже тех, кто не обнаружил приверженности его идеям. При отборе кандидатов в аспирантуру в 1949 году основной
вопрос был следующий: «Сколько раз и где ты выступал против Белецкого?» (там же, л. 44). Продолжался активный поиск компрометирующего материала, в частности, кто и когда встречался с «врагом народа» Гольдент- рихтом. Но эта улика оказалась слабой. С Гольдентрих- том философы виделись вроде бы один раз — в гостях у Мельвиля, где кроме Белецкого присутствовали Келле, Ойзерман, Дынник, Светлов, Андреева и Ковальчук[176].
К осени наметился новый раунд борьбы между Белецким и философским факультетом, но силы Белецкого были на исходе. Он просил Центральный Комитет партии принять меры и оградить его от издевательства и травли. «Я согласен уйти куда угодно, на любую работу, только бы прекратилось это невыносимое положение», — писал профессор Г.М.Маленкову 3 сентября 1949 года (там же, л. 44). 7 сентября столь же отчаянное письмо было направлено им М.А.Суслову. В письме говорилось
о продолжающейся расправе над сотрудниками кафедры (уволены три человека, один исключен из партии, девять человек получили партийные взыскания) и ставился вопрос: «Что за этим скрывается?». Ответ на вопрос был совершенно однозначен: «Активно действующая александровская групповщина» (там же, л. 44). Обоснованность этой версии не вызывала сомнений в Отделе пропаганды и агитации. В сентябре «дело профессора Белецкого» было поручено молодому и непричастному к философским дрязгам сотруднику отдела А.М.Румянцеву (будущему вице-президенту Академии наук СССР). Рассмотрев материалы дела, лично побеседовав с его участниками, Румянцев пришел к выводу о необоснованности обвинения Белецкого «в извращении, ревизии и вульгаризации основных положений марксизма-ленинизма». Он предложил отменить решение партсобрания факультета и приостановить рассмотрение персональных дел сотрудников кафедры[177]. Белецкому же было в который раз указано на необходимость защитить диссертацию. Так «дело Белецкого» вроде бы стало завершаться. 22 сентября заместитель заведующего Отделом пропаганды Попов и министр Кафтанов в докладной записке Суслову практически повторили заключение Румянцева, 27 октября приказом по Министерству высшего образова
ния было отменено решение Ученого совета философского факультета МГУ от 4 июля, и дело вынесено на Секретариат ЦК[178]. Но не прошло и нескольких месяцев, как конфликт возобновился с новой силой. Беда заключалась в том, что постановлением ЦК ВКП(б) от 19 ноября
1949 года в должности декана философского факультета МГУ был утвержден профессор А.П.Гагарин. Предлагая его кандидатуру, министр Кафтанов рассчитывал отправить Белецкого в докторантуру, а заведующим кафедрой назначить Гагарина — только при таком условии Гагарин соглашался работать деканом философского факультета, понимая, что позиция декана эфемерна, а завкафедрой — надежна. В январе 1950 года в ЦК ВКП(б) на имя Г.М.Маленкова поступило новое заявление Белецкого: он обвинял партком, ректорат, парторганизацию и деканат факультета в неправильном отношении к нему[179]. Речь шла также об обсуждавшемся уже много раз факте изъятия из журнала «Вестник Московского университета» статьи Ойзермана, Вербина и Келле по поводу ошибок Кедрова, но главная цель письма заключалась в том, чтобы не допустить создания еще одной кафедры диалектического и исторического материализма для Гагарина (предполагалось, что одна кафедра будет преподавать диамат и истмат студентам гуманитарных факультетов, другая — естественникам). Претензии Белецкого были отклонены, и в 1950 году на философском факультете возникли две кафедры: исторического материализма, которую возглавил Гагарин, и диалектического материализма — то, что осталось Белецкому.
Когда позиции сторон определяются, конфликт вырождается в вялотекущую склоку. Ее значение для истории советской философии заключается лишь в том, что благодаря этой склоке сохранялась относительная стабильность на философском факультете, по крайней мере в первой половине 50-х годов. Долгое время разбирались персональные вопросы Вербина, которого никак не зачисляли на кафедру Белецкого. 9 декабря 1950 года он обратился с жалобой на университетское начальство к Маленкову, не преминув напомнить, что «старого бундовца» Г.М.Гака на работу все-таки взяли[180]. 2 марта
Ю.А.Жданов давал объяснения Маленкову по поводу очередного заявления Белецкого, предлагая закрыть дело, которое к тому времени приняло скверный оборот: обнаружилось, что при обмене воинских документов на паспорт Вербин скрыл, что имеет жену и ребенка, а затем — в силу стечения личных обстоятельств — женился вновь, не оформив расторжение предыдущего брака. Да еще в самый разгар скандала, когда партбюро пыталось разобраться в женах Вербина, в университет явилась женщина, назвавшаяся его третьей женой, и пожаловалась, что он отказывается дать фамилию своему ребенку1. 16 февраля 1952 года декан философского факультета А.П.Гагарин в письме завсектором науки ЦК ВКП(б) Ю.А.Жданову посвятил его во все подробности дальнейшего развертывания событий вокруг «проблемы Белецкого». Хотя этим делом занимался лично Маленков, конфликт на философском факультете не прекращался.
Во многом благодаря руководству Института философии в начале 50-х годов у Белецкого в глазах общественности сложилась репутация «врага народа». В.Ф.Голосов, фцлософ из Красноярска, пытавшийся добиться от Института философии рассмотрения своей докторской диссертации и плохо искушенный в столичных интригах, в письме на имя М.А.Суслова 9 июня 1951 года указывает: «Меня обвинили в том, что я «сторонник». 3.Я.Белецкого, которого я до этого совершенно не знал и о существовании которого на свете даже не подозревал. Ненависть к Белецкому была так ярка, что вначале я думал, что это какой-то политический враг нашей партии и Родины, и лишь впоследствии узнал, что 3.Я.Белецкий член ВКП(б) и руководит кафедрой диалектического материализма в МГУ» (там же, ф. 17, оп. 133, д. 8, л. 186).
В 1952-1953 годах Белецкий боролся с «идеалистическими, по сути дела, меньшевиствующими взглядами» Гака, по его убеждению, бывшего бундовца. Действительно, Гак оказался бывшим меньшевиком и бундовцем — его перевели от греха подальше в пединститут. Одновременно Белецкий требовал снять с должности завкафедрой истории философии Т.И.Ойзермана. При проверке
заявления ЦК КПСС расценил конфликт на философском факультете как проявление беспринципности в поведении руководителей кафедр факультета Черкесова, Ойзермана, Белецкого, Щипанова. В своем решении от 1 января 1953 года партком МГУ предупредил всех четверых о строгой партийной ответственности. В это же время вместо Гагарина деканом был назначен Молодцов[181].
Карьера профессора Московского университета закончилась для Белецкого в 1955 году. Как часто бывает, дело началось со случайного эпизода. На партийном собрании факультета обсуждалось постановление ЦК КПСС об изменении практики планирования сельского хозяйства. Некоторые выступавшие допустили слишком вольное толкование сельскохозяйственных вопросов, в результате чего на факультете стала работать комиссия ЦК КПСС[182]. Получилось так, что вина за упущение в воспитательной работе со студентами была возложена на Белецкого. Опять возникли обвинения по поводу неправильного толкования предмета философии, объективной истины и т.п. В своем докладе на заседании Ученого совета Белецкий пытался обосновать свои взгляды, вероятно догадываясь, что обречен на поражение. Сталинского ЦК уже не было, и защитить его было некому. Белецкий перешел из университета в Московский инженерно-экономический институт, были вынуждены уволиться большинство его учеников.
Профессор Белецкий умер в 1969 году. На похороны пришло много людей, и приверженцы Белецкого еще долго собирались каждый год в день его рождения.
«Свободная мысль», 1993.
В.Д.Есаков
К истории философской дискуссии 1947 года
В историю отечественной науки вторая половина 1940-х годов вошла как особый период взаимоотношений науки и общества, как время прямых вторжений тоталитарного государства в развитие науки. Формой непосредственного идеологического диктата над деятельностью ученых стали так называемые научные дискуссии. Они являлись выражением стремления партийно-бюрократических структур к унификации развития знания, насаждению единомыслия в основных направлениях научной деятельности. Уже хрестоматийными стали и вошли в учебники упоминания о философской дискуссии, лысен- ковской сессии ВАСХНИЛ, вторжении в развитие физики и химии, о дискуссиях по вопросам языкознания, физиологии и т.д., но степень их изучения весьма различна.
Историки науки к настоящему времени провели значительную работу по анализу и обобщению развития научных направлений в тот сложный период. Проанализированы основные научные работы, опубликованные в те годы с учетом допускавшихся различий в точках зрения, научно-организационные решения, правительственные постановления, стенограммы дискуссий, большинство которых были обнародованы в свое время, а также общественно-политическая публицистика по проблемам науки. Наиболее активно изучалась историческая ситуация в таких пострадавших в то время научных направлениях, как генетика, физиология, языкознание, физическая химия и т.д. Философы приступили к изучению проблем взаимоотношений между наукой и властью в условиях тоталитарного общества. Обобщение публиковавшихся в свое время материалов, а также воспоминаний непосредственных участников «научных дискуссий» позволило выявить тот непоправимый ущерб, который был нанесен отечественной науке и последствия которого ощущаются еще и сегодня. Особенно большой урон был нанесен развитию философии в нашей стране.
Вместе с тем, объективное раскрытие многих процессов развития советского общества, в том числе и разви тия науки, было чрезвычайно затруднено в связи с за крытостью информации в условиях тоталитарного государства, непредсказуемой политикой, проводившейся н условиях строжайшей государственной тайны, секретностью сведений об основных и наиболее значимых направлениях научного творчества и научно-организационной деятельности ученых, а также жесткой цензурой любых сведений, публиковавшихся на страницах периодики. Лишь в самое последнее время, особенно с возросшей с начала 1992 г. доступностью партийных и государственных архивов, открылись возможности для углубленного изучения многих сторон жизни советского общества, в том числе и судеб отечественной науки. Архивные источники позволяют по-новому подойти к освещению и такой практически не исследованной страницы общественной жизни, как философская дискуссия 1947 г.
Развитие философии в СССР в послевренный период остается, пожалуй, наименее исследованным направлением истории советской науки. В результате подавления философии в 1920 — 30-е годы произошла в значительной мере подмена философии партийно-политической пропагандой, сращивание официальных философов с работниками партийно-бюрократического аппарата. Мощная система подготовки партийных научных кадров привела к тому, что ставленники номенклатуры заполнили «множество кафедр и учреждений, образовали призванную исполнять предписания Сталина идеологическую полицию. Последняя, действуя от имени философии, компрометировала тем самым высокую, благородную и бескорыстную форму работы человеческого духа»[183].
Одна из основных причин сдерживания осмысления проблем развития философии за годы Советской власти в целом, и особенно в послевоенный период, связана с тем, что все последние десятилетия важнейшие должности в философских научных учреждениях, включая академические, находились в руках активных проводников сталинского курса подавления свободной научной мысли. С избранием в 1939 г. в действительные члены АН СССР М.Б.Митина, а в 1946 г. Г.Ф.Александрова утвердилось
полное господство в Академии наук СССР философов, формировавшихся почти исключительно из среды партийных функционеров. Ключевую роль в этом процессе сыграл П.Н.Федосеев, ставший в 1946 г. членом-коррес- пондентом АН СССР, который «успешно адаптировался ко всем социально-политическим переменам, оставаясь на вершине академической философской пирамиды и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе, и при Андропове, и при Черненко (которому вручил высшую академическую награду — золотую медаль Карла Маркса), и даже попытался стать идеологом перестройки»[184].
Конечно, возможны разные оценки тех или иных эпизодов развития нашей философии в годы тоталитаризма. Например, в книге М.П.Капустина «Конец утопии?» автор, говоря о «дискуссии» 1947 г., упоминает о книге Г.Ф.Александрова «История западноевропейской философии» как о первой в СССР, выполненной действительно специалистом-философом, добротной работе по истории западной философии[185].
Данной публикацией, построенной на материалах архива Секретариата ЦК партии, мне хотелось бы привлечь внимание историков философии к тем возможностям, которые архивные фонды открывают сейчас для историко-философских исследований.
«История западноевропейской философии» Г.Ф.Александрова вышла в самом начале 1946 г., когда в результате разгрома гитлеровского фашизма казалось, что после войны должны произойти значительные перемены в нашей стране, что советский народ своей кровью завоевал право на достойную человека свободную и счастливую жизнь.
Одним из важнейших направлений этих изменений должно было стать возрастание роли Советского Союза в мировом сообществе и расширение международного научного и культурного сотрудничества как продолжение военного и политического взаимодействий стран антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. Празднование в 1945 г. 220-летнего юбилея Академии наук СССР с участием зарубежных ученых, расширение доступа к иностранной, в том числе научной, литературе,
активизация участия СССР в международных научных организациях и другие процессы, по моему мнению, свидетельствовали об укреплении связей отечественной и мировой науки. Да и выход книги по истории европейской философии, казалось бы, говорит об этом же. Ведь ее автор был не просто научным сотрудником. С 1939 г. он был кандидатом в члены ЦК ВКП(б) и начальником Управления пропаганды и агитации Центрального Комитета партии.
Вначале книга была высоко оценена как одно из значительных достижений советской науки, как реальное доказательство справедливости выдвинутого в это время Сталиным положения о том, что советские ученые «сумеют не только догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами нашей страны»[186]. Вскоре после выхода книги академик М.Б.Митин от имени кафедры диалектического и исторического материализма Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б) представил работу Г.Ф.Александрова на соискание Сталинской премии. В представлении отмечалось, что эта книга «является глубоким научным исследованием... дает научное понимание как отдельных философских систем, так и всего процесса развития философских идей... дает всестороннее изложение учений крупнейших представителей мировой философии... Анализ и освещение всех вопросов даны в ней на высоком идейном уровне»[187].
6 апреля 1946 г. состоялось заседание секции историко-филологических и философских наук Комитета по Сталинским премиям при Совете Министров СССР. Председательствовал П.Н.Поспелов. Присутствовали: И.И.Мещанинов, М.В.Сергеевский, Е.В.Тарле, Н.К.Гудзий, А.М.Панкратова, П.Ф.Юдин, Б.Д.Греков, И.И.Минц, М.Б.Митин.
Представляя работу Александрова, Юдин отметил, что книга «безусловно представляет значительное явление в нашей исследовательской марксистской литературе. Это самостоятельное научное исследование, произведение крупного значения. Язык прекрасный. Написана она великолепно...» Митин целиком поддержал высказанную оценку. Поспелов, отметив, что книга «прошла
значительную проверку», что автор ее дорабатывал и она достойна присуждения, поставил вопрос на голосование. Секция единогласно высказалась за присуждение Александрову Сталинской премии[188]. Окончательное решение об этих премиях, как известно, определялось самим Сталиным, и он согласился с присуждением ее Александрову, по 2-й степени.
30 ноября 1946 г. Г.Ф.Александров был избран действительным членом Академии наук СССР. Но к этому времени положение его резко осложнилось.
Как один из руководителей партийного аппарата и ближайших клевретов Сталина, Александров знал, что в политике сталинского руководства наметились серьезные изменения, обострились взаимоотношения с недавними союзниками, начали сокращаться международные связи, т.е. наметились те тенденции, которые вскоре оформились в политику «холодной войны». Он только вряд ли предполагал, что одной из первых «жертв» этих изменений станет он сам.
В литературе уже высказывалось предположение, что поводом для философской дискуссии послужила критика Сталиным книги Александрова, с которой он ознакомился по настоятельной просьбе автора[189]. Нам не удалось документально удостовериться в обоснованности такой точки зрения. Но сомнения в ее правомерности возникли. Прежде всего потому, что критическое отношение Сталина, если бы оно существовало с самого начала, исключило бы получение Г.Ф.Александровым премии. Очевидно, был необходим побудительный стимул для изменения отношения к книге «корифея науки».
Формальным толчком для обсуждения и осуждения книги Г.Ф.Александрова послужило письмо профессора Московского университета 3.Я.Белецкого И.В.Сталину от 18 ноября 1946 г. Он писал:
«Дорогой Иосиф Виссарионович!
Приблизительно 2 ХЛ года тому назад было вынесено решение Центрального Комитета партии о 3-м томе 4 Истории философии», вышедшем под редакцией тт. Александрова, Быховского, Митина и Юдина.
Решение ЦК было воспринято как дальнейшее развитие указаний, данных Вами еще в 1931 г. о меньшевиствующем идеализме. Тем более, что 3-й том истории философии представлял собой яркий образец аполитического, безыдейного изложения истории философии.
Однако сейчас это решение ЦК оказалось сведенным на нет. Оно истолковывается в новом смысле. Выдвинута странная теория о том, что это решение вынесено не в связи с какими-то принципиальными, теоретическими ошибками, допущенными в 3-м томе, а по конъюнктурным соображениям: шла, мол, война с немцами, нужно было тогда их бить.
Война закончилась. Теперь следует все поставить на прежнее место. Немецкая философия должна занять свое прежнее положение. Конъюнктурность-де отпала.
Эта точка зрения кажется нелепой и на нее не следовало бы указывать, если бы она не была сейчас подкреплена делами»[190].
Именно 3.Я.Белецкий был основным критиком вышедшего в 1943 г. III тома «Истории философии». Следует напомнить, что еще в 30-е годы Институт философии АН СССР приступил к подготовке «Истории философии» в семи томах: т. I — Античная и средневековая философия, т. II — Возрождение и философия нового времени, т. III — Философия первой половины XIX века, т. IV — Философия Маркса и Энгельса, т. V — Буржуазная философия второй половины XIX и XX века, т. VI — История русской философии, т. VII — Ленин и Сталин.
Была развернута работа над всеми томами. Первый том был издан в 1940 г., второй — в 1941 г. В 1943 г. авторский коллектив этих томов — Г.Ф.Александров, Б.Э.Быховский, М.Б.Митин, П.Ф.Юдин, О.В.Трахтенберг, В.Ф.Асмус, М.А.Дынник, М.М.Григорьян — был удостоен Сталинской премии I степени. А вышедший в том же 1943 г. III том был подвергнут серьезной критике. В основу ее было положено письмо 3.Я.Белецкого И.В.Сталину. Вопрос о III томе обсуждался на заседании Политбюро ЦК и в мае 1944 г. было принято специальное постановление ЦК ВКП(б) «О недостатках и ошибках в освещении истории немецкой философии конца XVIII — начала XIX веков»[191].
В ноябре 1946 г. 3.Я.Белецкий вновь обращает внимание Сталина на «ряд вопросов, относящихся к проводимой у нас линии по философским вопросам». Он писал далее в своем письме от 18 ноября:
«В начале этого года т. Александров выпустил 2-м изданием свою работу под названием «История западноевропейской философии». Касаясь этой работы, я хочу изложить пункты расхождения, наметившиеся сейчас по вопросам истории философии и по вопросу интерпретации решения ЦК о 3-м томе истории философии...
Если прочесть «историю философии» т. Александрова, то можно убедиться, что новых каких-либо мыслей по вопросу об истории философии, как науки, он не дает. Он дает известные факты и даты...
Книга т. Александрова, правда, отличается... тем, что в ней приводятся цитаты классиков марксизма-ленинизма. В этом преимущество...
Тов. Александров, составив в 1939 г. плохой курс «истории философии», решил почему-то. что это наилучшее руководство по истории философии. В 1946 г. он его переиздает с какими-то улучшениями. Эти улучшения сводятся, однако, не к коренной его переработке и критике в свете решения ЦК о 3-м томе, а к некоторой перелицовке понятий, благодаря чему решение ЦК теряет всякий смысл».
• Далее Белецкий писал о Канте, Фихте, Гегеле как о философии немецкой буржуазии, о том, что Александров уходит на академический путь их раскрытия без оценки их идейно-политической стороны, в целом характеризуя позицию автора как «беспардонное, академическое изложение». «Тов. Александров решил сохранить свой старый учебник, но за счет решения ЦК по 3-му тому».
Отметив, что «руководящие работники философского фронта являются руководящими работниками Управления пропаганды ЦК. По занимаемому положению они обязаны давать лишь директивы, что и делают. У них в руках и печать, и академии и пр. пр.», Белецкий писал далее о допускавшихся ими нарушениях при защите своих диссертационных работ: «Мне непонятно... зачем нужно было профессору Московского университета т. Иовчуку идти защищать диссертацию в учреждение (АОН), где нет ни кафедры по русской философии и куда доступ возможен только по пропускам».
3. Я.Белецкий в заключение вновь возвращался к книге Александрова, указывая, что в рецензиях на нее не было никаких недостатков и что она «причислена к
классическим работам»... «Книга представляется в Сталинский Комитет и там оценивается второй премией, хотя по условиям конкурса она вообще вряд ли могла быть принята, как написанная в 1939 г.» Не мог автор пройти и мимо избрания Александрова академиком: «Началась кампания выборов в Академию наук. Руководство Управления пропаганды пожелало в полном составе войти в состав академиков. Их начали всюду выставлять, хотя для многих казалось, что некоторые из кандидатов могли бы подождать... и поработать на научном поприще...
Мне кажется, что сейчас философский участок нашего идеологического фронта нуждается в исключительном внимании к себе...
Устранить недостатки в работе без Вашей помощи невозможно»1.
Письмо 3.Я.Белецкого было разослано секретарям ЦК ВКП(б) и являлось основным документом при рассмотрении на заседании Секретариата ЦК ВКП(б) 26 декабря 1946 г. вопроса «Об организации обсуждения книги т. Александрова Г.Ф. «История западноевропейской философии». В результате было принято следующее постановление Секретариата ЦК:
«В связи с серьезными ошибками, допущенными в книге т. Александрова “История западноевропейской философии”, Центральный Комитет считает целесообразным:
1. Провести в Институте философии Академии наук СССР осуждение книги т. Александрова “История западноевропейской философии”.
2. Для участия в обсуждении книги т. Александрова пригласить научных работников и преподавателей в области философии и других общественных наук, партийных работников, а также работников министерств, занимающихся вопросами просвещения и культуры, всего в количестве 250 — 300 человек.
Обсуждению посвятить несколько заседаний, обеспечив при обсуждении полную свободу критики и обмена мнений по книге.
3. Итоги дискуссии опубликовать в журналах “Большевик”, “Партийная жизнь” и “Вестник Академии наук СССР”.
4. Подготовку и руководство на собраниях при обсуждении книги т. Александрова поручить т. Федосееву, обя-
зав его в суточный срок внести в Секретариат ЦК ВКП(б)
предложения о порядке обсуждения»1.
Первое обсуждение книги Г.Ф.Александрова «История западноевропейской философии» состоялось в январе 1947 г. в Институте философии АН СССР. Подготовка же этого обсуждения осуществлялась не академическими сотрудниками, а работниками аппарата ЦК партии. Детальная программа этой акции в соответствии с решением Секретариата ЦК была сформулирована П.Н.Федосеевым. 26 декабря 1946 г. он направил секретарю ЦК А. А. Кузнецову предложения о порядке обсуждения книги Г.Ф.Александрова, в которых признавалось целесообразным пригласить на заседания в Институт философии научных работников этого института — 40 чел., преподавателей МГУ — 28 чел., преподавателей философии и руководителей всех кафедр Академии общественных наук при ЦК ВКП(б) — 23 чел. и Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б) — 22 чел., руководителей кафедр философии московских педагогических институтов и военных академий — 14 чел., академиков, членов- корреспондентов и директоров институтов Отделения история и философии АН СССР — 23 чел., членов редколлегий «Правды», «Большевика», «Партийной жизни», «Культуры и жизни» и редакторов центральных общественно-политических газет — 25 чел., членов бюро МГК и МК ВКП(б) первых секретарей райкомов и заведующих отделами пропаганды райкомов г. Москвы — 70 человек, руководящих работников Политуправления Вооруженных Сил, Министерства высшего образования СССР и Министерства просвещения РСФСР — 15 чел., работников аппарата ЦК ВКП(б) — 40 человек. Всего приглашалось 300 человек. Именные приглашения «товарищам, привлекаемым к участию в обсуждении», должны были рассылаться Институтом философии АН СССР не позднее 28 декабря 1946 г., т.е. за две недели до обсуждения.
П.Н.Федосеев предложил установить следующий порядок обсуждения книги Александрова:
— открывает собрание директор Института философии АН СССР Васецкий;
— первым в порядке дискуссии выступает один ил следующих товарищей: Поспелов, Кружков, Федосеев, Иовчук; в выступлении дается обстоятельный критический разбор книги на основании указаний товарища Сталина;
— вслед за этим в порядке дискуссии слово предоставляется т. Белецкому (МГУ);
— последующие выступления пойдут в порядке записи;
— т. Александров выступает на первом и последнем заседаниях;
— заключительное слово было предусмотрено, но оставлен пропуск — «поручается т. ... «П.Н.Федосеев понимал, что вписанная сюда любая фамилия может обернуться непредсказуемыми последствиями. Это не его компетенция. Да и любой из секретарей ЦК, как в данном случае А.А.Кузнецов, не рискнул заполнить этот пропуск.
Было предусмотрено, что все выступления стенографируются, что стенограммы рассылаются авторам и должны быть исправлены в двухдневный срок.
Для более целенаправленной организации обсуждения в ЦК были вызваны Кружков, Поспелов, Митин, Юдин, Ильичев, Францев, Гак, Светлов, Васецкий, и им было поручено подготовиться к участию в дискуссии по книге Александрова.
Предложения П.Н.Федосеева специально обговаривали, что изложение хода дискуссии для печати подготавливают Институт философии АН СССР (г. Васецкий) и отдел философии журнала «Большевик» (т. Гак) и что это изложение представляется на рассмотрение Секретариата ЦК ВКП(б)1.
А.А. Кузнецов внимательно ознакомился с предложениями Федосеева и внес два уточнения: он увеличил число присутствующих работников аппарата ЦК ВКП(б) с 40 до 70 человек и зачеркнул директора Института философии Васецкого, как открывающего собрание, вписав вместо него Кружкова — тогдашнего директора Института Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). Одна эта замена ярко демонстрировала смену акцента с обсуждения истории европейской философии на пропаганду политики большевистской партии. А.А.Кузнецов 29 декаб-
ря 1946 г. направил предложения П.Н.Федосеева с внесенными им уточнениями секретарям ЦК Н.С.Патоличе- ву и Г.М.Попову1.
Пока в партийном аппарате и философских кругах готовились к официальному обсуждению книги Александрова, на имя «классика марксистской философии» продолжали поступать отклики с мест. Один из них, привлекший внимание и разосланный для информации заинтересованным лицам, принадлежал инженеру П.Ми- халевичу. Он писал Сталину 27 декабря 1946 г.:
«Уважаемый Иосиф Виссарионович!
Разрешаю себе обратиться к Вам по следующему вопросу. В настоящее время получила широкое распространение книга проф. Александрова Г.Ф. “История З.Е. философии”.
Ввиду большого чина и авторитета автора, а также присуждения ему Сталинской премии — книга не подвергается никакой критике и принимается в широких философских кругах, как абсолютно правильный курс истории философии.
Между тем, по-моему, книга проф. Александрова методологически построена принципиально неверно и поэтому должна перед дальнейшими переизданиями [быть] подвергнута жесткой большевистской критике.
Не являясь профессиональным философом — по про- ' фессии я инженер — все же ввиду важности вопроса, считаю нужным послать Вам прилагаемые критические замечания по книге проф. Александрова.
27.XII.1946 г.
2
П.Михалевич» .
9 января 1947 г. Поскребышев направил это письмо А.А.Кузнецову, а тот для ознакомления секретарям ЦК Жданову, Патоличеву и Попову, а также Александрову, Федосееву и Иовчуку[192].
Обсуждение книги Г.Ф.Александрова «История западноевропейской философии» в Институте философии АН СССР проходило 14, 16 и 18 января 1947 г. Стенограммы первых двух дней заседаний были пересланы в секретариат А.А.Жданова 24 января, а заключительного - 27 января[193].
К этому времени В.С.Кружков и Г.С.Васецкий уже направили А.А.Кузнецову «Краткие предварительные итоги обсуждения книги тов. Александрова Г.Ф. «История западноевропейской философии». Секретарь ЦК внимательно ознакомился с текстом, сделал подчеркивания, оставил помету: «Читал. А.Кузнецов», но удовлетворен не был[194].
Не был удовлетворен основной куратор проведенного мероприятия и проектом записки Кружкова и Васецкого на имя Сталина — этот проект был представлен на просмотр А.А.Кузнецову 28 января. К проекту были приложены копии представления Митина в Комитет по Сталинским премиям при Совете Министров СССР от имени кафедры диалектического и исторического материализма Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б) и выписка из стенограммы секции Комитета по Сталинским премиям о рекомендации книги Александрова. Ознакомившись с этими материалами, А.А.Кузнецов внес редакторскую правку, но не завершил ее. Оставил помету: «Мало объективности» и предложил доработать записку Сталину. На этом экземпляре имеется помета сотрудника Секретариата ЦК: «Архив. Дан новый вариант 16.11.47 г.»[195].
В отступление от предложений Федосеева, информационный материал для опубликования в журнале «Большевик» представлялся на рассмотрение секретарей ЦК не Васецким и Гаком, а тем же Кружковым. Первоначальный проект для «Большевика» был им представлен А.А. Кузнецову 7 февраля. На следующий день этот 16- страничный текст был переслан для ознакомления А.А.Жданову, Н.С.Патоличеву и Г.М.Попову[196]. Со своей стороны А.А.Кузнецов считал, как об этом свидетельствуют его собственноручные наброски, что информационный материал требовал следующий доработки:
«1. Почему состоялось обсуждение книги т. Александрова, чья инициатива.
2. Повышенные требования предъявлены лишь потому, что она является учебником для высших учебных заведений.
3. Начало не годится.
4. Указать содержание выступающих.
5. Не нужно указывать о достоинствах книги»[197].
Был забракован и переработанный 15-страничный материал[198]. 14 марта 1947 г. вопрос «Об итогах философской дискуссии в связи с выходом книги т. Александрова «История западноевропейской философии» обсуждался на Секретариате ЦК ВКП(б). Было принято решение: «Поручить т. Кружкову, с учетом состоявшегося на Секретариате ЦК обмена мнений, переработать проект материала для опубликования в печати об итогах обсуждения книги т. Александрова “История западноевропейской философии” и внести на рассмотрение ЦК ВКП(б). Срок 2 дня»[199]. В.С.Кружков 22 марта 1947 г. представил
А.А.Жданову уже информацию на 29 страницах[200]. А окончательный текст, размноженный для секретарей ЦК, занимал 43 страницы[201]. Он-то и был опубликован в «Большевике».
Приведенные документы и материалы, отмеченные в сносках, — это еще не философская дискуссия. Это — первая попытка преимущественно с помощью работников академического института провести обсуждение книги Александрова, но это обсуждение не удовлетворило партийное руководство.
К сожалению, в протоколах Секретариата ЦК нам не удалось обнаружить последующих решений об изменении характера и направленности дальнейшего обсуждения книги Александрова. Подобные решения принимались, очевидно, уже в Политбюро при непосредственном участии Сталина. Протоколы же Политбюро ЦК ВКП(б) после 1940 г. не доступны исследователям даже в современных условиях. Они хранятся в составе так называемого Президентского архива, на государственное хранение не переданы, и доступ к ним чрезвычайно затруднен.
Собственно философской дискуссией при ЦК ВКП(б) следует считать «совещание работников научнофилософского фронта, посвященное дискуссии по книге Александрова «История западноевропейской философии», которое под председательством А.А.Жданова проходило 16 — 25 июня 1947 г.
Накануне дискуссии сведения о ней проникли в различные круги номенклатуры. Списки участников дискуссии, естественно, составлялись в аппарате ЦК. В основной список вошли секретари ЦК, руководящие работники ЦК ВКП(б), республиканских и местных партийных организаций, Москвы и Ленинграда, т.е. вся идеологическая номенклатура страны. В списке можно встретить и жен руководителей партии и государства — Ворошилова, Жданова и других. В кругах советской научной и творческой элиты почувствовали обеспокоенность полнейшим утверждением партийных чиновников в столь влиятельной области интеллектуальной жизни. В результате появились два дополнительных списка приглашенных на философскую дискуссию. В первый список был включен 71 человек и среди них С.И.Вавилов, Е.С.Варга,
В.П.Волгин, Б.Д.Греков и др. Мы назвали только четыре фамилии — президента АН СССР и руководителей Отделения истории и философии АН СССР, — о которых не вспомнили составители основного списка. Во втором дополнительном списке значатся В.Вишневский, Ф.Панферов, К.Симонов, А.Фадеев и другие писатели, а также историк М.В.Нечкина и выдвигающийся идеолог Б.Н.Пономарев1.
Открывая по поручению ЦК ВКП(б) первое заседание философской дискуссии, А.А.Жданов сказал: «Уже то, что эта дискуссия проводится вторично, показывает, какое значение Центральный Комитет придает обсуждаемой теме. Тема эта, как вы сами понимаете, серьезная. После выхода книги в свет и в итоге ее изучения читателями выяснилось, что автор не совсем серьезно подошел к теме, в связи с чем книга вызвала большое количество критических замечаний и существенных поправок. Выяснилась, как вы знаете, необходимость дискуссии, и такая дискуссия была проведена в Институте философии Академии наук.
Центральный Комитет рассмотрел итоги дискуссии, которая проходила в январе месяце в Академии наук, и пришел к выводу, что как организация самой дискуссии, так и способы подведения итогов ее оказались неудовлетворительными»[202]. Не высказывая ни малейших претензий по существу проведенного обсуждения научной проблемы, причинами, побудившими ЦК организовать повторную дискуссию, А.А.Жданов назвал, во-первых, непривлечение работников из республик и крупнейших городов РСФСР, а во-вторых, то, что часть записавшихся (15 человек) не получила возможности выступить в прениях. По словам А.А.Жданова, не удовлетворило партийное руководство и то, что в представленных итогах обсуждения в академическом институте речи выступавших были даны лишь в кратком изложении. Именно этот формально-бюрократический подход, а не существо обсуждения проблем истории философии, якобы послужил поводом для того, чтобы ЦК «пришел к выводу, что дискуссия в том виде, в каком она была проведена, оказалась бледной, куцей, неэффективной, а поэтому и не имела должных результатов. В связи с этим ЦК решил организовать новую дискуссию»[203]. Любопытно отметить, что заседания проходили по вечерам, с 6 до 10 часов. Первыми выступили несколько человек из тех, кто не получил слова при обсуждении в Институте философии.
Несомненно, что центральным событием философской дискуссии явилось заранее планировавшееся выступление А.А.Жданова. Целая неделя потребовалась председательствовавшему, чтобы «войти в тему». Были составлены записки об основных недостатках книги Александрова, отмеченные в ходе дискуссии, и другие подготовительные материалы. Работа над текстом выступления была завершена к 23 июня, и текст направлен Сталину со следующим сопроводительным письмом:
«Тов. Сталину
Направляю Вам проект своей речи на философской дискуссии. Очень прошу Вас просмотреть и сделать свои указания. Речь предполагаю произнести завтра, 24-го июня в 6 ч. вечера, после чего, по-моему, следует вести прения еще в течение вечернего заседания 24-го и часть вечернего
заседания 25-го июня с тем, чтобы 25-го июня дать заклю чительное слово т. Александрову и на этом закончить дж куссию.
23/У1.1947 г.
А. Жданов»1
Это послание-автограф, написанный фиолетовыми чернилами. А ниже на том же листе ответ — простым карандашом:
«Т. Жданов!
Вышло не плохо. Хорошо бы разбить речь на две главы (глава 1-ая = критика учебника, глава 2-ая = о философ, фронте). Есть поправки в тексте.
И.Сталин»[204].
Правка И.В.Сталиным текста выступления А.А.Жда- нова по книге Г.Ф.Александрова «История западноевропейской философии»[205] (в прямые скобки взяты вычерк нутые Сталиным слова, а в круглые — замененные, прописными буквами выделены вписанные им; цифры, стоящие в начале строк, обозначают страницы маши нописного текста выступления, а в конце — указыва ют страницы публикации в журнале «Вопросы философии» № 1 за 1947 г.).
2. «Заранее прошу извинения за то, что буду прибегать к [умеренному] употреблению цитат...» — с. 256.
4. «[Второе.] Что касается научности учебника...» — с. 257.
10. «С появлением марксизма, как научного миросозерцания пролетариата [как учения масс] кончается старый период истории философии...» Вычеркнув отмеченные слова и поставив после них вопросительный знак, Сталин написал на полях: «НЕ ТО». А в следующем абзаце он вписал над строкой, что философия «стала научным оружием в руках ПРОЛЕТАРСКИХ масс — с. 259. Проведенное Сталиным редактирование Жданов счел достаточным и какой- либо иной правки не вносил.
И. «[Третье.] Совершенно неоправданным является тот факт...» — с. 260.
12. «[Четвертое.] Ряд товарищей указывали, что введение...».
И в том же абзаце: «Я уже говорил о неправильном и неточном определении предмета (науки) ФИЛОСОФИИ» — с. 260. В опубликованном тексте «ряд товарищей» заменен на «некоторые товарищи».
14. «Известна та страстность и непримиримость, с которыми марксизм-ленинизм (вели) ВЕЛ и (ведут) ВЕДЕТ острейшую борьбу со всеми врагами материализма» — с. 261. В опубликованном тексте «страстность» заменена на «страсть», а после «марксизм-ленинизм» вставлено «всегда».
16. «...марксизм возник, вырос и победил в беспощадной борьбе со всеми представителями идеалистического (мракобесия) НАПРАВЛЕНИЯ» — с. 261.
18. «Изложение философских взглядов в учебнике ведется абстрактно, объективистски (бесстрастно) НЕЙТРАЛЬНО» - с. 262.