Криуши , Долгая Нива и Пустой Конец (сегодня отчасти урочища).
- Степуша, вставай! Принесла кукщин свежего молочка!
Так бывало каждое утро. Сперва я не обращал внимания как она неправильно называет слово кувшин, позднее решил об этом сказать.
- Баба Мариша, не кукшин, а кувшин…
Как все деревенские старушки она отличалась набожностью, любила бывать в церкви, благо она находилась тут же рядом, охотно принимала у себя подружек, таких же стареньких, словоохотливых, как и она сама. Однажды я стал невольным свидетелем их разговора на кухне.
- У меня два дорогих Степушки, - повествовала баба Мариша, - один святой, Божий человек из Пюхтиц, а другой не такой, мирской, который спиктакли ставит…
Вскоре я увидел святого Степушку. В ожидании начала репетиции я сидел в избе за книгой. В дверях послышался робкий стук. Баба Мариша, сидевшая у окна, его не услышала. И вторичный стук до неё не дошел. Пришлось ей подсказать, что кто-то стучит. Вошел незнакомый человек в длиннополом пальто с теплой шапкой на голове. В руке у него был дорожный посох. Сняв головной убор, он стал истово креститься в правый угол, где висела икона Николая-угодника, прочитал несколько молитв и опустился на колени. Усердно помолившись, он тяжело поднялся с колен и только тогда обратился с приветствием к хозяйке.

Русская Нарва – Иван-Город.
- Дорогой ты мой старче Степушка, - будто заголосила баба Мариша, - спасибо родной, что ты осчастливил меня своим посещением и принес в дом божескую радость… отдыхай, родной, сейчас поставлю самовар…
Степан Крылов, так звали старца, которого хорошо знало буквально все Принаровье, жил около Пюхтицкого монастыря в маленькой избушке. Постелью ему служил деревянный гроб. Ходил он пешком по городам и селениям, заходил он туда, где его охотно принимали, молился и вместе с ним молились верующие, приходившие в дом, где он останавливался. Своей внешностью, манерой говорить, медлительностью движений, степенностью он напоминал схимника из скита. Жидкие рыжеватые волосы спускались до самых плеч, на лице не было растительности, если не считать нескольких волосинок на подбородке и висках. Походил он на скопца. Удивительно невыразительными были его глаза, бесцветные, устремленные куда то в сторону. На собеседника он не смотрел, поднимал глаза кверху.
Кипучую общественную деятельность проявлял настоятель Криушской церкви протоирей Владимир Преображенский. Храм блестел позолотой, свежими красками, чистотой и уютом. Зимой и летом, когда служб в церкви становилось меньше, отец В. Преображенский уезжал в Таллинн, Тарту, Нарву, где собирал пожертвования на ремонт храма. Он привозил не только деньги, но и всякий материал. Не без его участия, как энергичного собирателя пожертвований, в Криушах построили школу и народный дом. Просветительная работа в Криушах больше сосредотачивалась в школе, нежели в народном доме просветительного общества «Луч».

Старая Нарва.
В свое время старейшие учителя, супруги Гагарины не мало отдали сил и труда занятиям с молодежью в просветительном обществе «Луч», но отдача оказалась небольшой, и они переключились на занятия с детьми.
Появление в школе молодых учителей А.П. Пяристе и его жены О.С. Грибовой сразу же внесло живую струю интересной внешкольной работы. Ольга Семеновна организовала хор. Александр Павлович оркестр русских народных инструментов. Под его руководством ребята с огромным интересом занялись изучением шахматной игры.
Узнав, что я играю в шахматы, Александр Павлович предложил мне дать сеанс одновременной игры ученикам Криушской школы. К игре я отнесся несколько легкомысленно, считая, что играть с деревенскими детьми окажется несложно.
В большом школьном коридоре стояли два длинных стола, за которыми уселось играть 30 учеников 5-6 классов. Взглянув на своих противников, решил: «Ну, ничего, с этими-то я справлюсь».
Через полчаса я испытал первую горечь поражения, проиграв ученику 6-го класса Садовникову. Вскоре проиграл еще две партии. Мне стало вдруг стыдно перед ребятами и пред собой за столь несерьезное отношение к игре, за самоуверенность.
Сеанс продолжался около трех часов. Устал я изрядно. Результат игры, нужно откровенно сказать, оказался неважным для меня: из тридцати партий девять выигрышей, четыре проигрыша, и семнадцать ничьих. Маленькие шахматисты по праву торжествовали, считая, что они, как начинающие, сыграли неплохо, а вот инструктор оказался посрамленным.
Печальную картину полной разрухи и безхозяйственности представлял народный дом просветительного общества «Луч». Пришлось основательно заняться молодежью, чтобы заставить привести дом в божеский вид. Не раз я убеждался, что лучшим критерием работы деревенского просветительного общества является состояние народного дома, который является своего рода вывеской общественных дел молодежи данной деревни. И характерно, что худшими домами правобережной Наровы являются те, которым по положению надлежало быть образцовыми и примерными, поскольку они находятся в центре, рядом с волостными правлениями, - в деревнях Скарятина и Криуши.
Трудно даже определить, какой из них находится в более запущенном состоянии, кому отдать пальму первенства по количеству… грязи, пыли и прочей мерзости. Вместо того, чтобы по приезде в Криуши начать подготовку спектакля, организовать курсы, проводить литературные вечера, я вынужден был собрать молодежь для генеральной уборки здания народного дома, кое каких ремонтных работ, заставил повесить на окна занавески, украсить стены портретами русских писателей и репродукциями русских художников, на что ушло несколько дней.
Позднее я говорил на заседании правления просветительного общества «Луч»: «Неужели инструктор в деревне нужен для того, чтобы организовать молодежь на дела, не требующие руководства. За порядком и чистотой должно следить правление».
На театральном поприще в деревне имелась способная молодежь: Лидия Судакова, Манефа Сорокина, Александра Реброва, Александр Минин, братья Николай и Серафим Богдановы, Иван Стеклов, Петр Радугин.
Об Александре Минине хочу сказать особо. Перед Пушкинскими днями я предложил молодежи выступить на концерте с произведениями поэта. Каждому предлагалось на свой вкус выбрать желаемое стихотворение. А. Минин сказал, что он хочет читать «Медный всадник». Я спросил: «Ты предлагаешь прочесть вступление к поэме?». «Нет, - ответил Минин, - все, целиком!». И он на репетиции прочел всего «Медного всадника» наизусть, выразительно с большим настроением.
Усть-Жердянка
В четырех километрах от Криуш вниз по течению реки последня береговая деревня Принаровья – Усть-Жердянка. Проезжаем места, где в 1918 году шли упорные бои за переправу через реку. Здесь был деревянный мост, соединявший правобережье с дорогой, которая шла на Аувере. Мост сгорел. Теперь тут ходит паром. Берега высокие. У переправы хутор Барыгина – зимняя остановка для едущих по льду между Нарвой и Сыренцом.
Береговая дорога просматривалась с реки. Она проложена в лесу среди сосен и елей, встречаются лиственные деревья. Приближаемся к Усть-Жердянке. Издалека виднеется пристань. Она напоминает бревенчатый бастион старой русской крепости, выдвинутой вперед, словно предназначенный для защиты высокого берега. Деревня в зеленом убранстве. Над поверхностью воды свисают кустарники, между ними проглядывают привязанные к стволам лодки. Усть-Жердянские крестьяне любят удить рыбу, забрасывать сети. Ловится не ахти какая благородная рыба, - весной щука, изредка окунь, а чаще всего плотва.

Старая Нарва.
Деревня небольшая, по одной линии протянулась по берегу. Население занимается крестьянством и за последние годы, учитывая близость города, обратило серъезное внимание скотоводству, разведению молочных коров. Зимой на лошадях, летом на пароходе везут крестьяне на Нарвский городской рынок молочные продукты, птицу, ягоду. Живут безбедно, работают много.
В дождливую погоду стоит ступить на берег, как ноги плывут в глинистой жиже. Даже странно, берег высокий, есть сток для воды прямо в реку, а дорога утопает в грязи.
Дружными усилиями всего населения выстроен уютный народный дом, принадлежащий пожарному обществу. Это нисколько не мешает его руководству заниматься культурно-просветительной работой Чтобы в деревне не проводилось в народном доме, - будь то лекция, литературное чтение, спектакль, концерт, - собирается вся деревня и стар и млад и, что характерно для Усть –Жержянки, умеют слушать и ценить тех, кто работает на благо культурного развития населения.
Четырехклассная школа с одним педагогом, на порядочном расстоянии от деревни в сторону леса по дороге, ведущей в деревню Большая Жердянка. Построена с расчетом так, чтобы было удобно посещать занятия детям обеих деревень. Учитель живет в школе. Никакого участия в общественной жизни деревни не принимает.
Привычка все делать самим, ни к кому не обращаться за помощью, выковала из усть-жердянцев стойких, энергичных общественных деятелей. Они сами заботились о приезде в деревню инструктора по внеклассному образованию, окружали его заботой и вниманием, хотя понимали, что поскольку в деревне отсутствовало просветительное общество, он не обязан здесь бывать. В начале двадцатых годов в Принаровье прошла волна «крещения» новыми фамилиями крестьян, у которых как известно фамилии записывались по именам и прозвищам дедов. В Усть-Жердянке появились такие новые фамилии: Пушкин, Суворов, Тургенев, Трепов, Милюков и даже Анна Каренина. А на пароходе «Заря» плавал матросом крестьянин из деревни Криуши, взявший себе фамилию Ленин.
Низы
Об этой деревне нужно говорить особо. Считается она принаровской, хотя входит составной частью в Козескую область и к реке Нарове имеет отдаленное отношение, соседствуя с рекой Плюссой. Низы почти на одинаковом расстоянии от Криуш и Нарвы. Только волостные дела заставляют жителей Низов следовать в Криуши.
Обычно все они едут по всяким делам в Нарву по большому шоссейному тракту Нарва – Гдов – Псков. Рядом с шоссе незадолго до первой мировой войны была построена имевшая стратегическое значение железная дорога, которая сыграла немаловажное значение в дни наступления Юденича на Петроград. Поздней осенью 1920 года по этой дороге из Гдова возвращались на станцию Нарва 2 разбитые части Белой армии.
От Нарвы до Низов 16 километров. По пути ни одной деревни. Лишь недалеко от Низов на берегу Плюссы можно разглядеть деревню Усть-Черно.
Унылая картина сплошных болот до реки Плюссы, впадающей в Нарову. Переезд через Плюссу происходит на пароме. Паромщик в продолжение почти часа с огромными усилиями перетягивает тяжелую неклюжую баржу по стальному тросу.
Обычно я ездил в Низы на велосипеде. Скромно развивалась деятельность Низовского культурно-просветительного общества «Сеятель». До постройки народного дома в конце тридцатых годов лекции, курсы, занятия драматического кружка, спектакли проходили в здании школы. Большую помощь обществу оказывал учитель Михаил Ефимович Шмарков, энтузиаст по всем общественным делам. И, тем не менее, многое ему не удавалось сделать из-за инертности населения, малой активности молодежи.
Ничего не получилось с организацией в деревне кооператива, процветал частник.
Шмаркову удавались детские спектакли. Он сам рисовал декорации, жена помогала шить костюмы, готовить реквизит. Утренники собирали не только всю деревню, приходили из Усть-Черно, с хуторов.
Памятным, необычным в моей инструкторской практике явился организованный мною в 1938 году литературный вечер, посвященный 70-летию со дня рождения Максима Горького. Присутствовала не только молодежь, но и старшее поколение. Большой класс был переполнен. Среди слушателей находился священник, настоятель Низовской Михайловской церкви Иван Анисимов.

Старая Нарва. Кренгольм.
Во вступительном слове я рассказал о большом жизненном пути Горького, подчеркнув особо, с каким трудом он поднимался с низов трудовой России и благодаря своему необычайному таланту достиг вершин писательской славы. Говорил о Горьком, как о неистовом революционере, смело бросившем вызов царскому правительству и за что неоднократно подвергавшемуся преследованиям, тюремному заключению, ссылке. И, наконец, подробно остановился на характеристике Горького, как неповторимого художника слова и мысли, который оставил нам в наследство огромные литературные полотна, рассказывающие о жизни свободолюбивых, протестующих против гнета и притеснения людей труда.
В заключение я читал «Песню о буревестнике», «Старуха Изергиль», отрывки из «Челкаша», и «Макара Чудра».
Литературный вечер продолжался с небольшим перерывом около трех часов. Помню, устал я изрядно. Свое выступление закончил обращением к присутствующим читать Горького. Поблагодарив за внимание, объявил окончание вечера.
Не успели слушатели подняться со своих мест, как встал священник Анисимов.
- Разрешите, - обратился он ко мне, - сказать несколько слов по поводу проведенного вами вечера памяти Горького.
Не задумываясь разрешил ему выступить. И тут началась оголтелая, злопыхательская речь с обвинениями Горького в безбожии, в его стремлении сеять рознь между различными классами населения России, в восхвалении босяков. Отрицая за писателем мастера художественного слова, Анисимов договорился до того, что Горький анархист и все его книги необходимо предать огню.
- А вам, господин Рацевич, как нашему инструктору внешкольного образования, - обратился он ко мне, - не к лицу устраивать такие литературные вечера. Мы должны воспитывать молодежь в христианской добродетели, а не прививать ей атеизм и революционные настроения…
Дальше я лишил слова священника Анисимова и попросил его сесть на свое место, что он и сделал. Я понял, что мне необходимо сразу же опровергнуть несостоятельность болтовни Анисимова. Слушатели этого ждали и внимательно отнеслись к моей отповеди. Когда я отвечал священнику, по глазам сидевших в зале понял, что мне сочувствуют и верят тому, что я говорю.

Старая Нарва. Аптека.
- Горький потому нам понятен и дорог, что жизнь свою отдал за лучшие человеческие идеалы, - так закончил я свое выступление.
Молодежь окружила меня, долго и много расспрашивала о тернистом пути писателя и обещали читать его произведения. Анисимов выходил из школы в окружении старух – богомолок…
Долгая Нива
Если бы экономическое развитие Нарвы в период буржуазной Эстонии не задерживалось по причине всякого рода кризисов, безработицы, социальной несправедливости, давно бы не стало на карте окружавших город небольших русских деревень – Поповка, Кирпичная слобода, Долгая Нива, Захонье, Заречье, Комаровка, - они, безусловно, при росте города и его населения вошли бы в черту города, как его форштадты, например Паэмурру, Кадастик, Плитоломня, Ивангородский и Нарвский форштадты.
Всей своей экономикой Долгая Нива, которую отделяет от Нарвы два километра, связана с жизнью города. Продукцию огородов долгонивовцы везут на нарвский рынок, их молочные продукты котируются высоко у нарвских домохозяек.
Ассенизаторы из Долгой Нивы каждую ночь работают в Нарве. Молодежь трудится на фабриках Льнопрядильной и Суконной мануфактур. Деревня живет в достатке. В каждом дворе лошади, коровы, овцы, свиньи и всякая дичь.
Тяга к культурно-просветительской работе велика. Казалось бы: совсем рядом народные дома мануфактур, отличные коллективы – любители драматического и музыкального искусства и, тем не менее, долгонивовцы, патриоты своей небольшой деревни, построили небольшой уютный народный дом, ставят спектакли, концерты, организуют курсы, приглашают из Нарвы лекторов, добились того, что к ним охотно приходят в гости и нарвитяне и фабричная молодежь. Продолжительное время молодежь
Долгой Нивы варилась в собственном соку, старалась обходиться без «варягов», сами, как могли и умели, ставили спектакли.
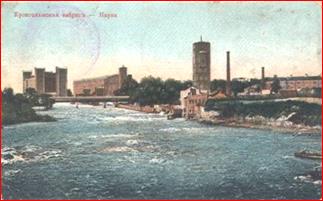
Старая Нарва. Кренгольм.
Посещая вечера отдыха в Ивангородском пожарном обществе, молодежь познакомилась с режиссером вечеров отдыха Кузьмой Ивановичем Плотниковым и пригласила его в свою деревню. Он стал бессменным режиссером в Долгой Ниве. Работал он безвозмездно, молодежь его очень любила и совершенно не нуждалась в помощи театрального инструктора.
Поскольку долгонивское просветительное общество состояло членом Русских просветительных обществ, платило членские взносы и выполняло все обязательства перед центральной организацией, я считал своим долгом там бывать. Не часто, согласуясь с К.И. Плотниковым, ставил спектакли, а больше занимался клубной, библиотечной работой, организовывал при поддержке Нарвского Народного университета лекции по медицине, литературе, истории, с показом диапозитивов читал населению литературные произведения Гоголя, Лермонтова, Пушкина.
В Долгой Ниве имелись театральные самородки, которые могли стать украшением профессиональной сцены. Одним из таких талантов деревенского театра был Николай Зарековкин, прирожденный комик, отличавшейся удивительным свойствам внешне быть всегда серьезным и мимикой лица, скромным движением рук, ног, поворотом туловища без слов создавать сценический образ, глядя на который можно было без конца смеяться. О нем у меня будет рассказ впереди в описании поездки деревенских артистов на День Русского просвещения в Таллинне.
Не раз приходилось слышать от учителей близлежащих от города деревень о том, что нет никакого смысла создавать на месте культурно-просветительные организации, потому что деревенское население может посещать интересующие ее мероприятия в городе. Свои возражения я всегда подкреплял примером работы Долгонивского русского просветительского общества.








