Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства
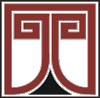
Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства
Продюсерский факультет
Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств
Е. Л. Шварц
«Обыкновенное чудо»
Курсовая работа по анализу пьесы
Выполнила:
студентка I курса очной формы обучения
М. А. Херсонова
Проверила:
доцент кафедры русского театра
театроведческого факультета
И. И. Бойкова
Санкт-Петербург
2015
Введение
В 1944 году Евгений Львович Шварц начинает работу над самым личным, исповедальным произведением, сочинение которого заняло почти десять лет. Речь пойдёт о пьесе «Обыкновенное чудо» – «пьесе о влюблённом медведе», как называл её сам Евгений Шварц. «Эту пьесу я очень люблю, – вспоминал драматург, – и прикасаюсь к ней с осторожностью и только в такие дни, когда чувствую себя человеком»[1].
Официальной датой её публикации принято считать 1954 год, но актёр и режиссёр Михаил Козаков в своих воспоминаниях пишет, как в 1948 году, мальчишкой, он присутствовал на первой читке пьесы, причём тогда она ещё называлась «Медведь». Забавная деталь сохранилась в детской памяти: к первому листу рукописи была прикреплена… Обёртка от конфет «Мишка на севере»[2].
Тот факт, что Шварц был автором журналов и книжек для детей, писал пьесы для Ленинградского ТЮЗа, сотрудничал с театром Комедии и его руководителем Николаем Акимовым, поможет глубже, на мой взгляд, понять произведения Шварца, окунуться в их особую атмосферу, проникнуться его идеями, чувствами и мыслями.
«Обыкновенное чудо» Шварца приобрело в СССР прежде небывалую популярность именно после экранизаций этой пьесы, первая из которых состоялась в 1964 году (режиссёры – Эраст Гарин, Хеся Локшина), а вторая – в 1978 году (режиссёр – Марк Захаров).
Что касается театральных постановок, то на меня произвёл огромное впечатление мюзикл «Обыкновенное чудо», поставленный ещё в 2010 году на сцене Театрального центра на Дубровке в Москве (режиссёр – Иван Поповски, либретто – Юлий Клим).
Жанровое определение
Казалось бы, что может быть проще, когда сам писатель в подзаголовке к произведению указывает нам – «сказка в 3 действиях», а, как нам известно, сказки, чаще всего, предназначены именно для детей.
Но мир, созданный Шварцем, является не совсем привычной для нас сказочной, волшебной средой. Он более философичен и психологичен, тем самым более приближен к нашей, реальной, взрослой жизни. Об этом свидетельствует и ирония автора, которую он часто использует в беседе со своим читателем, наполненной состраданием и любовью к людям.
Таким образом, жанр здесь стоит определять как сказку-притчу, где любой взрослый, а не только ребёнок, прочитав пьесу, сможет научиться чему-то новому, вынести какой-либо жизненный урок, найти ответ на волнующий его вопрос. «…На свете есть вещи, которые производятся только для детей <…> Другие <…> фабрикуются только для взрослых <...> А вот у пьес Евгения Шварца, в каком бы театре они ни ставились, такая же судьба, как у цветов, морского прибоя и других даров природы: их любят все, независимо от возраста…»[3], – говорил по этому поводу Николай Акимов.
Сказка – уникальный жанр, который, на мой взгляд, соединяет в себе множество других: и мелодраму (рок судьбы Медведя), и комедию характеров (король), и комедию положений (например: переодевание принцессы в юношу), и трагикомедию (сцена казни придворных), и лирическую драму (любовь Медведя и принцессы).
Ещё в прологе человек, появившийся перед занавесом, а по сути сам Евгений Шварц, советует нам, подсказывает, как именно надо отнестись к этой пьесе и как её следует воспринимать, чтобы вся её сила полностью раскрылась перед своим читателем, ничего от него не утаив: «В сказке очень удобно укладываются рядом обыкновенное и чудесное и легко понимаются, если смотреть на сказку как на сказку. Как в детстве. Не искать в ней скрытого смысла».
Особенность названия
Уже с самого начала пьесы, в прологе, от нас не скрывают, что «Обыкновенное чудо» – название действительно странное. А является оно таковым ввиду противоречивости и парадоксальности этого словосочетания: «Если чудо – значит, необыкновенное! А если обыкновенное – следовательно, не чудо». Но объяснение наступает почти сразу: «Разгадка в том, что у нас – речь пойдет о любви. Юноша и девушка влюбляются друг в друга – что обыкновенно. Ссорятся – что тоже не редкость. Едва не умирают от любви. И наконец сила их чувства доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса, – что и удивительно, и обыкновенно».
Как уже было сказано, пьеса ещё до официальной своей публикации называлась «Медведь». То есть, центр внимания был перенесён на главного героя сказки – Медведя, который был до этого превращён в человека и должен быть опять стать зверем, преодолев множество испытаний на своём пути, одно из которых – любовь. На мой взгляд, Шварц сделал правильно, поменяв это название на «Обыкновенное чудо». Ведь речь здесь идёт о безграничной силе любви, которая способна излечивать больные от тоски сердца, толкать на безумные поступки, прощать друг другу обиды. Но главное – она может свершать настоящие чудеса.
Сюжет
«Перед занавесом появляется человек» ... Эта ремарка в прологе даёт понять, что пьеса уже изначально предназначалась именно для постановки в театре, а не просто для чтения. Этот человек сразу же рассеивает все сомнения, домыслы и догадки, которые могли возникнуть у зрителей, объясняя, почему же такое странное и противоречивое название у пьесы; какой жанр выбрал автор, чтобы наиболее полно рассказать о любви, о которой пойдёт речь в произведении; как следует отнестись к пьесе для более полного и глубоко её понимания и восприятия. Этот человек делит действующих лиц пьесы на людей, близких к «обыкновенному» и близких к «чуду», грубо говоря, на злых и добрых, что вполне характерно для сказки. Также в прологе нам вкратце сообщается фабула произведения, где «один волшебник женился, остепенился и занялся хозяйством. Но как ты волшебника ни корми – его все тянет к чудесам, превращениям и удивительным приключениям». И вот он ввязался в историю юноши и девушки, которые влюбились друг в друга, ссорились, едва не умирали от любви. «И все запуталось, перепуталось – и наконец распуталось так неожиданно, что сам волшебник, привыкший к чудесам, и тот всплеснул руками от удивления». От лица этого человека открыто заявляется, что «горем всё окончилось для влюбленных или счастьем», зритель узнает только в самом конце сказки. То есть, с самого начала пьесы это интрига держит нас в напряжении, цепляет и увлекает за собой.
В начале первого действия мы застаём хозяина усадьбы за работой. Он слышит, как к нему идёт его супруга, на которой он женат уже пятнадцать лет, а до сих пор влюблён в неё, как мальчик. Мы ещё не знаем этого хозяина, но оттого, что он испытывает к своей жене самые искренние, сильные и неподдельные чувства, этот герой с первых своих слов сразу располагает к себе и вызывает симпатию.
Предвещая приход хозяйки, мы без каких-либо сомнений представляем, как она ответит своему мужу взаимностью – встретит его с такой же нежностью и любовью. Но перед нами образуется ситуация, абсолютно противоположная ожидаемой: стоит грустная женщина, и обидел её никто иной, как собственный муж, сделав у цыплят по четыре лапки, а у курицы – усы, как у солдата. Хозяйка давно уже мечтает жить, как все нормальные люди, да и её муж не раз уже давал обещания по этому поводу, но ничего не может хозяин с собой поделать: «Ведь я всё-таки волшебник!», – оправдывается герой. Он то и дело норовит вытворить какую-нибудь шалость, а на предложение его жены сделать что-нибудь полезное для хозяйства, раз ему силы девать некуда, волшебник отнекивается, считая, что это нисколько не весело и вовсе не смешно.
Как бы то ни было, мы понимаем, что жена любит своего мужа безмерно, несмотря на все его проделки, ведь даже тот факт, что сделанного с цыплятами, по словам волшебника, никак не поправишь, вызывает у хозяйки не обиду и гнев, а смирение с произошедшим: «Ну что ж, ничего не поделаешь… Курицу я каждый день буду брить, а от цыплят отворачиваться».
Неожиданно для нас хозяйка, оставляя эту тему и перейдя, по её словам, к самому главному, начинает допытываться от мужа правды, каких же гостей им сегодня ждать и принимать у себя. Она настолько привыкла к странностям и причудам своего супруга, что не против, если даже к ним зайдут привидения поиграть в кости или призрак молодой монахини, как раз обещавший ей «захватить с того света выкройку кофточки с широкими рукавами, какие носили триста лет назад», что ещё раз доказывает её любовь и уважение к мужу. На увиливания волшебника от ответа она говорит: «Неужели ты думаешь, что от жены можно скрыть правду? Ты себя скорей обманешь, чем меня». Хозяйка настолько знает своего мужа и видит его насквозь, что тот всё-таки признаётся, что «будут, будут у нас гости сегодня»: «Ты уж прости меня, я стараюсь. Домоседом стал. Но… Но просит душа чего-нибудь этакого… волшебного. Не обижайся!»
Далее мы узнаём, что в гости должен пожаловать некий юноша, «из-за которого и начнутся удивительные события». То есть здесь нам даётся подсказка, кто же станет главной персоной в предстоящей истории. Хозяин прямо-таки сгорает от нетерпения и чуть ли не прыгает от радости от предстоящей встречи. И вот в дверях появляется «юноша как юноша». Примечательно то, что при первом же обращении к нему хозяин называет его сынком. И тому находится вполне разумное, но неожиданное для его жены объяснение: семь лет назад волшебник превратил медведя в человека. Потому-то хозяйка, спрашивая у юноши имя, переспросила от удивления его ещё раз, подумав, что Медведь – это прозвище, ведь муж не поставил её в известность о произошедшем: «Забыл! Просто-напросто забыл, и все тут! Шел, понимаешь, по лесу, вижу: молодой медведь. Подросток еще. Голова лобастая, глаза умные. Разговорились мы, слово за слово, понравился он мне. Сорвал я ореховую веточку, сделал из нее волшебную палочку – раз, два, три – и этого… Ну чего тут сердиться, не понимаю. Погода была хорошая, небо ясное…»
Но хозяйка сердится на волшебника вовсе не из-за этого, а потому, что терпеть не может, когда для собственной забавы мучают животных. Да и сам Медведь в подтверждение её слов признаётся, что «быть настоящим человеком – очень нелегко». Здесь автор, на мой взгляд, использует очень интересный ход – зверь, превратившийся в человека – для раскрытия философской тематики в своём произведении. Ведь только тот, кто прежде не являлся человеком, сможет с необходимой для этого полнотой познать все грани человеческой души, проникнуться всеми радостями и невзгодами, которые ожидают человека на его жизненном пути, столкнуться с противоречивостью человеческой натуры… Одним словом, сумеет понять, каково же на самом деле быть им.
Однако ж волшебник вовсе не стыдится своего поступка, а наоборот, гордится тем, что из живого сделал ещё более живое. К тому же юноша для того и приехал к ним в гости, чтобы снова стать медведем. Но, естественно, как это и бывает чаще всего в сказках, произойдёт это лишь при одном условии – в Медведя должна влюбиться принцесса и поцеловать его. Явно не ожидав такое услышать, хозяйка опять с удивлением просит повторить, после чего сразу же впадает в отчаяние, ведь никто не подумал, какая же участь ждёт бедную влюблённую принцессу! Здесь жена хозяина предстаёт перед нами как глубоко переживающая за других личность. Кажется, что только она одна понимает, насколько же плачевными могут оказаться последствия этого обратного превращения юноши в медведя, поскольку дело придётся иметь с людьми, да ещё с молодыми, да ещё и с влюблёнными!
Но ничего уже не поделать. Волшебника не остановить. И ближе к середине первого действия мы узнаём из его уст следующее: «Я сделал так, что один из королей, проезжающих по большой дороге, вдруг ужасно захотел свернуть к нам в усадьбу! И вот он едет сюда со свитой, министрами и принцессой, своей единственной дочкой». Стоит заметить, что подобного рода приёмы, которые использует драматург в своей пьесе, и введение такого героя, как волшебник, позволяет автору, как мне кажется, направлять развитие действия в нужное ему русло, не обязуясь прокладывать для читателей и зрителей какие-либо причинно-следственные связи, так как это сказка, и всё здесь может совершаться по волшебству, по одному лишь желанию волшебника.
Далее происходит довольно комичная ситуация, коих в течение пьесы повстречается достаточно большое количество. Хозяин, ещё до приезда короля и его свиты, откровенно говорит, что терпеть их не может, и заведомо предполагает, что к ним войдёт «грубиян, хам, начнёт безобразничать, распоряжаться, требовать», в то время как хозяйка своими ответами показывает, что она верит в то, что люди бывают хорошими, даже если это король. Таким образом возникает спор между хозяином и хозяйкой.
Поначалу, следя за репликами появившегося короля, мы думаем, что волшебник оказался не прав. То, что король ведет себя, как вежливый, мягкий и учтивый человек, вызывает у хозяина не приятное впечатление, а подозрение, негодование и досаду, что вполне может вызвать смех у зрителей. Волшебник чувствует явный подвох в происходящем и понимает, что что-то здесь не так. И как только король признается, что он очень страшный человек, тиран и, вообще, «коварен, злопамятен, капризен», хозяин радуется, как малое дитя, понимая, что оказался прав в своем первоначальном негативном мнении о короле. Здесь мы понимаем, что, какие бы надежды на лучшее не питали хозяйку и зрителей, король в пьесе с самого начала заявлен как герой с типичными, присущими только королям в сказках чертами характера, и уверенность волшебника в своей правоте непременно это в итоге и доказывает.
Необычным является объяснение короля причины столь скверного его характера. Во всем виноват вовсе не он... А его предки: «Я вместе с фамильными драгоценностями унаследовал все подлые фамильные черты». Естественна реакция хозяина в виде смеха на эту историю, так как король выставляет себя несчастной, невинной жертвой, тяжко страдающей от все этого.
И вот складывается ситуация, которая и проявляет натуру короля во всей её «красе»: обозлившись на смех волшебника, но не показывая этого, король предлагает хозяину и хозяйке выпить за их встречу «драгоценное, трехсотлетнее королевское вино». На отказ хозяина на это предложение король тут же впадает в ярость и гнев настолько, что хватается за шпагу и начинает грубить и угрожать. Только после того, как волшебник озвучивает, что вино-то, оказывается, отравленное, и выливает его в камин, король восклицает: «Ну это же глупо! Не хотел пить - я вылил бы зелье обратно в бутылку. Вещь в дороге необходимая! Легко ли на чужбине достать яду?» Он не чувствует никакого стыда, как, казалось бы, должно было бы быть, и винит в этом опять же своих предков, выдавая это за благородство: «Другой свалил бы вину за свои подлости на товарищей, на начальство, на соседей, на жену. А я валю на предков, как на покойников. Им всё равно, а мне полегче». Очень красочно характеризует короля следующая его фраза: «Отвечать самому, не сваливая вину на ближних, за все свои подлости и глупости – выше человеческих сил! Я не гений какой-нибудь. Просто король, каких пруд пруди». Здесь, я полагаю, даётся оценка автора с целью высмеять короля, не только как героя этой пьесы, но и как правящую верхушку, стоящую у власти, которая господствует над людьми в своём государстве, пользуются своим служебным положением, всем распоряжается, а на самом деле ничего не имеет ни в душе, ни в сердце, да и умом особо не блещет.
Однако далее мы узнаём, что король бывает хоть и иногда, но вовсе другим. Причина столь переменчивой натуры короля кроется в несказанной любви к его единственной дочери – принцессе, которая, по его словам, совсем другая, ни на кого не похожая, она добрая и славная: «Ах, я перестаю быть королём, когда вижу её или думаю о ней». Мы не сомневаемся в том, что король любит свою родную дочь искренне и сильно, ведь при упоминание о ней он сразу становится мягкосердечен, добр, ласков. «Уж вы не обижайте мою дочурку», – просит король.
Обратим внимание на реакцию хозяйки на такую новость. «Вот горе-то какое!» – с досадой восклицает она. Казалось б, надо радоваться, но ведь она-то понимает, что уж лучше бы принцесса была такой же, как король. Тем безболезненнее и проще в дальнейшем прошло бы расставание медведя и принцессы.
Здесь же мы узнаём, что мать у принцессы умерла, когда девочке было всего семь минут от роду, отчего король ещё более трепетно и заботливо относится к своей дочери, переживает за неё. На такой трогательной ноте королю захотелось рассказать хозяину и хозяйке о всех его заботах и горестях. Заметим, что отношение к королю у волшебника несколько изменилось, он печётся и заботится об удобстве короля, о его комфорте и уюте: «Так вам удобно? Воды принести? Не закрыть ли окна?»
Из их диалога мы узнаём, что страна короля расположена, как это привычно для сказок, за тридевять земель. Но нетипична причина, по которой так случилось. Дело в том, что принцесса – необыкновенная, она совсем не похожа на королевскую дочь, и чтобы её сберечь, король стал охранять её от всего, что могло бы её испортить. И не придумав ничего умнее, чтобы дочь не узнала, что же на самом деле представляет из себя её отец, король помчался, куда глаза глядят, лишь бы быть подальше от королевского дворца, где принцесса могла узнать всю правду, которой бы она не перенесла. Король рассказывает обо всём этом очень комично, и это не может не вызвать смех зрителя или читателя. Он называет себя «эгоистом проклятым» за то, что решил сделать разумный и добрый поступок – «охранять бедняжку от всего, что могло бы её испортить», и считает это явной подлостью с своей стороны. Зато потехой он называет ситуацию, когда занимается привычным для себя делом – подписывает кому-нибудь смертный приговор и при этом хохочет, вспоминая смешные шалости и словечки принцессы. Обличительно и с явным сарказмом отзывается опять автор посредством реплик короля о власти: «Что такое королевский дворец? <…> За стеной люди давят друг друга, режут родных братьев, сестер душат… Словом, идет повседневная, будничная жизнь». Примечательно и то, что и здесь опять-таки король в своей нерешительности что-либо предпринять винит одного из родственников.
Далее, король просит разрешения погостить в этой усадьбе, пока он и его свита не построят свой новый, собственный замок. Хозяйка, естественно, хочет вежливо ответить отказом, так как не хочет печального исхода этой уже начавшийся истории, но хозяин умоляет свою жену дать ему хоть один денёк пошалить. Однако хозяйка переживает за принцессу и понимает, что не допустит, чтобы это произошло: «Ну уж нет! Пошалить! Разве такая девушка перенесет, когда милый и ласковый юноша на ее глазах превратится в дикого зверя! Опытной женщине и то стало бы жутко. Не позволю!». Поэтому она хочет уговорить юношу потерпеть ещё немного, поискать другую принцессу, похуже. Надо понимать, что хозяйка это делает не из-за каких-то личных соображений, а только затем, чтобы уберечь юные сердца от любовной гибели, к которой стремительно их ведёт волшебник, сам того не зная.
В середине первого действия, именно тогда, когда хозяйка начала разыскивать юношу и звать его к себе, по воле судьбы, произошла та самая встреча между принцессой и медведем, долгожданная для нас, но неожиданная для них самих. Из их диалога мы понимаем, что, как бы банально это не звучало, они влюбились друг в друга с первого взгляда: она – потому что её до сих пор так ласково и по-простому никто и никогда не называл, не делал ей столько комплиментов; он – потому что долго бродил по свету и видел множество принцесс, и она ни на одну из них не похожа. По этой причине он и не хочет ничего слышать даже близкого к тому, что она может быть и есть принцесса. Влюблённость подтверждается и её смиренной покорностью по отношению к нему (пьёт молоко и есть хлеб по его совету, хотя очень сытно позавтракала всего пять минут назад), и странной слабостью в плечах и руках, которую она ощущает, и его откровенными признаниями, которые он не в силах удержать, так как никогда не испытывал подобного чувства.
Из их диалога мы также узнаём о юноше, что он сирота, много путешествовал и учился в различных городах и что он очень много грустит, ведь человеку так трудно, оказывается, жить на свете. Шварц в этом моменте использует двусмысленный сравнительный оборот от лица юноши, который приходится здесь как нельзя кстати («… я здоров, как медведь»).
Юноша даёт обещание девушке никогда её не обижать, после чего, услышав приближение королевской свиты, они решают спрятаться и убегают на речку, взявшись за руки. История двух влюблённых с заранее предрешённым печальным концом уже необратимо началась. Завязываются и счастье, и горе, неразделимые друг от друга в течение всех предстоящих событий. Хозяйка, которая всё это время стояла под окном и слышала весь их разговор от начала до конца, понимает это: «Почему я и плачу, и радуюсь, как дура? Ведь я понимаю, что ничем хорошим это кончиться не может, – а на душе праздник. Ну вот и налетел ураган, любовь пришла. Бедные дети, счастливые дети!»
Далее, к хозяйке входит сначала первый министр, от которого становится известно, что тиран – это вовсе не король, а министр-администратор, перед которым они все дрожат, а затем придворная дама, которая вопреки своему положению ругается, как последний сапожник, и две фрейлины. Все они жалуются на министра-администратора и бранят его за то, что он замучил уже всех долгой, тяжёлой дорогой и утомительным путешествием. В ответ на эти возмущения хозяйка со свойственной ей заботливостью предлагает гостям умыться с дороги и отдохнуть.
При появлении министра-администратора мы видим, насколько это корыстный, эгоистичный и похотливый человек: производит в своей книжке какие-то вычисления с целью получения выгоды для себя любимого; невежливо и грубо обращается с другими людьми из свиты короля, открыто ненавидит их, только и может, что грозиться оставить их без завтрака; нагло пристаёт к замужней хозяйке усадьбы, ничего не стыдясь и не стесняясь, ведь «весь мир таков», чего уж там. И только когда он узнаёт, что муж у хозяйки самый настоящий волшебник, предлагает забыть о своём наглом предложении, и что интересно – проговаривает извинения скороговоркой, как давно уже выученный и сотню раз произнесённый текст.
Ближе к концу первого действия автор предоставляет нам возможность ещё ближе познакомиться с таким героем пьесы, как король. С его приходом он сообщает, что с радостью взял бы да отнял у хозяина эту уж очень понравившуюся ему усадьбу, а его бы самого заточил в жуткую свинцовую башню. А мешает лишь то, что он не у себя дома! Волшебник же отнёсся к такому заявлению с характерным для него чувством юмора. Когда король узнаёт, что его «крошку» бросили одну, оставили без присмотра, он начинает сильно переживать и волноваться. Проявляются его чистая, светлая отцовская любовь. Потрясающе следить за репликой короля, где так молниеносно сменяются его эмоции с одной на другую в зависимости от того, какие чувства испытывает принцесса: она засмеялась – он хохочет, она задумалась – он хмурится, она улыбнулась – он засиял. Про юношу та же история: «Он ей нравится – значит, и мне тоже». Вызывает удивление и улыбку то, как реагирует король на печальные, по существу, факты:








