2. Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы. – М., 1980.
3. Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной системы. – М., 1978.
4. Бандура О.А., Зотов А.Ф. Прагматически-операционалистская концепция научных понятий. Философские науки, 1977. – № 3, – С. 94–104.
5. Ващекин Н.П., Далиев М.И., Урсул А.Д. Экономическая безопасность: институциональный подход: монография. – М., 2000.
6. Возжеников А.В. Национальная безопасность. Теория, политика, стратегия. – М., 2000.
7. Гегель. Лекции по истории философии. В 3-х кн. – СПб., 1994.
8. Гегель. Наука логики. В 3-х т. – М., 1970–1972.
9. Гегель. Феноменология духа. – СПб, 1994.
10. Гегель. Философия права. – М., 1990.
11. Гегель. Энциклопедия философских наук. В 3-х т. М., 1974–1977.
12. Жинкина И.Ю. Стратегия безопасности России: проблема формирования понятийного аппарата. – М., 1996.
13. Кириллов В.И. Логика познания сущности. – М., 1980.
14. Копнин П.В. Идея как форма мышления. – Киев, 1963.
15. Кузнецов В.Н. Социология безопасности. – М., 2003.
16. Кун Т. Структура научных революций. – М., 1977.
17. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М., 1981.
18. Философия психологии. – М., 1981.
19. Лернер А.Я. Принципы самоорганизации. – М., 1966.
20. Метлов В.И. Основания научного знания как проблема философии и методологии науки. – М., 1987.
21. Муравых А.И. Философия экологической безопасности (опыт системного подхода). – М., 1977.
22. Николас Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. – М., 1979.
23. Общая теория национальной безопасности: учебник. Под общ. ред. А.А.Прохожева. – М., 2002.
24. Подкорытов Г.А. О природе научного метода. – Л., 1988.
25. Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х т. – М., 1992.
26. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. – М., 1986.
27. Садовский В.Н. основания Общей теории систем: (логико-методологический анализ). – М., 1974.
28. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М., 1986.
29. Хайдеггер М. О существе и понятии. Аристотель "Физика" – 1. – М., 1995.
30. Швырев В.С., Юдин Б.Г. Методологический анализ науки: сущность, основные типы и формы. – М., 1980.
31. Югай Г.А. Общая теория жизни: диалектика формирования. – М., 1985.
32. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности: методологические проблемы современной науки. – М., 1978.
5.3 Анализ текстов (на материале версий понятия "мудрость")
От Шумер до Древней Греции
Для организации рассмотрения исходных содержаний, касающихся мудрости будем пользоваться общей логико-мыслительной схемой соотнесения субъекта и предиката, внося материал высказываний в функции субъекта мысли.
В зависимости от содержания субъекта мысли будем подбирать предикаты из языка методологии, его базисной части (см. 2004). Начнем извлечение материала из энциклопедии "Мудрость тысячелетий" (2007).
1 Шумеры
"Когда боги, подобно людям,
Бремя несли, был Ану, отец их, вышним владыкой.
Их советником – воитель Энмиль.
Ану получил во владение Небо,
Власти Энмиля подчинили Землю.
Начали боги… две с половиной тысячи лет
Трудились они… Но решили боги, что следует эту работу переложить на плечи людей. Пусть несет человек иго божье!
Разум живет во плоти бога, знает живущий знак своей жизни, не забывал бы, что имеет разум...
Атрахасису во сне явился добрый бог Эйа и предупредил его о том, что Совет богов решил устроить вселенский потоп.
Следи же за совестью, спасай душу!" [12]
Мы видим, что сначала "боги несли бремя". Был у них владыка и советник. Владыка "держал" – Небо, а советник – "Землю". Затем бремя решили переложить на людей. При этом боги убили в своем собрате, что имел разум – Бога и из тела, на его "крови намесили глины, и разум стал жить во плоти бога". Это означает, что боги решили передать бремя менее божественному, более телесному, перенеся в него разум. Когда боги решили сделать потоп, то они подсказали людям, что телесное, богатства нужно презреть, а спасать душу, разум.
Переходя к трактовке, мы используем, прежде всего, понятия "нечто" и "универсум", нечто в универсуме, а также системную парадигму, выраженную в "метафизическом треугольнике"[13]. В "треугольнике" различается функциональное место и морфология, а при учете морфологии – содержание функции конкретизируется, так же как при учете функции морфология трансформируется.
В "Сказании об Атрахасаке" различаются "Небо", за которое отвечал владыка, и "Земля", за которую отвечал советник. Владыка предписывал богам действия, воспроизводящие бытие. Тем самым богам отводилась функция демонстрировать сущность в бытии, в проявленности. Используя условные различения "треугольника" можно считать, что это было "чистое", божественное бытие, обусловленное переходом от потенциальности владыки к актуальности богов с полным сохранением существенности (см. сх. 26).
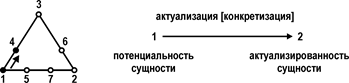
Схема 26
Решение богов переложить бремя актуального бытия на "иных" людей предполагало, что боги могут иметь "плоть", в которой разум сохраняется. При отчуждении плоти бога появляется морфологическое, которое рассматривается, как способное сохранять разум, пусть и не столь "чисто", как это делали боги. Человек имеет эту плоть, морфологическое, но она "удерживает" хотя бы частично, разумное или соответствующее актуальной активности богов. В такой отчужденности от чистоты мы имеем подобие конкретизированной функции, а подобность, нечистота обусловлены плотью, морфологичностью человека (см. сх. 27).
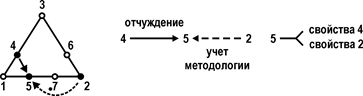
Схема 27
Душа человека сохраняет свойства бога, его разумности и является основой совести. Боги и подсказывают, что основное в человеке – душа, совесть, разум, а не "богатства", тленное, временное, что и характерно для морфологии. Чистота морфологии символизирована в "глине" тогда как морфологическая сторона богов символизирована "кровью". Можно считать, что "глина" является результатом отчуждения "крови" богов. Сама "кровь" внесена как момент бытия богов как в потенциальности, у владыки, так и в актуальности – у нижестоящих богов. Поэтому при снижении уровня иерархичности "кровь" конкретизируется и из "возможности" у владыки переходит в состояние "действительности", но совмещено с "необходимостью". Владыка как бы разотождествляется с собой и порождает подобия себе в более конкретных богах (см. сх. 28).
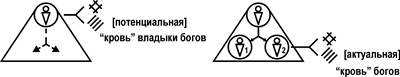
Схема 28
Мы видим, что во владыке, которому отдано Небо, заметны свойства платоновской "идеи идей", а в богах – свойства "идей", обладающих своей содержательностью, но вытекающей из содержания "идеи идей".
Следовательно, чистота сохранения функциональности при конкретизации в мире богов состоит в сохранности исходного основания, совмещенности абстрактного основания (идеи идей) и конкретизированности основания (идеи).
Переход от жизни в мире идей к жизни вне мира идей связано с привлечением небожественного, телесного и этим переходом к тому иному бытию, которое может удерживать чистоту сущности лишь частично. В процессе потопа и соответствующих действий по спасению своего бытия человеку советуют, чтобы он сохранял более значимое, идущее от богов, нетленную сторону. Сам потоп может быть понят в рамках замысла "очищения" от влияний, несоответствующих сущности, божественности человека.
2 Ассирия
"Да не изрекают уста твои слов, которые не обдуманы в Сердце. Ибо лучше споткнуться мысленно, чем споткнуться в разговоре. Если доведется тебе услышать дурное слово, закопай его…Если услышишь слово секретное, то пусть в душе твоей оно и умрет… дабы не обжег языка твоего, не причинил страданий душе твоей и не заставил тебя возроптать против бога. Лучше получить от умного сто ударов, чем разрешить глупцу вылить на твою голову благовонные масла… Человек, у которого нет ни братьев, ни жены, ни сыновей, незначителен в глазах своих врагов. Спеши бежать из того места, где спорят, и душа твоя будет умиротворенной. Не нашел ничего тяжелее хулы и клеветы".[14]
Здесь подчеркивается идея неслучайности высказываний, ответственности за свои слова и выражаемое содержание. Можно предполагать, что имеется два типа случаев. В одном уже имеющийся образ чего-то значимого и правильно отображенного используется, чтобы подобрать слова, могущие выразить эти содержания. В другом случае образ еще только отыскивается, строится, чему "слова" могут и помочь, и помешать. В их значениях может быть сохранена отыскиваемая существенность, а может быть и подмена. Во втором случае поспешность влечет закрепление неверной версии. Чем быстрее обнаруживается правильность или неправильность, тем быстрее можно решить для себя, стоит ли предлагать версию партнеру и создавать вероятность выявления ошибки, но уже самим партнером. Тем самым, обдумывание становится процессом опробования порождаемых версий с вовлечением фиксированных языковых средств в двух указанных случаях (см. сх. 29).
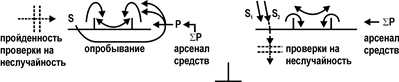
Схема 29
В качестве средств оформления мысли авторов мы привлекаем исходную схему акта мысли и соотнесения субъекта и предиката, но в двух типах случаях.
В другой части материала говорится о "дурных словах". От них советуют избавляться. Основанием отрицательного статуса дурного слова может быть способность любых слов "привлекать" душу, в зависимости от закрепленных за ними значений. Человек, воспринимающий слово, раскрывающий его значение идентифицируется с содержанием значения. Даже в том случае, если эта идентификация оперативная, временная и человек может отойти от идентифицированности, у него остаются "следы" от идентификации.
Чем дальше содержание следов от сущности, от "положительного", в том числе от проявлений сущности, тем больше накапливается несущественное или даже антисущественное. В человеке предполагается накопление в рамках двух типов начал, положительного и отрицательного, так как сам человек состоит из совмещенности начал, вечного и тленного. Накопление отрицательного ведет к увеличению потенциала чувствительности к отрицательному и вытеснению потенциала чувствительности к положительному, к изменению синтетического портрета внутренних оснований реагирования на что-либо (см. сх. 30).
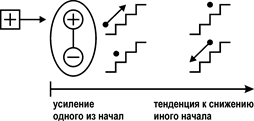
Схема 30
"Дурные слова" рассматриваются здесь как несущие активную отрицательность, меняющие пропорцию значимостей начал в отрицательную сторону. Чтобы понять предложенную идею, следует обратиться к метафизическому треугольнику. Динамика бытия состоит в отношениях между функциональной формой и морфологией. Функционарность бытия, воспроизводимость предполагает разотождествление и отождествление в пределах "границ", допускаемых функционарным состоянием. При усилении влияния либо формы, либо морфологии микросостояние сдвигается в ту или иную сторону, особенно при стимулирующих внешних влияниях, находящих отзвук внутри (см. сх. 31).
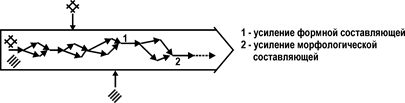
Схема 31
Если иметь в виду, что "дурные слова" являются внешним фактором отрицательного типа, усиливающим несущественное в едином, то значимость высказывания и состоит в том, что они, в отличие от "недурных" слов, стимулируют дестабилизацию единого за пределами границы, в том числе, в качестве крайнего варианта, с созданием потенциала "невозвращаемости в норму" (см. сх. 32).
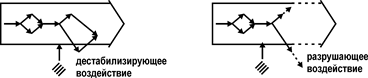
Схема 32
Так как "отрицательные" воздействия состоят в уклонении от соответствия сущности, а содержанием сущности и выступают формы, функции, о чем и говорили Платон, Аристотель и другие, то следствием отрицательного воздействия выступает отход морфологии от учета формы и возврат в самовыраженческий тип реагирования, а форма теряет свою самосохранность как основание правильности (см. сх. 33).
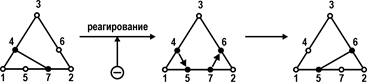
Схема 33
В "Поучении писца Ахикара" (Ассирия) вводится крайняя установка на чистоту внутреннего мира человека и предполагание неразвитости механизмов сопровождающей нейтрализации вредных словесных воздействий. В то же время можно исходить из типологии людей, используя критерием онтологизации "метафизический треугольник" и считать, что сопротивляемость вредным воздействиям у разных типов различная. Максимальная сопротивляемость вытекает из развитости внутреннего влияния первоформы или совместного влияния первоформы и "чистой" формы, вытекающей из влияния первоморфологии и ее эгоцентрического проявления в тех или иных условиях (см. сх. 34).
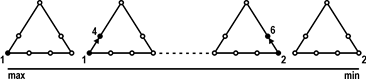
Схема 34
Когда говорится о "секретном слове", то может иметься в виду то выраженное в словах содержание, которое заключает в себе информацию об объекте, о чем-то, а использование ее в "плохих руках" и целях является губительным для рассматриваемого объекта, нечто.
Возможность встречи с отрицательно ориентированным, направленным активным лицом здесь предполагается и вводится установка на полное исключение "утечки информации". Кроме того, указывается и на последствия даже невольной передачи информации, что сводится к угрызению совести, внутренним страданиям. Уровень значимости запрета доводится до предельности, так как передача "секрета" становится противобожественным действием. Урон наносится как бы самой "сути дела", сущности, основам бытия. Содержание "секрета" несет, по предположению, сведения о наиболее незащищенных "частях" объекта, а божественно значимым может быть лишь то, что относится к функции объекта, его предназначению. Мы видим, что авторы обеспокоены возможностью отрицательного, противофункционального воздействия и возможностью деструктивного реагирования этой основы объекта.
Для раскрытия утверждения можно рассмотреть чувствительность нечто в социокультурном, деятельностном, культурном, духовном и т.п. мирах к тем воздействиям, которые вызывают реагирование формно-функциональной стороны нечто, а результатом реагирования предстает "растворение" первоосновы нечто (см. сх. 35).

Схема 35
Именно поэтому "секрет" связан с основанием бытия нечто, идущим от бога, и способствование разрушению основания предстает как покушение на первопричину всего, бога.
Утверждение о взаимоотношениях с "умным" и "глупым" соразмерно с взаимоотношениями с основаниями, их субъективными представительствами, с одной стороны, и с ресурсом для проявления оснований, с морфологией и их субъективным представительством, с другой стороны. В сопоставлении непосредственной оценки положительного или отрицательного воздействия партнера с критериально обусловленной оценкой легко выявляется иллюзорность непосредственной оценки, если она не проверена на критериальное соответствие. Субъективная иллюзия должна быть преодолена, чтобы войти в объективную динамику и соответствие сущности (см. сх. 36).
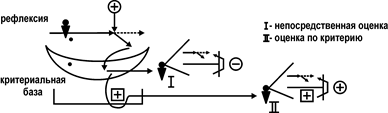
Схема 36
Такие явления обыденны в социокультурной практике. Мы используем схемы социокультурных взаимодействий в качестве средств анализа. Очевидно, что умный и друг будут препятствовать построению лживых утверждений и безнравственных поступков, а враг, неприятель будет хвалить за ошибки и проступки.
Если человек находится в среде понимающих и принимающих его, к которым он может обратиться за помощью, то для недруга, врага он становится опаснее. Поэтому враг будет способствовать "одиночеству" человека, изолированности от его семейной, социокультурной, культурной, деятельностной, духовной среды, а также стараться разрушить сами эти среды, их сущностный потенциал (см. сх. 37).
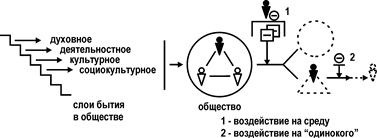
Схема 37
Интересными выступают утверждения об избегании споров и восприятия хулы и клеветы. Споры, дискуссии выводят из спокойного состояния, сохранности имеющегося мнения. Если мнение уже прошло путь к неслучайному, к существенности, то нужно охранять его от попыток и условий возврата к несущественности. А споры имеют потенциал идентификации с иными мнениями, с носителями разлада и хаоса, потенциал актуализации сомнений даже в том, в чем человек уверен в спокойном состоянии, что уже подвергал проверке на существенность.
Чтобы быть сохраняющим "истинное", подлинное и т.п. в меняющихся условиях, необходима сохранность установки на истинное, правильное, справедливое и чистота критериального видения.
При случаях, где активность чаще всего заменяет тщательность и глубину, где нет условий для спокойных проверок по критериям, увеличивается вероятность быть "запутавшимся" и нахождения под влиянием иллюзорной допустимости настойчивости любителей интриг. Движение к истине и надежности в мышлении требует внутреннего спокойствия, умиротворенности. Поэтому если нельзя этот фактор сохранить в споре, то следует, согласно авторам, "бежать с места спора", с места, где обращенность к критериям снижена и оттесняется спокойное, вневременное рассматривание вопроса с полномасштабной критериальной рефлексией (см. сх. 38).
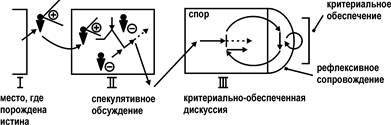
Схема 38
Обвинения и клевета возможны как раз в спекулятивных спорах, когда есть заинтересованность не в "истине", не в сути дела, а в достижении спекулятивных, эгоистических целей. В этих реконструкциях мысли авторов мы применяем понятия "рефлексия", "критерии", "культура рефлексии", "дискуссия", "типы взаимодействий", "истина" и др.[15]
3 Египет
"Книга лучше расписного надгробья и прочнее стены. Написанное в книге возводит дома и пирамиды в сердцах чтобы на устах была истина... Они оставили свое наследство в писаниях, поучениях, жрецы заупокойных служб исчезли, Но имена их произносят, читая эти книги, память о них вечна".[16]
Мы видим, что жрецы фиксировали "истины", вводили поучения. Но память о них, давно ушедших, останется навсегда благодаря книгам, сохранившим их суждения, благодаря чтению книг. Тем самым, чтобы была трансляция содержания мыслей, тем более – наиболее значимых, отражающих суть бытия, истину нужны "авторы", устремленные к вечному, истинному, к глубинам бытия, нужны "тексты", книги и нужны "читатели", понимающие тексты, устремленные к пониманию, могущие оценить и быть адептами истины, сохраняющими в чистоте зафиксированное предшественниками.
Для воспроизведения мысли нам нужно понятие "коммуникация", включающее не только автора и понимающего, но и арбитра, следовательно, и критика, так как именно арбитр устремляется к сути, к основанию многих мнений, а предельный вариант арбитражной коммуникации и ведет к метаарбитру, устремленному к "истине" (см. сх. 39).
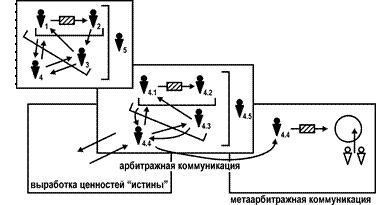
Схема 39
На основе истины как критерия оценки поведения, взаимодействия, построения действия, рефлексии действия и т.п. строятся и "поучения" жрецов. Именно вечная значимость их содержаний переносится на вечную память авторами этих предписаний и писаний. На этой базе и возникает "цивилизация", в которой ведущую роль играет согласование носителей вечных критериев, потребителей этих критериев двух типов: "народа" и "управленцев"[17]. Для анализа подобных утверждений нужны понятия "культура", "наука", "духовность", "цивилизация" (см. сх. 40).
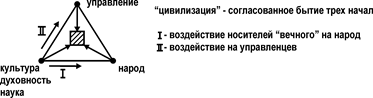
Схема 40
4 Египет
"Вспыльчивый никогда не познает истину.
Всякое беспристрастно решенное дело лишает ложь силы, утверждает истину, создает добро и уничтожает зло подобно пище, которая уничтожает голод, подобно пище, которая уничтожает голод. Солнце согревает.
Даже разум глупца мирится с истиной.
Справедливость же всегда бессмертна.
Лишь тот, кто честен и добр, благополучно достигает берега
Если не исправишь зло, оно удвоится.
Жадность бездонна. Корыстный часто не знает, чего он хочет, и единственное, что его ждет, – это конечная неудача.
Истина рано или поздно все равно выйдет на свет.
Истинно великий не может быть жадным.
Как несчастен приходящий с жалобой!
Как ни быстро откликается на все его сердце, ему не поспеть за его страстями.
Кто видит слишком далеко, не спокоен сердцем.
Не печалься же ни о чем заранее и не радуйся тому, чего еще нет.
Кто расставляет сети, сам в них попадается.
Ложь кормится истиной, но жизнь ее недолга.
Люби людей, чтобы люди тебя любили.
Лишь когда все меряешь правильной мерой, правосудие торжествует. Преувеличение и излишества к добру не ведут.
Если же будешь молчать, даже Истина может устареть и оказаться некстати.
Не рассчитывай на завтрашний день, пока он не наступил, ибо никто не знает, какие беды этот день принесет.
Не превратишь лентяя в прилежного, не сделаешь мудрецом невежду, не заставишь поумнеть дурака.
Нет друзей у того, кто глух к справедливости, нет праздничного дня для корыстолюбца.
Полезно слушать слова других.
Поступай с человеком так, как он сам поступает с другими.
Разве долго продлится пора гостеванья земного?
Спокойствие страны – в справедливости.
Только богам открыты предначертания судьбы.
Ученостью зря не кичись!
Не только у мудрых – у неискушенных совета ищи.
Чтобы сохранить друзей, нужно прощать.
Что бы тебе ни сказали, ни с кем не говори так, словно он не имеет права с тобой разговаривать.
Что может быть хуже неверных весов, справедливого и честного человека, сделавшегося обманщиком".[18]
Мы видим, что устремленность на "истину" предполагает консолидацию "страстей" в их стихийности, самопроявленности. Если привлечь понятие жизнедеятельности как первичное, природное бытие человека, то из него вытекает прямая зависимость поведения, познавания, отношения к внешнему и к себе от динамики потребностного состояния. Все оценивается исходя из интересов конкретного единичного организма, части охватывающего целого (см. сх. 41).
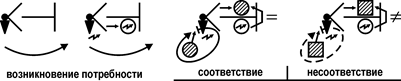
Схема 41
Только то, что соответствует сиюминутной потребности, является значимым и ведет к его присвоению. Все остальное остается незначимым. Точно так же и в оценке материала запечатлений в познании. Сиюминутно значимое удерживается, ему уподобляется познающий, а иное, чаще всего именно присущее познаваемому, остается вне уподобления и сохранения. Сама внутренняя динамика, зависящая от типа организма и типа психики, является основой "страстности". То, что не соответствует потребностному состоянию вызывает отторжение, неприятие, а затем и активное неприятие, возмущение и т.п. Это особенно отчетливо видно в ходе взаимодействий, споров. Даже самый мудрый может стать незначимым, неприемлемым, раздражающим. Поэтому без нейтрализации зависимости от случайной динамики внутреннего бытия и ее подчинения пониманию, характеру внешних воздействий, внешнего познаваемого объекта и т.п. познание не может вести к "истине". Не может быть истинного и самопознания. Человеку нужно стать "беспристрастным", подчинившим внутреннюю динамику объективной необходимости уподоблению "внешнему" проявлению объекта познания, а затем и специфически "внутреннему", мыслительному, умопостигаемому уподоблению сущности объекта, скрытой за внешними проявлениями объекта.
Для раскрытия этого утверждения следует использовать понятие "нечто", типов его проявления и понятие "развития", "развитие психики", "мышление", "теоретическое мышление" и т.п.
В связи с этим важно подчеркнуть, что бытие нечто имеет в своем функционировании моменты бытия "в-себе", "для-иного", "для-себя". В самовыражении нечто "для-иного" бытие легко переходит в бытие "для-себя", в котором учитывание внешнего избирательно, эгоцентрично, а излишняя интенсивность воздействия на нечто и принуждение подчиниться воздействию ведет к росту вероятности утери самосохранности "в-себе" бытия. Применяя "метафизический треугольник" мы получаем характеристики морфологии (см. сх. 42).
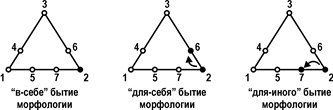
Схема 42
В бытии "для-иного" осуществляется полный, "реконструктивный" учет внешнего воздействия. Совмещение "интересов" самосохранения и полноты учета внешнего создает условия для коррекции внутреннего состояния, в частности, в направленности на актуализацию иного состояния развития, на смену содержания бытия "в-себе" (см. сх. 43).
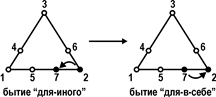
Схема 43
В ходе социализации и окультуривания внешним условием выступает не природная, а нормативная "среда", принуждающая к внутренним коррекциям и к развитию. Сначала и сами нормы понимаются с опорой на прежнее состояние развитости субъективности и потому "нечисто", неточно, а затем, вместе с совершенствованием внутренних возможностей, развитием психики учитываются, понимаются уже "чистые" версии норм (см. сх. 44).

Схема 44
Переход к "чистым" нормам, несущих историческую неслучайность и существенную значимость, характерен для окультуривания, в отличии от социализации, в которой учитываются "нечистые" нормы. Только пройдя фазу социализации, ситуационно-исторических нормоосуществлений и породив в ходе окультуривания потребности к подчиненному самоотношению в пользу внешней нормативной необходимости, человек может приступать к познанию "нормы". С этим связан и переход от дотеоретической к теоретической стадии познания, когда человек следует логическим требованиям в ходе обработки эмпирических данных и анализа "предварительных" теоретических версий. Здесь уже не может быть прямой зависимости от "страстей" и они вписаны в реализацию познавательно-теоретической функции.
Сказанное применимо к принятию и реализации решений. И адекватное реагирование на меняющиеся условия придает "истинность" решениям, и адекватное следование принятому решению, и адекватные поправки в изменившихся обстоятельствах (см. сх. 45).

Схема 45
Однако "истинность" состоит не только в самом учете обстоятельств, даже если он своевременен. Можно совершить ошибку и адекватно реагируя на меняющиеся условия. Эти изменения следует еще оценить с точки зрения "сути дела". В метааналитическом аспекте это означает внесение функционального акцента, акцента на предназначенность реагирующего, реагируемого, всей целостности, в которую вовлекаются участники взаимодействия. А чем более масштабные притязания на истинность, тем меньше должно быть индивидуального самовыражения "страстности" и т.п., тем более подчиняются все индивидуальные возможности "логике дела", "сути вещей", выраженные в критериальном обеспечении самоорганизации человека (см. сх. 46).
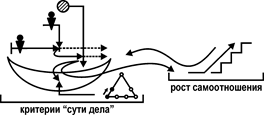
Схема 46
Совмещение "истинности", связанное с учетом сущности всего, и "добротодеяния" предполагает переход от случайного учета происходящего и случайного соучастия в судьбах людей к неслучайному и учету, и участия, а затем и неслучайности соотнесения и совмещения. Здесь говорится и об источнике неслучайности. Если возникает голод, то его утоляют за счет нахождения и потребления вполне определенных предметов, адекватных содержанию потребности. При утверждении истины должна возникать потребность именно в "истине", а не случайных результатах познания, в знании сущности, а не явлений. Поэтому не любое познание и знание становится истинным, а лишь соответствующее тому содержанию потребности в истине, которое тождественно самой истине, "идее истины", как бы сказал Платон.
Не внося предельных утверждений критериального характера, мы обречены субъективно трактовать истину и соответствие ей результатов познания. А "предельные" версии появляются в специальных процедурах, при следовании особому логическому методу, который ввел Гегель, при мышлении в пространстве конкретизации абстракций и деконкретизации (см. сх. 47).
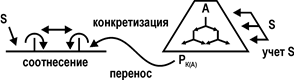
Схема 47
Если абстракция является правильной "вообще", то при конкретизации, учитывающей конкретный материал, вычисляется конкретизированная абстракция, адекватная "случайному" материалу, но замещая случайность историческую внеисторической неслучайностью "этого" материала. Так выявляется форма случайной морфологии или сущностная основа явлений (см. сх. 48).
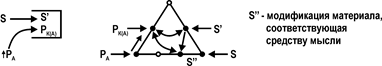
Схема 48
"Добро" также различно, в зависимости от учета случайных условий и изменений самих по себе, либо выработка помощи, способа соучастия на основе учета сущности бытия того, кому предлагается помощь и сущности в изменяющихся условиях. Именно предполагание того, что не соответствует просьбе, запросу создает "зло". Оно также может быть ситуативно-временным. Но оно становится принципиальным, противосущностным, если помощь препятствует сохранению сущностного основания бытия ждущего помощи.
Утверждение о том, что глупец, с его разумом может мириться с истиной, справедливо лишь с той стороны, что степень разумности, с которой человек оценивает принципиально уважение к истине, проявляет уважение к истине, может быть достаточно скромной, не предполагающей самостоятельное и ответственное участие в мыслительной работе. Но глупец, если он обладает такой способностью, не является "принципиальным глупцом", не меряет все только по себе и способен оттеснять свое отношение ради большей истинности.
Справедливость, как и все иное, может быть развитой в различной степени, в зависимости от полноты "уподобления своей идее", как бы сказал Платон. Вечная значимость справедливости появляется вместе с внесением в ее содержание функционального основания справедливости, т.е. сущность явления справедливости. В бытовом варианте "справедливым" предстает то воздействие на человека, с которым он может согласиться. Но основание согласия ситуационно, временное, случайное. Поэтому вместе с переходом к более сложным и развитым типам бытия, например, от жизнедеятельности к социодинамике, к социокультурной динамике, к культурной динамике, к деятельности, к духовной динамике, основанием согласия становится все более "глубокое", требующее более глубоких внутренних трансформаций. На духовном уровне основание становится универсумальным, "вечным", "бессмертным" (см. сх. 49).
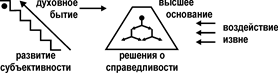
Схема 49
Тем самым, справедливость "бессмертна" лишь относительно высших оснований и при адекватном их применении.
Когда говорится о "достижении берега", то имеется в виду стадию циклики бытия, когда человек завершает тленную часть пути, уходит из мира света в мир теней, переплывает на лодке через реку, разграничивающую миры. Так как бытие имеет циклическую динамику, опирающуюся на пульсации отождествления и разотождествления начал в любом нечто, то разотождествление "души" и "тела" как смерть человека выступает как разотождествление вечного и временного в нем, формы и материи, по Аристотелю. "Вечная" по Платону, душа меняет свое тело и возвращается в единство в новом рождении и бытии человека.
С метасистемной точки зрения,[19] если форма и материя не требует последующего изменения, иного типа материи, так как она "подходит" под форму и функциональное место, то отождествление души происходит благополучно с однотипным телом. Этот цикл и соответствует благополучному "достижению берега" и со стороны света, и со стороны тьмы. Но для этого требования души к телу выполняются, а душа проводит свое бытие в честности и добре, подчиняясь вечным основаниям (см. сх. 50).
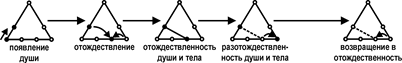
Схема 50
Если человек проявлял недоброту и нечестность, то ему "отдается" не чистое тело, а "грязное", сохраняющее свою самовыраженность морфологии, относительную адекватность. Весь цикл деформируется, и нет благополучия в "достижении берега" (см. сх. 51).
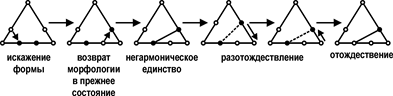
Схема 51
В этих случаях искривление формы может стать условием дестабилизации единого при "хорошей" морфологии и возвращение морфологии к прежнему уровню бытия ведет к дестабилизации единого. Единое осуществляет дисгармоническое, неустойчивое бытие, не имеющее связи с вечными основаниями. В обыденной практике и даже в жизнедеятельности этому соответствуют легко замечаемые явления. Так при съедании "плохой" пищи возникает ее отторжение организмом и не создается состояние удовлетворения потребности, организм же испытывает напряженность. Если "плохая" пища удерживается внутри, страдает сам организм и дестабилизация увеличивается (см. сх. 52).
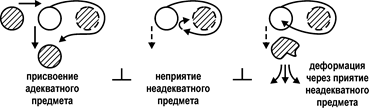
Схема 52
Авторы поэтому и утверждают, что зло "удваивается", если оно не направляется, если источник зла – неадекватный предмет не заменяется адекватным, если допускается неоправданная, не соответствующая вечным основаниям, деформация самого организма и т.п.
Жадность предстает как дополнительная активность при наличии присвоенного предмета потребности. Если говорится, что жадность "бездонна", то акцентируется внимание на склонности к приобретению вне объективной необходимости как характеристике человека, как подхода к возможности что-либо присваивать. К тому же корыстный и не знает, чего он хочет. Но его ждет неудача, так как невозможно совместить увеличивающийся объем предметов потребности с ограниченностью и временностью потребностного состояния. То, что нельзя, но хочется присвоить, становится дестабилизирующим нормальную циклику бытия (см. сх. 53).
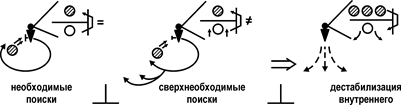
Схема 53
При самокорректировании, касающегося мотивации и объема желаемого, нейтрализуется и исчезает явление жадности. Если критерием самоорганизации выступает адекватное мировоззрение, в том числе адекватное видение себя в универсуме, в окружающей среде, объективной необходимости вписываться в целостности, подчинении им и нахождению своего места в целостности, то отсутствие жадности становится осознанным, согласованным со способом самополагания в среды, в универсум.
Поэтому авторы и подчеркивают, что "истинно великие" не могут быть жадными, ибо они не противопоставляют себя как часть – целому, не рассматривают все иное как возможные предметы своих потребностей и желаний. Они живут вместе с целостностями, частью которых являются и соучаствуют в судьбе целостностей, служат им, особенно – универсуму. Именно универсумальный объем того, относительно чего великие самоопределяются, делает их великими. Они, с другой стороны, и становятся духовными людьми, так как знают универсум, его "устройство", его первопричины и соответствуют им.
Авторы утверждают, что истина все равно, рано или поздно "выходит на свет". Если применить средства метааналитики, то станет очевидным этот тезис. Еще Аристотель, хотя он жил позднее таких утверждений египтян, считал, что удел науки говорить не с точки зрения "что?", а с точки зрения – "почему?". И тот, кто устремлен на изучение причин, а затем первопричин, следует пути "науки". Платон рассматривал идеи как вечные источники, побуждающие соответствующие нечто уподобляться им[20]. И Аристотель подчеркивал, что формы активизируют и принуждают материю к соответствию себе. Так душа им рассматривалась как капитан, руководящая кораблем, т.е. – телом. Душа для него это форма для человеческого тела. Тем самым, формы, идеи обладают свойствами причин для того, что привлекается в синтезировании начал и возникновении "нечто".
Идеи имеют свою причину – "идею идей", первопричину. Следовательно, если формы, первоформа предстают как причина и сущность соответствующих организованностей, то в них и лежит истинность.
Сама истина внешне проявляется "кажимостью", явлением, неистинным, так как она включена в единое существование в качестве его стороны. Остается лишь добавить, что такой двойственный взгляд на нечто и универсум, динамику бытия и сущности и ее проявления, такое понимание механизма бытия как знания, как средства рассмотрения реальных процессов и предстает как "истина бытия", как всеобщая форма любых организованностей и всей миродинамики.
Но тогда и оказывается, что замечаемое непосредственно, скрывающее целостный, подлинный взгляд и на часть, и на целое, их динамику является началом анализа и познания. Чем больше мы учитываем условия и факторы, чем более неслучайно реконструируем причины и выявляем организованности, их формы, появление форм, их предназначение, идущее из охватывающих организованностей и самого универсума, тем быстрее мы находим "подлинные" первопричины. Рано или поздно, для терпеливого – с неизбежностью, мы обнаруживаем новопричинное в любом явлении, что и означает встречу с истиной.
Прототипом такого цикла выявления истины и предстает теоретическое "умопостижение". Теоретик соотносит эмпирические данные или множество версий "об одном и том же", создает обобщающий заместитель, "идеальный объект", описание которого и рассматривается как изложение истины. Само же описание подчиняется требованиям онтологических критериев, "диалектической" динамике отношения начал в любом нечто и в универсуме в целом (см. сх. 54).
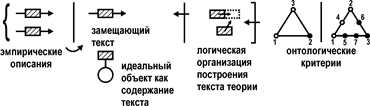
Схема 54
Истинное или присутствие первооснования в любом нечто влияет на приведение к соответствию истине всего иного, конкретной формы и морфологии. Неслучайно, что в последствии в духовной литературе говорилось, как правило, о "трёх" – о духе, душе и теле, что и соответствует троякости всякого, любого нечто (см. сх. 55).
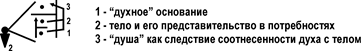
Схема 55
"Духное" основание в конкретном человеке, например, в типе аурного механизма, является представителем "духного пространства" и первооснования в локальном теле человека. Часто внутреннюю локализацию представительства связывали с "сердцем". Поэтому оно откликалось на "динамику тела и состояние души". Авторы говорят, что страсти, обусловленные условиями и динамикой бытия тела, воздействуют на сердце, вызывают в нем отклик. Но сердце имеет свои основания, свои "принципы" и, откликаясь непосредственно по типу "для-иного", оно, для самосохранения, корректирует отклик и делает его по типу "для-себя". В подобных условиях оно может и "не успевать" за страстями. А поэтому оно может "вспомнить" о суетности, временности и ситуативности динамики тела и отойти от следования за его воздействиями ради удержания подлинного, сущностного в человеке, ради духовного. Учет же динамики тела стабилизируется в "для-себя" бытия духа и предстает как динамика души.
Следуя меняющимся внутренним и внешним условиям, сердце обладает способностью идти впереди динамики, так как природа духа рефлексивна и включает реализацию прогностической, а не только реконструктивно-исследовательской функции. А, пройдя вперед, в будущее, имея знание о будущем, относясь к содержанию знания как к реальности, сердце может на него реагировать. Учет будущего и порождает беспокойство сердца, духа.
Тот, кто видит далеко, не спокоен сердцем. Авторы делают вывод о том, что не следует слишком непосредственно реагировать на будущее, на то, чего еще нет и потому "не печалиться". Тем более что можно ошибиться, если будущее просматривает не дух, а душа.
Дух проявляет всеобщие основания и реагирует от имени универсума, тогда как душа реагирует от локальности человека, его телесных и субъективных возможностей. Несовпадение ожиданий и устремлений духа и души выражается и в тезисе о том, что расставляющий "сети" от имени своей души должен предполагать, что и другая душа может это сделать, и он попадется в сети другого человека. "Сети" же от имени духа, обслуживающие всех не являются источником огорчений ни для кого.
Точно также истинное положение от имени духа, если им пользуется частная душа с ее "нечистотой" может обслуживать суету желаний души и быть для нее "кормом". Но и динамика частной души быстро ведет к обесцениванию того, что было значимым, и следствия несения истины могут быть неприемлемы частной душой. Поэтому значимость истины для души временна, ее "жизнь коротка".
Так же и оценки чего-либо происшедшего или происходящего зависят от средства оценки, от его зависимости либо от духа, либо от души, либо от вечного в критерии оценки, либо от временного в нем. "Мера" должна быть "правильной", а правильность как таковую гарантирует именно дух, а не душа. Правосудие и справедливость торжествуют, когда "правильная мера" соотнесена и с конкретным материалом и с всеобщим основанием. Преувеличения, излишества состоят в несоответствии случаю, проходу "мимо" него, хотя и с помощью всеобщего основания. Несоответствия порождают новые хлопоты, неоправданные издержки или повод для отрицательного реагирования, прежде всего, партнеров. Они к "добру" не ведут.
Зависимость от конкретной ситуации проявляется и в том, что первоначальная адекватность применения истины к материалу анализа затем становится неадекватностью, может вести к "устареванию" истины. При осуществлении поведения внесение ранее адекватной истины в связи с меняющимися условиями превращается в ненужное и мешающее.
Иногда авторы отходят от базисного принципа и акцентируют внимание на частные моменты. Так ожидание момента, чтобы его учитывать, реагировать на него характерно для морфологической стороны реальности. Но эта акцентировка должна предполагать и все остальные, в том числе формно-функциональную, имеющую вечный или вечно значимый фактор, а также организованностную, "вечность" которой ограничена морфологией, но в промежуточном положении различима. А вечное можно и нужно иметь в виду всегда, не ожидая чего-то более благоприятного и более удобного.
Относительностью обладает и утверждение о том, что лентяя нельзя превратить в прилежного. Если человек по своему типу лентяй, то его "форма" резко отличается от "формы" прилежного. Типы и подчиненность организма типу разделяет, разъединяет тенденции, делает их не пересекающимися, что и отражается на прогнозе ожидаемого. Тогда нельзя ожидать от невежды, что он станет мудрым. Однако при организованностном подходе за счет подбора морфологии и условий можно создать потенциал перехода от невежественного состояния к более мудрому состоянию. Правда, при этом форма должна иметь запас модификаций, в том числе в сторону иную, иного типа норм.
Вторичное сближение с иным типом и организация сближения легко представимы. На этом основано сведение к нужному типу множества единиц, обладающих различиями, например, в образовании, вообще в социализации, окультуривании, одухотворении. Там, где для общества важны "единые нормы" для всех. Важно лишь учесть, чтобы уподобление иному типу было допустимым для нечто, без его неоправданной деформации и дестабилизации.
В метасредствах подобные различения можно показать. Так составляющие моменты организованности – морфология и форма, могут быть рассмотрены отдельно. Тогда они приобретают статус организованности и могут иметь свои моменты (см. сх. 56).
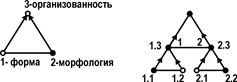
Схема 56
Тем самым, имея, хотя бы относительно, автономность формы и морфологии, можно форму сблизить с моментом либо формы, либо морфологии, а морфологически – сблизить с моментами либо морфологии, либо формы.
Конкретные типы нечто, в том числе и людей, включают эти большие детализации. Поэтому используется потенциал акцентировки либо на одно, либо на другое начало. И тогда вместо одной формы или одной морфологии появляются типы форм и типы морфологий. Соединение подтипов ведет к иным, различающимся подтипам и организованностей (см. сх. 57).
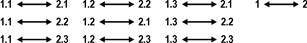
Схема 57
В зависимости от цели подбирается либо соответствующий ей тип морфологии, а затем и формы, либо соответствующий тип формы, а затем и морфологии. Игнорирование этого ведет к совмещениям, обладающим усиленной дисгармоничностью и дестабилизацией относительно введенной цели. Так если цель состоит в повышении мудрости, то подбирается тот тип и подтип, который закладывает базу мудрости по ее форме, а затем и обеспечивающую ее морфологию.
Если необходимо увеличить невежество, то все меняется. Характер влияния и формирующих воздействий зависит от того, каким потенциалом "смещений", гибкости обладает тип и подтип, чтобы сделаться подобным гармонически значимому, эталонному варианту. Эти же принципы выражены в переходе от анализа бытия организованности, динамики разотождествлений и отождествлений начал по схеме "триады" к анализу по схеме "семерки", где учитывается потенциал адаптаций формы под морфологию и морфологии под форму (см. сх. 58).
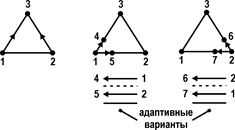
Схема 58
Этим мы фиксируем относительность утверждения авторов о "превращениях" лентяя в прилежного и невежду в мудреца. Интересна связь, зависимость дружеских отношений от наличия справедливости в них. Дружба выводится за рамки простых субъективных реагирований на наличие и поведение партнера, индивидуальности положительного и притягательного отношения к нему, зависимости от индивидуальной динамики потребностных состояний и сложившихся мотивационных инерций.
Справедливость возникает не в индивидуальной жизнедеятельности и не в социодинамике. Она появляется в социокультурной динамике, когда выделяется надиндивидуальный критерий "положительного", надиндивидуальное "добро", в отличие от "зла". Субъективное отождествление с добром как критерием оценки поведения и субъективных качеств партнера, их проявления в конкретном поведении, особенно том поведении, которое ведет к субъективному сближению, обретению значимости бытия и замыслов отношений партнера для построения собственного поведения и самоотношения, превращает партнера в "друга" (см. сх. 59).
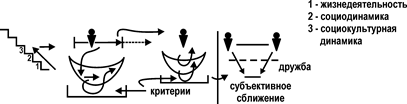
Схема 59
Надиндивидуальность критерия порождает, в ходе его присвоения, потенциал самокоррекции, а сама самокоррекция проходит этапы отчужденного, нейтрального, а затем субъективно-активного, положительного отношения к содержанию критерия и даже к служению ему, защите его в его "чистоте", в благоприятных и неблагоприятных условиях.
Авторы выводят "праздничное" чувство за пределы индивидуальной динамики и самочувствования и бытия в целом. Корыстолюбие предстает как одно из ярких проявлений преобладающего влияния и роли в интегральной субъективной динамики.
Эгоизм является сложным сохранением обычных процессов потребительского отношения к реальности, специфичного для жизнедеятельности. Вхождение в бытие социодинамического и более развитых уровней бытия ослабляет и вытесняет потребительское отношение. Однако освоение способов, ритуалов, форм социодинамического, социокультурного и даже более развитых типов бытия, превращение этих форм в "инструменты" построения тактики поведения может сопровождаться возвратом к жизнедеятельностному принципу построения поведения, превращения иных форм, стереотипов в обслуживающие потребительское отношение. Это и порождает эгоизм, корыстолюбие и т.п., поэтому "праздник" рассматривается как особое положительное самоотношение, отношение к иному вне потребительского принципа.
Само событие, соответствующее надиндивидуальному интересу, субъективно рассматривается как торжество надиндивидуального содержания, в том числе и критерия, в значимом для оценки событием, включающем поведение, свое и иных участников. Это торжество становится поводом для субъективного сопровождения с проявлением своего приятия торжества (см. сх. 60).
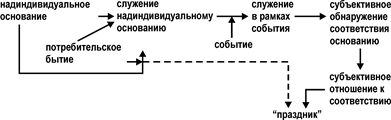
Схема 60
Зеркальное повторение поступков "другого" рассматривается авторами в особой функции, в основном для рефлексивного осознания "другим" особенностей осуществленного поступка для его оценки и следующих за этим подтверждения, закрепления или, с другой стороны, коррекции, отклонения, приближения к "эталону" или общему принципу достойного поведения. Но для этого необходимо вводить сам эталон или принцип, надиндивидуальное основание, приемлемого для "общества" поведения.
Отрицательные поступки увеличивают отрицательное межиндивидуальное и индивидуальное построение, увеличивает потенциал дестабилизации и "беспокойства" общества. Только соответствие "справедливому", налаживание самокреккционных возможностей в пользу надиндивидуальной "справедливости" обеспечивает спокойствие общества, страны.
Чем выше, "глубиннее", более сущностным выступает содержание справедливости, тем более развитым предполагается уровень самоорганизации в пользу справедливости, тем она более надежна, более гарантирует благополучие страны.
Духовный уровень содержания справедливости предстает как высшая гарантия "спокойствия", если он присваивается участниками бытия страны, включая народ и правление (см. сх. 61).
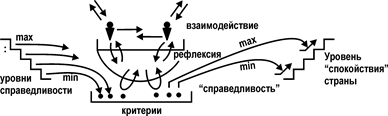
Схема 61
Высшая справедливость имеет своим основанием следование "законам" универсума, выражаемым в культуре и в духовном типе отражения. Авторы говорят о "судьбе" как предначертанности бытия человека со стороны универсума и об этом знают только "боги". Человек здесь имеет содержание высшей справедливости, но не может ее воспринять, воссоздать, так как не обладает возможностями "божественного познания".
Если применить средства метааналитики, то станет ясным, что представители культуры (собственно культуры, науки, духовной практики), функционально устремленные к "сути вещей", к пониманию первопричин, максимально адекватно, насколько это возможно людям, а не "богам", отражают бытие универсума и частей универсума, в том числе и бытие человека, его предназначение.
Высший уровень демонстрируется духовными лидерами (волхвами, жрецами и т.п.). Поэтому они могут разъяснять максимально адекватное, приближенное к истине видение "судьбы" человека самому "человеку", в том числе, жителю страны, ее руководителю и т.п., но уровень понимаемости у "человека" – ниже, и он не может им взять картину судьбы соразмерно точно, ни воспользоваться самостоятельно для активного соответствия самоорганизации содержанию образа судьбы для вписывания в линию судьбы. Остается лишь довериться пожеланиям духовного лица и пытаться идти по его ориентирам (см. сх. 62).
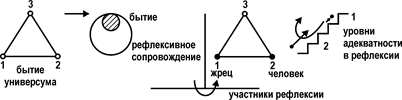
Схема 62
Роль "жрецов" во взаимоотношениях с "народом" и с "правителями" состоит в помощи, в способствовании адекватной рефлексии бытия, отражении и проектировании бытия, подготовке к более адекватной самоорганизации в бытии. Авторы советуют "учиться" у всех, не только у жрецов, у мудрых, быть готовым воспринять подсказки, не оставаться со своими заготовками и стереотипами и быть готовыми к поправкам, даже если кажется, что познание достигнуто "полное". Такая рекомендация опирается не на привычную практику накопления знаний, умений, так как прямое следование такой подсказке означает быть заложником полузнания, неверного знания и т.п.
При следовании обычному подходу необходимо сначала "узнать" о степени компетентности и мудрости "подсказчика". Если же подход включает в себя мыслительный механизм "очищения" любого высказывания по его содержательности, введения "истинного" заместителя случайного высказывания, то и случайное высказывание, если оно выражает "новое" явление для воспринимающего, становится ведущим к новому знанию истинного типа.
Тогда, в следовании иному подходу, можно выявить "подсказку" и в мнении любого человека, каким-либо образом отразившим новое и важное для ищущего подсказку. Это высказывание авторов имеет свою концептуально-технологическую обоснованность, если учесть историю логики, появление "метода Гегеля", его технологической реконструкции и способа применения в понимании текстов[21]. Можно предположить, что нечто подобное имелось в виду и авторами. Они, как-бы, считали, что человек может обладать мыслителем "выпрямителем" кривой, по динамике содержания и формы мысли (см. сх. 63).
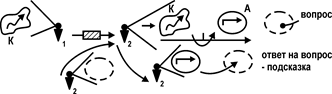
Схема 63
Авторы рекомендуют сохранять дружбу, опираясь и на прощение. Поскольку дружба связывается со справедливостью, а справедливость предполагает наличие надиндивидуальных оснований в поведении, оценке происходящего внутри и вовне человека, то предполагается и многоуровневая организация поведения.
Низкий уровень связан с жизнедеятельностью, потребительством, эгоцентричностью, тогда как в более высоких уровнях эти траектории поведения уже меняются и включают соответствие надиндивидуальным требованиям, самокоррекцию и т.п. Разные уровни влияют друг на друга и высшие влияют "облагораживающим" образом, тогда как низшие влияют снижающим степень "благородства" образом.
Поскольку снижения является неприемлемым для высоких форм общения, то оно легко становится поводом для отстранения даже тех, кто был в близких отношениях. Поэтому дружеские отношения все время могут находиться под угрозой расторжения из-за неустранимости влияния более низких форм общения.
Именно прощение, "забывание" плохих, неприемлемых поступков, в пределах допустимости, становится внутренним условием поддержания дружбы. Путь влияния негативного поведения, отношения, как бы прерывается субъективно, а при временности самого поведения, отношения, настроения и т.п. негативное исчезает и объективно. Другое дело, что следует дополнить прощение коррекцией внутренней самоорганизации в бытии того, кто совершал негативные поступки, что увеличивает гарантии невозвращения негативного.
При подобном подходе нет необходимости "запрещать" поведение, участие в дискуссии, даже если она идет в ложном направлении. Другое дело, если поступающий негативно, в том числе, как обманывающий, осуществляет это не стихийно и наивно, а с умыслом, как обманщик, что гарантирует появление "ошибок" неприемлемого отношения, настроения, действий и в будущем, поиска хитростей и способов достижения отрицательных целей.
Авторы выделяют такую перспективу как "наихудшую". Особенно подчеркивается прискорбность превращения справедливого человека в обманщика, так как основания справедливости становятся дополнительными средствами отрицательных поступков, превращаются в "неверные весы", опору неблаговидного. С этим превращением связаны наиболее изощренные формы отрицательных поступков, затрудняющие их опознание как источников зла и требующие особого дополнительного роста механизма "разоблачений" (см. сх. 64).
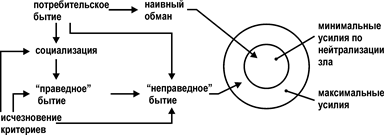
Схема 64
5 Индия
"Тот из деятельных богов самый деятельный, кто породил два мира, благодатных для Вас, кто отмерил два пространства с помощью прекрасной силы духа, он почтил их не стареющими опорами. Небо и Земля… Два широких, глубоких пространства силой воздвиг мудрый в том месте, где нет опоры… Очищая друг друга сами собой, Вы царствуете благодаря своей силе действия. Он века вы соблюдаете закон"[22].
Авторы говорят о "двух" мирах, пространствах, опорах, о Небе и Земле. Порождение происходит "силой духа" и там, где нет опоры. Эти миры, начала "очищают" друг друга. Если небо символизирует высокое, то Земля – низкое. И то, и другое порождено духом, поэтому боги и их деятельность суть потенциальное и актуализируемое духа. Дух проявляется сначала в основаниях, а затем и в основанном. Все появляется вне заранее данных опор как инобытие духа (см. сх. 65).
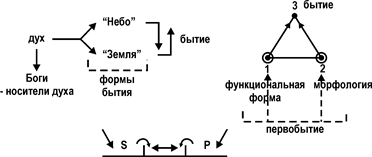
Схема 65
Мы видим, что авторы "богам" относят первобытие как порождающее основание. А когда "боги" уже мыслью зафиксированы, то их проявление рассматривается как миропостроение с внесением полярности начал и взаимоотношением начал как наблюдаемое бытие. Оно подчиняется "закону". Осталось лишь сказать то, что стало содержанием учений Платона и Аристотеля, многих иных, вплоть до Гегеля, сказать о "законе".
6 Индия
"Жизнь – дыхание. Живет, лишенный речи, зрения, слуха, безрукий и безногий, но никто не живет без дыхания. Познание – это дыхание, изучение и обучение. Любовь, решительность, сомнение, вера, неверие, твердость, нетвердость, стыд, размышления, страх – все это разум. Разумный предпочитает благое приятному, а глупый, ради мирского благополучия, выбирает приятное. Мудрый не ведает печали. Чей разум не сосредоточен, чувства того не знают узды. Мудрец, стремясь к бессмертию, глядит внутрь себя, закрыв глаза. Человек ощущает…Что же остается? Разум и сердце. В сердце одна из артерий ведет к голове. Идущий по ней вверх достигает бессмертия. Время, собственная природа, необходимость, случайность, суть – первичные элементы. Благоприятное, или неблагоприятное, сочетание их становится причиной счастья, или несчастья. Корень счастья – в самопознании и подвижничестве. Все основано на истине. Поэтому истину называют высшим. Все основано на подвижничестве. Поэтому подвижничество называют высшим. Укрощенные подавлением желаний сбрасывают с себя грехи. Поэтому подавление желаний называют высшим. Успокоенные покоем творят благодеяния и тем обретают небо. Поэтому покой называют высшим. Подаяние, даяние жрецу – защита жертвоприношений. Все основано на подаянии. Поэтому подаяние называют высшим. Мысль, оставившая различие между размышляющим и размышлением, занятая лишь предметом размышления, бывает высшим завершением. Человек при жизни становится освобожденным. Жизнь поистине непрочна, следует размышлять о том, что истинно. Чистый разум свободен от желаний. Разум человека – отброшена привязанность к предметам и разум заключен в сердце, то это высшее состояние.[23]
Мы видим, что "разумный человек" предпочитает "благое", а не приятное, связанное с мирским благополучием. Разумный идет дальше мирского, жизнедеятельностного, потребительского отношения к реальности. Но для того чтобы выйти за потребительское, мирское, приятное и т.п. следует перейти от самовыражения к иному, возможному лишь через самокоррекцию, преодоление самовыражения и эгоизма, за счет "узды". Она нужна и в действии, и в познании. Основанием служит не уподобление случайным внешним воздействиям и случайности чувственного состояния. Для ухода от случайного у человека есть "разум" и "сердце". Но только соединением того и другого (через "артерию") достигается высшее, "бессмертие". Истинное опознается "головой", а подвижничество позволяет служить не себе, а истине, устремляться к ней.
Здесь, иными словами говорится и о первичных механизмах, и процессах познания, самоорганизации, действия, и о вторичных механизмах, предназначенных для прихода к неслучайному как в познании, так и в отношениях к содержанию познанного. Первичное должно быть оттеснено и зависимость от внешнего воздействия и внутреннего самопроявления заменяется зависимостью от истинного вовне и от внутреннего сосредоточения на благодеянии. В результате "открывается" высшее, "небо", которому человек разумный служит. Человек обретает "свободу", в том числе от сиюминутных, случайных желаний, от привязанности к предметам. Желания становятся наполненными "истинностью" (см. сх. 66).

Схема 66
7 Индия
"Все действия проистекают от увеличивающихся и накапливающихся богатств. Даже поддержание жизни человека невозможно без богатства. У человека, лишенного богатства и поэтому неразумного, все действия прекращаются, У кого богатство – у того друзья, родственники, тот настоящий человек. Богатства заманиваются богатствами. Дхарма, любовь, небо, радость, гнев, ученость, самообладание – все это происходит от богатства. Не для бедняка этот свет и тот свет"[24].
Мы видим, что здесь фиксируется и реконструктивно, и проспективно, проектно соотношение бытия, успеха в бытии и наличия предметов потребности, "богатства". Если потребность не удовлетворяется, то дестабилизируется бытие. Все усложнения в бытии связаны с переходом к более сложным потребностям и предметам потребности, их объему, а накопление предметов потребности провоцирует новые потребности и притязания. В таких высказываниях нет перспективы и глубины, так как все остается на начальной стадии роста, развития человека.
8 Индия (буддизм)
"В уединении Благословенному пришли на ум такие мысли: "Я овладел этим учением, глубоким, трудным для понимания, умиротворяющим, высоким, находящимся за пределами доступного рассудку, понятным только для мудрых. Люди отдаются привязанности… им трудно понять, что такое причинная связанность и взаимозависимое происхождение (ведущее к переселению души)… что значит отказ от всего, что способствует перерождению (привязанности к жизни), уничтожение страстей, нирвана (полное освобождение от всего, что связано с непостоянством, освобождение от страдания). Тому, кто охвачен страстью, нелегко постичь это учение… они не поймут того, что тонко, что глубоко, что против течения их мысли… и ум его стал склоняться к бездействию, чтобы не проповедывать учение. Но Брахма Сахампати – один из обитателей высших небесных сфер – позвал его проповедовать учение… открыта дверь… "бессмертной" для тех, кто слышит"[25].
В условиях преодоления инерции первичных форм познания, отношения к внешнему и себе появляется более глубокие и тонкие воззрения и отношения. Содержанием нового взгляда, как полагают авторы, выступают "причинная связанность", "переселение душ" и понимание перспективы отхода от привязанности к жизни, перспективы освобождения от случайного, ведущего к "страданиям". Но это содержание может быть воспринято лишь немногими, кто "слышит".
Если применить средства метааналитики, то это означает разделение путей в познании и бытии человека на то, что связано с акцентом на морфологию и связанное с акцентом на функционально-формное в бытии. Морфология и ее проявление в человеческом существовании в виде жизнедеятельности опирается на самовыражение и потребительство. В познании оно "видит" случайное, меняющееся. В промежуточном положении, в социокультурном и деятельностном бытии, человек использует "рассудок", появляющийся в ходе присвоения языка и сохранении "привязанности" к временному, текущему. Будда же вводит акцент на вечном, неизменном, которое связано с функционально-формным основанием всего, независящим от исторических обстоятельств (см. сх. 67).
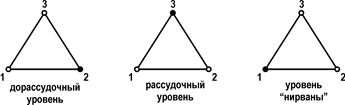
Схема 67
В функциональном аспекте то, что связано с жизнью, формой жизни дано лишь потенциально. Поэтому в нем предполагается отсутствие страстей, привязанности к жизни, отсутствие "страданий". Если формное начало бытия всего непосредственно, без "рассудка" не заметить, то высшие основания можно только умопостигать, что невозможно при обычной подготовке мыслителя. Отсюда и сомнение Будды в перспективности проповедничества. Но объективная необходимость вовлекать людей в понимание "сути вещей", хотя бы предрасположенными к высокому и тонкому, приводит к преодолению сомнений. Подобные мысли о вечном мы встречали у Платона в учениях об идеях и т.п., у других, включая Гегеля.
9 Индия (буддизм)
"Две крайности, которых должен избегать удалившийся от мира: жизнь, погруженную в желания: низкая, темная, заурядная, неблагая, бесполезная, жизнь в самоистязании: исполненная страдания, неблагая, бесполезная. Средний путь, способствующий постижению, пониманию, ведущий к высшему Знанию, к просветлению, к нирване. Этот путь: правильные взгляды, правильные намерения, правильная речь, правильные действия, правильный образ жизни, правильное сосредоточение. Благая мысль: рождение – страдание, болезнь – страдание, разъединение с тем, что приятно, – страдание, когда нет возможности достичь желаемого – страдание. Благая истина: страдание может быть уничтожено, уничтожение страсти, отвращение от них. Благая истина есть путь, ведущий к уничтожению страдания".[26]
Мы видим, что "срединный путь" опирается на "правильность" действий, намерений, замыслов, мышления, взглядов и т.п., что предполагает нейтрализацию страстей, "умиротворение" как исходное состояние, которым можно управлять в "логике правильности", активизируя, тормозя, запоминая, стирая, воодушевляясь, успокаиваясь и т.п. Если в первичном образе бытия возникновение внутренних потребностей, желаний являлось основанием активности, построения поведения, поиска и присвоения предмета потребности, вынужденной адаптации, трансформации предмета и т.д., то в "срединном пути" избегается и противоположный образ действий, когда забывается значимость себя. С точки зрения средств метааналитики Будда говорит о бытии в стиле, совмещающем достоинства и бытия "для-в-себе", саморазвития и бытия "для-себя", учитывающее реагирование реконструктивного типа (см. сх. 68).
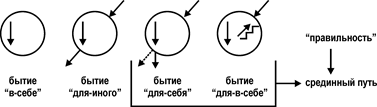
Схема 68
"Страдание" рассматривается как вынужденное реагирование, чаще связанное с "ухудшением" внутреннего состояния, уменьшением внутреннего потенциала. Этому соответствует бытие "для-иного", нейтрализующее самосохранение и соблюдение своих интересов. Причина лежит как во внешнем поводе, так и внутренней готовности не следовать своим интересам. Если речь ведется о "правильном" поведении и др., то не следование индивидуальным интересам является "правильным", если оно подчиняется "правилу", а самосохранение здесь состоит в развивающем переходе, в бытии "для-в-себе", в прохождении двух отрицаний диалектического характера. И это вписано в срединный путь. "Страдания начинаются в первом отрицании, а устраняются во втором отрицании, положительном закреплении в более развитом состоянии.
Однако полнота отхода от "страданий", их уничтожение означает вхождение в состояние полной потенциальности, готовности как таковой, устранении отношений с внешним миром при "успокоенности" внутреннего. Иначе говоря, это состояние или даже образ бытия в полной функциональности, "пустоте", определенных проявлений, состояние "нирваны".
10 Индия (буддизм)
"Глупость ведь корень всех несчастий, мудрый сам идет путем благим, и других ведет дорогой той же; слова, как ни были б они суровы, в нем раздражения не вызывают, коль сказаны они ему на благо. Всегда украшен мудрый скромностью и прямотой, склоняется к сторонникам добра. В вопросах справедливости я – вождь народа. Чистых сердцем не склонить к дурным деяниям, находя опору в своей высокой нравственной стойкости. Кто отвернется даже от проявляющего преданность к нему, иль опечален расположением к отвергшему его забудет прежние благодеяния, тот, несмотря на облик человека, сомненья возбуждает – так ли это. Если незаметна где-нибудь причина, то как с уверенностью скажешь ты, что нет ее совсем? Что нежелательно тебе, то и другим ты делать не старайся. Даже страдание, если оно несет благо ближнему, доброжелательные ценят высоко. Даже имея силу отомстить, сносить нам следует от слабых оскорбленья. Лучше стерпеть обиду от него, чем добродетелей лишиться".[27]
Авторы подчеркивают, что мудрость идет "благим" путем и все оценивает с точки зрения именно блага, а не своих личных интересов. Поэтому если внешние воздействия помогают в достижении блага, то они поддерживаются мудрым, даже вопреки возникающим оценкам по случайным факторам и случайности внутренней динамики, настроения и т.п. допускается любая критика, меняющая происходящее в сторону приближения к благу. Вместе с самокоррекцией, готовностью к поправкам мудрый совершенствует скромность и способен идти к благу напрямик, открыто демонстрируя свое движение к благу в определенных условиях. Если мудрый является руководителем или связан с реабилитацией функции управления, то он демонстрирует управленческое воздействие в вопросах, касающихся справедливости и блага. В этих вопросах мудрый обладает нравственной стойкостью и противодействием дурным влияниям.
Как мы видим, мудрость показывается здесь и в позиции носителя исходных оснований, позиции культурно-критериального обеспечения, отстраненного от исторической динамики, ситуаций, практической деятельности и отношений, и в позиции решения конкретных задач и проблем, в практике, в реализации оснований. Во всех случаях, он обращен к сохранности оснований "блага", к соответствующей "справедливости", что предопределяет возвышение всего временного, в том числе рост и развитие субъективных качеств, если они еще не соответствуют требованиям, исходящим из содержания блага (см. сх. 69).
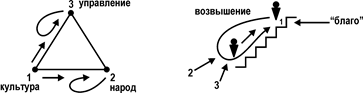
Схема 69
Во взаимодействиях мудрый не отвертывается от любого, который стремится уподобиться мудрому и приблизиться к мудрости, не забывает прежние благодеяния, усилия по линии приближения к благу. Более того, авторы считают, что устремление к благу является базисной характеристикой "человека", и это означает, что все "должны" быть мудрыми. Этим противопоставляется природная сторона качеств человека, как незначимая для "человека" и приобретенная в возвышении, в социализации и окультуривании.
С другой стороны, мудрый человек приходит к более глубоким воззрениям и овладевает причинно-следственной проницательностью, способностью к каузальному видению любого события. А причины чаще всего непосредственно не видны, требуют опоры не на созерцание, а умопостижение. Само "благо" по содержанию раскрывается в рамках принципа каузальной непрерывности. Это уже иная каузальность, чем додобродетельное бытие. В частности, как пишут авторы, добродетельное бытие мудрого предполагает нечувствительность к оскорблениям, если они предопределены неразвитостью оскорбляющих. То, что было значимым для самосохранения, перестает быть значимым на более высоком уровне развитости, на уровне бытия мудрого (см. сх. 70).
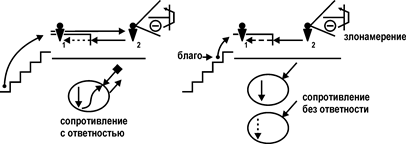
Схема 70
11 Индия (буддизм)
"Если счастье достигается благодаря мучениям ближних, то счастья в результате не достигнуть… доставив себе счастье… с трудом великим, добродетельный более доволен, чем если бы с легкостью он добился счастья… То, что сделано в расчете на выгоду – не услуга, а лишь отдача в долг.[28]
Мы видим, что достижение счастья не должно быть по основанию эгоизма, за счет другого, за счет мучений ближних, так как сам принцип поступков опирается на отсутствие эгоцентризма, на учет и уважение ко всему существующему, на признание всего, на распространение возвышающей направленности на всех. Этим как бы выявляются требования ко всему со стороны первооснований, со стороны функциональной формы и эти требования должны приблизить все к тому уровню развитости, который соответствует первооснове, сути бытия.
В свое время Платон различил "идеи" и "идею идей". Этим он предполагал, что идеи должны уподобляться идее идей, приобретая всеобщие черты сущности, а затем принуждая реальный объект к уподоблению себе и, в том числе, к уподоблению идее идей. Поэтому через обращение к идее идей устраняется выделенность и эгоцентризм отдельных идей, а затем и тех объектов, которые уподобляются идеям (см. сх. 71).
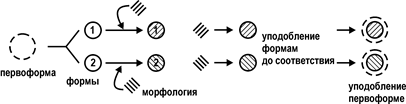
Схема 71
Чем менее развит объект, тем больше должно быть предпринято усилий для приведения его к соответствию заранее фиксированной форме, если она является формой более или менее развитого объекта. Объект лишь должен предполагать возможность этого уровня развития. Аналогично и человек, если он устремлен к более высокому уровню развитости, должен планировать соответствующий объем усилий. Чем больше он тратит усилий, тем более достойным считается, так как его устремленность к "тому же" связана с иным, более хлопотливым стартом. Более того, как пишут авторы, в своем возвышении человек должен быть бескорыстен, а также бескорыстен в помощи при возвышении других.
"Счастье" состоит не в возмещении чем-либо усилий по возвышению, а в самом приближении и достигнутости соответствия благу добродетели и т.п. Счастье предстает как субъективное отношение к приближению, к достигнутости соответствия. Потребительское отношение преодолевается и возникает отношение служения, специфическое для духовного бытия, если содержанием служения выступает служение первооснованию (см. сх. 72).
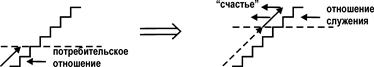
Схема 72
Высшее счастье тогда присуще духовным людям, а добродетели соотнесены с отношением служения первооснованию, "Богу".
12 Индия (буддизм)
"Кто увидит мудреца, указывающего недостатки и упрекающего за них, пусть он следует за таким мудрецом, как за указывающим сокровище. Плотники подчиняют себе дерево, мудрецы смиряют самих себя. Если бы кто-нибудь в битве тысячекратно победил тысячу людей, а другой победил бы себя одного, то именно этот другой – величайший победитель в битве. Если добрый сделал добро, пусть он делает его снова и снова, пусть строит на нем свои намерения. Плохие и вредные для себя дела делать легко. То же, что хорошо и полезно, делать в высшей степени трудно. Сам человек совершает зло, и сам очищает себя. Чистота и скверна связаны с самими собой. Немногие видят ясно в этом мире, лишь немногие попадают на небеса. Несотворение зла, достижение добра, очищение своего ума – вот учение просветленных. Нет беды большей, чем ненависть; нет несчастья большего, чем тело; нет счастья, равного спокойствию. Нирвана – величайшее благо. Мудрые сдержанны телом; они также сдержанны в слове; мудрые сдержанны умом; они поистине во всем сдержанны. Грязнее всего грязь невежества. Легко увидеть грехи других, свои же, напротив, увидеть трудно. Кто исполнен лени, несмотря на молодость и силу; у кого решимость и мысль подавлены, не найдет пути к мудрости. Пока у мужчины не искоренено желание к женщине – до тех пор его ум на привязи. Благие сияют издалека. Приятно удовольствие, если оно взаимно. Я называю брахманом того, для кого не существует ни этого, ни того берега; кто бесстрашен и свободен от привязанностей; кто размышляет, свободен от страстей, спокоен; кто делает дело; преодолевает желания; кто достиг высшего блага, не совершил зла ни телом, ни словом, ни мыслью, в ком истина и дхамма, тот счастлив и тот брахман, кто разорвал путы и кто действительно не дрожит от страха, кто преодолел привязанности и отрешился от мира; кто знает свое прежнее существование и видит небо и преисподнюю; будучи мудрецом, исполненным совершенного знания, достиг уничтожения рождений; кто совершил все, что возможно совершить. В обоих мирах творящий добро ликует. "Добро сделано мной!" Еще больше ликует он, достигнув счастья. Глупец, который знает свою глупость, тем самым уже мудр. Если человек мало повторяет писание, но живет, следуя дхамме, он причастен к святости".[29]
Мы видим, что мудрец, прежде чем указывать недостатки кого-либо и упрекать за них, сам себя избавляет от них, смиряет свои страсти, побеждает себя, низшее в себе, постоянно делает добро, стремится к деланию добра. Тем более что все это требует больших усилий. "Возмещение" усилий выступает явное видение мира, очищенность ума, спокойствие, нирвана, что является высшим благом.
Мудрый во всем сдержан, наполнен активностью, решимостью, бесстрашием, свободой от привязанностей, размышляет, не совершает зла, обладает истиной, знает свое прежнее бытие, наполнен совершенным знанием, видит и "небо" и "преисподнюю", совершил уже все, осознает свое состояние, в ликовании его оценивает. С точки зрения рефлексивного механизма мудрец имеет высшие критерии по блоку мировоззрения и мироотношения, субъективно соответствует этим критериям как в стадии рефлексивной подготовки к действию, в принятии решений, так и в стадии реализации решений (см. сх. 73).
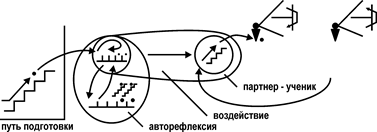
Схема 73
Ясное, сущностное видение мира совмещено у мудрого и вписанностью в мир, в соответствие законам мира, его первооснованиям. "Тело" мудреца уже не мешает ему, и он справляется с ним, если оно вновь напоминает ему о своей "самостоятельности". Мудрый не опасается, что ему что-либо не удастся, и он готов поправить себя, если это необходимо для достижения цели, служения добру, благу, облагодетельствования партнера-ученика. При этом несовершенство ученика, партнера он преодолевает не "прямым силовым воздействием", не насилием, а нахождением внутренних условий прохождения партнером "следующего шага" к благу, к совершенству.
Мудрецу ясно представляются и "высшее" и "низшее" в бытии, и переходы от низшего к высшему, от высшего к низшему, что и позволяет видеть возможности совершенствования партнера в его реальных условиях. Он уже "опробовал" все, все типы трудностей в прохождении "пути", знает, суммарно и может вычислить возможные трудности и выходы из них, обладая всеобщим ориентиром. Можно представить себе в качестве средства принятия решений универсальный образ мира со всеми типовыми акцентами (см. сх. 74).
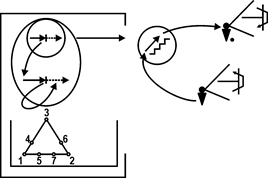
Схема 74
Авторы подчеркивают, что несоблюдение всеобщих законов, в том числе и типологичность всего в универсуме, является источником "несчастий". Мудрый реализует свою миссию сохранения знания законов, способностей к их применению и способствования росту "мудрости", снижению глупости всех остальных. Введение высших взглядов осуществляется спокойно, скромно, но "прямо", во всей чистоте.
13 Индия (буддизм)
"Если счастье достигается благодаря мучениям ближних, то счастья не достигнуть… Хорошо сказанное слово человека, следующего ему, плодоносно. С глупцом не бывает дружбы… не встретив подобного себе или лучшего укрепись в одиночестве… Глупый наполняется злом… воспитал в себе чувство кротости, отринь чувство гнева и ярости… побежденного обласкай и отнесись с уважением: у тебя будет еще один друг… У того, чья мысль нестойка, вера колеблется – мудрость не становится совершенной… Благой человек проникает повсюду… Хорошо сказанное слово человека, который ему не следует бесплодно. Безумный утешается прошедшим, слабоумный – будущим, умный – настоящим. Благородный говорит лишь о достоинствах ближнего, хоть тот лишен их; низкий – лишь о недостатках. Бойся опасности, пока ее нет; когда же опасность пришла, не бойся, а борись с ней. Внимай полезной речи, пусть она исходит от ребенка; не слушай дурных речей, пусть они исходят от старца. Вялость, женолюбие, болезненность, привязанность к родным местам, довольство жизнью, боязливость – вот шесть преград на пути к величию. Глупец суетится вовсю, затеяв пустяк; умный сохраняет спокойствие, берясь за великое дело. Давать советы глупцу – только злить его. Даже о правде следует умолчать, если она принесет несчастье. Даже тот, кто далеко, стоит рядом, если он в твоем сердце. Два пути перед мудрыми в этом бесплодном и непостоянном мире: вкушать нектар высшего знания или наслаждаться юными красавицами. Две ошибки совершил творец: создал женщин и золото… где нет справедливости, нет счастья. Дело идет за идущим. Добродетель в том, чтобы делать ближним добро и не причинять зла, делать для них то, чего желал бы самому себе. Друг познаётся в беде, честный – в уплате долга, родственники – в невзгодах. Истина одна – заблуждений много. Стремись лишь к тому, что зависит от тебя самого. Наслаждаться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания. Все живые существа являются неотъемлемыми частицами Бога. Исполняй свой долг, не думая об исходе. Кто исполняет спокойно, встречает любые последствия, тот поистине велик душою. Всего никому открывать нельзя. Когда время действовать, то знание, сокрытое в книгах, – не знание. Кто не отвечает гневом на гнев, спасает. Лучше враждовать с умным, чем дружить с дураком. Лучше худо исполнять свой долг, чем хорошо – чужой. Мудрый не горюет о потерянном, об умершем и о прошлом".[30]
Мы видим, что много высказываний соответствуют социокультурным взаимодействиям, но еще не достигают уровня культурных отношений и, тем более, духовных. Но социокультурные взаимодействия, самоорганизация в них подготавливает внутренний мир к культурному и духовному бытию. Так "кротость", отсутствие гнева, ярости "полезно" в социокультурной динамике, так же как "милосердность" к противнику, уважение к нему после победы. Но они затем могут вести к более высокому уровню, соответствующему культурному бытию, а затем и духовному.
Для понимания "высшего", а здесь – мудрости, следует совместить несколько моментов.
С одной стороны, мудрости, как утверждают авторы, присущи "стойкость" мысли, "непоколебимость" веры. Но можно стойкость и непоколебимость связать со случайным содержанием, воззрением и никакой мудрости не получить.
С другой стороны, благой человек следует "хорошему" слову, а не только произносит его. Но необходимо уточнить, что такое "хорошее слово".
С третьей стороны, если следуеешь слову, то не бойся опасностей, возникающих на пути, борись с ними. Эти усилия, конечно, оправданы, если слово имеет "великое" содержание. Более того, борясь, не нужно "волноваться", так как оно мешает сохранению великого содержания.
И вот говорится, с четвертой стороны, что знание должно быть "высшим". Ему посвящаются усилия мудрого. А высшее знание может быть, как "истина", – одно, в отличие от заблуждений.
При этом мудрый, с пятой стороны, должен не только совершенствовать свое знание, превращая его в истинное, но и понимать путь ухода от истины, путь в невежество, чтобы не пойти по этому пути по случайным обстоятельствам.
Сама же возможность прихода к истине, с шестой стороны, коренится в том, что живые существа, тем более человек, являются неотъемлемыми "частицами" бога, а познание Бога предстает условием прихода к истине. Если долг опирается на истину, то человеку нужно спокойно встречать любые последствия выполнения долга, хотя и до этого высокого уровня отношение к долгу предполагается аналогичным.
Мудрый спокойно относится, с седьмой стороны, к потерям, если он выполняет должное.
Тем самым, мы получаем связанность действий, замыслов, самоотношений и т.п. мудрого с высшим знанием, с истиной (см. сх. 75).
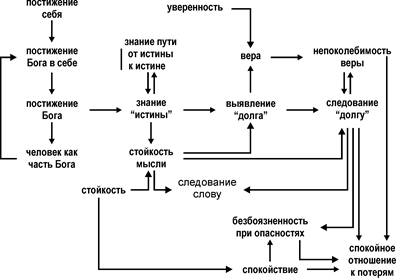
Схема 75
14 Индия (буддизм)
"Мягкость побеждает мягких, побеждает суровых. И в счастье, и в несчастье неизменны великие. Свобода от надежд – источник великого покоя. Наука есть видение сокрытого. Не берись ни за какие дела – вот первый признак мудрости. Взявшись же за дело, доводи его до конца – вот второй признак мудрости. Нет и не будет человека, достойного одного лишь осуждения или похвалы. Излишек в чем бы то ни было опасен. Не будь слишком близко, слишком далеко от царей: окажешься слишком близко – погубят; слишком далеко – они будут бесполезны для тебя. Не видно– таков и путь добродетельных. Не живи в стране, которою никто не правит, правят многие, правит дитя. Какое семя посеяно, то и даст всходы. Не победить сильным слабых, если те держатся вместе. Не приносят пользы мудрые наставления тому, кто страшится действия. Не сердись на рассерженного, не говори суетного и лживого. Не следуй неумеренным желаниям, не откладывай того, что следует сделать, – вот извечная заповедь. Не станет разумный ради малого губить великое. Малым сберечь великое – вот истинная мудрость. Никто не бывает от природы ни высоким, ни низким – лишь собственные дела ведут человека к почету или презрению. Ни о чужих недостатках, ни о своих добродетелях не говорит истинно достойный. Обилие плодов клонит ветвь книзу, сами достоинства причиняют зло. Нет средства лишь от глупости. Один лишь раз приказывает царь, один лишь раз высказывает свое суждение достойный. Ненависть не прекращается ненавистью. Победи сначала самого себя, а потом – врагов. Как может владеть другими не владеющий собой? Побеждай зло – добром, ложь – правдой. Подражай хорошему даже во врагах, не подражай дурному даже в родителях. Пройдет время, и друг станет врагом, а враг – другом. Ибо собственная выгода сильнее всего. Пропадает войско без полководца, знание без дела, человек без знания. Повелитель своих надежд – повелитель всего мира. Отвага без разума – свойство скотины. Разумный оценивает по собственному суждению, глупец доверяет молве. Сердце достойного мягко в счастье и твердо в несчастье. Терпение – добродетель бессильного и украшение сильного. Одолевай судьбу мужественными делами. Только тем великим душам, которые непоколебимо верят в Господа и духовного учителя, сам собой открывается весь смысл ведического знания. Тот, чье сердце не стремится ни к наукам, ни к битвам, ни к женщинам, напрасно родился на свет, похитив юность матери. Украшение человека – мудрость. Неотвратим путь событий, мое дело – следовать ему… Что пользы от науки тому, у кого нет ума? Что проку от знаний тому, кто, проникнув в суть, не извлечет пользы"?[31]
Во многих утверждениях видна мировоззренческая основа. Так рекомендуя мягкостью "побеждать" суровых авторы предполагают, что любой, в том числе и суровый, имеет все основания бытия, в том числе и мягкость, стимулируя которую можно перевесить суровость. Стимулирование же опирается на один из универсальных типов реагирования – проявление по типу "для-иного", уподобление. Рекомендация акцентирует внимание при наличии у "другого" сложившегося своего акцента, проявления типа "для-себя" (см. сх. 76).
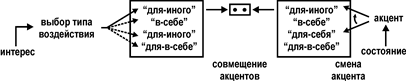
Схема 76
Естественная динамика у начинающего путь развития делает человека зависимым от случайных факторов внутри и вовне. Те же, кто прошел путь и стал "великим", имеет свое основание, свое "в-себе" бытие, которое остается сохранным в различных конкретных и ситуационных реагированиях. Оно неизменно и в "счастьи", и в несчастьи. Великий прошел путь к сущности уже не продолжает искать ее, становясь "свободным от надежд". Нося в себе свою существенность, он обладает "великим покоем". Тем самым, предполагается путь к состоянию "великого", где основание не является случайным, вечно значимым, предстающим как результат трансформаций содержания "в-себе" бытия (см. сх. 77).
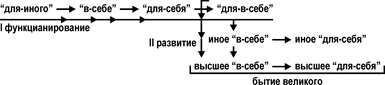
Схема 77
Интересным является принцип, заложенный в рекомендации не браться за дело "всуе", а если браться, то доводить дело до конца. По критерию "окончания" дела становится заметным подчинение действующего универсумальной динамике. Трудность встроенного самопроявления и диктует не браться за что-либо "просто так". А встроенность предполагает и принятие содержания знания, в том числе и помещенности части в целлое, ее подчиненности целому, соблюдение того, что понято и принято (см. сх. 78).
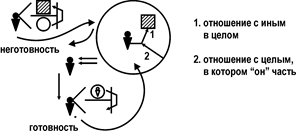
Схема 78
В человеке присутствует двойственность любой части в целом. С одной стороны, как часть универсума, человек имеет свою определенную ограниченность. Но, с другой стороны, часть целого имеет сохранными свойства и целого, позволяющие интегрироваться и быть "принятым" целым, универсумом. Ограниченность части материализуется, и человек имеет "тело", могущее выступать отдельно и как бы независимо. В то же время, человек имеет "душу", не ограничивающуюся телесностью, хотя и встроенную в "душу универсума".
Иначе говоря, человек, как и любое нечто, встроен в систему координат, одной из которых, как писал Аристотель, является форма (части и целого), а с другой – материя (части и целого).
При акценте на часть подчеркивается самодостаточное в форме и материи, а на включенность в целое – подчеркивается зависимость от целого. Многокоординатная двойственность выражена и в утверждении о том, что человек не достоин лишь порицания, лишь похвал. Он достоин и похвал, и порицания. При изолированности от целого он имеет основание на порицания, а при подчиненности целому он имеет основания и на похвалу. Однако только быть в подчинении целому означает утерю "себя", что тоже достойно порицания, а заботы по самосохранению – достойны похвал.
Если все состоит, по Аристотелю, из формы и материи, то и форма ограничена материей, и "свобода" материи организована формой и не является абсолютной. Любое нечто находится "посередине". При неучете противоположного начала в нечто появляются преувеличение значимости того начала, на которое обращается внимание. А это уже "излишек", который опасен. Следует, как подчеркивают авторы, оставаться от иного в некоторой близости, чтобы и не игнорировать его и не впасть в зависимость, неприемлемую для себя (см. сх. 79).
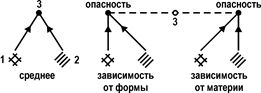
Схема 79
Все, что экстремально, заметно своей тенденцией к дестабилизации, угрозам, а срединное – "незаметно". Добродетельный человек в силу своей вписанности в целое, становится "незаметным" для окружения, не несет угрозы, создает комфорт в целостности.
В стране, как целостности, совмещением начал, предписаний и исполнителей, проектов и ресурсов и т.п. занимается управленец. Если он не реализует своей функции совмещения начал, то дестабилизация тревожит жителей. Их тревожит множество версий совмещения или множество участников управления, если они не могут приходить к единому решению. Их также тревожит и неумелое, неуверенное управление "ребенка". Тем самым, авторы комментируют, опираясь на самые общие онтологические принципы. Совмещение начал иллюстрируется и совмещением замыслов, "мудрых наставлений" и действий в соответствии с ними.
Мысль продолжается и на примере отношений с "рассерженным", так как проявление сердитости увеличивает односторонность, несдержанность сердитости партнера вместо того, чтобы его успокоить податливостью, гибкостью, мягкостью. И рекомендация отстраняется от лживости и суетности, имеет то же универсумальное основание.
Ложь уводит от срединности, реализма действия противоположных начал к преувеличенности одного из них, так же как суетность не позволяет удерживаться и даже обнаруживать "срединное положение", дестабилизируя неустроенностью нечто. И неумеренные желания соответствуют преувеличенности одного из начал, не ведущей к срединности удовлетворения желания, отличающегося от удовлетворенности желания, прекращающей бытие жизнедеятельностного цикла (см. сх. 80).

Схема 80
Добродетельный человек проявляет свой "срединный" подход и при организации оценок других и себя, их действий и замыслов. Преувеличение в акцентировке на достоинства человека может привести и к "злу". Видимо суть "глупости" видится в игнорировании срединности, в неограниченных и незамечаемых преувеличениях. Рассыпается срединность и при повторных указаниях "царей", неорганизованных и немотивированных повторениях утверждений.
Как раз в силу того, что человек в своей самоорганизации и должен следовать всеобщему принципу "срединности", что не осуществляется автоматически", требует специальной подготовки, знания крайностей и срединного, появления преувеличений и т.п., говорится о том, что перед решением сложных задач, в борьбе и т.п. следует сначала позаботиться о "себе", о способности следовать универсумальным началам, основаниям и т.п., как в статике, так и в динамике, во "владении собой". В ином случае ожидает поражение, неэффективность, недостижение цели и т.п (см. сх. 81).

Схема 81
Выявление сущностных оснований в самоорганизации столь значимо, что рекомендуется искать и подражать "хорошему", везде, в том числе и у "врагов". Но чтобы подражать хорошему, быть готовым противостоять "обыденным" заботам необходима способность "повелевать собой", особенно в трудных ситуациях, когда обыденное мобилизует все, чтобы отвести от следования "хорошему", высшему. Мужественными делами можно справиться с этими трудностями и даже "одолеть судьбу".
Особо подчеркивается, что великим можно стать лишь непоколебимо веря в духовного учителя и Бога, так как именно они и воплощают в себе все высшее, ближнее, доступное и дальнее, недоступное. Вне веры в это высшее и дел, соответствующих призывам учителя и Бога нет содержательности ведического знания (см. сх. 82).

Схема 82
Поскольку ведическое знание отражает истину бытия, позволяет видеть путь, события в истинном свете, то говорится, что необходимо вписаться в ход событий, опираясь на сущностное его видение. Но вписывается имеющий ведическое знание, владеть этим знанием в самоорганизации нельзя, не имея развитый на соответствующем уровне "ум". Если использовать понятийные представления о рефлексивной самоорганизации, о критериальном обеспечении рефлексии, о высших критериях культурного и духовного типа, то легко заметить соответствие воззрений буддизма воззрениям о высшем уровне рефлексивной самоорганизации и высшем типе бытия человека, выделенном в качестве идеала.
15 Иран (зороастризм)
"Обязуюсь вершить добрую мысль, вершить доброе слово, доброе деяние. Артовская вера из всех существующих и будущих вер – величайшая, лучшая и светлейшая… Самое лучшее – разум, так как землю можно обустроить разумом и небо можно подчинить себе силою разума. Ормазд создал эти земные творения силой врожденного разума. И земля и небо управляют разумом. Жизнь каждого предназначена для радости. Ормазд не создал ни зернышка для того, кто ленив. Богатыми следует считать разумных, здоровых и живущих без страха, довольных своею жизнью, друзей судьбы (т.е. счастливых), имеющих добрую славу, здоровых. Тот человек сильнее, кто отстраняет от себя пятерых демонов: жадность, злобу, трусость, похоть и неудовлетворенность. Разум дороже всех богатств мира. Судьба – царь над всеми. Тому, кто хорош характером, нравом и поведением, надо благодарить разум. Один есть путь – путь истины. Не ссорься ни с кем, не борись за место. Не служи злому духу. Внимательно следи за своими недостатками".[32].
Мы видим, что особое внимание уделяется "разуму", который нужен для созидания, управления. Он обладает и силой. Тот, кто имеет разум "действующий", не обессилен ленью, не имеет страха, а деяния направляет на "добро", имеет признанность на этом пути, доволен тем, чем занимается, здоров, тот и живет "правильно", является "богатым". Он может применить усилие, силу для оттеснения пороков. Именно разумный идет путем "истины", а не реализации эгоистических устремлений. Поскольку пороки всегда могут проявиться, то надо быть бдительным, следить за собой, особенно за возможными недостатками.
Тем самым, можно говорить о рефлексивном механизме как основе разума, порождающем замыслы и обеспечивающем реализацию замыслов. Но полнота, подлинность "разума" предполагает различие между добром и злом, ложью и истиной, предполагает подчинение разума "истине". Более того, следование истине должно быть субъективно принятым, поддержанным, гарантирующим отстранение от порочных путей, сомнений в правильности и истинности, следованию истине.
16 Китай (конфуцианство)
"Благородные люди живут в согласии с другими людьми, но не следуют за другими людьми. Благородный муж в душе безмятежен. Низкий человек всегда озабочен. Благородный муж винит себя, малый человек винит других. Благородный муж думает о праведном пути и не беспокоится о бедности… избегает соперничества… не вступает в сговор… поспешает в делах, но медлит в речах. Общаясь с людьми добродетельными, он исправляет себя… не ожидает обмана, но первый замечает его. Помогает людям увидеть то, что есть в них доброго. Превыше всего почитает долг. С достоинством ожидает велений неба. Низкий человек суетливо поджидает удачу. Благородный муж стойко переносит беды. Блажен тот, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым. Пользуясь услугами людей, ведите себя так, словно совершаете торжественный обряд. Не делайте другим того, чего себе не пожелаете. Будьте строги к себе и мягки к другим. В древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя. Владеть собой настолько, чтоб уважать других, как самого себя. Советуй друзьям делать лишь то, что они способны сделать. В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учебе, в тридцать лет обрел самостоятельность, в сорок лет я избавился от сомнений. В пятьдесят лет я познал волю неба. В шестьдесят лет научился отличать правду от неправды. В семьдесят лет я стал следовать желаниям своего сердца. Давай наставления только тому, кто ищет знаний. Даже в обществе двух человек я непременно найду, чему у них поучиться. Достоинствам их – подражать, а на их недостатках сам буду учиться. Для народа человеколюбие нужнее, чем огонь и вода… не видел, чтобы кто-нибудь погиб от человеколюбия. Добродетель не останется в одиночестве. Достойный человек не может не обладать широтой познаний и твердостью духа.
Единственная настоящая ошибка – не исправлять своих прошлых ошибок. Если в человеке естество затмит воспитанность, получится дикарь, а если воспитанность затмит естество, получится знаток писаний. Лишь тот, в ком естество и воспитанность пребывают в равновесии, может считаться достойным мужем"[33].
Большинство утверждений носят характер социокультурных ориентиров и предписаний. Указание на безмятежность имеет потенциал "вечного" критерия, но выраженный неявно. В реальной практике безмятежность в душе всегда относительна, хотя и становится важной стороной отхода от случайного реагирования на внешние воздействия. Полнота безмятежности ведет уже к устойчивому нереагированию, выключению из жизненной динамики, что нарушает "закон" вечной циклики процессов.
Другое дело культурные, духовные основания, отчужденные в парадигме оснований, средств, ориентиров, в идеале и ценностях. Они, как средственное обеспечение, обладают "вечной безмятежностью", а человек, пользующийся ими, приобретает эту же особенность, но лишь как момент циклики, дополняемый "активизацией", но в соответствии с основаниями.
Противоречие между полнотой "безмятежности" оснований, парадигм и относительной безмятежностью в синтагматике является как базисным противоречием языка, так и "духа", развитого "Я", о чем говорил Гегель (см. сх. 83).
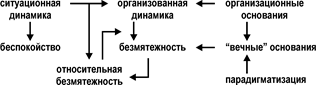
Схема 83
Воспитанный, измененный под социокультурные или и культурные, духовные критерии человек, в случае неудач предполагает в качестве их причин, возможность несоответствия реальных действий и способностей требуемым, идущим от критериев, что и позволяет ему критически относиться к "себе", винить "себя", а затем переходить к совершенствованию себя.
Для него принцип индивидуального самовыражения заменяется принципом соответствия и принципом служения, что опирается на введении "праведности" пути, не имеющему изначальной индивидуализации. Становясь на точку зрения праведности, отыскивая в себе имеющиеся соответствия ей, человек заботится и о других, также входящих в поле действия праведности, также пытающихся привести себя в соответствие с праведностью и выявляющих то, что уже соответствует ей. Поэтому, отождествляясь с праведностью как основанием, требующим от людей соответствия "себе", человек помогает другим увидеть в них соответствующее или могущее стать соответствующим праведности, "доброе", в них (см. сх. 84).
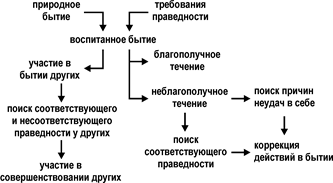
Схема 84
Вместе с праведностью социокультурные формы долга могут переходить в более высокую, культурную или даже духовную форму. Благодаря этому воспитанный человек обращен к "высшему", к велениям неба. Самоотношение, самокорректирование также переводятся на более высокий уровень, в том числе в условиях "беды" и т.п. Кроме того, при соотнесении личных соответствий и соответствий праведности у других большую требовательность человек предъявляет себе, сохраняя большую "мягкость" и "терпимость" к несоответствиям у других, не отстраняя их от самосовершенствования, внутреннего отношения к своим ошибкам. Но наряду с корректностью и мягкостью отношений говорится о самозначимости других, уважении к ним до равнозначимости с собой. Такая равнозначимость оправдана рассмотрением праведности, всех общих и всеобщих оснований применяемыми ко всем, в том числе к себе и другому (см. сх. 85).
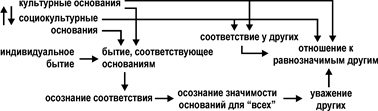
Схема 85
Конфуций подчеркивал порядок трансформаций, ведущих к "адекватному" соответствию принципам, требованиям праведности. Учеба как заимствование подготавливает новую самостоятельность, в рамках результатов заимствования, опознавание и преодоление сомнений, переход к "вечному" в основаниях, что позволяет видеть разницу между "правдой" и "ложью". В конце пути человек очистил сердце от случайного и от имени неслучайного может желать и действовать (см. сх. 86).
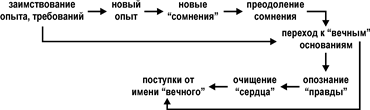
Схема 86
Важно то, что "естественный" уровень развитости, начало трансформаций не исчезает в трансформациях и появлении более развитых уровней способностей, в воспитательных переходах. Как указывает Конфуций "достойный" человек пользуется выходами как природных предпосылок, так и результатов воспитания, социализации, окультуривания, "одухотворения", приводя их в гармонические пропорции.
С точки зрения метааналитики это означает совмещение "начал" – морфологического или "природного" и формно-функционального или "воспитательного". Как и указывал Аристотель, реальное нечто совмещает и "форму" и "материю". Все зависит от того, какова форма и какой путь прошла материя от первоматерии. У Конфуция "небо" ассоциируется с высшим и формы у "благородного", достигшего понимания "небо", тоже высшие.
17 Китай (конфуцианство)
"Если у вас есть возможность явить милосердие, не пропускайте вперед даже учителя. Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных поступков. Из всех преступлений самое тяжкое – это бессердечие. Изощренные слова губят добродетель. Вглядись в ошибки человека – и познаешь степень его человечности.
Молчание – великий друг, который никогда не изменит. Мудрец стыдится своих недостатков, но не стыдится исправить их.
Мудрый не знает волнений. Нельзя доверять глазам, и на сердце не стоит полагаться… беспокойся о том, что ты не знаешь людей. Не беспокойся о том, что тебя не знают. Беспокойся о том, достоин ли ты того, чтобы тебя знали.
Не поговорить с человеком, который достоин разговора, – значит потерять человека. А говорить с человеком, который разговора недостоин, – значит терять слова. Мудрый не теряет ни людей, ни слов. Не происходит изменений лишь с высшей мудростью и низшей глупостью. Не познав должного, нельзя обрести опору в жизни. Оценивая мирские дела, благородный муж ничего не отвергает и не одобряет, а все меряет справедливостью. К разуму три пути: путь размышления – это самый благородный; путь подражания – это самый легкий; путь личного опыта – самый тяжелый путь. Плати за зло чистосердечием, а за добро плати добром.
Без знания должного почтительность превращается в самоистязание, осторожность – в трусость, храбрость – в безрассудство, прямодушие – в грубость. Быть человечным или не быть – это зависит только от нас самих. Секрет доброго правления: правитель да будет правителем, подданный – подданным, отец – отцом, а сын – сыном. Совершенный человек все ищет в себе, ничтожный – в других. Только истинно человечный человек способен и любить, и ненавидеть. Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин быть учителем. Тот, кто учится не размышляя, впадет в заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая учиться, окажется в затруднении. Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, и так, словно вы постоянно боитесь растерять свои знания"[34].
Мы видим, что основное внимание уделяется социокультурным условиям взаимодействия людей. Конфуций предполагает уровни "человечности", опознаваемые, в том числе, в характерных для каждого уровня ошибках. Обращение внимания на ошибки, стремление к их исправлению, которым придается принципиальная значимость, специфично для "мудрых". Тем более что источником ошибок выступают и "глаза", и "сердце", волнения, незнание людей и т.п.
Условием высшей мудрости выступает и высшее знание, и высшая самоорганизация, что позволяет оперировать неизменяемыми положениями и иметь высшую "справедливость" как средство опознания правильного или неправильного, истинного и ложного. Тем самым, если в социокультурных взаимодействиях критерии носят согласовательный и исторически конкретный характер, то рост мудрости ведет к "вечным" критериям культурного и духовного типа.
Высшая мудрость является фактором воспроизводства вечных оснований бытия человека и мира в целом, в той мере, насколько мир зависим от человека и сообщества людей. Человек получает такие знания, которые позволяют ему быть участником "мирового процесса", а мудрый вносит в свое участие адекватное служение первоначалам, обладающим "вечной" значимостью, действенностью и др. (см. сх. 87).
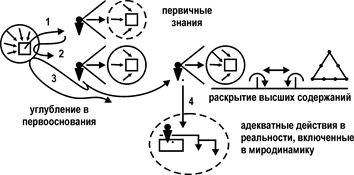
Схема 87
Включаясь в мировой процесс с подлинным знанием, человек обретает и "справедливость", в том числе относительно себя и внешнего себе, относительно своего поведения и намерений. А в универсумальном подходе "старое" становится таким же актуально значимым, что и "текущее здесь и теперь", и будущее, так как универсум объемлет их в одной динамике. Относясь к настоящему можно прогнозировать будущее, видеть и создавать "новое".
18 Китай (Лао-Цзы)
"Беда всего мира происходит из мелочи, как великое дело – из малых. Распространение добродетельности похоже на ее расхищение. Будь способен знать начало и путь древности, и это знание позволит тебе увидеть путеводную нить, ведущую к сегодняшнему дню. Великий человек держится существенного и оставляет ничтожное. Он все делает по правде, но никогда не будет опираться на законы. Вазы делают из глины, но пользуются пустотой в вазе. Вот это польза бытия и небытия. Воздержание – это первая ступень добродетели, которая и есть начало нравственного совершенства. Возвращение к своему корню означает успокоение; согласное с природой означает вечное. Голос истины неизящен.
Для мудреца почесть и позор от сильных мира одинаково странны. Достойный муж всегда старается быть беспристрастным… не слушать бесплодного учения… не хвалится сделанным, делает много… не желает обнаружить свою мудрость. Если в тебе недостаток веры, то бытие не верит в тебя. Есть четыре великих сферы: Путь, Небо, Земля, Человек, – и Человек занимает среди сфер первое место. Закон достойных – творить добро и не ссориться. Знающий меру доволен своим положением. Знающий много – молчалив. Когда вы благополучны, то подумайте, что нужно предпринять во время беды. Когда нет врагов, то не бывает войны… Кто думает, что постиг все, тот ничего не знает. Кто, зная много, держит себя как не знающий ничего, тот – нравственный муж. Кто спешит, тот ничего не сделает... Кто храбр, не зная человеколюбия, кто щедр, не зная бережливости, тот погибнет.
Мудрец избегает всякой крайности... не выставляет себя на свет, поэтому блестит. Добившись успеха – устраниться… Если ты так же осторожен в конце дела, как и в начале, тогда не испортишь его… Низкое – основанием для высокого. Осознание постоянства делает человека восприимчивым. Восприимчивость же ведет к способности быть справедливым… Нельзя обожествлять бесов. Нет беды тяжелее незнания удовлетворения. Нет большего преступления, чем попустительствовать вредным стремлениям. Потеря есть начало размножения, множество – начало потери. Совершенство воина – в бдительности, постоянной боевой готовности, в строгости, в искренности, в непроницаемом спокойствии. Знающий себя – просвещен. Побеждающий людей – силен. Побеждающий самого себя – могуществен. Твердое и крепкое – это то, что погибает. Нежное и слабое – это то, что начинает жить... Человек следует земле. Земля следует небу. Небо следует Дао, а Дао следует естественности"[35].
Лао-Цзы сопоставляет крайние утверждения и говорит о переходах. И беда, и великое дело с чего-то начинаются, проходят путь от небытия к бытию. Количество переходит в качество, но в "единице" количества уже есть качество, только еще непроявившееся в полной мере. Потенциальное актуализируется, имея вид того, что является актуальным в начале пути. Тем самым, в любой точке перехода есть противоположные "начала", совмещение которых дает "организованность" как точку в переходах. Соотношение в пользу проявленности одного начала и непроявленности другого начала меняется вместе с прохождением пути.
Для понимания утверждения Лао-Цзы следует применить метафизический треугольник. Тогда мы в крайних точках имеем непроявленность формы или морфологии, а проявленность, напротив – морфологии или формы (см. сх. 88).
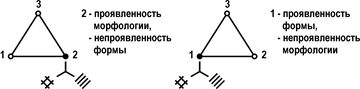
Схема 88
Сам путь здесь "динамический закон" и состоит в том, чтобы непроявленное проявлялось, становилось "актуализированным", тогда как проявленное – "потенциализировалось".
Рост актуализации или потенциализации сопровождается уменьшением потенциализации или актуализации. Во всех случаях мы замечаем справедливость утверждения Аристотеля о том, что все существующее имеет и форму и материю. Можно дополнить, что рост актуализации морфологии в совмещении с ростом потенциализации формы или путь от формы "осуществляется не количественно", а качественно-количественно. Сначала удерживается "качество" формы, ее специфичность, затем инициативу захватывает морфология и придает качественным снижениям несвойственное форме. Аналогичные этапы проходит и морфология (см. сх. 89).
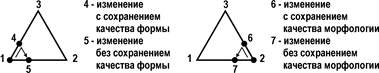
Схема 89
Мы видим, что Лао-Цзы шел по пути к раскрытию тайны бытия. При использовании этих различений понятно, почему количественное распространение добродетели ведет к ее "расхищению", снижению качества, так как добродетель увеличивает свое соприкосновение с иной, противоположной "средой", уподобляясь ей постепенно. На каком-то шаге противоположное качество "выращивается" в самой добродетели. Лао-Цзы отмечает, что следует знать "путь", этапы переходов и "Начало" пути. Тогда можно понять настоящее и прогнозировать будущее (см. сх. 90).
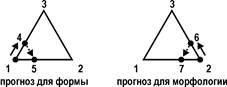
Схема 90
Путь к "великому" человеку является путем к сущности, которой и служит великий за счет избавления от ничтожного. Интересно, что Лао-Цзы не отождествляет "правду" и "законы". Если раскрыть различие "сущности", "правды" и "закона", то и окажется, что одно функционально, вечно, другое – конкретизация функции в связи с вхождением в учет реальности, истории, хотя и с максимальным сохранением у формы ее "чистоты". У закона прямая зависимость формы от истории (см. сх. 91).
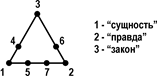
Схема 91
То, что Лао-Цзы приписывал "великому" является особой этнокультурной характеристикой русских и предшествующий суперэтнос русов. Анализируя переходы от одного к другому началу, Лао-Цзы говорит и о начальных стадиях нравственного совершенствования, связывая его с переходом от самовыражения к самовоздержанию от этого и проявлением нового типа, качества активности – соответствование нормам.
Развитый вариант бытия предполагает вписанность в "природу", понимая ее и со стороны формофункциональных, и со стороны морфологии, т.е. в двойные качественные переходы, совмещаемые в "цикле" – совмещение движений "к небу" и к "земле", в развитие и в деградацию. Но само вечное в бытии, рассмотренное как основание, как потенциальный принцип, лежит в форме, в источнике формы – в функции. В нем "успокаивается" усовершенствование как в своем основании. Этот "голос истины" в ее основании.
Достигнув истины, основания всего в своей мысли, в способности ее воплощать в пределах своей ограниченности как части универсума, "великий" не реагирует на случайное, опознает и не слушает "бесплодные учения", не хвалится сделанным, не ограничивает своей веры в понятную истину. Его бытие совмещает в себе "путь", движение между началами, "небом" и "землей". Вместе с ним, как "идущим" – это четыре момента целого (см. сх. 92).
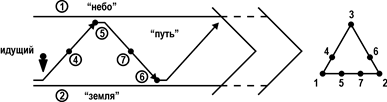
Схема 92
Отсюда выводится и перерождение, смена "оболочки", морфологии, а также линия "совершенствования" души как "уподобления" идее, как это видел Платон. На этапе совершенствования, например, социализации, окультуривания, одухотворения все большую роль играет творение "добра", уход от конфликтов, накопление мудрости, а на этапе угасания зависимость от тела, эгоцентризма увеличивается и возвращается отход от добра и активность в конфликтах. Однако все меняется, движется в циклике бытия и в каждой точке цикла следует думать о будущем, о следующих точках, невозможности готовиться к ним, чтобы не допускать случайных ухудшений.
Важным является и указание на то, что "постижение" также имеет свою зависимость от ограниченности человека как части целого, части универсума. Поэтому он не доходит "полностью" до абсолютной потенциальности, не становится богом. Ему нельзя думать, что он постиг "все", с чем связана его нравственно-духовная скромность, самоотстранение от гордыни.
С точки зрения метафизического треугольника часть целого имеет только относительные характеристики начал, она только подобное целому, но не целое. Следовательно, удел человека приобретать, в зависимости от типологических особенностей, ту или иную меру совмещения акцентов непредельного характера, а в динамике циклики – это пребывание в "середине" треугольника (см. сх. 93).
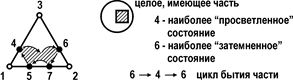
Схема 93
Здесь "низкое" является основанием "высокого" в циклике бытия. Но прохождение пути невозможно, если не бороться с "попустительством" вредному, мешающему идти к высокому. Идущий подобен воину. Он бдителен, готов бороться с препятствиями, строг, самокритичен и самокорректирован, если это необходимо. И это он осуществляет искренне, веря в путь и вне беспокойства, вне неуверенности. Чтобы себя направлять в пути к высокому, нужно себя знать и обладать "могуществом", волей к достижению высокого, высшего (см. сх. 94).

Схема 94
В этих интерпретациях заключен акмеологический потенциал развития человека.
19 Китай (Сюнь-Цзы)
"В учении нельзя останавливаться. Готовность пожертвовать собой ради выполнения долга есть основа поддержания жизни. Дурные качества и поступки человека зависят от него самого.
Когда видишь хорошее, следует отнестись к нему почтительно и проверить, есть ли у тебя эти качества. Когда видишь плохое, следует отнестись к нему с презрением и проверить, нет ли у тебя этих качеств. Когда совершенный человек обладает большими знаниями да к тому же ежедневно проверяет себя и анализирует свое поведение, тогда он мудр и не совершает ошибок. Мудрых и способных людей надо выдвигать на должности независимо от их положения; ленивых и неспособных людей нужно немедленно отстранять от должности; обычных, средних людей нужно воспитывать, не дожидаясь, когда к ним придется применить меры наказания. Не услышав заветов предков, не узнаешь величия учености. Нет более быстрого пути к овладению знаниями, чем искренняя любовь к мудрому учителю. Пусть даже человек от природы и обладает прекрасными свойствами и мудростью – он должен еще получить мудрого учителя и следовать ему. Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, мой учитель; тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, мой друг. Учиться надо всю жизнь, до последнего дыхания"! [36]
Мы видим, что Сюнь-Цзы уделяет большое внимание "учению", приобретению новых, более высоких способностей. Он рекомендует учиться всю жизнь и этим отходить от первоначально неразвитых и даже просто "плохих" качеств. Акцент делается на рефлексии, слежению за собой, за своими "хорошими" или "плохими" качествами, выработке положительного отношения к хорошему и отрицательного отношения к плохому. Человек должен, отмечает Сюнь-Цзы, проверять себя, анализировать свои поступки, создавая предпосылки к безошибочности поведения. Ему помогают учителя, упреждая возможные ошибки (см. сх. 95).
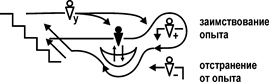
Схема 95
Для овладения качествами "мудрого" человека следует накапливать знания и постоянно анализировать свое поведение, проверять правильность, безошибочность. В прохождении пути особая роль отводится учителю, уже обладающему мудростью. Заимствование его опыта опирается на доверие и любовь к учителю. А учитель, прежде всего, обращает внимание на ошибки и анализ ошибок (см. сх. 96).
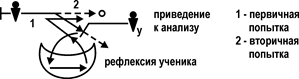
Схема 96
Тем самым, Сюнь-Цзы близко подходит к механизму организованного самоизменения.
20 Китай (народ)
"Доброта – это согласие воли с совестью. Если в сознание закрались мысли об успехе и неудаче, демоны разума завладевают им. Демоны-призраки и наше сознание друг друга возбуждают, и дух человека откликается их воздействию. Тот, кто подпал под власть демонов, одержим...
Он не говорит, что служит демонам, но говорит лишь, что служит одному Дао. В конце концов в нем все мертвеет. Только мудрый может сделать дух одухотворенным, но не искать в духе духовность. Он опирается на все десять тысяч вещей и не теряет силы, их рождающей. Он может все собрать, все рассеять, всему противостоять. Каждый день он откликается всему сущему, но его сердце пребывает в покое… Мудрый не теряет людей, не теряет слов. Утруждающие ум управляют людьми. Слова нужны, чтоб поймать мысль; когда мысль поймана, про слова забывают. То, что сделало прекрасной мою жизнь, сделает прекрасной и мою смерть"[37].
Народные воззрения отмечают, что появление в "сознании" каких-либо содержаний и замыслов всегда оценивается. Первичная оценка идет от "земли", от неразвитости, низших механизмов. Активность проявляется еще без "сути дела", легко возникают деформации мысли, подмены, иллюзии. Но они не могут долго существовать, не вписываясь в реальность, "мертвеют".
Если же человек прошел путь и обрел мудрость, постиг "суть вещей", опирается на нее, то он способен адекватно вписаться в реальность, учитывать многообразие "вещей", опирается на причины и на первопричину. Ему доступны и действия, уподобленные естественному ходу событий, касающиеся и "сборки", и "разборки" разного, и прерывания процессов. Но он уже не самовыражается в этих действиях случайно, а сообразуется с "сущим", нейтрализуя естественную динамику в душе, демонстрируя "спокойствие". И мудрый уже не теряет слов понапрасну, следуя сути всего, не теряет людей, понапрасну им не противостоит и не способствует их ошибкам. Слова для него становятся средствами порождения мысли, содержанием не отходящим от причинной цепи реальности.
Мы видим, как в народной мудрости различаются случайное и неслучайное, "мудрое" бытие. Для мудрого человека и жизнь, и смерть становятся "прекрасными".
6 Работы автора по теме








