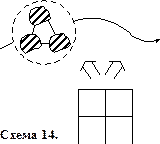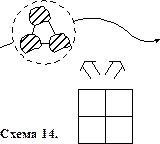7. Поведение человека индустриального общества в природе.
8. Регуляция численности популяции.
9. Засорение биосферы вредными веществами.
10. Необратимые процессы в среде, последствия от них. Как результат воздействия человека на среду.
11. Соответствие среды потребностям, общества, здоровью населения, возможностям стабильного существования, своего самовыражения.
12. Деятельность общества в русле эволюционного развития, содействия развитию среды.
13. Рассмотрение с точки зрения интересов живых существ.
14. Единство организмов со средой, в ходе которого трансформируется энергия и органическое вещество.
15. Координированность биологических явлений.
16. Разнообразие живых существ и их взаимоотношений, соединяемых духом сообщности, обеспечивает господство жизни над средой.
17. Благополучие природы обеспечивается и размножением, и разрушением организмов, дающее возможность существовать другим.
18. Биосфера имеет гигиенические характеристики, изменяющиеся под воздействием человеческой деятельности.
Примечание: На данном этапе уже не нужна персонификация характеристик.
Результаты осуществленного выделения облегчают опознание основного противоречия, лежащего в основании предмета экологии. Однако вместо привычного сопоставления пунктов и неявного использования содержания этих пунктов мы начнем строить единый объект, "мир", в котором гораздо более однозначно находится противоречие. Вначале мыслитель переходит от текста отрывка, характеристики или даже ключевого термина к выраженному ими содержанию попунктно. Какие именно изобразительные средства используются мыслителем, от этого зависит как успешность выражения, так и решение всей задачи обобщения. Чем меньше текст, чем он в большей степени опирается на ключевые слова, избавляется от сопутствующих слов и т.п., тем быстрее слова приобретают принципиальность и свою парадигматичность в отличие от синтагматичности (высказывания), в которой содержание зависит от совмещенности с содержанием других слов. В парадигме максимально концентрируется средственность слова и скрепленного за ним образа-значения, обладающего всеобщностью, внеиндивидуальностью и др. В синтагме же тот же образ, значение вводится в совмещение с другими значениями, деформируется как по вариантам в языке предполагаемом деформациям, так и в связи с индивидуальной деформацией, подчинение индивидуальному смыслу (см. сх. 4).
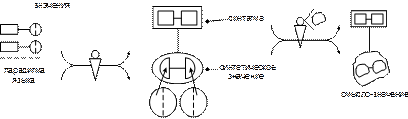
Схема 4
Опытный мыслитель уже имеет опыт применения изобразительных средств, путь от индивидуального самовыражения в схемах ко все более общественно и культурно значимым вариантам использования средств. В данной работе нам сложно показывать образцы индивидуализированного конструирования схем и всех стадий преодоления индивидуализированности, случайности. Продемонстрируем вариант "показа" содержательности характеристик, опираясь на общий принцип с помощью средств языка: если содержание текста и его единиц не представлено изобразительно, оно не может успешно контролироваться и корректироваться, а мышление происходит "впустую", убедительность выводов – иллюзорна. Понятно, что без наличия опыта вынесения во вне индивидуальных смыслов и их трансформации по критериям определенности, структурности, однозначности, доступности для понимания и т.п., без соответствующих изменений в плане сознания, появления социокультурно значимых образов, мировоззрения в целом, эта задача становится невыполнимой.
Возьмем первый компонент списка. Рассматривается соотношение между организмами и окружающей средой, включающей и другие организмы, и иные составляющие среды. Если ввести дифференцировку человека и животного, а вместе с животным иметь в виду иные живые организмы, то простейший вариант схемы будет выглядеть так (см. сх. 5).
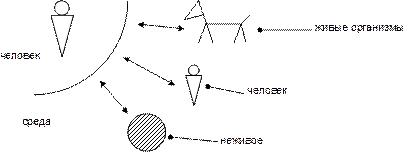
Схема 5
За точку отсчета берется человек, хотя можно было бы взять и иной организм. Уже в данной схеме вводится "граница", разделяющая внутреннее (организм, человек) и "внешнее" (остальное). Акцент внимания локализуется на отношениях.
Однако этим содержание первого пункта не сохраняется полностью. Следует учесть "борьбу за существование", функции "пользы и вреда" всего внешнего и возможность "приспособления к среде". Кроме того, рассмотрение касается не только одного организма, но и любых иных. Для учета борьбы за существование следует обратиться либо к пояснениям автора, либо вводить свою гипотезу. Если мы ограничиваемся тем, что есть или не имеем доступа к иным высказываниям автора, то лучше вводить свою гипотезу, которую можно потом проверить при учете иных фрагментов и т.д. Кроме того, мы можем опереться на то, что является носителями одного зыка с автором и, тем самым, получаем право пользоваться типовыми представлениями, словарем. Индивидуализация применения языка не обесценит выгод от такого подхода. Если мыслитель уже имеет мировоззрение, специфический, профессионализированный вариант языка, который используется вместо "бытового", то содержание гипотезы он берет из этого, искусственного варианта языка. Мы в качестве исходного различения, выражающего "борьбу за существование" берем представление о жизнедеятельности организма, вплоть до уровня человека. Жизнедеятельность основывается на динамике потребностей организма и цикле внутренних и внешне замечаемых процессов, направленных на удовлетворение актуальной или актуализирующейся потребности. Этот цикл включает объективное возникновение потребности, ее субъективную фиксацию, вызов поведения, осуществление поведения как поиска предмета потребности, отражение найденного предмета, его оценка с точки зрения образа потребности и, в простейшем случае, поведение как присвоение предмета, приводящее к удовлетворению потребности, субъективное отражение отсутствия потребности (см. сх. 6).
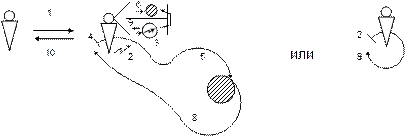
Схема 6
Содержательность борьбы за существование лежит в поиске предмета потребности, в оценке всего встречаемого, "внешнего", с точки зрения, актуальной потребности или системы потребностей. Тогда "полезно" все то, что потребностно значимо. А если встречаемое потребностно незначимо, то, в логике объектной картины, оно либо нейтрально и просто игнорируется в существовании, либо "вредно", либо становится предметом преобразования по критерию превращения в потребностно значимое. Именно на этом пути и появляется деятельность, опирающаяся на целеполагание, как результат субъективной трансформации содержание образа до его значимости для возможности удовлетворения потребности, и на использование этого образа в качестве средства организации поведения (см. сх. 7).
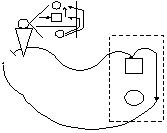
Схема 7
Переход от жизнедеятельности к деятельности обусловлен, среди прочих обстоятельств, трансформацией организма, если он не имел способности к целеполаганию. Таким же образом можно следить и за более сложными адаптациями к среде, хотя и ради сохранения способа существования. Общим условием выступает выбор трех естественных типов реагирования на несоответствие предмета содержанию потребности или на затруднение в жизнедеятельности – игнорирование предмета с продолжением поиска, преобразование предмета под потребность и преобразование себя под предмет (см. сх. 8).
Коррекции способа поведения или трансформирование внутренних условий, вплоть до трансформации организма, составляют здесь содержание "приспособления к среде". Нанесение средой "вреда" может быть истолковано как такие трансформационные адаптации, которые противостоят "правилам существования" организма, ведут к его разрушению.
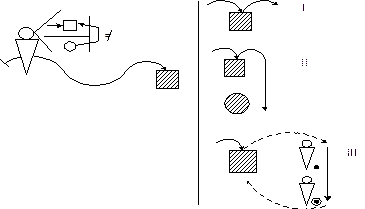
Схема 8
В зависимости от точки отсчета, от объема существования "вред" получает различное содержание. Так в объеме цикла жизнедеятельности несоответствие предмета актуальной потребности создает дискомфорт, временное волнение, замешательство, напряжение и т.п. и оценивается как "вредное". Но это не вред с точки зрения объема многих циклов, цепи циклов бытия в целом. Он порождает дополнительную потребность в дополнительном поиске, в преобразовании, что мало отличается от "стартового" существования, от жизнедеятельности, хотя и усложняет ее.
Как мы видим, в связи с созданием изобразительного выражения текста "автора" мы были вынуждены обращаться к своим гипотезам, к своему миропониманию и действовать в логике этого миропонимания. При этом наше гипотетическое строительство соотносилось с текстом автора и функционально подчинялось ему. Поскольку автор пока еще не акцентирует особые свойства человека в отличие от иных организмов, то приведенных схем достаточно. Организм трактуется как имеющий свой способ жизнедеятельности, адаптации, приспособления в отношениях с другими организмами. Однако мысль касается всех организмов, суммы указанных выше взаимодействий (см. сх. 9).
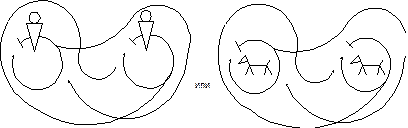
Схема 9
Перейдем к следующим пунктам. Можно было бы продолжить тот же способ работы. Но выгоднее уже учитывать имеющийся результат и использовать его в двух функциях. С одной стороны, – в качестве промежуточного продукта, и, с другой стороны, – в качестве средства понимания нового пункта (см. сх. 10).
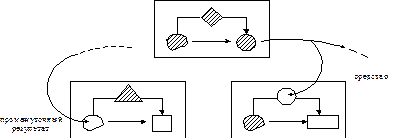
Схема 10
При использовании результата предшествующего понимания в качестве промежуточного результата новый материал учитывается лишь со стороны нового содержания, помещаемого в прежний результат. Если же он используется как средство, то лишь помогает осмыслить новый материал во всем объеме.
Во втором пункте дается характеристика среды как "свободно организованная матрица". Подчеркивается организованность с ее двумя особенностями – матричность и свободность. Мыслитель вновь может обратиться к словарю, но представим себе, что он не имеет словаря под рукой. Тогда, в частности, мыслитель может представить себе, что означает для него, понимающего, матричность и свободность, гипотетически и в рамках парадигматического самоощущения.
Матрица опирается на идею формально построенной и удобной системы мест, например, табличных (см. сх. 11).
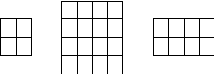
Схема 11
Первый уровень содержательности возникает при введении содержательного критерия, критериев "заполнения". Лучше всего иметь парный критерий ("заполненность" – "незаполненность", "много" – "мало" и т.п.), но могут быть и произвольно привлекаемые критерии. Тогда места закрепляются за "чистыми" и "промежуточными", "синкретическими" типами. Матрица появляется в ходе заполнения реальными образцами (см. сх. 12).
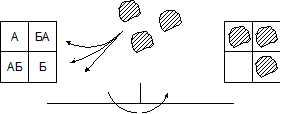
Схема 12
Образцы размещаются в зависимости от обнаруженности у них наибольшего соответствия тому или иному формальному типу, сочетанию чистых типов или их исходности, сочетанию критериев. Образцы в матрице уже не являются абсолютно независимыми. Они используются в той мыслительной процедуре, ради которой строилась матрица. Так, если нужно организовать порядок извлечения образцов из матрицы, то по выбранному критерию сначала извлекается чистый тип, затем ближайший к нему, а потом все более далекий (см. сх. 13).
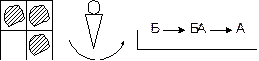
Схема 13
При содержательной интерпретации такая зависимость в порядке расположения может объясняться близостью "природы" образцов, их приемлемостью друг друга в зависимости от подобия и уровня подобия. Так микрогруппы образуются по принципу симпатии и антипатии. Как только выделен признак симпатии, так можно прогнозировать кто из микрогруппы окажется ближе или дальше от тестируемого лица. Главное же в этих отношениях лежит в совместности рассмотрения всех образцов, какие есть в матрице, и в различенности всех образцов по заранее фиксированным типам. Так, например, все люди относимы к астрологическим типам, имеющим конечную численность, а в определенный момент имеется вполне определенное распределение типов людей. Если их проявления связаны с типовыми особенностями, то можно прогнозировать суммарное проявление. Форма матрицы как бы предопределяет или влияет на реальное поведение объединения людей или организмов, или иных организованностей "природы" (см. сх. 14).
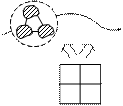
Схема 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итак, характеризуя образец, мы усматриваем в нем и должны усматривать не только то, что характерно для него по его морфологии, но и то, что характерно для него как типа, функционально предопределенного, и то, что характерно для иных типов, особенно при наличии соответствующих образцов.
Однако автор хочет подчеркнуть, что среда – свободно организованная матрица. Мыслитель должен "предположить то, что вносится нового в связи с освобождением". Мы предполагаем, что матрица меняет исходные основания – критерии, их количество. То есть происходит расконсервация формы, ее трансформация. Соответствующим образом меняются и условия проявлений образцов, даже если они морфологически остались теми же (см. сх. 15).
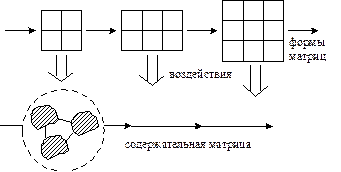
Схема 15
Можно ввести еще и непредсказуемость смены матричных условий как признак свободности матриц. В результате и теряется определенность, присущая матрице, и сохраняется определенность в каждый момент. Это позволяет следовать принципу всеобщей взаимозависимости, но в пределах "стихии" формодинамики.
В зависимости от того, какие мировоззренческие гипотезы кладутся в основу, формодинамика либо предопределена морфологически, без "замысла" (материализм), либо предопределена формно-функционально, с замыслом (теологизм), либо динамикой морфо-формных взаимовлияний, без замыслов, когда форма приобретает "свою природу" как участник взаимодействия. Автор не позволяет придти к одному из вариантов без дополнительных пояснений в последующих текстах.
Как мы видим, мыслитель все время остается в активной позиции, строя такие объективные конструкции, которые сделали бы содержательными для него тексты, утверждения автора.
Возвращаясь к первому пункту, мы замечаем, что среда имеет организованность, охватывающую все, а не только ближайшие к организму подступы. Организм включен в эти взаимозависимости, принадлежит всей целостности, универсуму, и изменения в части не могут не отображаться на изменения во всех частях универсума. Мыслитель должен предполагать переходы от анализа ближайших отношений к отдаленным и во времени, последовательно, и в пространстве, одновременно (см. сх. 16).
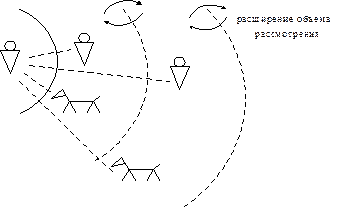
Схема 16
Если оставить элементу универсума ту или иную степень автономности, самопроявляемости, то суммарная "неопределенность" дальнейшего суммарного состояния универсума легко выводима. И в то же время остается возможность мыслить активное проявление формы или ее "носителя и держателя".
Вернемся к иным пунктам. В третьем пункте акцентируется взаимодействие общества и природы. У мыслителя появляется необходимость понять, что такое общество и как его отличить от природы. Самые простые соображения порождают необходимость сделать пояснения. Общество состоит из людей, хотя и не сводится к простому их множеству. Но люди пребывают в "природных" отношениях и принадлежат природе. Каждый человек аналитически как бы разложим на принадлежность и природе, и обществу, если в последнем есть что-то надприродное (см. сх. 17).
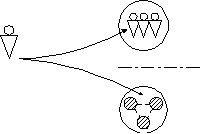
Схема 17
Пытаясь разобраться, мыслитель может поставить вопрос о том, что характерного в надприродности общественного бытия человека. Опыт подсказывает, что преодоление принципа жизнедеятельности, ближе всего отвечающего на запросы "природы" ведет к деятельному бытию, к подчиненности социальным отношениям и необходимости реализации требований различных норм. Нормы как бы опутывают природное бытие, подчиняя себе. Человек обнаруживает бытие норм в общении, когда для преодоления бесконечности и гибельности противопоставления из-за обладания предметом потребности или попыток не принимаемых форм использования друг друга в своих интересах создается или используется готовый социальный механизм согласования способов взаимоиспользования или обладания предметом. Результат согласования переворачивает способ бытия, как требует подчиненности этому результату даже вопреки индивидуальным состояниям, динамике потребностей (см. сх. 18).
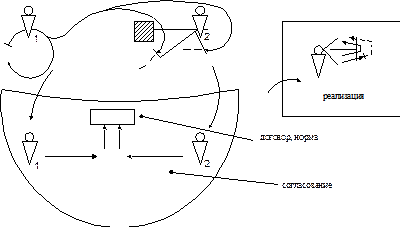
Схема 18
При реализации нормы человек ограничивает свои самовыражения. Но для этого он должен существенно преобразовать себя, воспитаться, войти в общественное бытие, какие бы цели общество перед собой ни ставило. Мыслитель может вспомнить, найти множество описаний социального бытия, которое либо не противопоставлено "природному", либо противостоит ему. Именно во втором случае замечается в большей степени особое бытие общества, которое поддерживает и развивает результаты предшествующего опыта всех людей (опосредствованно) или выделяющихся и выдающихся людей (непосредственно).
Интеллектуальные результаты консервируются, могут непрерывно или через "некоторое" время изменяться вместе с сохранением или изменением внеситуационных критериев совершенствования – концепций, ценностей.
Социализация человека и его окультуривание ведет к изменению механизмов самоорганизации, рефлексии своего и иного опыта за счет усвоенных, привлеченных концепций и ценностей, норм деятельности, общения, коммуникации, мышления (см. сх. 19).
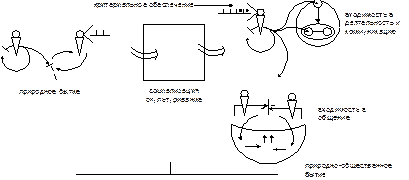
Схема 19
Как это все согласовать с предшествующим освоением двух пунктов? Либо вновь остается в фокусе внимания человек как особый по значимости организм и тогда он входит в отношения окружающего с природной и общественной средой, которая или полезна, или вредна ему, к которой он приспосабливается в борьбе за свое существование. Либо он уже "теряется" в целостности общества и это уже общество в целом относится к среде, полезной или вредящей ему, приспосабливающееся к среде в борьбе за существование. При втором акценте выживаемость общества может быть вполне совместимой с гибелью отдельных его членов (см. сх. 20).
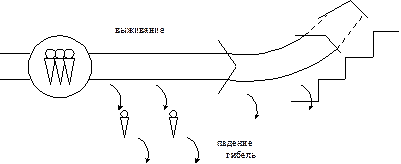
Схема 20
Такое совмещение легко представимо в различных ситуациях катастроф, войн, реформ и т.п. Для того чтобы представить общество как бы "над" природой, нужно учесть как появление норм, нормативно значимых предметов (средств, языка и т.п.), так и организационно-институционального обеспечения трех ведущих функций общества: выживания и самодвижения, самореализации людей и общественных единиц (семья, микрогруппы), нормативно-корректировочного сопровождения деятельностных систем, отвечающих на суммарные запросы общества, и сервиса этого сопровождения, включающего образование, культуру, науку и т.п. (см. сх. 21).
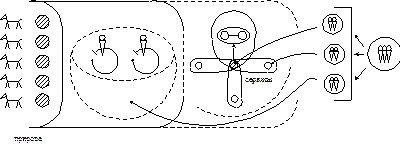
Схема 21
Итак, общество не может стабильно воспроизводиться и, тем более, развиваться вне заботы о сохранении, самовыражении, развитии, воспроизведении людей, так как общественные механизмы без людей не могут существовать. Но люди сами по себе не могут гарантировать соответствие нуждам общества, его особому надситуативному бытию, так как люди, принадлежа и природе, стареют, умирают, не сразу воспринимают требования и их правильно реализуют и т.д. Общество может рассматривать людей как ту же природную среду, которая полезна или вредна для него, которую он адаптирует к себе и адаптируется к ней. Причем адаптация к себе носит более фундаментальный характер, чем адаптация к ней. Именно поэтому вместе с автономизацией общества как особого организма возникает технологическая цивилизация, реализующая, по преимуществу, один преобразовательный подход к целостным затруднениям (см. сх. 22).
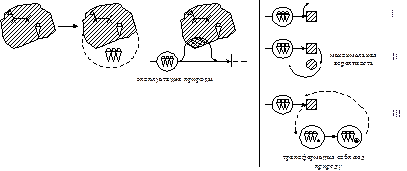
Схема 22
Построив таким образом мировоззренческие схемы, мыслитель не только объясняет высказывание автора "для себя", но и находит место для того, чем ограничивается автор. В приведенной схеме "есть" взаимодействие природы и общества. В том числе и возможность обратного действия природы на общество. Исчерпанность предметов общественной потребности заставляет общество переходить от поиска новых предметов и трансформации исчерпанной среды под свои потребности к трансформации себя. Для этого нужно столкнуться с опасностью преобразовательного отношения или с прогнозом опасности (см. сх. 23).
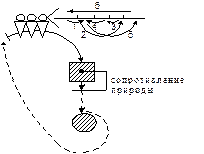
Схема 23
В своем рефлексивном сознании общество сначала легко переходит от фиксации затруднения, как фрагмента ситуационного представления к проектированию преобразовательного действия (1). Затем, встречаясь с сопротивлением природы, общество пытается понять сущность возникшего сопротивления (3) за счет понимания сущности бытия (2) и прогнозировать, на базе понятых причин, возможное будущее (4). Если прогноз осознается как опасный, то может возникнуть ценностное оформление опасности (5) и его использование в проектировании действий (6).
Как мы видим, насколько развито сознание общества и его самосознание, настолько быстро в этих кризисных условиях оно формирует готовность идти навстречу природе. Характер движения навстречу и в пользу природы сохраняет, в определенной форме и объеме, интересы самосохранения общества как "партнера" взаимодействия.
Продолжим понимание пунктов. Четвертый и пятый пункты уже учтены. Среда рассмотрена как меняющаяся, а жизнь – поддерживающаяся, воспроизводящейся. Усложненные размышления и построения мыслителя подготавливают возможность ускорения работы с текстом. "Новое" авторское содержание уже не обрабатывается, а быстро опознается в результатах внутреннего анализа мыслителя.
Дополним лишь, что поддержание жизни имеет две формы существования: в жизнедеятельности как "требующая" сила потребности и в системе культуры, как ценность, фиксированная и передаваемая управленческим структурам.
Учтены фактически и шестой, и седьмой, и тринадцатый, и пятнадцатый пункты. Деятельность, спекулируя на природе, изменяет ее, а человек в обществе индустриальной цивилизации не только регулярно и масштабно изменяет природу, но и не заботится о ее сохранности, не чувствителен к опасностям, проистекающим из неспособности природы сохраняться при таком массированном воздействии на нее и из "агрессивного" ответного воздействия природы на общество и на отдельного человека, который включен в общество и до которого негативные воздействия достигают в первую очередь (см. сх. 24).
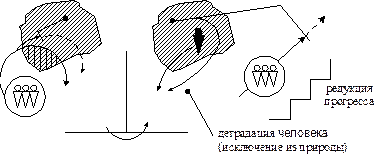
Схема 24
В пункте девятом говорится о засорении биосферы вредными веществами. Поскольку при преобразовании предметов и приведении их в соответствие с потребностями и интересами человека трансформируется состояние предмета, возникает одно из возможных состояний, то различимы следующие варианты. Они вытекают из прежних воззрений мыслителя, в рамках его онтологий (мировидческих систем). В одном случае новое состояние, желаемое для человека, полезно и сохраняет объем предмета, нет отбросов. Это наиболее благоприятный случай. Другой вариант, когда наряду с полезной частью возникает "отброс", но не вредный в момент преобразования и потребления. Однако этот отброс, в пределах внутренней динамики, может стать вредным в перспективе. Для его безопасного, по критериям человека, общества или самой природы, существования в среде требуется дополнительное напряжение либо самой природы, либо человека и общества (см. сх. 25).
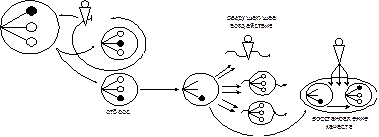
Схема 25
Если представить, что деструктивное, вредное состояние может быть долговременным, то понятен долговременный и вред и объем усилий по утилизации. Общая возможность создать в деятельности человека и общества в целом большой массив вредных отбросов, выбросов и т.п. вытекает из самой объективной, в пределах миропонимания, предпосылки и субъективной невнимательности и нечувствительности к "судьбе" отходов, отбросов и т.п. Эгоцентризм подхода к предмету преобразования предопределен принципом жизнедеятельности, тогда как чувствительность к последствиям преобразования – в рефлексии и согласовании в общении. При определенных условиях согласования и дискутирования в рефлексивном "пространстве" деятельности возникает и ценность следить за судьбой всей целостности и всех действий в ней (см. сх. 26).
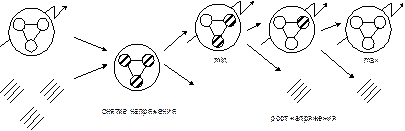
Схема 26
При деструкции деятельности осуществляется рефлексивный выход (1). Сначала совмещаются представления о ситуации и концепция этого случая (2,3). Если причина затруднения обнаруживается в игнорировании следствий деятельности из-за частичного миропонимания и мироотношения, то происходит введение ценности целостного миропонимания (4). В его рамках целостное миропонимание и мироотношение предпочитаются индивидуальным интересам (5).
Обращаясь к десятому пункту, мы обнаруживаем, что он уже учтен, так как говорилось о возможности деструктивных воздействий отходов из-за сознательного или досознательного эгоизма преобразователя.
В пункте четырнадцатом говорится о трансформациях энергии в ходе отношений организма его средой. Требуется представление об энергии и ее трансформациях. Для своего удобства мыслитель может вспомнить статическое и динамическое состояния организма, общества, вещи.
Переход от статического к динамическому связан с появлением энергии. Наподобие того, что наблюдается в жизнедеятельности, можно предположить возникновение напряжения связанным с нарушением принципа соответствия "наполнения" требующему "месту" (см. сх. 27).
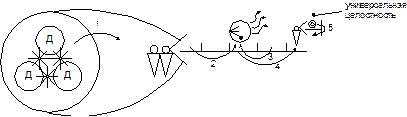
Схема 27
Места, это как бы функциональные предопределители для бытия наполнения, субстанции, морфологии. Стабильные циклы "внутри" объекта, порождающие у внешнего наблюдателя иллюзию статичности, свидетельствуют лишь о "нереальности" в бытии, тогда как "покидание" наполнения – о "ненормальной" стороне бытия. Все бытие вмещает переходы от стабильности к нестабильности в бытии и наоборот. Эти фазы для внешнего наблюдателя выглядят как статическая и динамические стороны бытия объекта.
Итак, если основное условие "нормального", статического бытия является соответствие наполнения месту, а основное условие динамического бытия – разотождествление места и наполнения, то целостное бытие состоит в цикле отождествления и разотождествления. Пульсирование соотношений ведет к пульсации напряжения, так как в ходе разотождествления наполнение "исчезает", "отдаляется" и т.п., а место без наполнения не может достаточно долго благополучно существовать, что и выражается в активности, энергетичности места, его изменяемости в цикле (см. сх. 28).
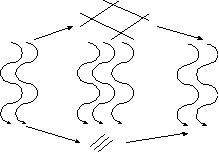
Схема 28
Место как бы требует возврата наполнения. С другой стороны, наполнение, живущее по другим принципам, меняет свои качества и становится, со временем, не соответствующим месту. Принцип соответствия заставляет место активно вытеснять наполнение, что составляет иной знак напряжения и энергии (см. сх. 29).
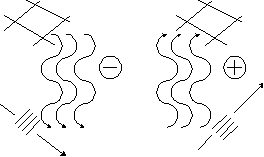
Схема 29
Место активно в цикле с изменением знака. Вместе с возникновением полевого напряжения активным становится и наполнение. Но его энергетика другого рода.
Если возвратиться к содержанию пункта, то организм выступает в активирующей функции, в функции "места". Он как бы следит за поддержанием соответствия внешнего внутреннему, вытесняет несоответсвующее, привлекает необходимое, меняя знак активности, энергетичности. Состояние потребности соответствует положительной энергетичности, а состояние отторжения от себя – отрицательной энергетичности. Если можно говорить об энергии вообще, то мы получаем ее пульсацию с изменением знака как внутреннюю трансформацию в рамках определенного кода жизни.
Кроме того, в этом пункте говорится о трансформации органического вещества. Мыслитель может рассмотреть это явление исходя из уже введенных онтологических соображений. Если наполнение имеет органическую природу, то оно меняется, трансформируется под требования формы. Так, пища трансформируется под требования конструкции тела и его составляющих. Но может изменяться, в той или иной степени, сама форма, если прежний принцип ее существования не обеспечивается наполнением. Тогда вместе с изменением требований меняется и синтетическое единство формы и морфологии, места и наполнения или "организованности" (см. сх. 30).
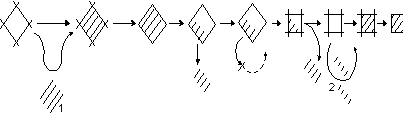
Схема 30
В обоих случаях морфологическое, наполненческое трансформируемо в зависимости от того, какая форма стала актуальной. Мы видим, какие могут быть удлиненные и усложненные служебные рассмотрения, обслуживающие понимание мыслителем авторского положения, введенного им фрагмента или текста в целом.
В пунктах пятнадцатом и шестнадцатом говорится о богатстве жизни, связанном с разнообразием живых существ и их взаимоотношений, что усиливает господство жизни над средой. Выживаемость и сила потребительского отношения к среде зависят от разнообразности самих живых существ, их возможностей, интересов, а также от соединяемости, сообщности их друг относительно друга в единстве.
Встречаясь с данными утверждениями мыслитель, может попытаться опереться на уже имеющееся, используя его как средство или материал для трансформации и получения того, что следует понять. Мы только что выше зафиксировали, что форма и ее требования могут меняться.
Исходя из такого онтологического постулата, легко себе представить пластичность формы в зависимости от условий, ведущую к устойчивости жизни носителя формы. Если же форма меняется, "самостоятельно", вне внешних условий трансформации, то увеличивается потенциал потребительского отношения к среде (см. сх. 31).
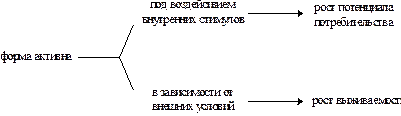
Схема 31
Такие возможности легко наблюдаемы у человека. В силу возможностей самодвижения в интеллектуальном и духовном развитии, он меняет стартовые условия отношений к среде.
В том же случае, если форма достаточно консервативна, то выживаемость и рост потенциала потребительского отношения связаны с ростом разнообразия, вариативности генетических кодов и т.п. Субъектом развития, функционирования выступает популяция с вариациями формных признаков. Исчезновение микропопуляций, но при адаптируемости формы, ведет к появлению новых микропопуляций в пределах потенциала вариативности формы всей популяции (см. сх. 32).
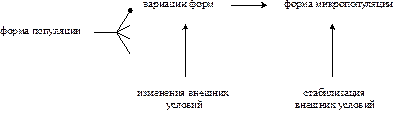
Схема 32
Форма популяции может обладать активностью и в своей модификации. Тогда ее модификация "теряет" часть автономности и служит не только "для себя", но и "для иного", т.е. для популяции. В обществе это ведет к появлению роста объема сознания, введению общечеловеческих ценностей, национальному и наднациональному сознанию и т.п. Если онтология мыслителя предполагает "сознательное формообразование", идею бога, то сочетание принципов разнообразия и соединяемости в целое дают потенциал выживаемости, силы совместного отношения к внешнему, к среде. При этом дополнительно, конечно, появляется и принцип подчинения соединяемости не только своему эгоизму, центрированности на свои интересы, но и на интересы всей универсумальной целостности. Такое подчинение меняет характер границы между внутренним и внешним. Внутреннее приобретает стремление к описываемости в универсум, к соответствию замыслу универсума, в чем и состоит человека, целостноподобность. Иначе говоря, применение схем, онтологемм из предшествующего рассуждения для понимания нового пункта сопровождается новыми усложнениями прежних схем и введением гипотез с увеличенным содержанием, относимым к новому пункту. Это содержание может стать не только подтверждающим, но и опровергающим локальный пункт. Так господство над средой компенсируется вписанностью в универсум (см. сх. 33).
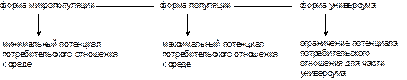
Схема 33
В семнадцатом пункте говорится о благополучии природы и соотношении между размножением, увеличением количества организмов и разрушением, уменьшением их числа ради блага и благополучия природы. Одним из вариантов уменьшения числа особей упоминается в восьмом пункте, в котором говорится о регулируемости рождаемости.
Для мыслителя размышление о размножении, рождаемости, регулирования рождаемости, а также о смерти, разрушении организмов является новым поворотом. Так как он остается доверяющим авторам в их единстве, то должен считать, что новые различения не противоречат прежним и их следует учесть. В то же время уже накоплен большой потенциал онтологических различений, мировидческих картин, которые нужно использовать и проверять на сохраняемость в связи с введением новых пунктов.
Легко себе представить количественную характеристику жизнедеятельности по критерию доступности до предмета потребности. Если в пределах доступности достаточное количество предметов жизненного потребления (еды, предметов домашнего потребления, партнеров в воспроизведении потомства и т.п.), то жизнедеятельность устойчива, стабильна. Для более высокоразвитых организмов в зону учета входит не только наличие предметов потребностей, их количество, но и наличие предметов, из которых можно изготовить предметы потребления, конечно, относительно способности усматривать потенциальную изготавливаемость и "мощности" средств преобразования, а затем и возможности, динамики увеличения мощности средств и пр. (см. сх. 34).
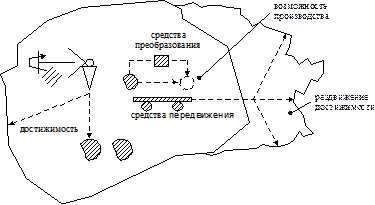
Схема 34
Как только уменьшается вероятность достижимости, присвоения, преобразования и т.п., так меняется количественный потенциал обеспеченности жизнедеятельности. Этот потенциал складывается и вычитается в зависимости от количества особей, а также от динамики среды, ее способности удовлетворять запросы в момент времени, в отрезок времени или в фиксированной перспективе времени. В таком рассуждении нет пока ничего нового для прежней онтологии.
Если природа циклична, а организм полуцикличен, так как непосредственно не видна возвратная часть цикла, то цикл "восстанавливается" путем размножения. Организм обладает механизмом порождения запуска морфологического полуцикла (см. сх. 35).
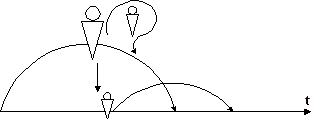
Схема 35
При введении в онтологию способа жизни души, духа, рассматриваемых как бессмертных, цикличность жизни восстанавливается. Душа покидает тело из-за невозможности совмещаться с телом, невозможности подчинения тела "требованиям" души. Пребывая в "ином" мире, душа, по особым законам, предопределениям, условиям, соединяется с новым телом, начинающим свой путь (см. сх. 36).
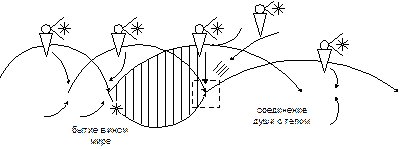
Схема 36
В пределах подобной онтологии душа может обогащаться в новых воплощениях в тело и иметь свою лестницу развития, вплоть до ненужности новых воплощений. Итак, рождение может быть представлено как совмещение, отождествление формы, места (души) с морфологией, наполнением, а смерть – их разотождествление. Каким бы ни был конкретный механизм этих событий, как бы себе конкретно мыслитель не представлял эти явления, важно, с точки зрения понимаемых пунктов, что рождение увеличивает необходимость в объеме полезной среды, уменьшает потенциал обеспеченности при тех же условиях бытия. Чередование рождения и смерти стабилизирует динамику потенциала, если не принимается в расчет уменьшение или увеличение абсолютного объема возможности среды быть полезной для бытия организмов. Поскольку сами организмы могут рассматриваться как предмет потребления, включая питание, то исходные условия меняются самим фактом рождения, но лишь при фиксации субъектов потребления.
Следовательно, количество особей, их потенциал увеличения, уменьшения, полезность или вред изменения количества зависят от ряда внутренних и внешних факторов, которые достаточно легко фиксируемы при учете вышеприведенных онтологических схем, соображений. Суммарная оценка количества и динамики количества определяется прежде всего возможностью сосуществования при стабилизации жизнедеятельности, удовлетворяемости витальных потребностей или их аналогов. Во вторую очередь, она определяется комфортностью условий существования или способностью восстановления комфортности за счет специальных действий (строительства жилища и т.п.). Чем выше запрос на жизнедеятельность, на обеспечение индивидуального или популятивного комфорта, что очевидно для людей прежде всего, тем больше в зону внимания входит вопрос о количестве и регулируемости количества популяции, группы и т.п., вплоть до регулируемости рождаемости.
В восемнадцатом пункте речь ведется уже о гигиенических возможностях биосферы и колебаниях этих возможностей. Для понимания этого пункта следует представить себе, что такое гигиена. Мыслитель, опирающийся даже только лишь на бытовой опыт, может построить себе средство различения. С гигиеной связано поддержание состояния, гарантирующего отсутствие вредящего эффекта при высокой вероятности нанесения вреда. "Поддержание" представляет собою искусственную процедуру (мытье рук без явных признаков грязи на них). Предполагается, что нужно достигнуть заранее известного состояния ("чистоты") вне зависимости от того, реальное состояние опасно для бытия или нет. Даже в том случае, если диагностика состояния свидетельствует о соответствии норм, гигиенический подход стимулирует "очищающее" действие по принципу – лучше сделать, чем нет, уровень гарантированности следует повышать при первой возможности ("кашу маслом не испортить!"). Начиная от прямого поддержания состояния функционирующего органа, нейтрализации вредного внешнего воздействия, можно перейти к увеличению уровня гарантированности за счет стабилизации внешних условий, наращивая объем контролируемости этих условий (см. сх. 37).
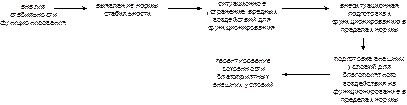
Схема 37
Естественно, что гарантирующие процедуры останавливают динамику естественного бытия, консервируют и даже способствуют деградации механизмы самозащиты от случайных вредных воздействий. Гигиенические процедуры превращаются из полезных во вредные для организма. Поэтому возникает проблема меры искусственности воздействия для поддержания естественного самодвижения организма (см. сх. 38).
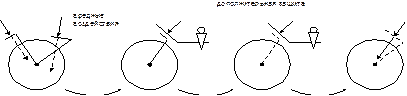
Схема 38
Для среды "вредными" являются те компоненты, которые не подчиняются общему закону связанности в единую "матрицу" и соответствия ее формным требованиям, например, цикличности бытия. Иногда их называют "шлаками". Накопление шлаков деформирует бытие и сама среда создает свою защиту в качестве какой-то формы утилизации шлаков. Но искусственный для среды, природы, универсума характер планов резко усиливается благодаря изобретательности безответственного человеческого разума, если он не имеет ценности преодоления своего эгоцентрического начала. Среда, природа может не справляться с объемом шлаков и вырабатывать активное отношение к источнику. В зависимости от онтологических конструкций это защитное действие либо естественно, когда организмы и даже человек не выживают в среде, насыщенной шлаками, либо оно искусственно, если вводится субъект поддержания жизни универсума (бог и др.).
Подведем итоги обзору попунктного освоения, понимания содержания разрозненных фрагментов. Главные особенности таких процедур состоят в активном авторском конструировании онтологий или использовании этих онтологий для их сопоставления с первичным смыслом, возникающим при прочтении фрагментов или отдельных определений. В ходе сопоставления онтологические схемы могут модифицироваться, видоизменяться. Чем тщательнее и основательнее онтологическое конструирование мыслителя, тем больше вероятность "захвата" и "ассимилирования" новых текстуальных материалов. Одновременно облегчается и локальное корректирование схем. Непосредственно замечается, что мера тщательности конструирования и объем пользы от этого зависят от соблюдения внутрионтологических требований "каузальности", причинно-следственных переходов и внешних требований к процессуальной непрерывности и структурной целостности, реальной или потенциальной.
Какие бы ни строились онтологические схемы, позволяющие контролировать мыслителю тип миропонимания, все же в силу множественности частей этой работы возникает вопрос об однородности суммарной онтологии. Наиболее простой вариарнт мыслительного ответа на этот вопрос состоит в постепенном совмещении, проверке переходимости из одной частности, частичной, дифференцированной онтологии в другую. С логической точки зрения это означает реализацию принципа дополнительности – последующий дополняет предшествующий, не меняя типа объекта и уровня конкретизации представления. Отходя от строгого слежения за содержанием, мыслитель может реализовать этот принцип, смешивая разнородные содержания, создавая синкретические целостности. В выше представленном показе этой работы мы сочетали стремление дополнять по формальному критерию охвата множества пунктов и по содержательному критерию переходимости от одного звена целостности к другому.
Однако общая функция обобщения, предопределенная необходимостью создания понятия, требует применение нового логического принципа – принципа уточняемости. Это означает, что один и тот же объект мысли рассматривается на разных уровнях детализации, конкретизации. Все воззрения осмысленны и "верны", но чем менее детализирован вариант воззрения, тем он более абстрактен и предполагает переход к менее абстрактному варианту, влоть до такого, который сравним с наблюдаемым, созерцаемым, с непосредственным образом объекта. Переход ко все более абстрактному уровню полезен мыслителю для нахождения основополагающих ориентиров в анализе более конкретного представления. В то же время и абстрактные представления мыслитель может прочитать содержательно-онтологически. В связи с этим он приходит к так называемому более существенному, глубокому взгляду на тот же объект. В нем как бы различается план, принцип бытия, его "тайна". Технологически приход к высшим абстракциям облегчается при использовании схематических изображений.
Необходимость, в рамках систематического уточнения, сохранять абстрактное в конкретном как свой ориентир, план, принцип ведет к тому, что схемы на разном уровне имеют "подобность", а переходы сопровождаются требованием каждого уровня, структурно-онтологической неслучайности. Фрагментарность, синкретичность становятся недопустимыми.
Попытаемся удовлетворять этим логическим и онтологическим требованиям, стремясь определить высшие абстракции и, тем самым, понятийное ядро "экологии".
Предварительно оценим уровень абстрактности вышерассмотренных пунктов и проверим возможность коррекции тех содержаний, которые могут претендовать на помещаемость в исходные абстракции.
Первый пункт можно квалифицировать как достаточно высоко абстрактный. В нем проводится граница между отдельными организмами и, в менее явной форме, совокупностью организмов и окружающей средой. Более абстрактно выразить мысль сложно. Если ввести различие между частью целостности и оставшейся частью целостности, рассматривать границу там, то не остается места организмам, обладающим особенностями, лежащими в основе экологического анализа. Это был бы выход на более высокий уровень абстракции, но с утерей предметного акцента (см. сх. 39).
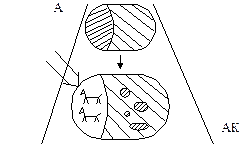
Схема 39
Фокусировка внимания на организмы, соответствующая предметизации анализа, не обесценивает полноту отношений в объекте мысли. Если в пункте в основном выделяется однонаправленное отношение к среде, двойственная (польза, вред) оценка среды, перспектива использования оценки в существовании (неприспособление, изменение), то можно дополнить и вторым направлением отношений, "реагированием" среды на бытие организмов, приводящим, в случае неблагоприятных действий организмов (например, человека) к "гигиеническим" формам реагирования (утилизации организма). Поэтому более полная абстракция должна включать, по принципу дополнительности, сохраняя уровень абстрактности, взаимоотношения и отношений, при которой отношения организма к среде рассматриваются как более активные, имеющие особые, отличающие от среды механизмы создания реакции на условия. Это и отражается схемой жизнедеятельности при устранении всех усложнений механизмов поведения и построения поведения (см. сх. 40).
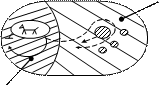
Схема 40
Возможность поведенческой и организмической адаптации к среде и адаптирования среды к себе, включая ассимиляцию среды, заложена в самой схеме жизнедеятельности, в ее статической и динамической компонентах. Схемы жизнедеятельности и бытия следует рассматривать как допустимые и необходимые на этом уровне абстракции. тем самым, в данном пункте как бы предполагается раскрытость способов бытия частей целостности, а указанные схемы лишь восполняют предполагаемое, конкретизируя для того, кто не следил за предшествующим мышлением или не имел возможность следить (см. сх. 41).
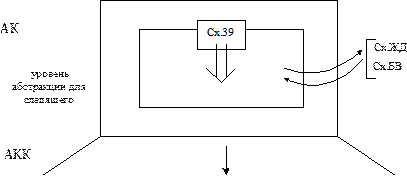
Схема 41
Второй пункт является более абстрактным, чем нами отслеживаемое содержание. Еще до появления организмов как содержания мысли, целостность и, следовательно, среда уже "матрично организованы".
Третий пункт предполагает большую конкретизацию уже имеющейся абстракции. Общество – особый тип "матричной организации" людей как специфических организмов. Если мыслитель считает, что именно по отношению к человеку и обществу следует вести обсуждение, то выше рассмотренная схема перестает быть предметно значимой и остается лишь предпосылкой предметно значимой схемы, основанием для ее выведения (см. сх. 42).
При этом люди и общество занимают как бы часть общей ниши организмов, и проведение границы, предметизация производятся после получения нужного уровня абстракции.
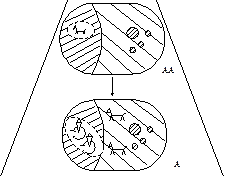
Схема 42
Четвертый и пятый пункт уже учтены более высоким уровнем абстракции и неспецифичны для рассмотрения.
Шестой пункт как бы акцентирует то, что уже содержится в новой исходной абстракции, если она поддерживется автором этого пункта. Действуя целенаправленно, человек, в том числе, преобразует среду, внося в нее изменения.
В седьмом пункте конкретизация становится еще более очевидной. Но именно в этом пункте подчеркивается поведение человека в индустриальном обществе с его отчетливой отрицательной линией последствий. В связи с этим и появляется осознание экологической проблематики. Индустриальный подход игнорирует идею сохранности среды, что позволяет быстро приходить к негативным следствиям и их осознанию. Поэтому при использовании вышеуказанных абстракций легко вводить тематизацию экологического типа, тогда как проблематизация требует большей конкретизации с постепенным выявлением границы и локальности ее проведения в мысли, отделяющей отсутствие экологических проблем от их присутствия (см. сх. 43).
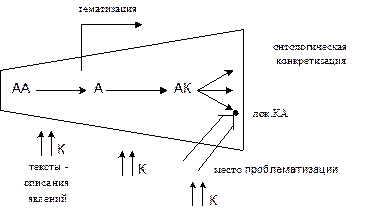
Схема 43
Вместе с этим пунктом мыслитель может отслеживать эволюцию сознания, сознавания отдельным человеком и обществом своего бытия в универсуме, в ближайшей среде, своего деятельностного отношения к реальности, следствий своей деятельности и поиска приемлемых форм деятельностного существования.
Восьмой пункт требует дальнейшей конкретизации и может обслуживать переход от постановки проблем к проектированию действий в направлении депроблематизации. Если же под регуляцией численности популяции имеется ввиду естественный процесс всеобщей взаимосвязи, включая взаимоистребление и т.п., то содержание уже относится к более высокому уровню абстракции (см. сх. 38–39).
Девятый пункт соответствует конкретизации сх.41 и учтен в обсуждении поведения человека индустриального общества (см. сх. 44).
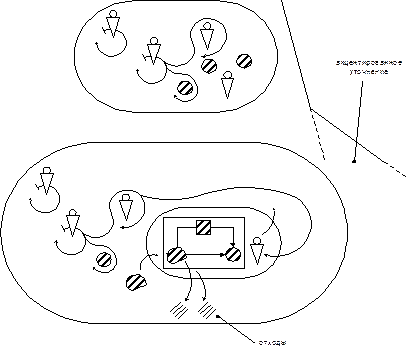
Схема 44
В данном случае общая конкретизация дополняется процедурой акцента на звене предшествующей схемы, его локального трансформирования в ходе конкретизации под необходимость мыслительного заказа – учесть появление вредных веществ, отходов производства и т.п.
Этим мыслительно воспроизводится нарушение естественного "закона", хотя и подготовленного предшествующим появлением сознания, воли, интеллектуального эгоизма и т.п. как предпосылок явления безответственности деформационного, производящего действия человека и общества.
Десятый пункт находится на том же уровне абстракции, реализуя эффект количественного накопления вредных последствий деятельности.
Одиннадцатым пунктом обращается внимание на суммарную оценку полезности среды для общества, что сохраняет исходную мысль в первом пункте, но конкретизирует в условиях существования общества. Уровень конкретизации соответствует тому, что был введен в сх.41 и 43, оттесняя негативные следствия производственного бытия общества. Однако вводятся внутренние конкретизации и дополнения, связанные с "здоровьем", "стабильностью существования".
Здоровье можно считать более исходной характеристикой после которого идет более расширенная обращенность к стабильному существованию, включающая и здоровье, и иные условия жизни людей в обществе. Самовыражение принадлежит либо к изначальной способности бытия, не ограниченного социализацией и окультуриванием, либо к творческому звену жизни в социокультурной среде. Поэтому чем более высокие требования к критерии жизни людей и общества в целом вводятся, тем больше количество шагов в конкретизации следует сделать мыслителю в определении экологичности (см. сх. 45).
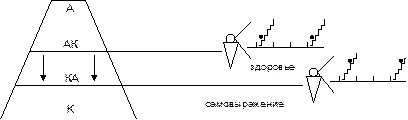
Схема 45
Тринадцатый пункт уже учтен в анализе. Четырнадцатый пункт адекватен исходной характеристике отношения между организмами и средой, раскрывая со стороны энергетической динамики.
Шестнадцатый пункт уместен в рамках раскрытия многообразности организмов и их взаимоотношений, что не меняет соотносительный уровень анализа. Речь может идти либо об уровне организмов, либо об уровне общества и его развитости для самой возможности появления экологических проблем. Это же касается и семнадцатого пункта. Восемнадцатый пункт учтен в характеристике индустриального этапа развития цивилизации.
Тем самым сопоставительный анализ помещаемости содержания пунктов на тот или иной уровень абстракции в логической иерархической "машине" обеспечивает и совмещение всех материалов, сохранение их содержательности для введения предмета экологии, так и обнаружение уровня абстрактности этих содержаний, выявление того уровня, который предопределяет появление экологических проблем и проектов.
Более абстрактные уровни являются предпосылочными, а более конкретные – раскрывающими (см. сх. 46).
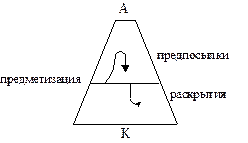
Схема 46
Что это за предметизирующий уровень, вводящий категориальное понятие? Мы рассматриваем в логическом пространстве различие понятий, категорий и категориальное понятие. Понятие суть функция содержания быть используемым в сопоставлении с эмпирическими наблюдениями и, при подтверждении, становится знанием об объекте наблюдения. Категория суть функция содержания быть используемым в качестве средства конкретизации предшествующего содержания (промежуточного понятия по уровню конкретности). Тогда исходное, наиболее абстрактное понятие предстает в двух функциях и называется категориальным понятием. В каждом предмете есть свое категориальное понятие. Оно выводится из еще более абстрактных представлений и необходимых фокусировках в фиксированном уровне конкретизации (см. сх. 47).
В качестве категориального понятия для "экологии" могло бы выступить следующее. Необходимо, чтобы общество в целом, через посредство своих рефлексивных аналитиков, выявило в ходе проблематизации бесперспективность прежнего способа суммарного существования по критерию интегрированности общества в универсум. Поэтому в концептуальном осознании себя общество должно выделить в своем механизме то, что не отвечает указанному критерию, сохранив в своем бытие более фундаментальные, адекватные критерию формы механизма вместе с отвечающим им наследием (материальная, интеллектуальная, духовная и т.п. культуры).
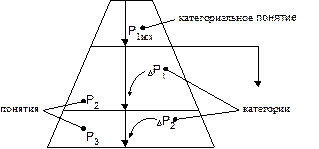
Схема 47
Эти формы механизма должны предполагать своевременное слежение за соответствием бытия указанному критерию и корректируемости механизма общества. В зависимости от исторической ситуации определяется реалистический уровень и объем непосредственного учета среды, внутренней и внешней.
Исходя из этого, предметом изучения экологии для нас выступает критический анализ характера самоопределения общества и его действий в среде и универсуме в целом по критерию интегрированности в универсум с акцентировками на ситуации выявленных затруднений в интегрированности, состояния самого общественного механизма, окружающей среды, внутренней среды, деформаций, оцениваемых как перспективно или актуально опасные для самосохранения и вписанности.
Естественно, что без построения онтологий общества, универсума, среды, развития, универсумальной динамики нельзя и невозможно перейти к коррекционно-управленческому отношению и выработке проектов и программ экологического характера, построению проблемных и проектных "полей". Но исходным основанием любых действий экологического типа должны быть фиксированные экологические ценности, его ситуационно значимые проекции. Интегральным выражением ценности является "сохранение себя как вписанного в универсум, его динамику".
Фиксируя общественный, человеческий уровень рассмотрения, мы акцентируем на том, что у животных не может возникать экологических проблем, так как они изначально вписаны в универсум и у них нет способностей к продуцированию универсумально значимых "шлаков". Любые несоответствия с природой легко преодолеваются соответствующим "действием" природы, в том числе и за счет исчезновения вида организмов, животных и т.п. Гармонизирующая динамика нарушается особыми возможностями человека, принадлежащего социокультурным средам. Он и возвышается над природой за счет новых, вторичных механизмов и способностей, проявление которых аккумулируется обществом, так и падает перед природой, возводя свои недостатки в принцип, гиперболизуя их следствия. Поэтому "искра божья", данная человеку и обществу, дополняется и повышенной ответственностью перед средой, универсумом, "богом", истинностью и т.п. Эта ответственность вызывает процесс непрерывного самосовершенствования человека и общества, приведения их в соответствие с их предназначением, их универсумальной функцией. Но там, где есть совершенствование, где есть типология (астрологическая и др.) людей, там есть и несовершенство, наносимый себе и окружающему вред. Этот вред лишь снижается, если развитие и совершенствование, особенно духовное, создают механизмы своевременного обнаружения вреда и адекватного реагирования в рамках ценностей и мировоззрения. Организацией процесса формирования и выращивания таких механизмов и занимается экологическое образование, обучение и воспитание.
Подведем итоги. Мы продемонстрировали создание понятия "экология", пользуясь МРТ и, в частности, демонстрируя процесс обобщения с использованием изобразительных средств мышления и логических требований. Нас постоянно сопровождала соответствующая логика и мыслительная рефлексия. Поэтому можно отдельно выявить форму нашего движения и "влить" в нее иное содержание мысли. На базе осуществленного мыслительного процесса легко ввести соответствующую систему мыслительных тренингов по курсу "Общая экология", увеличивая как объем исходного материала, определений, так и количество мыслительных операций, поворотов анализа, применяемых средств и рефлексивного сопровождения.
Данный текст рассматривается как удобный для критической апробации, перехода к возможным иным понятиям, для коллективного концептуального поиска.
4.4 Образец работы с текстом[1]
"Давайте перейдем от технологического представления метода работы с текстами к его демонстративному воплощению. При этом постараемся совместить концептуально-технологические пояснения с демонстрацией действий и с направленностью на более конкретное понимание метода и раскрытие его развивающего потенциала в контексте становления методолога и культурно мыслящего человека.
Присмотримся к онтологии сложной мыслекоммуникации, в которой возникают различные задачи в работе с текстом.
Сначала выделим позицию автора. У него уже были сформированы в практике те представления, которые он стал считать важными и для других. В практике он действовал, а потом вошел в пространство коммуникации, так как была побудительная причина. Он решил, неважно насколько оправданно, что может и должен поделиться с другими содержанием представления. Поделиться – это значит участвовать в коммуникации и подчиняться специфическим требованиям коммуникатирования. Второе – признак осознанности, отрефлектированности участия в этом типе социокультурной среды. Тем самым следует быть понятым, доступным критике, а также чтобы была совмещенность критики и авторского понимания. Первоначально задача состоит в том, чтобы строить тексты, выражающие содержание представления.
Понимающий характерен тем, что его план сознания уже разделен. Если понимающий рефлектирует свою работу, то во внутреннем плане он оставляет "место" для нового представления, которое появляется в ходе понимания. Если же такое место не предусматривается, то исчезает функциональная осмысленность понимающего. В лучшем случае он превращается в еще одного автора. С другой стороны, уже есть опыт, и понимающий хранит массив ранее возникших представлений. Они могут быть эмпирическими, а могут быть организованными как концепции, понятия. Понимающий должен заниматься строительством нового для себя представления с помощью этого массива. Дополнительным фактором понимания является способность имитационно фиксировать воздействия текста, способность обрабатывать воздействия со стороны знаковой формы и выраженного им содержания.
Понимающий должен не просто строить какие-то представления, а именно такие, которые автор признал бы соответствующими своим. А это предполагает отношение, связанное с контролем правильности понимания. Необходимы вопросы, направленные на фиксацию автором правильности его понимания.
Критик использует результаты предшествующего понимания в качестве повода для построения альтернативного представления. И если эта альтернатива просто от того, что ему не нравится представление автора, то она становится функционально бессмысленной. Альтернатива должна быть соотнесена с авторским пониманием. Предполагается, что затем будет построено отношение к содержанию автора. Критик, по своей функции, является как бы усложняющим, очищающим, развивающим точку зрения автора. При этом вне зависимости от того, сможет ли реальный автор воспринять нововведение как совершенное. Если нет указанной ответственности у критика, то он существует лишь как самовыражающийся субъект, но не является критиком в пространстве коммуникации. Быть самовыражающимся по поводу и без повода на базе своих представлений – нет ничего проще. Но одновременно это уход из социокультурной среды.
Так как автор может не соглашаться с предложениями критика, то коммуникация легко превращается в противостояние двух различных точек зрения. Тогда, при необходимости преодолеть дурную бесконечность противостояния, при сохранении содержания точек зрения, появляется арбитр. Он выявляет пределы справедливости каждой из точек зрения. Естественно, что если он будет предлагать свои версии так же как и сами дискутирующие, то его не примут во внимание и постараются вытеснить. Но если арбитр введет особые представления, приемлемые обеими сторонами и рассматриваемые ими как истинные, а такие представления будут сопоставлены с исходными и доказательно отслежены границы правильности каждой точки зрения, то арбитр будет воспринят как условие разрешимости спора. Конечно, арбитражное представление может быть только обобщенным, абстрактным, а убедительность базируется на культуре применения абстракций, культуре мышления.
Для налаживания правильности взаимодействия автора, понимающего, критика и арбитра необходим организатор коммуникации.
Организационно-коммуникативная позиция нужна для тього, чтобы оборот содержания в руках коммуникантов приводил к увеличению содержания, к развитию первоначальной мысли.
Но это ведет за собою изменения в способе мыслекоммуникативного действия каждого из участников. Коррекции в способах обеспечивает организатор.
Организатор коммуникации согласовывает способы работы каждого для развития исходной точки зрения по ее содержанию. Он ответственен по этому и за результат коммуникации. Тем самым, у организатора совмещаются и различаются ценности содержания и формы коллективной и индивидуальной мысли.
Коммуникант с мыслекоммуникативной рефлексией открыт к принципиальному несовпадению и противопоставлению ценностей содержания и организации процессов, форм мышления. Вместе с рефлексией деятельностной стороны мыслекоммуникации появляется различие между содержательной и формальной стороной в деятельности коммуниканта. Эту сторону организации и берет на себя методолог. Он является сервисом организатора, обеспечивающем критериальную и технологическую базу дискутирования через соответствующее воздействие на организатора.
Тем самым, в коммуникации встречаемы авторские монологи, вопросы на понимание, альтернативные версии, арбитражные абстракции и их применение, организационно-технологические и методологические тексты. Множество типов текстов вызывает потребность в универсальном методе работы с ними.
Перейдем к практическим, демонстрационным действиям.
У меня небольшой словарный текст, элемент политэкономического словаря. В словаре множество статей. Одну или некоторые я беру для работы. При этом отношусь к нему не как к словарному тексту, а просто как тексту. Необходимо определиться, что делать с двумя страницами. Лучше уменьшить объем работы, взять часть текста. Например, посвященную товару и с ним поработать: выделить его и понять. Уменьшить объем путем расчленения текста. Но должен помнить и о последовательности текста, о том, как одно связано с другим. Следует понять фрагмент и найти место результату понимания. Тем более, что я пришел в коммуникацию из практики, а там встретился с затруднением, стимулирующим меня понимать и вести другую работу в коммуникации. Я знаю, куда девать результат моего понимания. Следовательно, я предопределен по конечному результату (понимания): с одной стороны, я помещу его в коммуникацию, а с другой стороны – в практику.
Если я пришел из практики, то одно это заставит меня заниматься совмещением, рефлексией совмещения различных видов коммуникативных работ, а, следовательно, поиском критериев совмещения, поскольку затруднения будут неизбежно. Следовательно, я должен буду становиться методологом. Но это при увеличении объема требований к себе, вплоть до предельных.
Но приступим к работе с реальным текстом. Читаю одно предложение. Но может быть, оно велико и его надо сократить.
"Товар – это продукт труда, предназначенный для удовлетворения какой-либо потребности человека и который производится не для собственного потребления, а для продажи и обмена". Дальше не читаю. С этим надо еще разобраться.
Я отъединяюсь от множественности материала и начинаю работать с этой частью. Как мог осуществил предварительное понимание. Но кто-нибудь может сказать, что так не понять политэкономии, так как не учитывается многое из того, что расположено дальше данного пункта.
А я говорю, – пойму. Ввожу относительность любой версии в понимании. Мои представления будут меняться. Но может возникнуть гипотеза о том, что знания должны быть не относительными, а истинными. В то же время, если появится новая книга, новый автор, представление снова придется пересматривать. Следовательно, во-первых, надо научиться работать с разными версиями. А уж потом, во-вторых, идти к истинности. И то, и другое нужно отслеживать, что невозможно при плохой, неразвитой рефлексии.
Представьте себе, что понимающий не имеет функции относительности. Тогда он становится ужасным догматиком, ибо все, что он понял, это и есть истина. Он всегда рискует обострить конфликты. Если я это отрефлектировал, я сделал крупнейший шаг в сторону методологии. Я уже подготовился к пониманию в дискуссии, так как в дискуссии точки зрения обладают относительностью истины.
"Товар – это продукт труда, предназначенный для удовлетворения какой-либо потребности человека" и т.д. Какие здесь выделимы ключевые слова? Архитектоника текста может быть достаточно сложной. Я начинаю подозревать, что какие-то слова текста являются ведущими, а какие-то ведомыми. Например "продукт труда". К чему "товар" ближе, к продукту или труду? Ближе к "продукту". Я подозреваю, что одна часть предложения является обслуживаемой, ведомой, а другая ведущей. Ведущей в чем? На что-то нужно обращать внимание, а другое оставлять без внимания. Я, как понимающий, занимаюсь оперированием знаковым материалом в зависимости от поставленных микро и макрозадач. И этот процесс нужно регулировать на базе рефлексии.
Текст последовательно организован или я его делаю организованным в знаковом расположении. Вместе с этим организуется и внутренний ряд представлений. Я свободен в расположении элементов, но в пределах поставленных задач. Я могу идти по линии готового текста, но могу изменить конструкцию текста. Так как автор неслучайно строил текст, то он помогает мне организовать направление моего поиска.
Одна часть текста сильно влияет на направление поиска, другая – гораздо меньше. А если взять по содержанию, то одна часть текста указывает на ту часть представления, которое является наиболее важной для автора, а другая оставляется менее важной.
Текст, воздействуя на понимающего, как бы говорит: туда двигайся, а не сюда, на это обрати внимание, а на это не обращай внимание. Если автор делает явные акцентировки, то это лучше для понимающего.
В конструкции текста, предложения есть особые указатели, позволяющие проводить различение по степени важности. Итак, я акцентирую внимание в конструкции текста на что-то и говорю: вот ведущие, ключевые слова. В данном случае в качестве ключевого слова выступает "продукт".
А если немножко дальше, замечаем: "продукт, предназначенный для...", т.е. продукт, который кому-то необходим для удовлетворения потребности и т.д. Здесь возникает первый Рубикон понимания. Синтаксис, грамматика помогают сделать иерархизацию на базе расчленения текста и уже организуют сам процесс построения представления. С другой стороны, каждый знак, каждый компонент текста имеют свое содержание, свой содержательный кирпичик. Следовательно, если синтаксис и грамматика позволяют мне увидеть архитектонику текста, а за этой композицией встает композиция содержания, то можно искать и содержательную акцентировку. Если удается найти соответствие размещенности ключевых слов и содержания, то формальность конструкции текста была бы снимаемой. Я бы забыл про текст, а работал бы с содержанием, где есть акцентировка автора. Тем самым, одной архитектоники текста мне недостаточно.
Я воспринимаю текст, но мне-то нужен не текст, а стоящее за ним содержание. С другой стороны, это содержание должно быть связано как-то с архитектоникой текста, чтобы авторские предпочтения для меня стали содержательными.
Для автора акцентировка вводится безотносительно к тексту. Только затем в тексте появляется акцент. Для понимающего, наоборот, акцентировка появляется в тексте, а только потом и в содержании. Я как понимающий имею образ текста, но не имею образа – содержания. А мне нужен именно он. Как его строить? Но ведь я что-то помню, что-то знаю. С другой стороны, за счет того, что я носитель языка, у меня с определенными словами, знаками закреплены вполне определенные содержания (значения).
Следовательно, я должен найти в своей памяти образы, которые скрепляются именно с этими словами и их вовлечь сюда, в строительство содержания.
Если я воспринял текст структурно, то построил структурный образ текста, а затем строю структурный образ и по содержанию.
Я полностью подчинился автору и своей синтаксической, грамматической интуиции. "Продукт" чего? "Труда". Пока еще нет семантического анализа. Смысл еще не вводится в анализ. Если человек владеет языком синтаксически, грамматически, то он подготавливает себе понимание, еще не зная содержательно. С семантической стороны начинается у автора, а у нас, наоборот.
Понимающий должен быть в подчинении у автора, отложить все свои цели и задачи, кроме одной: быть реконструктором. Это заимствованное существование. Свое существование для понимания лишь помогает быть не собой.
При усвоении языка, синтаксиса, грамматики обучаются формальному акцентированию на любом материале. Эта способность применяется в каждом конкретном случае. Если понимание не будет организовано, то все другие до коммуникации факторы раздавят его.
Для понимания производилось разрезание текста. Оно позволяет мне быстро найти нужный кусочек целого. Я могу представить себе, что текст для меня будет составлен из кусочков по теме и не по теме. Возможно, что текст у меня по теме будет небольшим. Иначе говоря, для понимания, что такое "товар" мне может быть нужна десятая часть текста. Компоненты десятой части надо так связать, чтобы переход от одного компонентика к другому позволял последовательно двигаться от одного к другому в процессе понимания. Этому посвящена схематизация текста или конспектирование.
Общая технологическая линия выглядит так: разрезание текста, выявление кусочков по теме, их выделение и совмещение. При совмещении отдельные кусочки связываются. Однако, как их связывать? Это зависит, например, от того, как я мог бы себе представить переходы за автора. Надо постараться сделать конструирование зависимым от автора или от нашей гипотезы об авторе, его содержаний, способе движения мысли. Чтобы организовать конспектирование нужно обладать способностью понимать тематически. Если тема есть, то она существует и для меня после того, как я смогу содержательно представить, о чем могут говорить любые авторы по теме. Тематическое содержание всегда предельно абстрактно. Не имея абстрактные представления, мы не можем и отбирать по теме отрывки автора. А раз так, нужно быстро пройти путь понимания предельных абстракций, например, с помощью словарей.
Метод понимания, о котором я говорю, прежде всего опирается на саму возможность схематизации текста или построения структурно-логических схем. С другой стороны, вместе с такой работой появляется масса семиотических и логико-семиотических вопросов, а через семиотическую рефлексию создается семиотическое сознание, отвечающее на вопросы о том, как устроен текст, как он строится, как совмещаются одни фрагменты с другими в длинном тексте и из каких универсалий (единиц парадигмы) может быть построен текст. И на этом пути находится вся структурная лингвистика (со стороны и семантики, и со стороны знаковых средств языка). Тем самым понимание, при его операциональной организации, становится условием появления семиотического сознания, семиотических знаний, семиотической технологии.
Перейдем к обсуждению работы с содержанием текста. При этом содержание усматривается применительно к тексту и к сознанию понимающего, автора и т.п. Содержание, как мы часто говорим, остается в голове, в нашем сознании. Но после его выражения в тексте оно существует и там. Нам необходимо его как бы извлечь, опираясь на текст как на знаковую структуру. Если текст мы трансформируем, схематизируем для нашего удобства, то и содержание текста нужно было бы как-то подвергать схематизации. Через это достигнуть и контроля за извлечением содержания и организации в решении различных задач читателя.
Многие общие сведения о структурированности содержания текста, вклада в структурирование действий автора раскрываются в структурной семантике, в этом разделе лингвистики. Но нет операциональных систем в прямой работе читателя, который хочет владеть и неслучайно оперировать содержанием в решении своих задач.
Но как только мы начинаем строить схематические изображения, у нас появляется возможность достигать эти цели. Вместо оперирования с текстом, где содержание скрыто, создаем замещающую процедуру, конструирование или реконструирование на другом типе средств. Строим изображение, подвергаем его расчленению, выделению значимых частей, синтезированию, размещению частей. Вот это и составляет практику изобразительной схематизации. Но нужно еще изобразительную схему, ее части, связи содержательно интерпретировать. Если это происходит, то это крупнейший шаг в становлении культуры мышления каждого человека. Если он еще не поленился и отрефлектировал практику конспектирования, то накопленный багаж рефлексивного знания семиотического характера он может перенести на новую практику, практику построения схематических изображений.
Осознают ли наши преподаватели живописи, рисунка последовательность перехода от естественного образа, от принципа реализма к постепенному проявлению конструкторского начала в сюрреализме, абстракционизме и т.д., в разных техниках схематизации? Если переходы налажены, тогда можно просто обучать общей технологии созидания в зависимости от типа задач. Существенно преобразуется вся подготовка живописцев.
Но для нас важно то, что вместе с двумя типами схематизации появляется реальная мыслетехника.
Вернемся к материалу. У нас есть фрагмент "продукт труда". А что это такое "продукт"? Можно попытаться догадаться, что хотел сказать автор. Но есть и другой путь, связанный с использованием словарей. Кроме того, я и сам могу построить схему, дающую возможность иметь вполне конкретный образ, соответствующий теме. Эта схема является структурой, хотя и для меня. Но я ее могу рассматривать как гипотезу в понимании. А что, если это и имел в виду автор? Другое дело, что мое сознание может быть рыхлым по содержанию, плохо структурированным. Но это уже другое дело. Возможно и обращение за консультацией у знающего человека. Как бы то ни было, я получаю содержательную гипотезу о том, что такое "продукт труда".
Понимающий когда говорит, что он завершил понимание, это означает, что с одной стороны, он построил какую-то версию и другой не дано, а, с другой стороны, с автором договорился или предполагает, что автор не будет возражать.
Поскольку понимающий никогда не может претендовать на абсолютную истинность и правильность результата, он должен прийти к выводу, что любое представление, принимаемое за знание о чем-то, следует рассматривать и как соответствующее реальности, и как не соответствующее реальности. Аналогично и в понимании. Нужно то быть уверенным, то сомневаться в соответствии построенного представления – смысла, тому что выразил в тексте сам автор. На столкновении уверенности и неуверенности развертывается вся работа понимающего.
Рефлексия и методологическая ее организация нужна там, где есть дискуссия, сомнение, где есть критика. А там, где нет сомнения, а есть только уверенность и действие, нужно спокойно идти без рефлексии, пока затруднения вновь не вернут к ней.
Итак, что такое "продукт"? Актуализирую свое миропонимание и необходимое в нем звено. Есть некоторая деятельность и в ней создается продукт из не продукта, из исходного материала за счет преобразования материала. Могу забыть на время, что должны быть средства, сам человек как деятель. Скрепляю этот образ с соответствующей частью текста. Вот такой мир, а в нем автор, если он так же видит мир, отмечает вот такую часть. Сделав это, я имею результат понимания, поскольку есть уже представление о продукте, что хотел сказать автор и плюс еще помещенность продукта в какой-то мир, мир деятельности.
Но затем я спрашиваю себя, а что такое "труд"? Ответ появляется на базе уже имеющегося представления. Труд это деятельность, особо организованная. Есть средства труда, а не только исходный материал, трансформация, конечный продукт и деятель, который обладает представлением о том, что он должен получить и как. Обращая внимание на свое представление, я размышляю. Деятель имеет представление, оно нормативное. О чем оно? Об исходном материале, о конечном продукте, о переходе, о средствах, которые используются и о себе. Что я сделал? Возможно я нашел другой компонент текста автора, отдельно от первого. А у автора они связаны. Нужно их совместить. Что значит соединить два слова по содержанию? Построить содержательный заместитель слов. У автора целостное представление есть. Он его применяет при построении текста. Текст возникает постепенно и на базе целостной картинки. Идя вслед за текстом я воссоздаю целое по частям. Опираюсь лишь на то, чем владею или что дополнительно привлекаю. Затем, опираясь на созданное мною представление, как результат первичного понимания, я могу воспользоваться авторским текстом и проконтролировать свое понимание. Я спрашиваю себя, правильно ли я понял, и начинаю то, что у меня нарисовано использовать. Если автор недалеко, его можно спросить, то я ему предлагаю и схему, и свои разъяснения для проверки. При его несогласии я должен менять свою схему, корректировать ее состав и интерпретацию. Если же автора нет и не может быть как собеседника, то должны быть иные приемы, компенсирующие это отсутствие.
Следует подчеркнуть, что понимающему, заботящемуся о гарантированности в решении своей задачи, лучше иметь как можно больше и содержаний, и умения осуществлять самые разнообразные процедуры. С другой стороны, если содержательности понимающему не хватает, то компенсировать можно лишь процедурной разнообразностью и гибкостью. Когда я слушаю доклад, я столько привлекаю содержаний, столько делаю апробаций и разных соотнесений, что возникает множество гарантий того, что я понял автора.
Одна из вовлекаемых процедур состоит в особой как – бы реконструкции самого процесса прихода к фиксированному результату, рассматриваемого как авторский. Если ведется речь о продукте труда, то нужно "возвратиться" к исходному материалу, к самому целеполаганию и т.д.
Вопрос: Можно ли понять, что от слова "труд", как главного, мы пришли к "продукту" как главному?
Ответ: Для того чтобы понять продукт, надо понять мир труда в целом. Это полное представление является предпосылкой и основанием для построения авторского текста.
Если мы смогли проверить первый результат и автор или ход проверки дали нам положительный ответ, то этот результат становится в наших руках средством работы с остальным массивом текста. Возникает вопрос: как мы поступаем, если надо учесть еще один фрагмент материала? Предположим, что уже выделен фрагмент. Только надо с ним работать.
Первый очевидный вывод: с ним надо сделать то же самое. Повторить процедуру. Но возникает вопрос о том, как это делать, если уже получены два локальных результата. Надо их совместить друг с другом. С точки зрения линии развертывания целостной мысли автора возникает вопрос, относящийся к логике, логическим формам движения мысли. Логика изучает правила развертывания мысли. Самый простейший способ обнаружения реальности этого движения мысли это предположить продолжение высказывания, или предположить. что в последующем тексте автор продолжает эту же мысль. Он может привлечь свои прежние труды, выделить фрагмент и поместить сюда, а может быть и впервые об этом пишет.
Аналогичные вопросы возникают тогда, когда надо связать два слова, например "я иду на семинар". 2-е слово: "идти". Надо связать так, чтобы второе слово помогло в движении мысли, продолжало то, что сделало первое слово. Я уже имею представление о себе как не идущем. Я иду, я иду куда-то, я иду в... Разные варианты, и каждый раз надо думать, как его повернуть, как его надо сделать значимым с точки зрения того, что уже есть. Либо сказать, что последующее – это то, что надо. Тогда предшествующее сделать последующим. Задача опять воспроизводится та же самая. Возникает вопрос: что делать с последующей частью высказывания и возникает вопрос: какие принципиальные типы синтеза могут быть? В логике существует два принципиально различных способа продолжения: один соответствует идее принципа дополнительности, а другой соответствует идее уточнения, или то, что потом связано с так называемой идеей восхождения от абстрактного к конкретному.
Мы сейчас попытаемся использовать первый вариант, когда последующий текст рассматривается как дополнительный. Итак, в логических терминах, первый предикат должен встретиться со вторым предикатом и рассмотреть его как полезный для своего развития. По аналогии можно сказать, что автор свое завершил, а критик предлагает еще что-то и говорит: "Вы не все сказали, надо еще больше сказать". Принцип дополнительности, он выражает то, что часть целостности уже введена мыслью. Остается еще добавить последующую часть, и, благодаря тому, что последующая часть не противоречит, не противостоит предшествующей, все это благополучно завершается.
Или другой вариант. Мы можем себе представить, что находящееся на сцене задернуто шторками, объект не виден. Сначала часть шторки убирается, а затем и оставшаяся часть. Другое дело, чтобы отодвинуть не шторки, а объект. Тогда изменения касаются отражения объекта. Дополняющая часть изменяет предшествующее содержание по объему. Объем меняется. В этом смысле целостность еще неизвестна в начале. Она появляется только в конце. А при отодвигании объекта объем не меняется.
Приведу аналогию. Маркс построил представление о циркуляции капитала, которая характерна для рыночной экономики капиталистического общества. А если этот идеальный мир затем усилить за счет поиска дополнительных содержаний и авторов! Если это удастся, то рисунок событий в идеальном объекте усложнится.
Мы можем получить представление, включающее государственный монополизм. Но главное проследить что, от чего, куда и зачем идет, чтобы не потерять связь с предшествующим. Если же нарушится принцип дополнительности, то тогда появится другой тип движения содержания, меняющий сам принцип существования, хотя и с теми же компонентами.
Используем логические формы для дополнительной организации нашего процесса понимания. Последующий текст: "...продукт труда, предназначенный для удовлетворения какой-либо потребности человека". Что я могу сделать? Я могу выделить дополнительное содержание и текст – "Удовлетворение потребности человека". А что же это означает второй компонент сам по себе? И тогда из словаря извлекаю еще одну схему. Человек пребывает в потребностном состоянии, осуществляет поиск предмета потребности, нахождение и присвоение предмета, завершающееся удовлетворением потребности. Потом придется к другим служебным элементам словаря обратиться, раскрывая, например, что такое потребность.
Если такая схема у нас есть или мы ее смогли построить, то нужно ее соединить с предшествующей. В ходе соединения изолированность следует преодолеть, так же как преодолевается изолированность в фразе "я, идти" при получении "я иду". Но чтобы соединить схемы, нужно уметь их читать, интерпретировать, строить миры, складывать миры по принципу "причина – следствие". Культура оперирования со схемами становится проблемой понимания.
Вопрос: Правильно ли я понял? Возникает необходимость сначала как бы спуститься в слой собственно схем, там схемообразно прочесть реальность, затем вернуться в онтологический, собственно содержательный слой, прочесть процессуально, затем, вернувшись в слой искусственный, символический, схемный, проблематизировать, если надо, схему и перестроить схему.
Ответ: Да. Циркуляция движения во многих слоях мышления. Один слой связан с обращением к созерцанию, индивидуальным процессам отражения в форме имитации внешнего воздействия. Другой слой связан со знаковым оперированием. Третий слой связан с обращением к внеиндивидуальным представлениям, заимствованным в культуре, в языке и т.д. Эта циркуляция становится условием понимания и тогда остается добавить только, что вместе с оперированием знаковыми и символическими средствами появляется архитектоника фиксированных мыслительных процедур. Рефлексируя ход мышления, мы обнаруживаем слои и налаживаем организованные переходы в зависимости от того, что нужно в понимании.
Итак, мы имеем здесь, я повторяю, до сих пор плохо в методологии освоенную технику перехода из схемообразования, схемоиспользования к двойственной функции любых схем – содержательной и формальной. Они реализуются как бы одновременно.
При содержательно-онтологическом прочтении схем мы учитываем живой опыт, но без деформации самих схем. Но можем подчинить схему опыту, открывая путь деформации схем. Не надо терять удобств обеих вариантов. Это и есть проблема содержательной логики. Формальная логика остановилась и не решала эти проблемы. И методология возникла в середине 50-х годов прежде всего при анализе этой проблемы, но в живой коммуникации.
Вопрос: Как Вы работаете со своим словарем?
Ответ: Я, с одной стороны, в оперативном поле демонстрирую всю генетическую процедуру понимания. С другой стороны, я нахожусь в рефлексивном отношении к себе. И, говорю, я имею большой опыт, надо его вспомнить, извлечь из него то, что помогает понимать. Словарь, который я создал, сопровождает любую мою работу. И при решении задач, проблем, и при рефлексии этих процессов. Но и применение словаря я рефлектирую и контролирую его осмысленность, начало пробуксовки. В проблемной ситуации я подготавливаю проблематизацию в том числе и словаря. Это многоплоскостной процесс.
Вопрос: Вы показываете понимание текста автора, исходя из своих старых представлений. Как это совместить с пониманием? А вдруг автор уже в иных представлениях работает? И Вы не развиваетесь тогда? И мы тоже.
Ответ: Я же технологию раскрываю. Надо пока постараться отследить демонстрацию процессов понимания. А развиваться будем тогда, когда уже будет все понятно и вы найдете в демонстрации, в продуктивной работе изъяны.
Вернемся к демонстрации. Я нахожусь в предмете политэкономии. Вот ту схему, которую я изобразил, ее можно понять, вспоминая то, что Маркс говорил о труде. Но это не значит, что эта схема, принадлежащая Марксу базируется на его исходных посылках.
У Аристотеля это уже было. То, что у Маркса было, он перенес из предшествующих авторов и что-то внес сам. И очень большой вопрос, что же он добавил.
Вопрос: Есть домарксистское понимание труда и т.н. марксистское и послемарксистское. Это все разные, отличающиеся понимания. Вы с этим согласны?
Ответ: Если взять конструкцию марксизма, кстати, только проговариваемую и никем не зарисованную, а потом конструкцию какую-нибудь еще другую, и затем заниматься сопоставительным анализом, так я этим пока не занимаюсь. Я сейчас провожу такую работу, которая с измами не связана. Я просто говорю о том, как я занимаюсь пониманием. Мне важно, чтобы вы мои процедуры видели и понимали их причину.
Вопрос: Вы говорили, что Вы принадлежите контексту, подчиняетесь тексту, а затем так ушли в реальную жизнь, что я упустил нить.
Ответ: План у меня простой. Я с одним поработал компонентом по теме, с другим поработал компонентом по теме. Сейчас занимаюсь проблемой синтеза. Затем третий компонент – и еще синтез.
В чем основная значимость того, о чем я сейчас говорил? Мы говорили о том, что вместе с совмещением текстов, мы должны предполагать совмещение содержаний. Если содержание выражено в схемах, то возникает вопрос об условиях совместимости содержания схем. Или схем с точки зрения того содержания, которое они несут с собой. Но, при этом, совместимы или несовместимы схемы, зависит от того, кто их читает, прочитывает. Если эти схемы и их синтез прочитываются человеком и он не входит в затруднение, связанное с чтением схемы, значит схема утверждается. Если он читает синтетическую схему и затрудняется, где-то возникает разрыв в прочтении содержания схемы, он начинает подозревать, что состав схемы не очень удачен. Отсюда возникает содержательно-процессуальный критерий совместимости схем. Нужно уметь прочитывать схему в соответствии с содержательной траекторией процесса, которая предполагается. Следовательно, если не налажена процессуальная культура прочтения схемы с введением особого типа субъективного отношения – содержательно-объективного, то работа со схемами теряет свою базу. Если рефлексия налажена, то различение субъективности понимающего, объективности средства (текста, схемы), придания объективного статуса результатам интерпретации средств, все это налажено. Овладение языком, в том числе языком схем, должно выработать такие различения. Критерием совместимости, еще раз подчеркиваю, выступает процессуальная непрерывность. Поэтому одной из основных категорий, обслуживающих эту способность, является "процесс".
Схема воспринимается минимум двояко, как некоторая конструкция, и, в связи с этим, как средство, результат соответствующего построения схем. С этой точки зрения схема совершенно никакого отношения к содержанию не имеет.
Рассматривая со стороны схемного состава, со стороны средственности, мы имеем свободу оперирования в пределах установленных требований к оперированию.
С другой стороны, схема предстает для нас как сам объект. Мы читаем ее так же, как и созерцаем объект. Мы не озабочены тем, какие рассудочные схемы выстраиваются, чтобы обслужить восприятие объекта. Мы как бы видим и все. Эта субъективная иллюзия фундаментальна для того, чтобы человек чего-нибудь воспринимал и не сомневался. Это же иллюзия. Многие философы знали о том, что это мы воспринимаем, от нас зависит устройство мира в содержании образа, мы его строим. Но при этом мы как-то так относимся к результату как будто мы восприняли безотносительно к нашему устройству. В этом основной парадокс субъективности.
Когда мы механически совмещаем схему, то ищем общие для двух схем компоненты. А после механического совмещения, мы должны заниматься процессуальным прочтением и по пути можем обнаружить какое-то несоответствие и пытаться подсказать как менять схему, чтобы процесс не был разорван, наподобие обычному созерцанию.
Такая возможность возникает только потому, что, как мы говорили, идет двойная работа: прочитывание схем и обращение к опыту.
Вот единственное, что мне здесь нужно было. И если мы достигли совместимости схем, что может быть обеспечено и дополнительным подрисовыванием, следовательно, мы можем от схемы идти к другой схеме, чтобы она была более совершенной. Чтобы она обслуживала нам то, что нужно нам для решения поставленной задачи.
Достигнув совмещения схем, мы про товар в данном случае можем сказать более подробно. Например, это зависимость от человека, осуществляющего деятельность, труд. Человек пришел в труд из другого существования, что как-то отражается на производстве продукта, а, следовательно, и товара. А товар может быть некачественным, что отразится на последующих событиях.
Можно увеличивать эту дополнительную работу, поскольку при содержательной акцентировке мы расширяем или утончаем отслеживание за тем, что несет нам образ. И не спрашиваем, есть ли каждому компоненту содержания строго соответствующий компонент схемы. Привлекая миропонимание легко искать различие между просто продуктом и предметом потребления, предметом обмена на рынке и т.п. Через фокусировку внимания на товарность, рынок, капитал, циркуляцию капитала, легко создать узкий взгляд экономиста. Ему уже необходимо знать: а что здесь, у продукта от товарного бытия.
Следующий абзац: "предназначенный для удовлетворения потребностей и который производится не для собственного потребления, а для продажи и обмена". Выбираю ключевой термин продажа, обмен. Где то на уровне здравого разума думаю, что продажа – это часть обмена. Обмен включает и другие процессы. Следовательно, делаю небольшой вывод: "не для собственного потребления", т.е. для обмена. А где же обмен? Обмена нет. Следовательно, мне нужно пририсовать обмен. Обмен, товарный обмен является дополнительным содержанием. Обмен поможет мне понять оставшуюся часть предложения.
Итак, я рисую сначала обмен изолированно. А что такое обмен? Обращаюсь к словарю и он подсказывает: "Обмен предполагает всегда двух участников. Один участник имеет у себя вещь номер один, а нуждается в другой". В активе одно, а потребность в другом. Самый лучший, самый легкий вариант для обменной ситуации. Следовательно, первый извлекает из своего арсенала вещь номер один и пытается отдать ее другому. А второй пытается вещь номер два отдать другому. Процесс отдачи таков, что одновременно происходит соответствующее присвоение. Аналогично также и для второго участника. Причем, эти две руки синхронизированы, – одна дает, другая берет. Как таковой отдачи вещей не осуществляется и это не характерно для обмена. Как таковое протягивание руки и извлечение откуда-то – это нищенство. Пришлось две разные процедуры сделать взаимозависимыми функционально. И тогда при совмещении этих двух функций со стороны обоих участников возникают индивидуализированные для каждого удовлетворенности результатами. А для товара как вещи это означает, что он переместился из одних рук в другие. Итак, вещи перемещаются из одних рук в другие. Должна быть рефлексия у каждого участника обмена до того, в ходе и после того, как он вступает в эту процедуру обмена. В этом отношении обменивающиеся всегда в рефлексии. Поскольку без рефлексии совместить два разнонаправленных процесса невозможно. Так вот, я сам себе рассказываю или кто-то мне, например консультант рассказывает мне такую сложную, интересную картину. Вот я нарисовал обмен, а затем еще раз прочитываю и говорю: "Который производится не для собственного потребления". Ну "производится" – понятно. "Не для собственного потребления" – опять же после производства. А вот что я сейчас делаю для совмещения прежней синтетической схемы с этой новой. Другого мне автор ничего не сказал. Но акцентировки расставил: "не для". Следовательно, когда я говорю про товар, то я должен сказать – продукт предназначен для обмена. Значит, исходной точкой внимания у меня выступает обмен. Следовательно, если я не нарисовал обмен, начала у меня нет. Второй атрибут: "этот товар произведен", т.е. его нельзя найти просто где-то. Он должен быть не найден, а произведен. С другой стороны, произведен для того, чтобы войти в обмен. А после обмена стать существующим для другого. А другой входит в эту обменную процедуру только для того, чтобы получив свое, возвратиться туда, где появилась необходимость в такой вещи. Итак, целостным миром у меня выступает на данном этапе результат синтеза трех схем. Вот здесь я ставлю точку в работе с материалом первой статьи.
Вопрос: Что дает такой анализ текста?
Ответ: Прежде всего я продемонстрировал процедуру понимания. Я могу спросить автора и сказать прав ли я, если буду считать, что товар и обменные процедуры строго взаимозависимы. А мне кто-то может сказать – почему бы не считать товаром то, что идет прямо из производства в потребление? Он скажет: "нельзя, тогда не появится товарных качеств". А почему бы не считать товаром то, что встречается в природе? "Нельзя, потому что это не товар, а просто предмет..."
А затем говорю: "Ну что ж, очень хорошо. А если я что-то здесь лишнее нарисовал, вы могли бы стереть лишнее?" Он говорит: "Вы нарисовали много лишнего. Зачем? Достаточно хотя бы немного". И начинает относиться к результатам зарисования как к результатам понимания. Важно, чтобы товары были. А для того чтобы товары были, надо чтобы был и тот, кто трудится. А кроме того, чтобы был и тот, кто потребляет. А кроме того, чтобы в условиях обмена были – множественность производства и множественность тех, которые потребляют. Я уже пошел по принципу дополнительности и ввожу то, что не было результатом понимания. А может быть это уже другая версия? Надо бы проверить при помощи схематических изображений. И еще не строя, уже предполагая возможность иных точек зрения, начинаю думать о том, что бы здесь деформировать, чтобы появилась другая точка зрения. Если сделать четко и компактно, что схемы и позволяют, понимание перетекает в критику.
Вопрос: Я сшила платье себе. Оно мне разонравилось. Я несу его продавать. Сначала я его сшила для себя, поэтому к товару оно ничего общего не имело. А потом оно в какой-то момент становится товаром. Это как-то схема отражает?
Ответ: Конечно. Построили маленькое производство и сделали платье. Носите на здоровье без всякого обмена. А можно просто бросить и пусть лежит. Нет никакого товара. А если захотелось продать из-за необходимости в ином, то начинается путь товара.
Вопрос: Вы демонстрировали диалог с автором, я так понял. Но как-то странно. Работая с одним предложением, Вы вдруг стали находить множество содержательных переходов, не содержащихся в тексте предложения. Что это за процедура?
Ответ: Проработав очень медленно на небольшом тексте, имеющем ключевое значение, я получаю картинку, которая позволяет как по маслу идти в огромное количество других содержаний, текстов без всяких дополнений. Это законно, соответствует методу. Полет обеспечивается надежной базовой схемой и переходом к содержательным слежениям. Но без утери базы, опираясь на нее.
Вопрос: Каким образом построена эта графика? Как строить концептуальные конструкции?
Ответ: Во-первых, я сначала, понимая текст автора, занимался несущественными для товара характеристиками, продуктом, потреблением. Заблуждался. Но я твердо строил схемы, зная, что, если я схемы правильно построю, то обнаружить новизну мне очень легко. И вот на третьем шаге мне стало все ясно. Как сделать товаросуществование постоянным? Чтобы был разнообразный спрос, чтобы люди вынуждены были искать желаемое и встречаться по поводу приобретения, обмена. Создать рынок, дефицит. Если производство становится различным, в зависимости от спроса и в силу развития производства, то потенциал товарности, подчинения товарности будет у производства высоким.
Я могу перейти от исследовательского отношения к проектному и стремиться создавать общество специально для товарообмена. И это будет логика мышления экономиста в пределах предмета экономики. Все как бы вытекает из схемы, читаемой процессуально и каузально. Правда, с выходом за рамки схемы, но с сохранением внутренней логики.
Кстати, можно иметь настолько богатое воображение или просто видение реальности, что легко разрушается возможность мышления. Я говорил про другое. Если я рисую дополнительные схемы, то в исходный объем содержания сразу интегрируется то, что соответствует содержанию дополнительных схем, циркулирование товаров, действие общественных механизмов, взаимозависимость их друг с другом, идеологические подкрепления различного типа и т.п. Но нельзя это делать произвольно, иначе возникла бы дестабилизация из-за того, что на ранее введенную территорию экономических событий въедут фрагменты тех событий, которые не вписываются в экономическую механику. Требуется осторожность, рефлексия совместимости и опасности разрушения инородными частями базовой целостности. Для совмещения различно предметного, например, социального и экономического, культурного и экономического, требуется особая рефлексия и технология мышления. Она вытекает из логических, мыслетехнических принципов и технологических схем.
Экономисту же интересно анализировать иное лишь постольку, поскольку рынок соприкасается с этим иным и нужно учесть иное, сохранив свое.
Вопрос: Предположим, я понимаю текст, имитационно слежу за текстом, строю версию. Затем проверяю версию в дальнейшем движении по тексту, и, допустим, получаю опровержение, а затем перестраиваю версию. Поскольку я строю иную версию с помощью словаря, появится ли точка, на которой результат построения в функции имитации в принципе окажется субъективно неотличимым от оригинала, а объективно различным с ним, и это неразличение предопределяется недостаточностью словаря?
Ответ: Уточним, словарь вполне определенный. Я к нему обращаюсь на определенном шаге прочтения. Могу обнаружить, что в словаре нет того, что мне надо. Я рефлектирую это обстоятельство. Я пользовался словарем и словарь вполне определенным образом мне помогал. А раз он помогал, то продолжение словаря должно быть. Что делать? Учитывая прошлый успех, надо либо искать более совершенный словарь, либо совершенствовать словарь. Я начинаю реконструировать путь становления словаря и уходить в начало. Я много занимался языкотворчеством, строил схематические изображения. Этот опыт рефлектировал, создал соответствующую концептуально-технологическую форму и средства создания словарей. И применяю ее. Мне нужно из того материала, который есть, создать еще один блок в словаре или перестроить весь словарь.
Вопрос: Где та точка, после которой надо технологию дальше достраивать?
Ответ: Не априорно. Надо способствовать тому, чтобы встретиться с текстом, вынуждающим еще больше совершенствовать технологию.
Я сначала занимался чистыми научными текстами, философскими, методологическими, т.е. то, что рационально само по себе. Там, в математике, тексты организованнее. А в политэкономии, философии черт ногу сломит. Поэтому там нужно было работать. Это одно. Но, когда я встречался с текстами поэтическими, например древнегреческих трагедий – Софокла, Эврипида, Эсхилла, я иногда думал: а здесь как? На определенной стадии это стало меня беспокоить, потому что эти тексты очень существенны и почему? Я же психолог. Я думал, что проблемы личности могут быть отражены в трактатах о личности. Поработал по этому методу, выделил и свел все к простым исходным основаниям, а оттуда все вытекает теоретически. Но в художественных текстах фактически заложены такие рисунки поведения, которые, если бы раскрыть как они там построены, трактовать психологически, так не надо много экспериментов на личностью. Одного хватило бы, чтобы раскрыть личность, ее проявления демонстративно. Это же художественная литература! А поскольку читал лекции по психологии, то приходилось схематизацию использовать. Используя психологические схемы, обнаруживаю в чтении схем завязку в действии пьесы. Там можно красиво реконструировать основную линию проблемных содержаний индивидуальной жизни. А потом все это мы перенесли на обыденную жизнь и поняли, если все это применить для реконструкции психологической линии классической литературы. На этом остановились, потому что надо выращивать плеяду умеющих так читать.
Вопрос: А применимо это к невербальным взаимодействиям?
Ответ: Если тип взаимодействия невербальный, то мы предполагаем, как-то ощущаем рисунок жизни человека. Этим занимались психоаналитики. Поэтому через дополнительные процедуры можно выявлять особенности жизни, рисунки сопоставлять, а потом психологические характеристики.
Вопрос: Ситуация двойного текста.
Ответ: Это проще всего. Для аналитика этот метод просто замечательный. Там все что-то говорят. А он постепенно выявляет. Но можно и дурачить людей – это опасное дело. Вернемся к нашему содержанию.
Товар – это продукт, сказал автор. Когда говорится о том, что тема – товар, тогда имеется в виду мир, подчиненный способу существования товара. Я говорю: это товар, а это мир, подчиняющийся условиям существования товара. Так и появляются науки – экономика, физика, химия...
Работая в том или ином предмете, при рефлексивной направленности, складывается версия не только по содержанию, но и об авторе. Он вообще какую-то ерунду пишет. Но это недостойный и малопродуктивный вариант. А я сразу же исхожу из установки доверия. Но лучше взять того, который считается классиком. С классиком легче всего работать. Переход от одного основания к другому у него существенен неизмеримо больше, чем у обычного. Следовательно, надо иначе на все смотреть. Обычный автор легко и случайно вводит основания. А можно ли его сделать классиком, этого обычного автора? Это сделать можно при хорошем методе. Я этого автора рафинирую и превращаю в классика. Тайна лежит в логической машинке. Но это проблемы уже иные, чем понимание.
Метод работы с текстом в абстрактном отображении прост. Но он предполагает бесконечное многообразие отдельных процедур через их типизацию, через их выращивание по ходу действия. Когда возник вопрос о перечне абстрактно-типовых мыслительных операций, которых немного, то их мультипликация, в зависимости от конкретных условий, порождает бесконечное количество реальных, а не типовых операций. Более того, мы еще будем касаться подробно уникальной логики систематического уточнения. Эта логика сама по себе вмещает все типовые операции. Через их стыковку, совмещение, конкретизацию в конкретных условиях появляется вся палитра процедур. Фактически механизм интеллекта сконцентрирован в этой логике уточнения.
И вот я сейчас подчеркну некоторые технологические ключи, ключевые указания, а затем вернусь к содержанию и постараюсь поработать с этим содержанием. При этом сменив установку с медленного введения в мир мысли и работы с мыслью к быстроте, условиям быстрейшего получения социокультурных, принципиальных результатов.
Прежде всего подчеркнем, что сама группа процедур привязана к, так называемому, конспектированию. А, если взять по рациональному составу, то это схематизация текста, поскольку схематизацию текста сразу же можно осуществить. Какие же операции бывают в схематизации? Если поставим такой вопрос, то перечислим то, что психология мышления говорит о составе фундаментальных мыслительных операций. Попробуйте нарисовать схему и вы, пусть не очень отрефлектированно, но будете иметь уже большинство процедур мышления. Вот почему схематизация удобна для проникновения в сферу мышления.
Но с другой стороны, поскольку мы помещаем это в условия коммуникации, возникает вопрос, а как устроена коммуникация? Подчинена ли она тем же типам процедур? Но и реальные процедуры в коммуникации мы можем строить, согласуясь с тем, что может дать схематизация, чтобы законны были и построение текста, схематизация текста, построение изображения, схематизация изображения. Чтобы были разные функции, в которых по-разному нужно было бы проводить схематизацию. И тогда мы получаем первый интегратор.
Поскольку мы должны еще учитывать реальных, живых коммуникантов, то процедуры модифицируются под принципы жизнедеятельности, а затем и общения, согласовательного взаимодействия.
Нельзя разобраться в том, что происходит в коммуникации, без разбора того, что заключено во внутреннем плане. А во внутреннем плане, со стороны интеллектуальных процессов, происходит построение и перестроение схем, совмещение разных схем, использование, исчезновение. Следовательно, если вы во внешнем плане оперировали, научились работать со схемами, то вы в значительной степени поймете, что происходит во внутреннем плане. Тогда появится подконтрольность развития всех интеллектуальных процессов. Это новое соображение.
Схемы применяются двояко: как средство и как отображение внешнего схеме. Мы способны менять функции схем и рефлексия этого открывает путь ко многим тайнам мышления, познания, проектирования, программирования, проблематизации и т.п., а также к тому, как устроен наш интеллект.
Если ставить вопрос о том, как осуществлять переход от схемы к схеме, как вводится содержание новой схемы, то появляется логическая тематика. Кроме того, в коммуникации нужно осуществлять все связанное с согласованием действия и рефлексии. Через рефлексивную самоорганизацию мыслетехника дает возможность создавать феномены быстрого получения социокультурно значимых результатов.
Вспомните, как мы синтезировали схемы, касающиеся предмета, продукта, труда, обмена, товара. При содержательности взгляда возникла непрерывная цепь процессов. Мы говорили, что схема утверждается как результат понимания после проверки процессуальной непрерывности. Если не удается, то придется поправляться. И вот эти поправки могут быть с помощью автора, а могут быть и без помощи автора, как особая дополнительная работа читателя. Понимающий может вырваться за пределы простого слежения за текстом. Он может много, что делать. Но, если оно продвигает процесс созидания результата понимания процессуально непротиворечивого, то все подстройки превращаются во включенные в процесс понимания.
Но автор затем делает больше фокусировку, чем просто указание о произведенном продукте, который может быть предметом потребления и предметом обмена. Он говорит: товар – это такой продукт, который предназначен не для потребления, а для помещения в обменную процедуру. Если есть пропорциональный обмен, то тогда этот результат превращается в товар. Но тогда оказывается, что это не просто товар, который находится в обменной процедуре, а ради этого стараются и заказчики, и само производство. Ну, а главное другое, что если эта характеристика произведенного не будет связана с акцентировкой внимания на обменной процедуре и судьбе того, что обменивается, тогда вся интегральная ситуация лишается авторской значимости. В том случае, если нечто существует для рынка, для обменных процедур и, следовательно, создает необходимость предпосылки для существования предметного анализа в экономике, то тогда все целое рассматривается как мир товара. Пока мы еще не встретились с миром капитала, прибыли.
Вопрос: Я вижу произвол рассуждения в отношении обмена. Вы уже перешли от понимания к критике?
Ответ: Сначала автор должен нарисовать картину мира, как основание своей фокусировки внимания. Затем он в этом целостном мире обращает внимание на обмен и на товар в процессе обмена. И говорит: вот это мне надо будет отслеживать. И тогда рынок вместе с существованием этой вещи в обменных процедурах становится не просто в зоне внимания, а все остальное анализируется в связи с обеспеченностью этих процессов, по подходу, в том числе и по проблематизации.
Автору это надо, поэтому он и говорит. Он имеет в виду весь интегральный мир в своем сознании. А говорит только лишь про что-то одно, про некоторое. Почему он говорит об этом? Это очень важно для подготовки критики.
Вопрос: В этом случае вопрос, является ли земля товаром, неуместен.
Ответ: Этот вопрос не подготовлен автором. Следите, есть процесс выражения мысли, некоторых представлений. Если долго говорить, то никогда не окончим. Тогда он выделяет главное для решения коммуникативной и деятельностной задачи. Это главное для автора, с одной стороны, подчиняется условиям коммуникации, а с другой стороны, внекоммуникативной задаче.
Вопрос: Здесь важно, что обмен является предшественником производства?
Ответ: Вы очень расширяете рамку, в которой ведется обсуждение. Мне непонятно становится, как Вам отвечать. Еще раз повторяю. Есть три равноправных кусочка. Равноправность возникает потому, что читатель еще не знает те предпочтения, которые характерны для автора. Вначале, когда он приступал к работе, то исходил из того, что первый фрагмент самый важный. Затем сложил со вторым, сложил с третьим. Возникает вопрос, а в чем мысль, в чем акценты автора? Но я обращаюсь вновь к тексту и уже на трех отрывках нахожу отрывок, который делает возможным решение этой задачи. А тогда, решив эту задачу, найдя этот отрывок, я по содержанию сравниваю со всем целым и ввожу критерии содержательной логики. Содержательно мысля, я держу продукт, произведенное, которое входит в процесс обмена. А затем смотрю, что будет в последующем, в каузальной связи. Вот и все.
Когда вы хотите поправить меня, то поправлять можно только созданную мною схему. Вы рисуете свою. Вы должны как критик, воспроизводя мою схему в точности, во вполне определенном месте перемещать стрелки или еще что-то. Точно регистрируя, что и куда вы перемещаете. Здесь крайне важный мыслетехнический момент. Чтобы провести проблематизацию, я должен начать двигаться в рамках уже готовой схемы. При этом у меня готовые соображения, альтернативные авторским. Надо в готовой схеме найти звено в процессуальном цикле, когда оно уже не совмещается с моей заготовкой. Затем я трансформирую в этой фазе. Если удается заменить тем, что не противостоит предшествующим фазам, то получаю самый легкий вариант проблематизации (стирание) и депроблематизации (перерисование). Например, произвел не для рынка. Сам себе произвел и потребляю. Удлиняется схема индивидуальной деятельности, не больше. Нет экономических событий.
Схемы деформируются под иную точку зрения. А у автора какая? У него схема включает обмен. Следовательно моя проблематизация не усиливает автора, а редуцирует. Можно и удержать то, что есть у автора. Пошел я на рынок и то, что встретил, взял с собой. Оно становится значимым с точки зрения моей потребности. Если взял просто так, то нет актуальной значимости вещи. Но закон жизни рынка все равно остается. Схема-то сохранена. Следовательно, хотя я вольно веду себя и не соблюдаю законы рынка, потенциально я уже предназначен соблюдать. Рынок своими представителями и защитниками принудят меня к соблюдению правил. В силу такого отношения появятся те звенья в схеме, которых не было. Это уже другая проблематизация, развивающая (не редуцирующая).
Вопрос: А в этом обмене законна процедура продажи?
Ответ: Вы предлагаете провести еще одну процедуру проблематизации. В реальности обмен может выступать как продажа, обмен товара на деньги. Но это эмпирия, не освоенная в схематике. Предположим, что в силу разных обстоятельств я решил произвести доски, если у меня есть лесопилка на даче. И тогда я говорю себе, что доска мне не нужна, но я все равно буду ее делать. Просто тянет реализовать возможности лесопилки. Доска мне не нужна для обмена, но я ее произвел. Но в этом случае не действует схема автора. Чтобы она действовала, требуется подобрать пример, когда доски я произвожу для обмена. Но в обмене-то есть две процедуры: одна – отчуждение товара от себя, а другая – присвоение товара. Отчуждение создает продажу, а присвоение – куплю. Конечно в том случае, если есть деньги, средства иной организации обмена. Я готовлюсь для обмена, включая и продажу. Но обмен имеет свой внутренний закон – эквивалентность. Есть ли в схеме автора эквивалентность? Нет еще. Нет надэмпирической фиксации той трудности, которая ведет к появлению эквивалентности на схеме. Тем самым, в реальности я иду на рынок и рассчитываю на эквивалентность обмена, а в схеме этого еще нет. Автор ничего не сказал и о продаже. Проблематизация возникает тогда, когда критик, взглянув в практически, приостановит слежение за обменом в тот момент, когда можно указывать на спор обменивающихся. Один говорит, что дает много, а получает мало, а другой возражает такому тезису. Надо разрешить конфликт за счет арбитража, установления пропорции. Весь этот переход следует осуществить на схеме.
Вопрос: Правильно ли я понял? Когда мы имеем дело лишь с синтезом схем, то в нем следим за вероятностным полем соединений. Возможность присоединения одной схемы к другой, исходя из каждого элемента одной схемы к любому элементу другой схемы. Этим организуется весь массив. Когда выявляем авторскую версию, смотрим какую из этих возможностей автор выбрал.
Ответ: Конечно. Мы должны идти в умственную лабораторию автора, выводить его особый вариант и находить систему ограничений на использование этой версии. А если мы это не делаем, то в этом случае создается иллюзорное понимание автора. Наши экономисты все время так поступают. Они предлагают решения, "вот это надо", забывая, что это может быть полезно только при вполне определенных условиях. А другие предлагают иное. Управленцу трудно разобраться, кто из них прав. Управленец еще не обладает культурой, чтобы воспроизвести авторские подсказки. Он не может увидеть осмысленность авторской подсказки в отличие от бессмысленности ее толкования экономистами, и он поэтому вынужден решать в зависимости от случайных факторов. Управленец не знает что делать, если он не снабжен соответствующей культурой реконструкции мысли консультантов и иных участников принятия решения, культурой проблематизации и депроблематизации.
Возвратимся к содержанию. Читаю новый фрагмент текста.
"Продукты труда становятся товарами лишь в условиях возникновения общественного разделения труда при наличии определенных форм собственности на средства производства и продукты труда". "Продукт труда становится товаром". Предполагается процесс становления, состоящий в появлении разделенного труда. Я членю текст, беря часть и отдельно читая, понимаю. Как представить себе разделение труда? Может быть, это введение в мир коопераций деятельности.
Если у нас уже есть труд или деятельность, то все, что мы раньше рисовали, сохраняется. Что здесь тогда нового, что делать в проблематизации? Найти место разделению труда. Депроблемтизация ведет к членению стрелки, означающей процесс труда. Чтобы сохранить прежнее, не редуцировать, следует членение стрелки превратить в членение деятельности, труда. В иллюстрации видим, что устав, я выключил станок, отдохнул, а затем продолжил работу. Восстановился. А затем отрефлектировал и понял, что лучше, если я не буду отдыхать, а просто передам станок другому, который в это время продолжит работу. Тогда трудятся уже двое: один на одной части, другой – на другой части. Возникает зона действия одного и зона действия второго. Но, соответственно, и содержание деятельности каждого изменится. Только часть процесса пойдет влево, а другая часть процесса – вправо. Но в целом, несмотря на то, что они уже вдвоем трудятся, это прежняя деятельность. Далее. А вдруг окажется, что даже полуфабрикат чем-то полезен кому-то. Тогда есть потенциальная возможность помещать и полуфабрикат в обмен. Для того чтобы так было, чтобы сама возможность получения разных продуктов была, для этого нужно требования к промежуточному результату несколько видоизменить – унифицировать, обеспечить их совместимость и т.д. Мы получаем, что кому-то нужен конечный продукт, а кому-то – промежуточный продукт. Следовательно, появляется не один товар, который предлагают, а два товара. Оба результаты производства.
Можно представить себе случай, когда обмен может происходить в разных вариантах. Но ведь автор не это имел в виду. Он говорил: разделение труда должно появиться. Один из вариантов и начало разделения мы рассмотрели. А, если дальше двинемся, тогда получится много таких разделений труда. Если вдруг результат одного производства уже нужен и без него не существует другое производство, появляется кооперированное производство. Тогда, например, средство, которое используется в одном месте, может быть исходным материалом в другом.
Возникают самые невероятные варианты сочетания различных видов труда. Но нужны станут и обменные процессы. Они либо технологические обмены, либо рыночные. И каждое производство может находить для себя там и присваивать то, что ему необходимо в результате обменных процедур. Следовательно, должно быть такое количество деятельностей, чтобы каждая деятельность не приостанавливалась благодаря другим деятельностям. Возникает социально-производственная кооперация в целом.
Мысль автора состоит в том, что многообразие производств обеспечивает существование и развитие рынка. Как вы видите я рассмотрел разделение труда отдельно и в процессуальном конструировании зашел весьма далеко. Автор об этом не писал еще, я не прочитал. Но можно уже вводить гипотезу о том, что стоит за его словами. А потом проверять на совместимость с прежним. При этом автор иерархизирует отношения производств и рынка. Разделение труда – причина, существование товаров – следствие. Прежние схемы позволяют прояснить это утверждение. Обмен был и раньше. Продукты обменивались. Множество продуктов и спроса, потребностей – условие обмена. Но в реальности обмениваться можно не только произведенным, а тем, что есть. Так как автор с товаром связывает именно различные производства и кооперации, то обмен найденным не рассматривается как обмен товаров. Особое отношение к произведенным продуктам становится авторской точкой зрения. Более того, добавляется еще и форма собственности, особые типы форм собственности на продукты и средства деятельности. Следовательно, не в первых фрагментах лежит основание точки зрения автора, а в последующих фрагментах. В распределении труда, в обладании особыми формами собственности. Если разделение труда локально деформирует полученный ранее образ и схемы, то форма собственности резко усложняет понимание, вводит новые глобальные различения. Их еще следует ввести. При этом осуществив предварительно проблематизацию прежнего результата понимания как целостности, так и акцентировки автора.
Что я сейчас делал? Я сделал усложнение схемы производства, мультипликацию производств, совмещение мультиплицированного производства в единый производственный комплекс и, следовательно, по содержанию резко усложнил объект мысли. А по функции все оставил прежним. Какое бы сложное производство не было, оно должно обеспечивать обмен.
Вопрос: Потребность человека и производства введены и это смещение произошло незаметно.
Ответ: А я это сделал заметным. Я стал преувеличивать значимость анализа кооперированного производства. Почему? Автор заставляет, акцентирует. Продукты труда становятся товарами лишь в условиях общественного разделения труда. Следовательно, автор говорит: хватит вам заниматься индивидуализированной жизнью. Нужно вот чем заниматься. производством. Вот оно какое сложное. Он заставляет меня переносить акцент на производство.
Вопрос: Вы ввели определенный тип кооперирования.
Ответ: Для мысли не имеет большого значения на каком варианте представления социальных коопераций остановиться. Я использовал семиотический конструктор в рамках своего языка теории деятельности. Вариантов может быть много.
Акцентировка автора была на обмене продуктами труда. А обмен откуда появился, зачем он нужен автору?
Автор делает акцентировку на рынке и вроде бы тогда возможны любые варианты рассуждений о развитии рынка. А в другом случае автор берет и акцентирует внимание на зависимости рынка от производства. Тогда он суживает понимание рынка. Превращает рынок в служанку производств. Варианты могут быть, в зависимости от них будет либо подтверждение начальной гипотезы, либо ее опровержение.
Проблематизацию введя, могу потом ее проверить. Она вытекает из рисунка.
Для философского обобщения достаточно взять генетически первичное звено 1, генетически вторичные 2 и 3. То тогда рассматриваю существование первого компонента в зависимости от условий, ведущих к появлению вторичных, третичных компонентов. Если я искусственно изолирую второе звено от третьего, предполагая их зависимость от первого. Тогда для целого это приведет к инвалидизации по сравнению с прежним. Мне придется автору сказать, что первый вариант схемы, который я рисовал, уже перестает быть основополагающим. А бывший частный случай становится фундаментальным?
Вопрос: Вы теперь уже встали в позицию критика?
Ответ: Это предкритика. Я могу сказать автору: скажите, пожалуйста, из всех возможностей Вашего содержания, которое Вы предложили до Вашей акцентировки, Вы выбрали вот это? И, тем самым, как бы вытесняете какие-то возможности. Я Вас правильно понял? Он говорит: "Вы правильно меня поняли". Я говорю: А нельзя ли расширить объем и для всей системы сохранить фокусировку? Он тогда скажет "Это тогда не моя будет мысль. Я не это хочу". Я говорю: "Ну, ладно. Тогда утеряна возможность". А, если он говорит: "Я хотел, но не получилось". Тогда я помогаю ему выйти на весь объем. Он доволен и я доволен и мысль пошла вперед. Вот эти варианты критики являются исходными для коммуникации. А все остальное – вторично. Тем самым, как только выявлен весь объект для мысли, то возможна систематическая линия для выхода на критику.
Методологически это то же самое. Когда читаешь методологические труды, имея целостность, замечаешь, что наши методологи часто фокусируют, не замечая остальное. Говорят от имени методологии, а имеют в виду ее часть. Когда говоришь: "Что вы делаете, не хотите ли сказать, что все остальное надо стереть, чтобы ваша версия методологии работала?" Либо он осмысленно это делает и говорит: "Да". Либо он говорит: "Да, нет" и начинает колебаться.
Я предполагаю, что по содержанию мысли вы достаточно легко поняли, о чем ведется речь. И сейчас важно, с одной стороны, лейтмотив развертывания содержания и оставленный без внимания ряд тонкостей, которые я в иллюстрациях проводил. Одна из тонкостей. Что означает синхронизация и канонизация между рынком и динамикой развивающегося производства? В каких условиях динамика развивающегося производства не дестабилизирует рынок и удерживает рыночность на соответствующем уровне, а может быть, даже его укрепляет и развивает? Если учесть, что производство имеет свою нишу жизни и соответствующая кооперативность может привнести необходимость производств без учета рыночных отношений, то дестабилизация в экономике смоделирована достаточно.
Я уверен, что эти задачи ставились и решались. Я думаю, никто не избежал. Особенно в развитых странах. А мыслетехнически – маловероятно. Это особая тема и она требует подготовки экономистов, соответствующей подготовки маркетологов".
5 Логические факторы МРТ
5.1 Логико-мыслительный тренинг
(на материале акмеологии и психологии)
Цель: приобретение первичных умений, рефлексивных знаний и критериев, характерных для теоретического мышления на материале понятий и концепций акмеологии.
Форма процедуры: тренинг, включающий элементы игры.
Участники: психологи, иные специалисты, включая управленцев, аналитиков и исследователей, включенных в процесс изучения теоретической акмеологии, а также в совершенствование профессиональных навыков, развитие профессиональных способностей к научной и аналитической деятельности.
5.1.1 Концептуальная основа мыслетренинга
Теоретическое мышление включено в процесс создания, критики и совершенствование научных и философских теорий, а сам этот процесс – в целое организованных (научных и философско-методологических) форм исследования. Кроме того, теоретическое мышление, как специфическая форма организованного мышления, в значительной части переносима в процесс использования теорий в рефлексивной практике, в частности, в аналитике, экспертизе, консультировании.
Одной из наиболее значимых форм аналитики и консультирования, а также всей рефлексивной работы, выступает разработка и принятие управленческих решений, высшие уровни которых предполагают оперирование понятиями, концепциями, теориями, онтологическими конструкциями. В наибольшей степени это касается фазы постановки и обоснования проблем, а также разработки стратегий. Поэтому способности, возникающие в ходе овладения профессионализмом теоретического мышления и вообще культуры мышления, становятся надежной опорой в осуществлении всех сложных форм рефлексии, аналитики, проектирования, прогнозирования и др.
Организация теоретического мышления достаточно редко становится предметом внимания даже в практике научных исследований. С другой стороны, методологическая практика резко увеличила объем тех мыслительных процедур, которые характерны для теоретического мышления, а сами методологические процедуры быстро проникают в наиболее сложные формы рефлексивной работы, особенно в "проблематизации". Наиболее масштабные объемы подобного мышления проникли в игровое моделирование, активные формы экспертизы и консультирования, аналитики. В зависимости от внедрения игромоделирования в учебные процессы и внесения критериев и ценностей мыслительной культуры в учебную коммуникацию многие моменты теоретического мышления можно заметить в практике обучения и образования в целом.
Теоретическое мышление выделилось в предмет особого анализа, прежде всего, в немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель), хотя предпосылки этому возникли гораздо раньше, например, в связи с особым подходом к дискуссиям и выработке арбитражных средств у Сократа, а затем Платона, Аристотеля и др. Кант и Фихте поставили вопрос о наиболее значимых условиях возможности специфически "философского", "метафизического" мышления, определяющего подход к познанию "сущности", в отличие от знания и познания "явлений". Они подчеркнули, что это возможно лишь на базе "дополнительного" к обычному развития "сознания" внутреннего мира, в частности рефлексии.
Это развитие, как показал в своей системе Гегель, предполагает преодоление субъективной заинтересованности и случайности в порождении знаний, переход от "субъективной логики" к "объективной", а затем "абсолютной логике". Формой такого мышления выступил "метод", который Гегель называл "абсолютным", собственно научным, могущим полностью быть развернутым в философском мышлении.
Маркс воспользовался идеей метода и это привело его к созданию экономической теории как демонстрации "метода Маркса". Специфические черты этого метода подвергались осмысливанию в основном в марксистской линии философии, опираясь на высокую оценку Марксом, Энгельсом, Плехановым, Лениным "метода Гегеля".
В русле следования содержательной стороны метода проявились такие философы как Э.В. Ильенкова со стороны формы метода – такие, как А.А. Зиновьев, М.К. Мамардашвили, Г.П. Щедровицкий и др.
В конце XX в. Анализ формы метода был вытеснен из магистральной линии интересов логиков и философов и, в некоторой степени, сохранялся интерес к содержательной стороне в рамках "диалектического мышления", например, у В.В. Давыдова.
Однако сама практика развития науки, в том числе и гуманитарной, заставляла обращать внимание на теоретические дискуссии, выработку "новизны" в теории, ее обнаружение, особенности в связи с экспертизой диссертационных разработок, прежде всего – "докторского уровня". Трудности выявления новизны, организации процедур теоретической проблематизации и депроблематизации, введения критериев организации этих процедур и др. подготавливали условия "возврата" в логико-семиотическую тематику и анализ имеющихся результатов логических разработок, философских оснований для них.
Иногда появлялись попытки выделения собственно теоретических слоев научных результатов и механизмов их порождения. Примером могут служить работы А.А. Зиновьева ("Логическая социология" 2002 г.) и А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского ("Основы теоретической психологии", 1997 г.).
Однако, если А.А. Зиновьев в качестве основания содержательной конструкции кладет большую развертку "комплексной логики", свою версию логико-мыслительной формы, ее основ, то А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский остаются в рамках содержательной акцентировки. Поэтому они не входят в плоскость механизма теоретического мышления и, следовательно, возможности формировать механизм теоретического мышления.
Методологические попытки вернуться к проблемам "метода" со стороны формы теоретического мышления оказались мало результативными и, в значительной мере, формалистичными, хотя и этот "формализм" отличался от гораздо более масштабного формализма в "формальной логике" и, тем более "математической логике".
Считалось даже, что невозможно совместить и гармонизовать "логическое" и "онтологическое" начала раскрытия метода (например, Г.П. Щедровицкий). В середине и конце 70-х гг. XX в. в Московском методологическом кружке была проведена серия дискуссий по этой проблематике. В ее ходе усилия по сохранению опыта Гегеля, совместившая акценты (О.С. Анисимов) были подвергнуты Г.П. Щедровицким жесткой критике, приводившим в качестве примера "несуразности" само название труда Гегеля – "наука логики". В то же время ряд основных проблемных точек в этой тематической линии удалось сделать раскрытыми благодаря совмещению возможностей семиотики, схемотехники, особенно – использование схематических изображений, и логики при организующей роли методологической рефлексии (О.С. Анисимов).
Теоретическое мышление предполагает особую форму синтезирования единиц теоретического содержания. Поэтому начальной предпосылкой теоретического мышления выступает "введение единиц" или, как отмечал Гегель, введение абстракций. Он включал три базисные характеристики "подлинного" мышления – абстрактность, диалектичность и спекулятивность. Третья характеристика является специфичной для теоретического мышления, а первые две – предпосылочными.
Функционально-логическая структура введения единиц или "суждения" включает в себя "субъект" мысли", "предикат" мысли и "отождествление" предиката с субъектом.
Иначе говоря, абстракция отождествляется с тем образом, который дает первичное представление о чем-либо, "конкретным". Такая единица процесса мышления называется суждением (см. сх. 1).
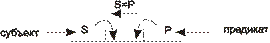
Схема 1
В том случае, если предикат подобран неправильно или он недостаточен, то осуществляется процедура "разотождествления" с последующим подбором или синтезированием прежнего и нового предиката. Разотождествление соответствует функции "проблематизации", если субъект мысли "заставляет" перестраиваться предикат мысли. В связи с этим выделяются процедуры опознавания сохраняемой и несохраняемой частей прежнего предиката, а также поиск той дополнительной части будущего единого предиката, которая нужна для приведения предиката в соответствие с субъектом мысли (см. сх. 2).
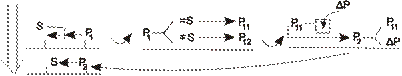
Схема 2
Переход от предиката "первого" к предикату "второму" или "иному" Гегель называл второй стороной мышления – "диалектической". Именно переходы от предиката к предикату "динамика мысли" составляют основу логической формы при наличии самих актов использования предикатов в отождествлении ("статика мысли").
Теоретическая форма переходов от предиката к предикату, которую Гегель называл "спекулятивностью" в мышлении, предопределена особенностями научного познания.
В научной организации познавательного процесса важнейшей ценностью является приходимость к "истинным" воззрениям, выражающими наиболее неслучайное отражение реальности. В связи с этим производится переход от "случайных" воззрений, зависящих от исторических условий и специфичности исследователя, применяемых им средств и способов, от "мнений" к альтернативным воззрениями, к преодолению случайных факторов на пути к "истине".
Процедурно это связано с переходом от созерцательного, регистрационного подхода, фиксации эмпирических данных и т.п. к их мыслительной обработке, обобщениям, в результате которых и возникают прототипы теорий. "Технологически" это означает, что сначала появляются эмпирические тексты ("описания" и т.п.), а затем строятся заместители этих описаний, тексты иного типа, выражающие результаты обобщения (см. сх. 3).
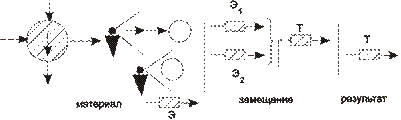
Схема 3
Содержательно результаты обобщения должны вести к максимально неслучайным взглядам на объект познания, выражать "сущность". Вторично появляется необходимость соотнесения результата обобщения с первичным материалом. И тогда воссоздается логическая форма, в качестве наполнения субъекта мысли в которой предстает эмирический текст, а в качестве предиката мысли – теоретический текст, вместе с выраженностью или содержаний в рамках применяемого языка. В связи с этим и появляется требование к теоретическому мышлению как конструирующему теоретическое замещение или теоретический текст.
Если эмпирический текст опирается на созерцание как переход от одного замечаемого в проявлении объекта к другому в замечаемом, то теоретический текст идет не от внешней регистрации, а от внутреннего принципа. Эмпирическому тексту присущ логический принцип "дополнительности" ("еще то, что удалось увидеть, зафиксировать"). В теоретической работе применение принципа дополнительности обслуживает лишь возможность структурного конструирования идеального объекта. Но в связи с раскрытием глубинных причин явлений, причин бытия, причин проявлений того, что существует, при раскрытии свойств идеального объекта само по себе введение "элементов" идеального объекта и их совмещение не отвечает на вопрос о причинах. Аристотель считал, что знание причин и есть научное знание.
Чтобы раскрыть причины и устранить конструкторский произвол познающего мыслителя выделился принцип "самопорождения".
В рамках идеального объекта предполагаются процессы самопорождения или появления того, что мы "познаем" из недр предшествующего состояния, а не в конструкторском полагании теоретика.
Здесь и заключен "парадокс теоретического мышления", раскрытый и преодоленный Гегелем. Теоретик является конструктором теоретического текста. Но он так должен конструировать теоретический текст, чтобы в его содержании был ответ на вопрос о том, как мог появиться "изучаемый" идеальный объект.
Следовательно, в содержании теории должен быть этап введения "нулевого состояния", когда еще нет объекта, но есть "среда", из которой он может появиться. А затем как бы показывается весь путь появления, трансформаций, развития, исчерпания потенциала развития и переход в иное бытие. Эта необходимость, обеспечивающая ясность пути объекта и внутренних причин трансформаций, следовательно, и раскрытия свойств, специально для теоретического мышления.
В рамках показа пути произвол конструктора как бы исчезает и объект самодвижется, исчерпывая внешние и внутренние возможности. В философии и методологии такой заказ на теоретическое конструирование был назван "псевдогенетическим подходом" в теоретическом мышлении.
Исходя из подобного заказа сам теоретик начинает задавать себе типовые вопросы и к построению текста, подбору или созданию предикатов, их синтезированию, и к выраженности содержаний, относимых к идеальному объекту. Псевдогенетический подход и связан с третьей особенностью теоретического мышления по Гегелю – "спекулятивностью" мышления.
Предполагается, что предшествующий предикат отражает предшествующее состояние развитие "объекта". Поэтому он не заменяется на новый, иной предикат, а сохраняется. Но при переходе к "показу" нового состояния развития вводится тот предикат, который отражает появление новых качеств из недр прежнего состояния, показывает цикл разотождествления прежнего состояния на сохраняемое прежнее и возникающее новое, опирающееся на прежнее.
Новый предикат показывает специфическое в новом состоянии и его возникновение по принципу "самопорождения", хотя и в "благоприятных" условиях для этого.
Данный цикл и был подчеркнут, в содержательном плане, в марксистской диалектике. Осуществляются два "отрицания" – первое, связанное с отходом от прежнего состояния развития, и второе – приходом к новому состоянию развития. Первое отрицание готовит почву для второго и дестабилизация объекта завершается стабилизацией на новом уровне. Предикаты синтезируются теоретиком в рамках нового принципа "уточнении", а в марксистской диалектике и логике он получил название "восхождения от абстрактного к конкретному" (см. сх. 4).
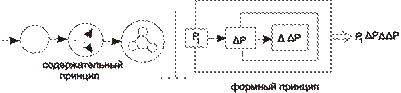
Схема 4
Уточнение, как конструкторская уловка, выражает появление тех содержаний, которые трансформируют прежние и превращают их в предпосылку, а сами приобретают статус специфических для нового уровня развитости. Технологически это же означает необходимость введения тех предикатов, которые бы отражали специфику нового уровня развитости того же самого. Для достижения теоретического успеха следует доказать различие уровней, специфичность черт прежнего и нового уровней, переходимость к новому уровню и "неизбежность" переходимости при фиксируемых условиях в самом идеальном объекте и его окружении. Теоретик может ошибиться, обращая внимание на арсенал своих предикатов. Эмпирический материал помогает подобрать нужный предикат (см. сх. 5).
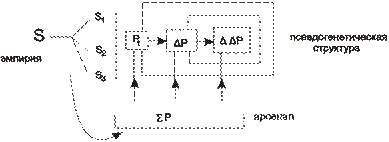
Схема 5
Теоретическое мышление "универсально" и не зависит от особенностей того или иного научного предмета, области знания. Если человек овладевает этим типом мышления, то ему легче "перемещаться" в пространстве содержаний и он готов к встрече с ними.
Содержания выступают в роли "наполнения" готовой формы. Но это касается общего принципа развертывания мысли теоретика. При конкретизации формы и зависимости от ценности содержательности начинают возникать и различия в теоретическом мышлении представителей различных наук.
При рассмотрении реального теоретического мышления важно учесть роль самого теоретика и способ его пребывания в теоретическом мышлении. Прежде всего, это касается его самоорганизации, совмещения мыслительных действий и рефлексии мыслительных действий, следовательно, реконструкция процесса "действования", выявления затруднений и их причин, включая субъективные, индивидуализированные причины, критики прежнего способа мыслительного действия и выработки коррекции способа мыслительного действия, перехода к реализации нового способа действия (см. сх. 6).
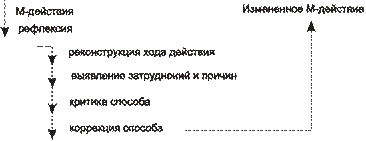
Схема 6
При акцентировке на способности и характере их проявления возникает перспектива совершенствования теоретического мышления за счет дополнительных усилий, направленных сначала на коррекцию проявлений способностей, а затем и самих способностей.
Проявления способностей легко фиксировать и корректировать благодаря их внешней представленности, а сами способности принадлежат "внутреннему" миру субъективности и целостности устройства человека. Они могут корректироваться лишь косвенно. Если внешние проявления позволяют ставить конкретные действенные задачи, то внутренние способности предполагают переход от решения первоначальной задачи к фиксации затруднения в решении задачи, к рефлексивному выявлению причин затруднения. Именно на этом пути в ходе построения рефлексивных версий, их концептуализации вводятся версии актуального состояния способностей, перспектив их изменения и перехода на новый уровень. Затем версия перехода конкретизируется в терминах проявлений способностей и оформляется в технологическую норму. В зависимости от "легкости" реализации технологии или специализированной задачи делается вывод о реальном приобретении нового уровня способностей (см. сх. 7).
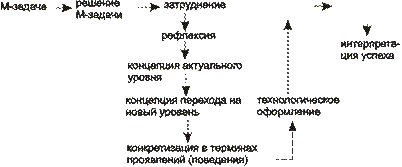
Схема 7
При нерешении задачи осуществляется рефлексивный анализ, акцентированный на причины неудачи и, прежде всего, на выявление правильности постановки задачи на переходимость способности на новый уровень, поскольку задачи на переходимость опосредованы группой задач или технологий корректирования внешних проявлений, то сами "задачи" расслаиваются на собственно задачи, обращенные на проявления и их коррекцию, и "метазадачи", обращенные на коррекцию способностей (см. сх. 8).
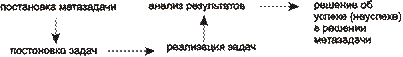
Схема 8
Мы видим, что проектирование коррекции и развития способностей исходит непосредственно не из слежения за проявлениями, доступными наблюдению, а из концептуальной версии динамики изменений, реальной и возможной, способностей и внутреннего мира в целом. Между проектированием коррекций способностей и проектированием внешнего плана действий, поведения должны быть налажены мыслительные переходы. Это же касается и прогнозировании++--------я, и исследовательских реконструкций.
Логическая форма в рамках идеи "систематического уточнения" может быть использована для формулирования ряда типовых логических задач. Учитывая вышесказанное, мы фиксируем наиболее принципиальные задачи, располагая их по уровню сложности. Самым простым типом задачи выступает соотнесение субъекта и предиката при консервации предиката, что соответствует известному "подведеиию под понятие".
Затем соотнесение подчиняется установке на консервацию субъекта мысли. В этих типах задач предполагается функциональная нагрузка коррекции либо субъекта мысли, либо предиката мысли (см. сх. 9).
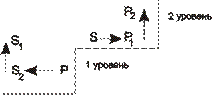
Схема 9
Первый тип задачи характерен для "подтверждения теории", а второй – для "опровержения теории", а также, соответственно, для "коррекции" эмпирического материала и для коррекции содержания теории.
Второй тип задач членится на "более простой" вариант корректирования, соответствующий логическому принципу "дополнительности" и на более сложный "вариант", соответствующий логическому принципу "уточняемости" (см. сх. 10).
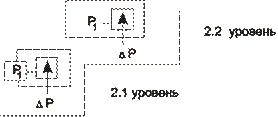
Схема 10
Следование принципу дополнительности характерно для изучения функционирующих "объектов", а следование принципу уточняемости характерно для изучения развивающихся "объектов". С другой стороны, следование принципу уточнения, как сказано выше, и присуще "псевдогенетическому методу" или собственно теоретическому мышлению. Иные принципы являются факультативными или служебными для теоретического мышления. Тем самым, с точки зрения логических форм путь становления теоретического мыслителя состоит, в простейшем различении, из обучения решению логических задач последовательно 1, 2.1, 2.2. уровней.
Однако сама возможность решения логических задач, а затем и связанных с ними проблем (в корректировании субъекта и предиката мысли) предполагает сформированность способности к правильному вовлечению субъективных механизмов к тому, что требует логическая задача. Это касается механизмов ощущения, восприятия, памяти, воображения, внимания, а затем и тех "мыслительных" механизмов, которые возникают вместе с овладением языка (сначала "родного", а затем иных).
На этом фоне выделяется необходимость сравнения "образов" двух типов – первичного (восприятия, воображения) и вторичного (языковых значений, понятий, категорий и др.).
Для того чтобы соответствовать требованиям логических задач следует внешне, насколько это удается, зафиксировать содержание образов, выразить их семиотические значимыми средствами.
Наиболее "удобный" тип выраженности для теоретического мышления – "схематическое изображение". Его преимущество состоит в совмещении средственно-формной и содержательной функций, так как схематическое изображение своей структурой воспроизводит структуру объекта, в той или иной степени. Менее выгодны "структурно-логические схемы", но и они обладают рядом мыслительных удобств. Поэтому типовой вариант организации процессов мышления в решении логических задач и проблем опирается на соотнесение структурно-логической схемы, в роли которой часто выступает" конспект", и схематического изображения (см. сх. 11).
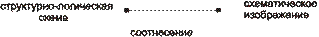
Схема 11
В тоже время, структурно-логические схемы или даже словосочетания, фрагменты текстов, выражают самое различное содержание по уровне определенности, однозначности, абстрактности или конкретности, а схематические изображения, привлекаемые в функции предикатов мысли должны выражать содержания с максимальной определенностью, однозначностью, а также быть абстрактными, более высокого уровня абстрактности, чем субъект мысли. Это особенно важно в теоретическом мышлении (см. сх. 12).
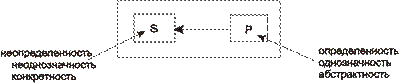
Схема 12
Поэтому соотнесение содержаний различного типа сопровождается не только корректным сохранением специфичности каждого типа содержаний, но и осознаванием различия и условности отождествления. При организации соотнесения одним из важнейших объектно-онтологических требований является соблюдение принципа "параллелизма" в считывании знаково-символических структур субъекта и предиката. "Параллельно" прочитывается процессуальная цепь в "реальном" и "идеальном" объектах (см. сх. 13).
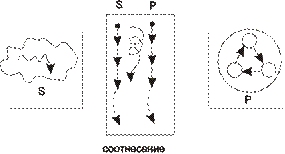
Схема 13
Результатом соотнесения выступает либо установление полного параллелизма, когда в объектах выявляются все звенья и процессуальные переходы, либо неполный параллелизм, когда выявляется либо "пропуски" в субъекте, либо в предикате мысли. А основе выявления "пропусков" осуществляется критика неполноты. Если неполнота является неоправданной с точки зрения "эталонов" полноты в субъекте или предикате мысли, то фиксируются места для "пропущенного", что и составляет либо эмпирическую, либо теоретическую проблематизацию (см. сх. 14).
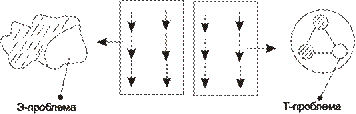
Схема 14
Теоретическая проблематизация разделяется типологически на "эмпирическую" (под влиянием неучета эмпирического материала) и "метатеоретическую" (Под влиянием метауровней теоретического рассмотрения, в том числе философско-онтологического).
Во втором случае предполагается использование "замещений" более абстрактного уровня и само построение этих абстракций, за счет применения парадигмы понятий и категорий языка метауровня (см. сх. 15).
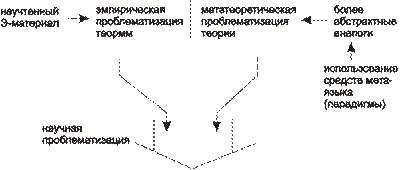
Схема 15
Проблематизация в теоретической плоскости может происходить и в ходе соотнесения или даже взаимной критики носителей различных теорий "одного уровня". Но она лишь начинается в пределах одного уровня, а неслучайный характер проблематизации осуществляется только в ходе "наложения" эталонного, более абстрактного заместителя на критикуемую теорию. Чаще всего в теоретической практике все это не выявляется, не различается, не придается значимость подобным акцентам, и вся мощь логики и методологии, в том числе и философии остается неучтенной.
Причина состоит, прежде всего, в крайне слабой рефлексии самого теоретического мышления, его механизма при абсолютном преобладании акцентировки на "результат", предлагаемое содержание, теоретического положения.
Все формы проблематизации и депроблематизации должны быть рефлексивно осознаваемыми и контролируемыми, достаточно легко переводимыми в корректирование. В центре внимания лежит выраженный в знаковых и символических средствах объект.
Результатом проблематизации выступает выявление или создание "места" для иного или нового содержания мысли, отвечающей на запрос об устройстве и бытии объекта, а результатом депроблематизации – введение "наполнения" в фиксированное место, ответ на вопрос – "что именно еще должно быть в системе объекта, чтобы его отражение было полным?"
С точки зрения схематического изображения, как наиболее удобного типа средств решения подобных задач, это означает введение иных или новых звеньев схемы.
С другой стороны, чтобы поставленная задача решалась успешно необходимо, чтобы изобразительные средства, графические схемы, их единицы могли достаточно свободно субъективно интерпретироваться как "части объекта", их проявления, процессы и т.п., т.е. объектно-содержательно (см. сх. 16).
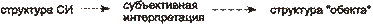
Схема 16
Субъективные трудности в решении задач на "проблематизацию" и "депроблематизацию" чаще всего связаны с неразвитостью механизма объектной интерпретации, не позволяющей "видеть" объект непосредственно, идти в мысли в строгом соответствии с динамикой бытия объекта. Тем более, что между составом схем и структурой и системой объекта нет полностью адекватного соотношения и полной "параллельности" в силу особой способности видеть объект "во всей полноте", тогда как любая схема фиксирует лишь какую-то часть объектного содержания.
Условность тождества является неизбежностью, но она не мешает "доверять" нашим представлениям о мире. Спецификой теоретического мышления является то, что теоретик должен осознавать эту изначальную относительность и максимально минимизировать реально различие между непосредственным выражением средствами схемы "объектного" содержания и предполагаемым выражением (см. сх. 17).
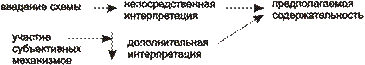
Схема 17
Если в обычной интеллектуальной практике участие субъективных механизмов в создании дополнительного объема объектного "содержания" остается неосознанным (подсознательным), то теоретик это дополнение должен контролировать и корректировать.
Теоретик должен строго и определенно ответить на свои и со стороны – вопросы, касающиеся устройства объекта, опираясь на схему, объектно прочитывая схему (см. сх. 18).
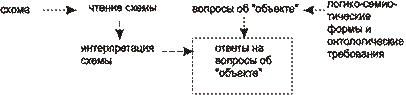
Схема 18
Субъективная подготовка к осуществлению подобных процедур предполагает преодоление неконтролируемой динамики "течения ассоциаций", выращивание абстрактных замещений чувственных образов реальности на основе использования языковых средств, рефлектируемое осознавание и владение содержанием "абстрактных образов", превращение их в средства решения различных мыслительных задач и проблем.
Иначе говоря, оперативная, манипулятивная способность, возникающая в ходе усвоения языков в плане средств языка, должна распространиться и на семантику языка, на план содержания языка (см. сх. 19).
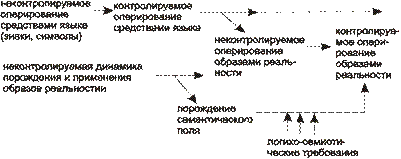
Схема 19
В теоретическом мышлении первичный "чувственный" материал образов (Е-образы) и результаты семантических порождений в ходе усвоения языка (ЕИ-образы) рассматриваются в качестве материала для появления собственно теоретических образов (ИЕ-образы) с помощью специальных средств языка высокого уровня абстрактности (И-образы).
Так как форма движения теоретической мысли соответствует логике систематического уточнения, то возникает типология ИЕ-образов, включающая исходное "категориальное понятие", "понятие" и "категория" в зависимости от логической функции в "уточнении" (см. сх. 20).
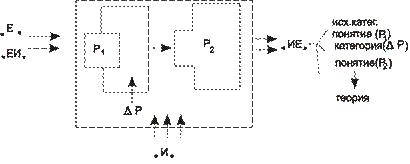
Схема 20
В логике "восхождения" категориальное понятие часто называлось "исходной клеточкой", начальное стояние развития "нечто".
Категории характеризуют специфическое в каждой стадии развития "клеточки". "Понятие" меняет свое содержание в зависимости от числа уточнений и в конечном звене оно становится "теорией".
Научных исследованиях сложилось два уровня и масштаба осуществления работ – "кандидатский" и "докторский". Поэтому можно ввести критерий разделения теоретической проблематизации в кандидатских и докторских разработках.
В первом варианте основным становится доопределение категорий и понятий, уточнение понятия, тогда как во вторых – основным выступает переопределение исходного предиката (см. сх. 21).
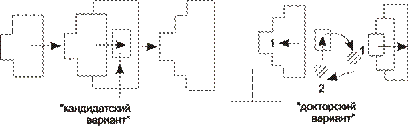
Схема 21
Масштабы проблематизации в обоих случаях могут быть также различными и их можно организованно оценивать, если вводить логико-методологическую основу в процесс реконструкции теоретической инновации.
5.1.2 Процессуальная организация мыслетренинга
Мыслетренинг предполагает достаточно глубокую мотивационную основу и, следовательно, включает этап самоопределения в пространстве тренинга.
Если "мотив" возникает в ходе потребностной оценки предмета, претендующего или который рекомендуют в качестве "предмета потребности", то самоопределение относится к числу более высокого уровня механизмов мотивационного типа.
Самоопределение опирается на пройденность пути в "социализации", а также включенность в процесс "окультуривания", на возникшие механизмы сознания и самосознания, мышления, рефлексии, воли и др. поэтому мотивационный цикл здесь включает построение двух типов образов "Я" и их соотнесение с установкой на совмещение:
· Построение образа "Я" – "желающее";
· Построение образа "Я" – требующее"
(на основе понимания нормы);
· Соотнесение образов "Я"
(желающего и требующего);
· Фиксация наиболее значимого из этих образов;
· Коррекция содержания образа менее значимого "Я";
· Приведение в соответствие двух типов образов.
Требовательные содержания носят логико-семиотический характер, и на их базе строится "Я" – "требующее" для решения логико-семиотической задачи. Поскольку для построения этого образа необходима достаточно большая компетентность в общей психологии и в более специальных разделах психологии интеллектуальных проявлений психики, а, тем более, в логике, философии, семиотике, культурологи, методологии, то первоначальное понимание требований логико-мыслительных задач будет обладать большой неопределенностью и случайностью. Не менее случаен образ "желающего" "Я", так как приступающие к тренингу могут (и имеют) иметь незначительный опыт организованной рефлексии с субъективной акцентировкой.
Следовательно, мотивационно-самоопределенческая фаза тренинга предполагает достаточно случайный результат и процесс.
Преподаватель дает возможность проявиться актуальному, сложившемуся уровню самосознавания и понимания требований задачи, а затем оценивает такое проявление с точки зрения эталонного образа "Я" – "требующее" и образцов образов "Я" – "желающее", вырабатывает воздействия с целью корректировки этих образов в рамках принципа "зоны ближайших изменений" в направленности на адекватность введенной задаче и реализма самопознания (см. сх. 22).
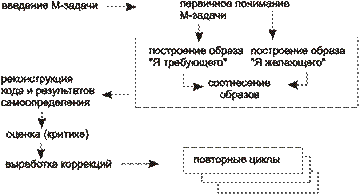
Схема 22
Входя в пространство решения задач, вытекающих их структуры тренинга, обучаемый встречается с вполне определенными требованиями, ведущими его по линии освоения логико-семиотической основы теоретического мышления. Данная линия включает в себя этапы:
1. Понятийной квалификации материала воззрения по теме