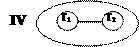Подобная цепь возможностей дает перспективу организации процессов перехода от понимания к критике точки зрения автора, а также перехода от реконструкции содержания к реконструкции хода мысли автора.
Чем более "жестко" проводится логический принцип уточнения, тем легче осуществить проверку гипотез о роли последующих отрывков по теме, их принадлежности исходному основанию мысли автора и локализуемости в едином результате.
Использование логических принципов совместно с применением и построением схем создает не только предпосылку осознанного прихода к конечному результату, но и раскрытия самых сложных содержаний автора, а также привнесения в работу с текстом исходных форм культуры мышления, овладения всеми типовыми мыслительными процедурами. Быстрота овладения зависит от уровня вовлеченности рефлексии, ее качества. При этом в ходе рефлексивной самоорганизации можно вводить рефлексивные тексты и их соответствующий анализ, постепенное "очищение" от случайностей рефлексивных содержаний за счет схематизации и логизации анализа текстов (см. сх. 12).
текст первичное

 автора понимание
автора понимание



 построение схематизация
построение схематизация

 схематизация рефлексивных
схематизация рефлексивных
 текстов логизация
текстов логизация
 логизация
логизация
решение
решение рефлексивных

 задач понимания задач
задач понимания задач
ускорение и
углубление
понимания
Схема 12
Основной вклад в устранении случайных фрагментов текстов и "очищении" версий понимания основных фрагментов вносит применение логического принципа уточнения. Оно также ведет к нарастающему ускорению получения конечного результата. Однако для реального воплощения такой возможности требуется предварительная работа по введению все более абстрактных исходных содержаний (категориальных понятий), так как они и конкретизируются в ходе построения вторичного ("выпрямленного") текста как результата понимания (замещения авторского текста). Конструирование подобного текста и его схемных замещений составляет базу всей работы в понимании (см. сх. 13).
текст набор фрагментов построение логическая


 автора по теме схем для цепь схем
автора по теме схем для цепь схем
 основных
основных
фрагментов
логическое
разделение
результат схем

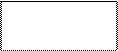 вторичный исходная Þ последующая
вторичный исходная Þ последующая
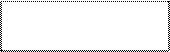

 текст
текст
<выпрямленный> уточняющая
Схема 13
Вместе с необходимостью выявления и контролирования исходных схем и их описаний (категориальное понятие), опираясь на которые идет введение конкретизирующих схем и их описания (категорий) и получение конкретизированных схем и их описания (понятий) происходит изменение и содержания сознания, а затем и самого сознания, через посредство рефлексивного сопровождения процедур. В сознании рождаются абстрактные смыслы и абстрактные значения (подлинные значения), выступающие в мышлении в различных логических функциях (см. сх. 14).
первичное понимание
 |
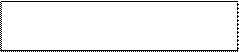
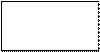 схематизация выделение оформление
схематизация выделение оформление


 абстрактных как абстрактных
абстрактных как абстрактных
логизация смыслов значений
работа с текстом расслоение содержаний
 в сознании
в сознании
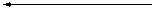
 вторичное понимание
вторичное понимание

результат
Схема 14
Трансформации в сознании, содержательные и структурные, подстраиваются под требования логической формы и формы рефлексивной работы. Но этот процесс протекает наиболее трудно, так как меняет внутреннюю предпосылку, механизм всей мыслительной работы. Подобный развивающий процесс превращается затем в основу указанного выше ускорения получения конечного результата и приобретения не только эффективности, но и качественности результата.
Вместе с приобретением новой способности (наличия оперирования абстракциями – понятиями и категориями) открывается путь от понимания не только к обоснованной критике, но и к арбитрированию фиксированных точек зрения. Поскольку арбитражная функция является основой развивающего воздействия на первоначальные попытки совершенствования авторской мысли, то этим читатель приобретает способность совмещать все типовые мыслекоммуникативные функции (понимания, авторского самовыражения, критики и арбитрирования) в едином механизме развития мысли автора. В роли автора читатель может стать сам и тогда этот механизм превращается в механизм саморазвития по вводимому содержанию, а затем и самих мыслительных способностей (см. технологические условия выше).
Нередко в теоретической работе стоит достаточно узкая задача – понимание массива определений и их суммарного выражения в виде обобщенного заместителя. Такая задача характерна для функции арбитража, когда необходимо оценка каждой версии и использование абстрактного средства, не вызывающего сомнения в его содержании. Это средство, базовая абстракция, либо уже имеется в арсенале арбитра, либо строится на материале конкурирующих версий. Так как следует построить замещающую абстракцию, то нужно и сохранить фиксированные содержания, и их особым образом, в обобщении, переработать. Это соответствует выделению исходной абстракции для вторичного, замещающего текста в рамках логического принципа уточнения. Поэтому мы все определения рассматриваем как "фрагменты" одного "авторского" текста.
Однако наряду с обобщением, построением абстрактного заместителя исходных текстов нужно показывать переход к категориальным средствам и введения, и уточнения базовой абстракции. Эти средства вводятся из арсенала арбитра – конструктора понятия, обладающего способностями следовать реализуемому им деятельностному подходу (см. сх. 15).
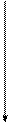


 подход арбитра
подход арбитра
текст "автора"
 понимание соответствующие
понимание соответствующие
 фрагменты фрагментов средства
фрагменты фрагментов средства
 (массив анализа
(массив анализа
определений) построение
 заместителя
заместителя

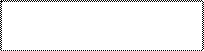 оценка выявление конкретизация
оценка выявление конкретизация
 определений исходной абстракции
определений исходной абстракции
абстракции
Схема 15
Совмещение первичного процесса построения заместителя многих определений и применения средств деятельностного подхода и ведет к решению поставленной задачи, построению соответствующих понятий в рамках деятельностного подхода. Остается лишь особо отметить один технологический фактор получения данного результата.
Дело в том, что понятие конструируется для соотнесения с объектом и его допонятийными описаниями. Поэтому понятие должно быть не только выражено знаково-символическими средствами, но и подчиненным необходимости объектного ("онтологически значимого") прочтения этих средств. Следовательно, в ходе чтения следует пользоваться объектно-онтологическими, метафизическими, общемировидческими средствами (категории "нечто", "структура", "элемент", "состояние", "процесс" и т.п.).
При прочтении объектной схемы, являющейся понятийной абстракцией, необходимо соблюсти процессуально-объектную корректность и выдержать принцип причинно-следственных цепей, непрерывность цепей, удержание всех причин, определяющих следствия и т.п. Соблюдение требований объектной определенности, явности показа "устроенности" нечто и особенности всех типов объектов в деятельностном подходе становится причиной всех "перевоплощений" авторских определений.
Вернемся к проблеме интеллектуального саморазвития и месту МРТ в этом процессе.
3.3 МРТ и интеллектуальное саморазвитие
В той схеме мыслительных процедур, которые и составляют функционально-структурное пространство МРТ, выстаивается та или иная более конкретная процессуальная траектория, соответствующая поставленной мыслителем цели. Между целями существуют огромные различия. Установка, а затем целевое ее оформление, на понимание мысли автора по ее содержанию стимулирует минимизацию всех служебных интеллектуальных процедур, в том числе построение схемных заместителей, превращение их в модели, соотнесение с логическими формами и т.п. Лишь ощущение или признание извне результатов понимания неудачными провоцирует введение все новых процедурных ухищрений. Если же возникает установка на совершенствование мысли автора и готовность к активному взаимодействию с автором, то планирование процедур с самого начала становится сложным и применение ухищрений вносится в базовый процесс. Тем более, если вводится установка арбитражного типа, когда предполагается подготовка средств для многообразия будущих дискуссий в определенной области или, что еще более сложно и ответственно, к дискуссиям в различных областях знания или типах деятельности. Во всем многообразии установок обычно появлению акцента на саморазвитие и, более локально, на интеллектуальное саморазвитие предшествуют драматически значимые серии неудач и затруднений, а также достаточно большой объем рефлексии этих неудач, поиска причин затруднений и появление гипотез о роли интеллектуального потенциала в достижении успехов в этих усилиях, о связи интеллектуального потенциала, его роста с овладением современными средствами и методами интеллектуальной культуры, современной рефлексивной культурой и аппаратом методологии.
Естественно, что для возникновения установки на саморазвитие и интеллектуальное саморазвитие зависит как от внешних факторов (пребывание в культурно-ориентированных сообществах, опыт воздействия представителей этого сообщества в условиях решения наиболее значимых и сложных проблем, наличие образцов рефлексивно самоорганизованных процедур и применения интеллектуальных способностей высокого уровня, их связи с современными формами интеллектуальной работы и т.п.), так и от внутренних факторов (предрасположенности к рефлексивной самоорганизации, чувствительности к действиям наиболее высокого профессионального и культурного уровня, к самим средствам рефлексивной организации и самоорганизации, чувствительность к ценностям культуры мышления, рефлексивной культуры, позитивная оценка опыта общения с носителями культуры и т.п.).
При наличии указанных условий готовность к использованию специальных приемов работы с текстами, к рефлектированию хода решения интеллектуальных задач, к созданию дополнительных процедур и т.п. порождает те усложнения интеллектуальной работы, которые становятся предпосылкой смены мотивационных установок, а затем ценностей целостности интеллектуальной работы. От достижения цели осуществляется переход к правильности действий, а затем к рефлексивно осмысленным действиям и, наконец, к рефлексивно-критериально осмысленным действиям. На этом пути смены акцентов выращивается изменение к иерархии ценностей. Так ценности практической успешности заменяются ценностями рефлексивно-корректировочного типа, а затем ценностями рефлексивной культуры. Эти ценности, в структурной целостности ценностей, меняют весь механизм работы и отношение к затруднениям. От негативной оценки возникших затруднений (догадка, стресс и т.п.) осуществляется переход к их оценке как "нормальных" явлений в интеллектуальной работе, а затем – к поиску затруднений как объективных условий совершенствования интеллектуальной работы и коррекции способов и средств ее организации. Для того чтобы возникли цели интеллектуального саморазвития и даже ценности этого типа необходимо акцентировка в рефлексивных процессах на способностях к решению интеллектуальных задач и проблем, на зависимости успешности в решении задач и проблем от роста потенциала способностей, на зависимости этого потенциала от включенности в культуру рефлексивной самоорганизации, культуру мышления и деятельности, от качественного характера трансформации способностей, от направленности к высшим формам интеллектуальной работы и к высшей результативности.
МРТ служит источником системы быстро возникающих интеллектуальных затруднений и провоцирует те направления рефлексии, которые ведут к большинству типовых вопросов в области рефлексивной самоорганизации, культуры мышления и рефлексии. Серьезное отношение к возникающим вопросам облегчает приход к таким общегуманитарным областям знания, как семиотика, лингвистика, логика, психология, культурология, философия, методология, моделирования и т.п. Возникает фон обращения внимания к "технике" мышления и пути развития мыслителя. Но, вместе с тем, рефлексия собственных усилий стимулирует обращение внимания на интуицию, чувственность, сознание, самосознание, волю, самоопределение и т.п.
Лишь на этом фоне переплетения акцентов и мотивационных линий субъективного и "объективного" (мыследеятельностного и культурного) характера явления развития и саморазвития постепенно перемещаются из статуса "сопровождающих" основные процессы в статус "ведущих" весь ряд интеллектуальных усилий, а затем и весь объем профессионально-жизненной самоорганизации.
МРТ осознается как интеллектуальная "машина" реализующая и практическую (решение задач и проблем), и методическую (формно-техническую), и исследовательско-диагности-ческую (познание актуального и возможного уровня своих способностей), и развивающую, и "окультуривающую" функции. Если пользующийся МРТ сначала осознает ее как средство решения "внешних" задач и проблем, то затем он переопределяет значимость МРТ, превращая его в средство решения "внутренних" задач и проблем.
Особую роль в культурном осознании значимости МРТ играет рефлексия процессов схематизации и применения схем в различных типовых ситуациях интеллектуальной работы. На этом пути в доступных и демонстративных формах опознается весь механизм функционирования, а также становления и развития языка, переходов мышления с одного уровня на другой, трансформации "досознания" в сознание, а затем и в самосознание. Выявляется весь типовой набор мыслительных операций. При этом если схемотехника лежит в основе исходных форм мышления, то использование логических форм, особенно – логики систематического уточнения позволяет быстро выходить на самые сложные и культурно значимые формы мышления. Она (ЛСУ) непосредственно ведет к понятиям и категориям, парадигме абстракций, к высшим абстракциям, технике "объектно-каузального" анализа и осознанию механизмов развития. Схематизация текстов и "содержаний" текстов провоцирует осознание техники моделирования, а применительно к рефлексивным содержаниям, к "технике" создания методов и методик мышления и деятельности.
Наиболее сложной перспективной совершенствования с помощью МРТ выступает организация ролевого самоотношения "общения с собой" в разных ролевых идентификациях. Если удается применять МРТ в условиях живого взаимодействия с "другими", то облегчается переход от мыслительных моделей к игромоделям и игромоделированию в целом. Поэтому МРТ облегчает создание специальных текстов – сценариев как особых средств внутренне-внешнего и внешне-внутреннего развивающего воздействия, применительно к мышлению, сознанию, самосознанию, самоопределению, а также к рефлексии. Опыт разработки и использования "диалогов" как сценариев мыслительного и иного взаимодействия, приобретенный в 1996–1999 гг. показал огромные возможности, таящиеся в этом способе организации и самоорганизации как в доигровых, так и в игровых формах применения диалогов. Но работа с диалогами предполагает использование МРТ в различных масштабах и вариантах.
Итак, МРТ предстает как "персональный" механизм интеллектуального и общего саморазвития и развития. Все особенности и преимущества метода Гегеля, его культуры, его конструкции развития духа можно опознать и воспроизвести за счет использования МРТ и рефлексивного осмысливания всех процедур, всего хода автономных трансформаций. Это предопределено всеми тремя источниками особенностей МРТ – применения и создания схем, реализация требований ЛСУ, рефлексивной самоорганизации с применением системы критериев (языка теории деятельности).
3.4 Схемотехника и окультуривание
рефлексивной самоорганизации
I
Концепция содержания образования, введенная нами и подготовленная всем ходом развития современной методологии, опирается на неизбежность опоры, в любом типе бытия человека и сообществ, на механизм рефлексивной самоорганизации, обеспечивающий "человеческое реагирование" на возникающие внешние и внутренние условия. Однако сам механизм рефлексии и рефлексивной самоорганизации проходит путь своего развития. Часть этого пути предопределяется внутренними факторами развертывания организмической структуры человека, его созреванием, а часть пути предопределяется внешними социокультурными условиями. Если вначале воздействия социокультурных условий большее внимание уделяется реагированию на особенности воздействия значимых людей (родственников и др.) в контексте общения и воздействия в связи с применением языковых средств, что выступает для ребенка "внешней силой" принуждающего или даже угрожающего типа, требующей адаптации, подчинения, ухищрения в самосохранении и т.п., то позднее, вместе с внутренними трансформациями в ходе адаптации и подчинения и выделением высших психических функций и механизмов (сознание, самосознание, мышление, воля и др.), все большую роль приобретает собственно рефлексивный механизм и его проявления в ходе осознавания и самоосознавания в процессе сознаваемого сопровождения всех типов поведения.
В педагогической психологии, в возрастной психологии, в психологии развития и др. областях психологического знания, а также в педагогике, социологии, культурологии, физиологии, акмеологии можно найти огромное количество различных сведений об этих процессах как результатах наблюдений и научных исследований. Трудности возникают при попытках интегрирования представлений и в переходе к теоретической форме обобщения. С этой точки зрения наиболее глубокое раскрытие "генеза" высших форм психики, помимо эзотерических форм знаний и их изложения, мы встречаем у Гегеля, так как он адекватно использовал теоретическую форму обобщения, создал эту форму, учитывая фундаментальные предпосылки, введенные Кантом и Фихте. По сравнению с этой глубиной концепции Ж. Пиаже, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Я.А. Пономарева и др. представляют как полу теоретические схематизации феноменального материала.
Для нас важно то, что линия раскрытия генезиса, функционирования и развития сознания, самосознания в социокультурных средах совместилась с линией раскрытия сущности рефлексии. Свою важную роль в совмещении сыграла линия методологического анализа развития в социокультурных и деятельностных пространствах (В.А. Лефевр, Г.П. Щедровицкий, О.И. Генисаретский, Н.Г. Алексеев, В.М. Розин и др.). Учитывая всю сумму полученных результатов, мы с конца 70-х гг. XX в. стали рассматривать все высшие психические "функции" и механизмы как результат структурного развертывания рефлексивного механизма (О.С. Анисимов: 1982; 1986; 1990).
Позднее мы акцентировали внимание на процессе и механизме "принятия решений", его развитии, особенно в управленческой практике (О.С. Анисимов: 1991; 2002; 2004). Принятие решений выступило в качестве выделенного в целостности рефлексии, акцентированного на нормативном блоке рефлексии процесса. Но для того чтобы ребенок, как и взрослый человек, мог "видеть" процесс принятия решений (ПР), влиять на него и придавать ту или иную форму, совершенствовать процесс и развивать сам механизм ПР, он должен рефлектировать рефлексивный процесс и его составляющую, входящую в ПР. В то же время сама мера сознаваемости ПР и целостности рефлексии зависит от социокультурных, а затем деятельностных условий. Если эти условия неблагоприятны для рефлексии, для обращения внимания не на содержание мысли и рефлексивного процесса, не на продуктность или хотя бы результативность в действиях и деятельности, а на процесс порождения содержаний, результатов, на механизмы, участвующие в порождении, в том числе и, особенно, на субъективные механизмы и формы их участия в порождении, то уровень сознания, самосознания не только не удерживается и не растет, а редуцируется. В то же время в образовательных системах, функция которых и состоит в организованном развитии внутренних механизмов людей, чаще всего и до сих пор приоритете оставляют результатам и содержаниям. Тем самым педагоги являются до сих пор соучастниками вытеснения значимости рефлексии в образовательных процессах, факультативности в привлечении рефлексивного слоя в самоорганизации учеников, оставаясь внутри самой педагогической деятельности крайне незначительно рефлексивными.
Хотя в мировом образовательном пространстве быстро растет значимость индивидуализации в совершенствовании, творческого самовыражения, продуктивности, инновационности и т.п., но это сопровождается незначительным осознанием роли рефлексивных механизмов, их качественного совершенствования. В дискуссиях, происходивших в конце XX в. и проходящих в наше время начала XXI в. достаточно часто обращение внимания на рефлексию сопровождалось опасением за сохранность значимости "действия", опасением сведения целостности бытия к "пустым размышлениям" и т.п. Этим демонстрируется низкая культура самого анализа базисных единиц бытия, в качестве которых, в частности, предстает и рефлексивно организуемое достижение поставленной цели или рефлексивно самоорганизованное действие. Неумеренные акцентировки либо на "действие" либо на "рефлексию" ведут к деградации исходной "единицы" или "клеточки", как любил выражаться Гегель, а также Маркс. Если действия типологизируются, то в зависимости от типа действия меняется объем участия рефлексии. Но для каждого из типов выстраивается своя гармоническая пропорция между действием и рефлексией. Так же и при типологизации рефлексии возникают свои типовые гармонически значимые пропорции.
Во всяком случае, гармоническая пропорция в условиях учебной и педагогической деятельности не может быть совпадающей или близкой гармонической пропорции в условиях практической деятельности. Если в исследовательской, аналитической, консультационной деятельностях роль рефлексивной составляющей также велика, то она отличается от учебной и педагогической именно особым вниманием на "отчужденных" составляющих содержания рефлексии. В учебной и педагогической деятельностях акцентировка в содержании рефлексии смещается в сторону "неотчужденных" составляющих, субъективности того, кто действует. Тем более, сама целевая установка в учении и в организации учения состоит в изменяемости человека, что предполагает особую значимость именно субъективных трансформаций.
Итак, если содержанием образования выступает формирование субъективных механизмов ПР во всех типах сред и субъективных механизмов реализации этих решений, то и ученик, и учитель должны быть устремлены на формирование общей предпосылки принятия и реализации решений в любых типах ситуаций и сред – механизма рефлексивной самоорганизации. Лишь затем общая предпосылка конкретизируется, типологизируется в реальных условиях и типах условий. Рассматривая "внешнее" как условие запуска универсумального механизма, как условие окончания реагирования, ученик и учитель основное внимание уделяют трансформации "внешнего". Но сама полноценность, эффективность, адекватность внутреннего механизма и его типологизированных конкретизаций связана с четырьмя группами характеристик любой "существующей" целостности, любого функционирующего и развивающегося "нечто" – воспроизводством себя в реальных условиях ("в-себе"-бытие), реагированием в адаптационном режиме с подчинением внешним "требованиям" ("для-иного"-бытие), реагированием в адаптационном режиме при направленности на самосохранение ("для-себя"-бытие) и реагирование в адаптационном режиме при направленности на свое качественное изменение исходных качеств, механизма ("для-в-себе"-бытие). Тем самым формирование субъективного механизма, предопределяющее успешность бытия, принятие и реализацию решений во всех типах сред необходимо осуществлять в подчинении общим принципам анализа и созидания любых систем в универсуме (см. об особенностях системного анализа: О.С. Анисимов. 2002).
Приоритет субъективности как особого механизма для возникновения целостности, могущей быть основанием всех форм осознанных проявлений человека в любых условиях, склоняет нас к тому подходу, который реализовал Гегель, создав генетическую концепцию развития "духа" (см. также: О.С. Анисимов. 200). Учитель является организатором тех трансформаций исходных состояний "духа" ученика, которые готовят ученика к адекватному бытию в природе, обществе, культуре и т.п., к владению "телом" в подчинении тем требованиям, которые исходят из запросов универсумального бытия, т.е. бытия, вписанного в универсум, включающий и природу, и общество, и культуру и т.п. Обращение особого внимание на совершенствование и развитие рефлексивного механизма является базисным условием достижения образовательных целей, решаемости педагогических и учебных задач и проблем.
Поскольку уровень успешности реагирования человека на внешние и внутренние условия, уровень рефлексивной самоорганизации в реагировании, уровень развитости механизма принятия и реализации решений взаимозависимы, то чем выше уровень развитости механизма рефлексии и самого процесса принятия, а затем и реализации решений, тем выше и надежнее уровень успешности, результативности реагирования. Наиболее оформленным процесс принятия решений мы находим в развитой профессиональной деятельности управленца и форма, механизм принятия управленческих решений (ПУР) становятся ориентиром и "эталоном" качества ПР, уровня его развитости. На наиболее высоких уровнях ПУР особую роль играет использование "мировидческих", онтологических ("метафизических") схем. В них совмещаются в замещенном и обобщенном виде все знания о чем-либо и выражаются представления о "сущности" бытия.
Следовательно, ученик должен проходить путь приближения к высшим уровням ПУР, а тем самым и к высшим уровням развитости рефлексивного механизма. В принятии решений он привлекается к заимствованию из науки и культуры предельных оснований как "знаниевого" типа, в функции отражения, так и "ценностного" типа – в функции мироотношения. Если в одном проявляется то, что Кант называл "чистым разумом", то в другом то, что Кант называл "практическим" разумом, базирующимся на "чистом" разуме. Именно это становится целевой установкой пути ученика, так как в результате овладения двумя типами критериев, он может построить свое поведение как "вписанное" в универсум. Этим предопределяется духовная значимость принятых и реализуемых решений (о сущности духовного см.: Анисимов, 2002; 2003; 2004).
Однако ученик включен в реальные условия прохождения им своего пути и в организационные структуры образования ("школы"). В них устанавливаются как достижимые цели, так и осуществляемые линии достижения фиксированных целей, формы прохождения пути, способы самоорганизации при прохождении пути, формы организации взаимодействий со стороны педагогов.
Мы выделим ту сторону содержания целей и процессов их достижения, которая касается приобретения неслучайных представлений о реальности, мировоззрения, формирования способности использования этих представлений в процессе ПР.
II
Поскольку особым средством педагогического воздействия на сознание, самосознание, мышление, рефлексию и даже волю учеников для нас выступали схематические изображения (см. также: О.С. Анисимов: 1991; 2002; 2003), то остановимся на их специфике более подробно. В педагогике и педагогической психологии подробно обсуждались вопросы организации и управления мыслительными процессами учеников, организации хода изменения как процессов, так и мыслительных способностей, а чаще – "познавательных" способностей учеников. Для достижения учебного результата, приобретения знаний, готовности и способности к применению знаний, к трансформации знаний, их "совершенствованию" в ходе учебной деятельности часто использовались, в том числе так называемые наглядные средства обучения. Ими становились и образцы объектов, и модельно значимые образцы, и изображения, и структурно-логические схемы, и схематические изображения. Все эти и иные типы средств имеют либо момент наглядности, либо наглядность является базисной характеристикой применяемого средства.
Каждый тип средства помещается в "пространство" учебной деятельности и влияет на саму учебную деятельность и ученика в зависимости от тог, какие именно становятся цели, какие психические механизмы вовлекаются в достижение цели, какие из них являются ведущими. В середине 70-х гг. и в конце 70-х гг. XX в. нас интересовала функция этих средств в мышлении ученика. Мы анализировали имеющуюся в то время литературу по данной теме (см. также: Анисимов, 1982; 1984). Тем более что участие в московском методологическом кружке (рук. Г.П. Щедровицкий) позволяло увидеть более концентрированные формы применения "наглядных" средств в рефлектирующем мышлении, в дискуссиях с применением развитых языковых средств, а само применение схем, схематических изображений подвергалось семиотической и логико-мыслительной рефлексии с нередким вхождением в проблемы семиотики, лингвистики, логики. Кроме того, к середине 70-х гг. мы осуществили несколько шагов в оформлении практики конспектирования, схематизации, а затем практики применения суммы приемов, ставших основой того, что было названо "методом работы с текстами" (МРТ).
Чем больше мы утончали технологию работы с текстами и формы самоорганизации в ходе применения МРТ, тем тоньше мы рефлектировали эту работу в ее различных направленностях – достижения целей понимания сложных текстов, переход к альтернативным текстам, осознанное и оформленное самовыражение в создании различных научных и методологических произведений, обучение технике конспектирования, понимания, критики воззрений авторов, изучение динамики мышления в процессе понимания, критики точек зрения, изучение процесса изменений в мышлении понимающего, критикующего и т.п., тем отчетливее выявлялись глубинные условия трансформации самых сложных интеллектуальных механизмов при помощи схем и схематических изображений. Тем более что МРТ имел несколько принципиально значимых технологических блоков: конспектирование или схематизация текста, построение схематических изображений, применение схематических изображений и схем как средств понимания, критики, самоорганизации в мышлении, коррекция схем и схематических изображений с точки зрения не только самого получения эффекта понимания, критики и даже самоорганизации, но и с точки зрения подчиненности логическим формам, введение особой формы мышления, реализующей идею "восхождения" (от абстрактного к конкретному, от конкретного к абстрактному), рефлексивное слежение и корректирование всех процедур и форм участия внутренних механизмов в интеллектуальной работе (см. также: Анисимов, 2001; 2002; 2003).
Более того, вся эта практика и ее рефлексия были включены в общий ход погружения в проблемное поле ММК, понимание особенностей методологической работы, мыслительного взаимодействия методологов (см. также: Анисимов, 2003). Мы продолжали осваивать идеи и версии в философии, логике, лингвистике, культурологии, психологии и глубина прозрений, понимания исторической значимости гигантов мысли в прошлом зависела от уровня определенности и жесткости самой техники работы с текстом, от всех факторов мыслительной самоорганизации и особо логико-семиотической самоорганизации. Именно в этот период мы проходили своего рода проверку реалистичности наших взглядов на содержание и авторов этих содержаний в цепи Платон, Аристотель, Фома Аквинский, Августин, Лейбниц, Декарт, Беркли, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, Маркс и др. Мы "доказали" себе особую роль системы и метода Гегеля, а также меру неадекватности понимания Гегеля со стороны многих авторов, в том числе Марксом, Энгельсом, Лениным, Плехановым и даже лидерами ММК. В этот период мы испытывали наслаждение углубленным пониманием классиков лингвистики, в частности Ф. Де Соссюром и др. В значительной степени под влиянием всего потока работы шел рост определенности понимания и оценки самых популярных психолого-педагогических, а затем и педагогических авторов, версий учебной и педагогической деятельности. Мы сформировали в себе установку на полноту применения МРТ и разработанных к концу 70-х гг. системы понятийных, категориальных средств ("методологической азбуки"), а в начале 80-х гг. и "психологической азбуки" – как условия полноценности понимания, критики, арбитрирования, постановки и решения наиболее ответственных задач и проблем.
Одним из следствий такого полномасштабного выяснения возможностей использования "символических" средств мышления выступила критика базисных средств и различений в методологии (в ММК). Именно совмещение схематического выражения "метода Гегеля" (ВАК) со схематическим выражением имевшихся средств, парадигмы ММК, проверка на помещаемость и размещаемость материала средств и различений и траектории "развития" содержания привело к измененной парадигме. Она стала соответствовать "методу" и этим удержанной в ее более оформленной существенности. ("Азбука", а затем в 2002 г. – в качестве "Методологического словаря").
Тем самым, на наиболее сложных содержаниях, прежде всего – инструментах рефлектирующего мышления была проверена, уточнена форма и типы форм более конкретного характера использования схематических изображений (СИ) в качестве средств мышления. С конца 70-х гг. возникла даже линия недоразумений, споров и мифов о том, в чем состоит особенность схемотехники у "руках" О.С. Анисимова и в чем состоит причина его расхождений с признанным набором базисных схем, с самой схемотехникой, сложившейся в ММК. Однако чаще особенности не обсуждались, а замалчивались или оценивались как "отходящие от традиций ММК". По сравнению с таким уровнем тонкостей и сложностей анализ соотносительного характера схемотехники, имеющийся в педагогике и педагогической психологии и в системных разработках выглядел как трудно сопоставимый, в рамках другой "весовой" категории.
Результаты разработок применялись в циклах формирующего влияния на рост мыслительного потенциала членов методолого-педагогического кружка (ММПК), созданного в 1978 г. Основная критика любых мыслительных усилий участников кружка, а также самокритика сосредотачивалась на соотнесении того, что можно было выразить в схемах как "авторское", реконструктивно с тем, что являлось выражением содержания базисных понятий или их усложняемыми комплексами, создаваемыми с использованием идеи "псевдогенеза". Историческое и надисторическое "сущностное" соотносилось и сущностная схема использовалась как средство опознавания приемлемой части исторической версии. Иначе говоря, мы все время вовлекали в мыслительное пространство мыслительную форму "субъект – предикат" и два типа ее использования – "подтверждение" (подведение под понятие) и опровержение (коррекция понятия под "воздействием" материала мысли). Первая форма соответствовала "решению задач", а вторая – "постановке и решению проблем".
Тот, кто осваивал данные процедуры и адекватно использовал минипарадигму ("Азбуку") и, тем более, всю парадигму, становился мыслительным лидером. Так, в разное время лидерами становились С. Самошкин, И. Злотников, П. Мейтув, Е. Ткаченко, А. Емельянов, В. Верхоглазенко и др. Те, кто замедленно шел к овладению этими формами мышления, не выделялся среди других в мыслительном плане, не мог выделиться в плане психотехники или группотехники. Очень редко возникали лидеры, совмещающие различные техники. Таким интегральным лидером был В. Давыдов. Особыми типами синтетических мыслителей показали себя В. Бязыров, Ю. Ясницкий, А. Смирнов, А. Иванов, О. Мартынов и др.
Вместе с созданием в 1988 г. кафедры методологии в Высшей школе управления АПК РСФСР появилась возможность формировать базисные структуры мышления в регулярном учебном процессе для резерва управления. Параллельно с этим еще в 1986 г. подобная перспектива возникла и на игровых процедурах для внешнего потребителя. Однако временное пребывание в мыслительном пространстве не позволяло игрокам в той же мере проходить путь овладения процедурами, приобретения достаточных и устойчивых способностей в схемотехническом слое, что и на кафедре. Рассредоточенный тип пребывания в подобных процедурах в рамках методологического семинара с 1980 г. маскировал ход приобретения указанных способностей и мыслетехнических способностей в целом. В то же время и на кафедре, в системе игр и лекционно-семинарских циклов не удавалось придавать базисному процессу форму регулярного сопоставления субъекта и предиката единой мысли. Тем более что процедура медленно осваивалась и в основном коллективе, на кафедре, а затем в отделе педагогического мастерства в Научно-методическом центре Гособразования СССР, с 1990 г. Даже на методологическом семинаре не удавалось сделать регулярным базисное мыслительное соотнесение и его логико-технологическую рефлексию. Множество содержаний и сторон единой деятельности, меняющееся соотношение между "новичками" и "старичками", уход "стариков", повторение ситуаций запуска начальных форм работы для "новичков" и т.п. снижали вероятность стереотипизации механизма работы (см. О.С. Анисимов, 1991; 2001; 2003). Данная процедура не стала системообразующей и в попытках наладить механизм работы с новичками ("детский сад" в 1982 и др.). Замаскированной другими технологическими составляющими эта процедура представала и в циклах обучения по курсу "Организация умственного труда студентов" (с 1972 по 1982 гг.).
Вместе с появлением модульной формой организованного методологического обучения (в 1988 г.) и созданием программы 5 типовых модулей по 3 недели в 1990 г. возник особый модуль – "схемотехнический", с которого начиналась реализация программы. Это уже были не управленцы с их прагматической установкой, а те, кто самоопределялся на овладение основами игротехники и методологии, что облегчало приведение в соответствие сложности поставленных задач и субъективного обеспечения решения задач. Весь цикл модулей (1990–1991 гг.) активно сопровождался соотносительными процедурами. Но потребовалось проведение нового цикла, более сложного, дополнительных поисковых модулей середины 90-х гг., чтобы прийти к более удобной и стереотипной организационно-процессуальной форме реализации идеи. Все это происходило на фоне самостоятельного, несогласованного поиска различных направленностей силами отдельных участников модулей и минигруппы модулянтов в своих "территориях".
Значительную роль играло проведение циклов модулей в Новокузнецке и Омске на "территории" поисков Н. Стрикун, С. Гончаровой и И. Стрыжкова, Т. Салатич с 1994 г. Отрабатывались типовые формы, процедуры для инноваторов в школьном образовании и системе повышения квалификации, а также для становящихся экспертов. В отличие от системы "центральных" модулей, участниками которых были разрозненные минигруппы и отдельные активисты ММПК, здесь были уже постоянные для городов группы систематически работающих специалистов, педагогов и др. Многочисленность вопросов, акцентов, возможностей в подсказках, крайне незначительная общекультурная подготовленность к мыслетехнике, сложности процесса вызревания игротехнической группы, адекватной поставленным задачам, реальные условия проведения модулей, а также воплощения того, что стало понятным в регулярную деятельность "игроков" и т.п. снижали эффективность формирующих воздействий и даже готовность к более жестким формам учебной работы.
Некоторые игры и их серии, проводимые с одним и тем же составом, вносили вклад в копилку опыта прямого влияния фактора схемотехники и мыслетехники на получение желаемого результата. Так в конце 90-х гг. серия игр с администрацией Балашихинского района московской области опиралась на схемотехническое сопровождение. Особенно показательна игра в конце 1998 г., в которой была введена абстрактная онтологема по теме ("Взаимосвязанность способа распределения бюджетных средств и динамика уровня жизни населения в муниципальных условиях"). Игроки, в рамках установки должны были любые версии проектного или исследовательского и диагностического типа сопоставлять с онтологической схемой и осуществлять, в пределах их возможностей и с помощью игротехников конкретизацию схемы при лидирующей роли своего индивидуального смысла. Этим узаконивалась логико-семиотическая основа решения мыслительной задачи по "вписыванию" версии – смысла в жесткую схему-значение путем логически оправданной конкретизации. Смыслы находили корректное выражение в значениях, что являлось и переходом от конкретной версии – смысла к абстрактности схемы – значения. Помещенные в такую организационно-мыслительную рамку игроки проходили путь адаптации к необычным требованиям, а после адаптации – открытие существенного в первоначальных смыслах. Такой опыт позволял намечать масштабные стратегические разработки, лишенные формализма оперирования с высокими абстракциями.
Подобный подход как бы "мерцал" в играх начала 90-х гг., а в приложении к проектированию учебных процессов обсуждался еще в период контактов с рядом московских и других вузов в конце 70-х гг. и в начале 80-х гг. Частично приложение подхода было осуществлено во взаимодействии с Горным институтом (г. Москва), институтом коммунального строительства (г. Харьков), а также были намечены линии разработок с рядом институтов (МЭИ, МЭСИ, МТИПП, МИТП, МИСИЗ и др.). С конца 1982 г. систематическое внесение схемотехники в процесс преподавания психологических дисциплин началось в ведущем педагогическом вузе страны (МГПИ им. Ленина). Этот опыт мы использовали при обучении преподавателей инженерных вузов на межвузовской кафедре педагогики и психологии Высшей школы (рук. Е. Белкин) с начала 1985 г. Мы получили возможность строить преподавание целостных дисциплин ("Психология высшей школы", "Общая психология") на схемотехнических основаниях. С 1984 г. блестящие результаты стал осуществлять заведующий кафедрой общественных наук МАДИ В.А. Давыдов, быстро вошедший в круг мыслетехнических проблем ММПК. Подобный опыт стал появляться в Рязани, Твери, Новгороде, Омске, Новокузнецке, Иваново, Петербурге, Риге, Днепропетровске, Киеве, Харькове и др. Все это повлияло на схемотехническую и мыслетехническую сторону работы кафедры методологии в ВШУ.
Многие аспекты техники преподавания в данном направлении были "перемещены" и на кафедру акмеологии и психологии профессиональной деятельности РАУ, а затем РАГС при Президенте РФ (с 1993 г.). НЕ случайно, что усложнение и утончение мыслительной, семиотической, логической составляющей взаимодействия со слушателями вызывало напряжение и ощущение не только привычной в инноватике необычности, но и раздражения, так как вся "механика" учебно-педагогического взаимодействия менялась коренным образом. Схемотехника в общей рамке мыслетехники требовала нового уровня субъективной самоорганизации, к чему слушатели были не готовы, сохраняя стереотипы "вольного" отношения к мышлению. Несмотря на более молодой возраст, аналогичные реакции мы фиксировали и в элитной части пединститута (психолого-педагогический факультет), на психологическом факультете МГУ, на психологическом факультете социально-гуманитарной академии, в экономической академии, в университете управления, в эколого-политологическом университете, в социальном университете.
Кардинальную переориентацию в самоорганизации при осуществлении мыслительной работы в связи с регулярным использованием схем и СИ мы наблюдали в период применения МРТ к индивидуальной работе желающих разобраться в содержании сложных текстов еще в 1975–1977 гг. и в индивидуальном консультировании участников сложных инновационных разработок в 1978–1980 гг. (например, в работе с И. Соколовым в МИСИС). Были попытки перенести этот же опыт в методологическую среду и появлялись те же эффекты в работе с начинающими методологами (например, с С. Котельниковым, В. Чернушевичем в 1979–1982 гг.). Более "опытные" методологи были менее чувствительны к внутренним преобразованиям и смотрели на эти проблемы как бы извне (например, попытки с Б. Сазоновым, М. Рю, А. Буряк, А. Яровой и др.). В то же время они сочувствовали и готовы были поддержать это направление в организации мыслительной работы (также и Н.Г. Алексеев, В. Мацкевич, Б. Островский, П. Малиновский, О. Генисаретский, А. Тюков, Ю. Громыко и др.). Иногда активную осознанную поддержку подобным усилиям оказывали некоторые открытые к новому и устремленные к культуре участники методологического движения. Так, в середине 90-х гг. с воодушевлением воспринял мыслетехническую и схемотехническую линию Б.В. Пальчевский, способствующий внедрению в пространстве инноватики в Белоруси. Положительно воспринимали наш подход и такие талантливые, но остающиеся в дометодологической технике специалисты, как А.З. Рахимов (в Уфе), а также, хотя и менее конкретно, В.В. Рубцов, А.В. Брушлинский, А.А. Бодалёв, Е.А. Климов, А.К. Маркова, К.А. Абульханова и др. Свою положительную направленность в оценке нашей мыслетехнике, схемотехнике выражали и представители рефлексивного движения, в том числе В.А. Лефевр, В.Е. Лепский, И.Н. Семенов, И.Ю. Степанов и др.
Однако основным оставался контекст общей культуры и "лабораторности" разработок в самых разных масштабах и акцентировках. С точки зрения перевода разработок в широкую практику очень важны те разработки, которые осуществлялись в последние годы. Среди этих разработок мы выделим направление собственно "технического" типа (схемотехника, логические формы, средства языка и т.п.) и содержательного типа (семантика парадигм и онтологии). На их пересечении возникла особая система мировоззренческих средств (онтологических и онтологически значимых схем) в рамках разработки языка теории деятельности.
III
Если выделить две сопряженные акцентировки на обще онтологических и собственно теоретико-деятельностных средствах анализа, реконструктивного, проектировочного, прогностического, проблематизирующего и др., то в начале 2000 года произошло крайне важное событие в истории ММПК, а также и методологического движения, в его отечественном варианте существования.
С одной стороны, на поверхности можно было заметить "возвращение" к тематике парадигматики языка теории деятельности (ЯТД), к минимальному "ядру" ЯТД – "Азбуке методолога", а также к тематике транслируемости ЯТД. Возникла усовершенствованная и удобная для трансляции, для помещения в учебные процессы версия самого развертывания суммы минимальных различений. Еще в конце 90-х гг. при появлении оптимистического воззрения о совмещении разработок ММПК с практикой управления на материале муниципального управления, в разговорах с главой администрации Балашихинского района Московской области В.И.Кибальник, мы предлагали идею разработки учебного курса для вуза, в первую очередь, для управленческого вуза и этим начать практическую трансляцию ЯТД вне педагогических и психологических фрагментов учебной системы. Разработка ЯТД, "Азбуки", в версии 1979 г., а затем придание и парадигме, и синтагматике (онтологической стороне языка) характера учебного курса в 1988 г. для обеспечения учебного процесса в высшей школе управления АПК РСФСР выступали в качестве подготовительных действий, локализованных в периферическом фрагменте системы повышения квалификации. Не акцентированный перенос различных модификаций ЯТД и его систематических разверток в ряд вузов в конце 80-х и в 90-е гг. оставался непринципиальным, не влияющим на общую структуру самих учебных механизмов. Более того, удачный вариант учебной дисциплины "Категориальный аппарат психологии", разработанный в середине 80-х гг. и опубликованный в 1989 г. в Новгороде, не вызвал явного интереса среди знакомых психологов и тем более – тех, кто мог бы содействовать интеграции мягкого варианта перехода от базисных различений теоретической психологии к аппарату собственно ЯТД в методологии. Причина была очевидной для нас. Только Г.П. Щедровицкий, неожиданно для нас, так как "не жаловал" нашему письменному творчеству с иной системой и методом конструирования аппарата и в начале 80-х и в середине 80-х гг. дал самую высокую оценку одному из наших предварительных вариантов анализа переходов от "деятельностной" парадигмы в психологии (типа А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др.) к деятельностной парадигме в методологии. Еще в середине, конце 70-х гг. активно обсуждались на семинарах ММК попытки сблизить аппараты или даже их комплексирования (например, в версиях В.Я. Дубровского, А.А. Тюкова и др.) общий настрой, прежде всего осторожности и критичности, проявлялся и в ходе наших докладов по материалам реконструкции взглядов С.Л. Рубинштейна (см. также: Анисимов, 2001; 2003). И вдруг в 1986 г. Г.П. Щедровицкий сам отметил нашу весьма предварительную, но важную по подходу работу 1982 г., опубликованную в Самарканде, позвонил и дал массу лестных характеристик. Он даже стал рекомендовать изучение брошюры основным членам его семинара. Но период открытого позитивного отношения был недолгим. И к концу 80-х гг. его следы "затерялись".
Но в 1986 г. вышло более совершенное изложение и в более принципиальной форме, в системе различений, изданное также в Самарканде. А в 1989 г. появилась основная версия как "методологическая" версия категориального аппарата психологии, в Новгороде. С ней многие методологи ознакомились, в том числе и вне пространства ММПК. Однако во встречах конца 80-х и начала 90-х гг. Г.П. Щедровицкий не проявлял интереса к этим работам, а к работам "собственно" методологическим и ЯТД относился с саркастическим юмором (например, к "Основам методологического мышления" издания 1989 г.). Причина невнимания "дометодологических" специалистов и обостренного критического отношения в ММК является сама техника построения содержательных конструкций в наших основных сочинениях после 1988 г. Мы использовали принцип систематического уточнения или "восхождения", "метод Гегеля". Он предполагает совершенно иную, по уровню самоорганизации мыслительную работу в понимании. Трудность следования такой форме опознавалась сразу после обсуждения оснований подобного мышления Кантом, Фихте и Гегелем. В своих докладах, где материалом служили взгляды Гегеля или привлекались эти взгляды в качестве прототипов или оснований, сделанных в ММК в середине 70-х гг. мы встретились со всеми типовыми трудностями, как в понимании Гегеля, так и в понимании нас, как "адепта" Гегеля. Но, не разобравшись с "методом Гегеля", этим центральным узлом в истории логики и философской методологии, нельзя понять дискуссии и внутри самого ММК, причины "до гегельянской реконструкции взглядов Гегеля еще в конце 70-х гг., но произвели эту работу лишь в конце 1999 г. и опубликовали в 2000 г. (см.: Анисимов, 2000). Несколько позднее, в 2002 г. мы решили сделать более ясным переход от фихтеанской постановки проблемы к гегельянской, реконструировав взгляды Фихте о философском мышлении (см.: Анисимов, 2002; 2004). Очертания этих проблем нам стали ясными еще в середине 70-х гг., когда мы делали реконструкции линии взглядов "идеалистов" о познании (см.: Анисимов, 2001), а также оценок марксистского метода и системы Гегеля (см.: О.С. Анисимов: 2002).
Современное университетское образование и вообще высшее образование оставляет своих учеников наедине с подобными проблемами, если они даже и возникают, не помогают разобраться в них, не дают соответствующих магистральных и специальных курсов по логике и культуре мышления. В том числе это касается и теоретического мышления, специфичного для использования указанных форм организации мысли. Поэтому образование консервирует докантианский, а затем и дофихтеанский, а тем более – догегелианский период рефлексии сущности мышления. Этим предопределяет и отсутствие профессионализированных теоретиков во всех областях научного познания. Не случайна жесткая оценка гуманитарных наук, данная прародителем ММК А.А. Зиновьевым в 2003 г. в нашем совместном интервью журналу "Кентавр" (см. также: Анисимов, 2004). Гуманитарная наука остается опирающейся на ученых, мышление которых не организуется логически, а потому остающихся дотеоретическими мыслителями. В таком расширенном понимании А.А. Зиновьева, мы могли бы сохранить основную линию критики, отметив, что даже проблемы, поставленные Платоном (и Сократом), Аристотелем остались вне сознательного удержания и разрешения в умах, мышлении современных ученых. Весь пафос критики и опыт дискуссий методологов с учеными в период с конца 50-х гг. лишь подтверждает наивность рефлексивного осознания проблем в среде даже "ведущих" ученых.
Тем более странным нам казалось непонимание проблем, обсуждаемых Кантом, Гегелем, Фихте, легко освещаемых при применении "метода Гегеля" в среде самих методологов. При всех несогласиях с конкретными утверждениями, что всегда возможно и естественно, мы не могли согласиться с легкостью рефлексивного анализа хода критики и даже самого процесса изложения нашей либо иной мысли. Имея практику работы с текстами, имея соответствующий МРТ, могущий быть системой опор для критики любого типа и уровня, мы стремились приближаться к общим условиям разбирательства с "нейтральной" Установкой на истинность. Но мы почти не встречали сознательное и полноценное, принципиальное согласие на столь усложненный вариант выяснений. Не чувствуя желание разобраться вне предубежденности и эгоцентричности мы чаще сворачивали соответствующие возможности в дискутировании, не шли на них вне открытого согласия на них.
Не обсуждая "Азбуку" и другие важные работы в пространстве ММК, не имея мотивации излагать свои взгляды в изданиях ММК, мы переносили всю полемику во внутрь ММПК, стремясь мыслительно создавать любые варианты "за" и "против". В версии 1979 г. мы не выделяли слой додеятельностной, более метафизической системы различений, оставаясь внутри рамок деятельностного подхода. В середине 70-х гг. мы пребывали в этом слое, особенно в ходе реконструкции взглядов Гегеля. Но к 1977 г. мы осознанно осуществили переакцентировку с содержания на форму мысли и стали методологом в прямом смысле, преодолев некоторый синкретизм подходов. В то же время метафизический слой онтологии сохранился особенно отчетливо в одном из инструментов, компонентов ядра парадигмы (схема №3). В ней выражался всеобщий принцип "встреч" функциональной формы и морфологии, отождествление, разотождествление, гармонизация. В то время акцентировалась сторона встреч, характерных для мира деятельности, для соотнесения норм и ресурсов. Однако уже в начале 80-х гг. возникла необходимость системного анализа явлений не только деятельностного, но и любого другого типа. Наш соратник и друг В.С.-Б.Бязыров предложил разобраться в тайне числа "7" в контексте ряда интереснейших дискуссий, в которые он включался как энциклопедический мыслитель. В этих дискуссиях участвовали многие оригинальные мыслители, в том числе В.Н.Коровяков, П.Г. Кудряшов и др., а через отнесение к истории – Бартини, Крон и др. Тем более что выделенность числа "7" в экспериментах В.Н. Коровякова была столь яркой и всеобщей, что В. Бязыров не мог не обратить на это внимание и вовлекал нас в дискуссию как бы рефлексивно, надстроечно.
Мы с удовольствием тратили дни и недели при наших встречах 1981–1984 гг. для раскрытия внутренних причин прихода к семиричным типологиям явлений, теоретических различений и т.п. Материалом выступали знания в самых разных предметах. В качестве основания для понимания мы и вводили нашу "схему №3" или "становление организованности". Мы учитывали привычный тип системных различений, принятый в ММК. Кроме того, в разное время мы привлекали в свои дискуссии и размышления различные теории систем, концепций системно-структурного анализа (Берталамфи и др.). В то время взгляды А.А.Богданова оказались вне нашего внимания.
Схема "становление организованности" позволяла отвечать на огромное число вопросов, а В.Бязыров часто отмечал, что даже схемы "Азбуки" у нас "семиричны". Вся парадигма вытекает из этого и т.п. В то же время в начале 80-х гг. мы не выделили онтологическую характеристику форм в собственно онтологическом, а не инструментально-мыслительном подходе. Мы как бы лишь разъясняли, с привлечением мыслительного инструмента, предлагаемые узлы непонимания. По ходу создавались самые многочисленные фрагменты мировоззрения, в котором деятельностный мир являлся вполне локализованным "слоем".
В середине 90-х гг. мы обратили внимание на принципиальную роль формной стороны анализа всего, любого "нечто". Допринципиальная точка зрения существовала всегда. Ее прототипы лежали "на поверхности" при анализе любых нормо-реализационных отношений. Переакцентировка имела причинами ряд обстоятельств. С 1993 г. мы стали работать на кафедре акмеологии Академии управления, а сейчас – РАГС при Президенте РФ. Основной категорией для акмеологических поисков была категория "развитие", "развитие человека" и т.п. Достаточно быстро мы поняли, что понимание развития на кафедре оставалось и остается достаточно поверхностным. В 1991 г. в период работы в Научно-методическом центре Гособразования СССР нас стимулировали на подготовку к защите докторской диссертации, и мы придали целостный и систематический характер схематизации теоретических материалов по ряду областей психологического, педагогического и т.п. знания. Одной из линий, занимавшая важнейшее место в ряду других, была линия концепций развития. Многие материалы и их схематизация были созданы еще в 1984–1985 гг. в период подготовки "учебника по психологии". Идя по теме "интеллект и воля" мы вновь вернулись к учению о духе (Гегеля), о развитии в этой конструкции мысли. Еще раз убедились в преимуществе версии Гегеля над всеми иными. Все это помогло, возвратившись к проблеме развития, придать этой проблеме метафизическую высоту. Еще раз мы стали анализировать гегелевские различения, основные характеристики "нечто". В результате в 1996 г. мы "допоняли" особую роль форм в их метафизической содержательности. Формы стали для нас не только отчужденными, как это легко фиксировалось в теории деятельности, но и "неотчужденно", как живые формы. Трансформации форм в их усложнении также стали живыми и вели по линии развития с учетом динамики отношений с морфологией "нечто". В этом контексте по новому стали видеться различения начала 80-х гг. По новому оценивались и концепции развития. Мы соотнесли анализ нечто, а точнее "нечто в универсуме" – с тем, что обсуждалось в начале 80-х гг. по теме "семерка". Так появились метафизическая концепция развития, ее приложение к развитию психики, деятельности, мышления и т.п. Сначала, воодушевленные полученным результатом, мы решили показать изданную нами (В. Матросовым) в Калуге брошюру на кафедре и стимулировать дискуссии категориального уровня. Но это нам не удалось, и работа осталась "незамеченной" при относительной известности более ранней работы по акмеологии ("Основы общей и управленческой акмеологии" М. 1995).
Другим фактором, стимулировавшим переакцентировку, выступило общение с А. и И. Шварценберг, размышления метафизического и эзотерического типа, взаимодействие с группой эзотерического анализа и разработок проблем стимулирования "тонких энергий", роста сознания и т.п. (А. Пижонков, С. Семенов и др.), чтение эзотерической литературы и т.п. Давно знакомый тезис Аристотеля о двойной природе любого существующего, нечто – форма и материя – стал осмысливаться универсумально и в динамике форм.
Написав в 1996 г. работу по понятию развития в универсуме, мы получили еще и инструментальный результат. Практически появилось многоуровневое средство системного анализа с типовыми и контролируемыми фокусировками, с процессуальной формой переходов от акцента к акценту, простого к сложному и т.д. Эти же средства можно было использовать в диагностике и реконструкциях, прогностике и проектировании, проблематизации и депроблематизации (см. также: О.С. Анисимов: 1997). Позднее, после реконструкции взглядов Фихте мы обратили внимание на концепцию А.А.Богданова и реконструировали ее, воодушевляясь развернутой версией структурного и системного анализа, средств анализа (см.: О.С. Анисимов: 2002). Мы были уже готовы видеть вне временные удачи мыслителя и некоторую ограниченность именно в слое отношений между функциональной формой и морфологией, в слое особого бытия функциональных форм. Подобные ощущения были и при реконструкции взглядов Маркса, его экономической онтологии (см.: О.С. Анисимов: 2002). Проявленность функционального момента мы ощущали еще в работе с его "Экономическими рукописями" в начале 60-х гг. и несколько позднее, особенно в период применения МРТ к начальным главам "Капитала" в 1977–1979 гг. в МИСИС в связи с вовлечением в более сложную форму применения МРТ для желающих студентов этого вуза. В целом, мы значительно углубили для себя понимание функциональности, внося в нее метафизический контекст и вспоминая многие мысли Платона и Аристотеля, а также ряда других мыслителей Древней Греции. Это отразилось и на желании реконструировать взгляды Прокла, Плотина и др. (см.: О.С. Анисимов: 2001).
К 2000 году мы были готовы совместить ряд "заготовок", позволяющих пройти путь от всеобщего начала всего, от его доопределения в виде "нечто" до жизнедеятельности и всех типовых качественных переходов к высшим формам бытия, вплоть до духовного. Этому способствовало и наше участие в работе межвузовского центра технологий эколого-педагогического образования, стимулированного его руководителем С.Н.Глазачевым в 1994 г. В ходе обсуждения главных проблем экологического образования появилась необходимость разобраться в сущности "экологического", экологических действий, рефлексии, осознания, мышления и др. Достаточно быстро мы пришли к пониманию экологического действия как опирающегося на широчайшую ориентировку, гарантирующую от нанесения дополнительного вреда средам и самому человеку, сообществу, гарантирующую вписанность в большие среды. Это понимание остается "периферическим" в поле сложившихся версий, но мы были принципиально сохраняющими согласованную с С.Н.Глазачевым версию "экологичности". Он, к нашему великому удовлетворению, принципиально положительно отнесся к методологическому подходу в нашей редакции еще во времена руководства последипломным образованием в Гособразовании СССР в конце 80-х и начале 90-х гг. Неслучайным было его предложение сотрудничать в ЭКОцентре. Все сложнейшие технологические и концептуальные размышления он рассматривал как крайне перспективные и поддерживал их. В конце 90-х гг. он предложил оформить взгляды на "экологическое". Для решения такой задачи мы попросили дать материал "понятийных" определений и использовали предоставленную массу характеристик для применения МРТ. В результате появилась демонстрационная работа в общей рамке показа возможностей МРТ (см. также: О.С. Анисимов: 2001). В этой работе выделился признак экологичности принимаемых решений – "универсумальной вписанности", что соприкасалось с системой различений в работах 1996–1997 гг., посвященных бытию "нечто" в универсуме. Если "нечто" имеет свою живую форму, способную к рефлексивности и осознанию не только себя и иных "нечто", но и универсума, и этим обнаруживать свою формность как результат самодифференцировок всеобщей формы, ее первопричины, а затем способную предопределить свое проявление и привлечение морфологии под свои особенности подчиненностью первопричиннам универсумальной формы, то это отношение формы рефлектирующего "нечто" к универсуму становится духовным. Таким образом, завершался цикл разработок системного типа относительно универсума и его частей, разработок мировоззренческого характера, в которых совместились многие концептуальные реконструкции мировоззренческих систем, заимствования и в философии, ив религиозных учениях (см. также: Анисимов, 1998; 2001; 2002). Наряду с мировоззрением согласованию и усмотрению подверглось и мироотношение. Доопределилось понимание "ценностей" и духовного типа, начавшееся еще в период функционально-концептуального структурирования рефлексии в связи с технологическим утончением работы в играх, особенно учебных играх в ВШУ (1989–1991 гг.). К началу 2000 г. мы уже оперировали воззрением об универсумальной форме в ее потенциальности и актуализации, ее морфологическом отчуждении и самоотнесении моментов исходной неотчужденности и вторичной отчужденности. Это совмещалось с общей линией бытия духа по Гегелю. Неслучайно, что понимание гегелевской концепции религии также утончилось и углубилось в это время.
Иначе говоря, размышления об "экологичности" поступков и мышления, рефлексии и т.п. вписались в линию мировоззренческих и мироотношенческих поисков, доопределений, резко усилив доопределение свойств духовности. Онтологические разработки не теряли связь с "технической", формно-оперативной стороной разработок. Это отразилось позднее и на существенном смещении акцентов в анализе идеалов, идеологии в 2003–2004 гг. (см. также: О.С. Анисимов: 2004).
Мировоззренческая линия размышлений привела к выделению собственно онтологического слоя языка. Фиксируя дифференциальные базисные схемы конца 1999 г. мы, учитывая и "наводки" некоторых членов семинара (В. Верхоглазенко, А. Емельянова, С. Чекина и др.) создали интегральную схему "Азбуки", замещающую ей предшествующие 14 дифференциальных схем (схема №15). Эта схема позволяла непосредственно использовать "метод Гегеля" или ЛСУ для слежения за усложнением бытия, за переходом от менее развитых типов "нечто" к более развитым.
Мы разделили несколько типов (уровней) бытия: жизнедеятельность, социодинамику, социокультурную динамику, деятельность, культуру, духовную динамику и вторичные типы бытия (например: экономическое, политическое и т.п.). Онтологизация "Азбуки" создала качественно новые возможности в повышении формной определенности мышления и рефлексии. Возникла перспектива особой "рутинизации" методологического мышления, в которой мы нуждались в различной степени и в 80-е и в 90-е гг. Некоторый формализм при порождении морфологических задач с опорой на дифференциальные, парадигматические схемы, мог быть уже преодолен.
Начиная с 2000 г. серию модулей по теме: "Трансляция ЯТД", мы видели рост энтузиазма у участников, так как многие вопросы содержательного анализа находили ответы при удержании всей необходимости формных вопросов и путей ответа на них. Параллельно со все более очевидным осознанием появления нового этапа мыслительной культуры в рефлексивной практике, в управлении, аналитике, педагогической работе, игротехнике возникли устремления к переносу новых возможностей во все виды работы, включая и семинар, и преподавание в вузах, и консультирование. Если раньше можно было наблюдать определенную степень оторванности системно-структурного и онтологического, а также логико-мыслительного анализов, то в этот идеологический момент мы ощущали гармонизацию всех сторон анализа.
IV
Полученные результаты оказали существенное влияние на ход разработок по теме "Культура принятия решений" и по теме "Принятие управленческих решений", предпринятых с 2002 г. онтологическая определенность, полученная и на метауровне, и на более конкретных условиях, в том числе, деятельностном, помещенность всех уровней в единую "мыслительную пирамиду", а также ряд успешных опытов использования онтологических средств в игромоделировании обусловили смещение интегральной тематики в сторону ПУР.
Попытки неслучайной организации методологических и рефлексивных процедур были и раньше. Вся рефлексивная практика в методологическом пространстве была связана с принятием решений. Однако огромное количество факторов и их группировок в этом процессе порождали иллюзию ситуативности в принятии решений. Еще в начале 80-х гг. все старания в обосновании решений, которые мы принимали, не порождало той меры "неизбежности", которую мы хотели подчеркнуть и стремились к ней. Понимая, что субъективная свобода в принятии решений неизбежна, и она компенсируется не только факторами и условиями, как бы "внешне-объективной" логикой, но и сущностными основаниями, выраженными в системе средств ЯТД, мы, реализуя методологический подход и ориентиры, данные Гегелем, соединяли историзм, ситуационность с логико-мыслительной компенсацией, коррекцией, "выпрямлением" содержания принятия решений с помощью ЯТД и его ядром – "Азбукой". Гегель называл этот тип движения мысли – следованием "абсолютной логике", в которой высшая форма и неслучайность движения мысли шла в русле полной подчиненности содержательности, сущностной основе "объектности". Для получения такого эффекта нужно было, говоря терминами Канта, "чистый разум" сделать выражающим практический разум, а практический разум сделать подчиненным чистому разуму. Опыт следования этому принципу и на семинарах, и в тренингах, и в иных формах решения задач того времени (конец 70-х – начало 80-х гг.) оставался далеко недостаточно точно понят на практике, а не только в качестве установок. Поэтому нередки в начале 80-х гг. были размышления о "непредсказуемости" О.С. Анисимова, "невозможности повторить его опыт" и т.п. Характерно, что становящийся более других оспособленным и проявляющим лидерские качества участник семинара таким образом трактовал происходящее в наиболее трудные моменты жизни семинара или на переломных точках своего развития (С. Самошкин, П. Мейтув, Е. Комраков, Н. Федулов и др.). С появлением организационно-деятельностных игр (ОДИ) стало очевидным, что принятие решений (ПР) в них, особенно в игротехнической позиции, требует наибольшей способности и освоенности арсенала ЯТД и соответствующих форм мышления. Участвуя в ряде ОДИ в рамках ММК и рефлексии игр, мы ставили вопросы и о структуре, динамике игрового механизма, и специфике ПР в позициях игрока, игротехника, руководителя игры и т.п. На ОДИ–3 в 1980 г. под Свердловском, осуществляя по предложению Г.П. Щедровицкого игротехническую работу и рефлексируя ее совместно с В. Бязыровым, мы стали понимать не только субъективную, объективную логику игротехнического поведения, но и "абсолютную логику". Хотя это были сравнительно упрощенные прозрения, но уже в 1981 г. в ходе взаимодействия с Д. Ардыковым по поводу его докторской диссертации, мы быстро преодолели предварительность понимания и к концу 1981 г. были готовы систематически раскрывать тайны ОДИ. Для увеличения практической базы игрового моделирования мы стали проводить внутренние игры, смещая фокусировки в мыслительную составляющую и этим превращая их в организационно-мыслительные игры (ОМИ). Примером внутренней игры была ОМИ в 1984 г. протяженностью несколько месяцев, хотя и с большими приостановками во времени из-за режима работы в течение недели.
И все же само ПР в сложных условиях игромоделирования не способствовало нужной мере рутинизации для придания всей игротехнике задачного характера. Игротехника оставалась предельно "проблемной", насыщенной ситуационной зависимостью. Опыт проведения игр с 1986 г. (в Риге, Уфе, Москве, Сыктывкаре, Алма-Ате др.) и даже переход к учебным играм в ВШУ в 1988 г. не уменьшил проблемности за счет потенциально возможной задачности игротехники. Введение технологии работы в рефлексии на 3, 4, 5 функциональных местах, "досках" породило некоторую надежду на рутинизацию и усиление доли задачности в мыслетехнике. В 1989 г. мы обсуждали работу на 3-х, а потом – на 4-х "досках". При этом введение 4-й доски, концептуальной – непосредственно подвело нас к технике двойного характера – задачной и проблемной, позволило начать отрабатывать процедуры проблематизации и депроблематизации. Последовательная структура игр предполагала наличие 2-й и 3-й ОДИ или ОМИ, направленных именно на отработку мышления в линии постановки и решения задач и проблем. При всех усилиях, которые были приложены в 1988–1990 гг., а затем и позднее, когда стала свертываться учебная программа до сведения к одной игре, нам не удалось отработать эти формы мышления в желаемой степени их рутинизации. Неслучайно нас упрекали в колоссальной сложности работы и ее "непосильности" для обучаемых. Рутинизация не удавалась не только в руках обучаемых (резерв управления), но и в руках игротехников. Значительные накопления стереотипов и внешней успешности лидеров того времени (П. Мейтув, В. Чернушевич, Е. Ткаченко и др.) не снимали указанную проблему. Более того, в модулях первого и второго циклов начала 90-х гг. лидеры не смогли показать "устойчивой" задачности и "проблемности" мышления на 3-й доске, где встречаются материал и средства мышления, субъект и предикат мысли по общим схемам логической формы мышления. Переходя в конце 1994 г. к линии модулей для лидеров, мы надеялись более спокойно и неторопливо выявить причины неудач и найти пути к решению этих проблем. Огромную роль в продвижении к решению проблем сыграло проведение мыслетехнических проблемно-проектных модулей и, в частности, "онтологического" модуля 1996 г. (см.: О.С. Анисимов: 2003). Мы тогда разделили персонажей по структуре схемы "акта мысли" и осуществляли моделирование единицы языкового мышления с расслоением на ряд типовых, фундаментальных моментов. На успехах этого замечательного модуля мы опирались в планировании и осуществлении нескольких модулей мыслетехнической ориентации.
В 1995 г. нам удалось "вчерне" смоделировать целостный рефлексивный процесс на 5 досках, сосредоточив в качестве моделирующих лучший на то время состав игротехников (В. Верхоглазенко, А. Емельянов, А. Смирнов, И. Майзлер, В. Матросов). Успех, хотя и невысокий по качеству был принципиально значимым. Мы хотели более тщательно его раскрыть и укрепить в отработке. Для этого мы перешли к технологии использования диалогов-сценариев, что открыло в педагогическом и методическом контекстах огромные дополнительные и принципиальные возможности, что было выражено в работе 1996 г., опубликованной А. Ивлевым (см.: О.С. Анисимов: 1996, а также: 1998; 2002). С тех пор место диалогов как средств организации модельных процедур на модулях постоянно увеличивалась по его технологической и игротехнической значимости. К концу 90-х гг. ни один модуль не проводился без опоры на специально написанный по теме диалог. Педагог, игротехник приобретал возможность управлять мышлением, сознаванием, самосознаванием игроков. В конце 90-х гг. ряд успехов в решении поставленных здесь проблем был достигнут на модулях, проведенных в Омске, Новокузнецке. И все же они были в своей основе принципиальными успехами, и оставалось пройти путь к рутинизации и достижению надежных, индивидуализированных результатов.
Приступив к моделированию ПУР, мы ввели уровни усложнения самого механизма ПУР (см.: О.С. Анисимов: 2002; 2004). Особую роль в развитии механизма ПУР играли следующие моменты. Во-первых, переход в управленческой коммуникации к арбитражу и применению арбитражных средств мышления. Это было равнозначно осознанному применению 4–1 рефлексивной "доски" и применению затем задачной и проблемной форм организации мышления. Во-вторых, переход от доонтологических к онтологическим арбитражным средствам, что вносило в ПУР звено мировоззрения, а также, через внесения подобных онтологических схем на 5-ю доску – мироотношения. В-третьих, переход к онтологиям, содержание которых раскрывалось "псевдогенетически", в рамках ЛСУ, "метода Гегеля". Наиболее обоснованными предстают решения, опирающиеся именно на псевдогенетически построенные онтологии, требующие высшего уровня мыслительной и рефлексивной культуры и рефлексивной самоорганизации. Именно здесь возможна неслучайность духовной самоорганизации.
Уже в 2002 г. мы создали условия для моделирования согласования в ходе ПУР за счет согласования процессов ПУР в отдельных позициях и перехода к иерархизации межпозиционных отношений в ходе ПУР. Этим мы стали переходить к моделированию ПУР в управленческих иерархиях. Значимость и энтузиазм в подобных разработках незаметно привели к моделированию принятия государственных решений. Летом в 2002 г. в процессе особой работы на Иссык-Куле мы использовали относительно свободное, между пленарными взаимодействиями, время для написания диалога по проблемам ПУР в позиции иерарха – Президента. Особое ощущение высокого практицизма разработок при сохранении всех атрибутов методологического поиска сопровождало весь процесс написания и обсуждения с теми, кто работал с нами "параллельно" по иной теме (М. Айманов, Е. Останина, С. Ваннер). К концу 2004 г. мы написали цикл диалогов, специально предназначенных для Президентов, серьезная работа с которыми, понимание, усвоение, налаживание применения во всех рефлексивных функциях позволяла бы вырастить Президентов, Премьеров и др. на самом высоком уровне их профессиональной культуры управленческого мышления (см. О.С. Анисимов: 2004).
Особо следует подчеркнуть стратегичность позиции иерарха в управленческой иерархии. Еще в 199 г. в первой крупной и принципиальной работе по сущности стратегий и стратегического мышления мы показали роль мышления, оперирующего высшими абстракциями не только в познавательной, но и нормативной функции, а также в прогностической и проблематизирующей функции (см. О.С. Анисимов: 1999). В ряде работ мы усилили эту линию, а в 2004 г., также на Иссык-Куле, дали развернутую характеристику и стратегии, и стратегическому мышлению, и профессиональным качествам стратега, крайне значимымы для мышления иерарха. Именно в позиции иерарха особую роль играет оперирование субъектом и предикатом мысли, так как от успеха или ошибок иерарха как стратега зависит успех или неудача в работе всей иерархии, решение или не решение практических проблем в больших и малых организационных структурах, в управлении общественными системами.
В связи с началом реализации крупнейшего замысла по созданию специального учебного процесса для стратегов, возникшего в ходе обсуждений в 2003 г. с А.Г. Прохода технологий деятельности высших должностных лиц, а также смещением акцентов в работе семинара при его переходе на территорию ИПК Госслужбы, мы выделили еще несколько акцентов. Принятие решений и их реализация в управленческих иерархиях предполагают вполне определенное взаимодействие участников этой иерархии. Мы постепенно создали комплекс фокусировок, от совмещения которых зависит успешность работы иерархических структур. Самое простое понимание бытия в этих структурах состоит в том, что люди размещены на разных уровнях и в разных звеньях "организационной пирамиды". Тот, кто "выше" в этой пирамиде является более значимым и ответственным, предопределяющим действия "нижестоящих". Здесь действует принцип "власть – подчинение", послушания вышестоящему и свобода мнения для вышестоящего. На нижнем уровне иерархии реализуется управленческое отношение с "подлинными" исполнителями. Оно всегда локализовано и целое охватывается многими одноуровневыми управленцами. Для создания эффекта целостности управленцы должны "согласоваться". Это касается и управления множеством разнотипных исполнительских структур. Вышестоящий управленец рассматривает в функции "исполнителей" некоторое число управленцев нижестоящего уровня. Он должен согласоваться в управлении с другими управленцами этого же уровня для создания целостного управленческого эффекта. Лишь иерарх не согласуется, так как он остается один на своем уровне. Мы пока не рассматриваем все типы сервисов управления, влияющих на те отношения, о которых ведется речь. Мера властности и ее жесткости, случайности или неслучайности, гибкости – зависит от тех, кто помещается на том или ином месте. От них зависит и характер согласований, достижимость целостной для иерархии согласованности.
Но все управленцы реализуют те же абстрактные, всеобщие управленческие функции и их результатом является соответствующее множество норм, предписаний, множество действий по ресурсному обеспечению реализации норм, множества контрольно-корректировочных действий. Так как управленец создает форму исполнительской деятельности, а лишь затем находит, создает и т.п. ресурсную морфологию для "заполнения" мест в конкретизированной, нормативной форме, то он предстает прежде всего как рефлексирующий мыслитель. Поэтому и управленческая иерархия осуществляет рефлектирующее мышление и, в том числе, ПУР. Но это означает, что качество управленческого мышления иерархии зависит от качества мышления всех участников иерархического управления, от качества согласования мышлений в ходе ПУР в каждом звене, от качества придания единости всему мышлению в иерархии.
Таким образом, можно обсуждать типы совмещений всех участников процесса ПУР, а затем их реализации, переходы от "хаоса" к "организованности" в иерархическом управленческом мышлении. В случае максимальной организованности иерархического мышления результаты мышления иерарха не "теряются", не "перефразируются" и реформируются вне принципа содержательного сохранения, а конкретизируются. Этим возникает явление реализуемости этих результатов на всех уровнях иерархии. В ином типе совмещения уровень сохранения понижается, а в "хаосе" – теряется полностью. Так как иерарх стратегичен по своей функции, то можно выявлять варианты объема реализуемости фиксированных стратегий иерарха (Президента, Премьера, Министра и т.п.). Мы ввели термин "мыслительная пирамида" иерархии и показали, что соблюдение ЛСУ, требований, проистекающих из "метода Гегеля" предопределяет интегральный эффект единости иерархического мышления и сохранности базисных стратегий при их тактической или иной конкретизации. Но это означает, что все участники иерархического управления должны научиться мыслительно действовать в соответствии с требованиями "мыслительной пирамиды". Каждый должен "правильно" мыслить на своем месте, но вписывать свое мышление в мышление всей иерархии, перемещать и трасформировать (абстрагировать, конкретизировать), осуществлять (соотнося субъекты и предикаты в задачном и проблемном режиме) мышление как агента единого движения содержания.
Когда участники семинара привыкли к этим различениям, у них возник вопрос о критикуемости иерарха и иных участников иерархического мышления. Это означает, что иерарх и вышестоящие либо имеют неоформленное содержание мысли, результат мышления, неоформленные процессы мышления, либо неверные результаты, неправильно построенные процессы. И тогда мы ввели "обычные" процедуры обнаружения неоформленности, неверности, внутреннюю проблематизацию, а также сервисы, обеспечивающие контроль и критику хода мышления в иерархии. Она должна быть также оформленной, правильной, демонстративной, удобной для слежения и внесения критики. Особым вариантом критики является критика внешняя, особенно, "снизу", сто и соответствует идеям гражданского общества. Однако эта критика либо должна иметь сервис оформления, методологического и иного консультирования по форме организации содержаний и процессов мышления, либо участник критики должны иметь специальную общекультурную и методологическую подготовку, что более характерно для специализирующихся на мыслительной, критической, аналитической работе, для лидеров с установкой на профессионализацию аналитической работы.
Дополнительно мы ввели еще и потребностно-мотивационные и самоорганизационные условия соблюдения указанных требований. А такие условия ведут к появлению социокультурных отношений, этике, внутренней культуре участников управления в иерархиях. В результате оформления этих идей мы ввели представления о "самоопределенческой пирамиде" и иных, например, "волевой", "самоорганизационной" пирамидах в рамках управленческой иерархии.
Иначе говоря, переходя от организационной к мыслительной, а затем самоопределенческой и др. пирамидам мы создали образ бытия иерархий, нереалистичный без глубокого субъективного развития управленцев, без духовного развития, в частности. Но, предполагая все это, нужно не забыть, что оперативная эффективность определяется, прежде всего, мыслительной и самоопределенческой "пирамидальностью", в которой преодолеваются пороки эгоцентризма и другие, "популярные" качества реальных управленцев.
V
Приступим к раскрытию особенностей опыта преподавания мыслетехнически организованного учебного курса "Разработка управленческих решений". После перехода на кафедру "социальная инженерия" в 2003 г. нам было поручено преподавание этого курса. Отсутствие программы и указаний предшественников открывало возможность строить курс так, как нам бы хотелось. Этот курс размещен в программе 4–5 курсов Социального университета по управленческим специальностям. То, что студенты уже имеют устойчивые стереотипы способов бытия в учебных предметах и в учебном процессе в целом, и эти стереотипы резко отличаются от "стереотипов" бытия наших учеников на семинарах, на модулях и т.п., что и имеющиеся стереотипы несут все пороки традиционного учебного процесса, нам было ясно с самого начала. Когда в 1989 г. мы интегрировали содержания ряда текстов по педагогической психологии и педагогике, написанные в 1986–1987 гг. во время работы на межвузовской кафедре педагогики и психологии Высшей школы (в МТИПП) и дописывали фрагменты, вошедшие в серию брошюр по педагогике Высшей школы, а затем в популярную книгу "Методологическая культура педагогической деятельности и мышления" (М. 1991) или "желтый кирпич", мы выделяли типовые макроцели и ценности образовательного процесса. Типы были "расположены" по уровням приближения к сущности и функции образования, а затем по уровням развития образовательной сферы. Поскольку установка на знания критиковалась еще в 60–70 гг. XX в. и вводилась значимость мышления, творчества, взаимодействия и т.п., а в 1979–1980 гг. мы, как и многие представители методологического движения, смещали акцент на рефлексивную самоорганизацию и культуру рефлектирующего мышления (см.: Анисимов, Охрименко, Чернушевич, Протасов – 1980, ч. 1 и 2; Анисимов, Охрименко, Чернушевич, Протасов, 1982), то в центре внимания мы ставили развитие механизмов универсального типа, определяющих профессиональную успешность и профессиональное саморазвитие. На этой основе мы акцентировали и в 1980 г. и тем более, в 1986–1989 гг. внимание на неслучайной рефлексивности и самоорганизации, что открывало возможность ввести методологические методы и средства (ЯТД) в универсумальный арсенал специалистов, транслируя под это все психические механизмы.
Практика учебно-педагогических взаимодействий, построенных на этой основе и в доигровой, и игровой периоды, начиная с самого создания ММПК в 1978 г., показала, что от ученика требуется совершенно иная техника пребывания в учебном процессе. Точно так же как требуется совершенно иная педагогическая техника во взаимодействии с учениками. Приобретение способности к учебной деятельности вообще (см., например, работы И.И. Ильясова и его учеников) и к рефлексивно организованным учебным взаимодействиям в частности являлось одной из принципиальных проблем даже для наиболее продвинутых в педагогических экспериментах исследовательских групп. Мы это ощущаем во взаимодействиях с рядом лидеров инноватики (например, с И.И. Ильясовым, П.И. Пидкасистым, А.М. Матюшкиным, В.В. Давыдовым, А.К. Марковой, В.М. Монаховым и др.). На себе недопонимание ощущали некоторые лидеры семинара начала 80-х гг. (С. Самошкин, И. Злотников, И. Постоленко, А. Михайлов и др.). В более тонком и "внутреннем" варианте трения в понимании и взаимоотношениях возникали периодически и в ММПК.
Понимание в ученической позиции и его организация в педагогической позиции, уровень учебного самоопределения зависел от многих факторов внешнего и внутреннего характера. Наиболее адекватно получение нужного уровня самоопределения складывалось у тех, кто прошел сложную и разнообразную школу жизни и инновационных поисков (Ю. Ясницкий, В. Бязыров, В.А. Давыдов). Чаще рыхлость мотивационного механизма и его синкретические проявления в ходе самоопределения обуславливались ситуационностью историчностью ориентиров в самоопределении, отсутствием достаточно структурированного и неслучайного самоопределения. Даже регулярное внесение в нормативные рамки системодеятельностных конструкций оказывалось недостаточным. В критических ситуациях семинаристы как бы забывали системодеятельностные рамки и деформировали самоопределение под давлением более простых импульсов и ориентиров, стереотипов. Когда мы в 1982–1984 гг. стали активно вносить теоретико-психологические ориентиры для рефлексивной организации своих действий, а в 1986 г. ввели системно организованный аппарат теоретической психологии и устремили всех на овладение этим аппаратом, нам удалось немногое. Не удалось достигнуть согласованного осознания, что вне субъективного развития и пошажного взлета качества субъективной самоорганизации качество самоопределения, адекватность понимания происходящего в личном саморазвитии и состоянии дел в семинаре, ММПК в целом, в методологическом движении останется мало продвинутым.
Не раз ставился вопрос о систематическом овладении средствами организации саморазвития, в том числе собственно психологическими средствами. Но реальные условия всегда были очень сложными и динамичными, что тактически мы все время отставали в реальном продвижении типового участника ММПК, а стратегические перспективы, возникающие в продвижении основной линии разработок, как бы не доходили до каждого в силу всей суммы индивидуальных и групповых условий. Наиболее подконтрольной оставалась линия техники мышления. Попытки усиления психотехнической и группотехнической стороны продвижения вперед для каждого оставались менее развитыми и "захлебывались" отсутствием регулярного собственно культурно-субъективного образования. Мы наблюдали досадный, но вынужденный дилетантизм семинаристов. Те же члены ММПК, которые начинали ускорять свое внутреннее развитие, часто уходили от "опеки" и индивидуализировали дальнейшее продвижение вперед.
Именно оформление второго варианта "Азбуки" в 2000 г. и резкое усиление онтологического направления в поисках, появление такого инструмента мысли и самоопределения как схема №15, а также 15-штрих в "Азбуке" и "Методологическом словаре" в 2001 г. позволяло разорвать порочный круг и перейти к новому этапу организации субъективного развития как внутри семинара, так и в вузах. Этим предопределилась наша установка вводить ориентиры мировоззренческого характера, с привлечением различений типов и уровней бытия (жизнедеятельности, социодинамики, социокультурной динамики, деятельности, культуры и др.) до вхождения в основные части учебных курсов. Мы реализовывали эту установку и в экспериментальной школе №1804 для VII класса, и в курсах по акмеологии в нескольких университетах, и на кафедре акмеологии в РАГС, и по курсу "Разработка управленческих решений" в РГСУ. В подобной работе принял активное участие С. Чекин и наблюдали за ходом поисков Г. Хохлова, А. Инфанов, И.Н. Попов и др. Только построив мировоззренческую "карту" можно было придавать организованность как оперативным процедурам, так и самоопределению, в том числе – учебному, педагогическому, управленческому и т.п.
В 2003–2004 учебном году мы шли в решении педагогических задач по инерции преимущественного введения теоретических ориентиров с внесением сопровождающих иллюстраций. Этим мы надеялись создать базу для будущей практики ПУР разработки их. Основным звеном содержания выступало представление о "Т-цикле" управленческого мышления, разработанного еще в начале 80-х гг. в цикле подготовки к будущим серьезным дискуссиям с Г.П. Щедровицким по всем основным темам, касающимся инструментария ММК. Это содержание было ведущим и при построении учебного процесса в ВШУ на кафедре методологии. Но само введение "Т-цикла" следовало подготавливать в силу его большой сложности. Самое сложное в нем заключалось в создании кооперативно-деятельностных схем функционального типа. Мы их называли "пространством деятельности" и с 1981 г. говорили о технологии пространственно-деятельностного проектирования. Ряд разработок с С. Самошкиным, И. Злотниковым, И. Постоленко, А. Михайловым и др. были в рамках этой линии различений. Тем более что построение деятельностных пространств предполагало пользование базисными понятиями и ЛСУ. Функциональный характер этих технологий создавал контраст с анализом ресурсного типа, имеющий методологический акцент. В течение 80-х гг. мы несколько раз усиливали внимание этим процедурам. И все же она оставалась слабо освоенной. Неслучайно, что в первых циклах модулей в начале 90-х гг. даже тогдашние лидеры не могли в чистоте пройти мыслительный путь – на методологическом и логико-мыслительном модулях (Е. Ткаченко, Д. Пивоваров, В. Матросов, А. Смирнов, И. Стрыжков и др.). Для чистого прохождения требовалась мыслительная культура, работа с понятиями высокого уровня абстрактности, владение ЛСУ и т.п.
Естественно, что, рассматривая ПУР в русле "Т-цикла" и выделяя звено проблематизации, мы остальные содержания рассматривали как подготавливающие. Это касалось, тем более, преддеятельностных различений. Однако, как и в других вузах будущие управленцы не обладали не только содержательно-мыслительной и логико-мыслительной подготовленностью, но и стереотипами осмысленного участия в учебной работе, терпением и внимательностью к трудностям погружения в новые системы различений. Нам приходилось много времени тратить на воспитывающие воздействия. И это отдаляло возможность дойти до конечного результата. Тем более что многие студенты просто не привыкли систематически посещать занятия и добросовестно работать на занятиях. Они привыкли слушать и записывать, не проясняя для себя то, что успевают записать. А типового учебного пособия, где все разъяснено, мы предложить не могли. Такое пособие предстояло еще создавать. Мы не только проводили занятия, но и искали пути к конструированию учебного пособия. Мы осознавали, что все наши учебные пособия, появившиеся в конце 80-х и начале 90-х гг. были систематизированными изложениями теоретического материала. У нас не было времени заниматься иным. В то же время, ряд идей по конструкции учебных пособий и учебников появилось у нас еще после 1985 г. – в процессе преподавания на кафедре педагогики и психологии высшей школы, что отобразилось на содержании концепции обучения, той части, которая посвящена структуре учебного процесса (см. также: О.С. Анисимов: 1991).
Летом 2004 г. мы критически оценили опыт преподавания курса и отдельно осмыслили структуру контрольной курсовой работы. Она должна была содержать образцы принятия решений, разработки решений и их деформацию, подстройку под критерии ЯТД и той части, которая касается управленческого мышления. В конечном счете, мы решили рассмотреть весь учебный курс как систематическую подготовку к написанию курсовой работы. Более того, построить работу на семинарах как пробную отработку звеньев этого контрольного теста. Лекции, в свою очередь, прежде всего, направлялись на создание первичных образов тех средств, которые нужно было использовать в ходе тренировочных процедур на семинарах. Общая схема процедур давалась с самого начала и изложение на лекциях, организация педагогических воздействий на семинарах были подчинены той же форме. Большую роль в переходе на эту форму построения процессов в учебном курсе сыграло проведение особого цикла тренингов в начале 2004 г. по теме "Культура решения задач", стимулированного дискуссией с В. Никитиным. В этом тренинге, предназначенного для самых начинающих – вхождение в мыслительную культуру, мы вложили организационно-мыслительную схему, включающую переход от соотнесения субъекта с предикатом к задачной конкретизации соотнесения и дополненной рефлексией как мыслительных операций, так и хода самоопределения, выделив особо учебное самоопределение. Успех цикла тренингов и раскрытие различных причин успеха повлияло на проектирование всей мыслительной формы учебного курса "Разработка управленческих решений". В процессе доопределения технологических "деталей" и реализуя операционный принцип, мы стали требовать пошажность изложения материала субъекта и предиката мысли. Учитывая специфику темы курса и для облегчения учебной работы, в качестве субъекта мысли выступил образец принятия решения, в том числе управленческого решения. Поэтому предикаты должны были сущностно подчеркнуть различные стороны хода разработки и принятия управленческих решений. Пошажность касалась и образца процесса, и содержания инструментальных схем. Для придания операциональности принципу "пошажности" мы требовали создания списков тектов-характеристик, последовательность которых соответствует последовательности процессов в субъекте или предикате. Иначе говоря, имея тот или иной образ образца или содержания предиката, студенты должны были как бы описать и цепь описывающий рассуждений превратить в "список" пунктов как частей описания. Между субъективным наличием образа и, через него, самого "события" с его динамикой, с одной стороны, и цепи текстов-характеристик, где основное внимание уделялось выделению ключевых слов, с другой стороны, устанавливалось прямое соответствие. Лишь образы были "отражением" качественно различных типов объектов – реального и идеального, соответствующего, по функции в мышлении, субъекту и предикату.
Кроме того, мы разделили список, отнесенный к образцу, субъекту мысли – на два списка. В одном описывается ситуация разработки решения, а в другой – собственно ход разработки решения. Для перехода от списка к списку нужно было найти в первом списке элемент, включающий в себя по содержанию, ход разработки решения. Его и раскрывал второй список. Мы требовали не менее 5 пунктов в списке, чтобы более детально представлять ход принятия и разработки решения. Список, касающийся мыслительного инструмента, идеальных объектов, являлся третьим. Тем самым, студент должен был вспомнить или построить подобие реальной ситуации, в которой возникала сама необходимость разработки и принятия решений, затем – сам ход разработки и принятия решения, выразить все это в двух списках. Затем он должен был особо выделить то в ходе разработки решения, которое было связано с каким-либо затруднением, реагированием на него, преодолением затруднения. "Останавливаясь" на этом затруднении, в этом реагировании, находя соответствующее дополнительное действие, разрешающее трудность, студент должен был найти ему идеальный аналог или раскрывающее средство мысли, содержанием которого и выступало наличие и действие фактора, благоприятствующего или препятствующего успеху в разработке и принятию решения. Найдя аналог или средство мысли нужно было его процессуально раскрыть и создать на этой основе третий список.
Центральным звеном всей курсовой работы выступало демонстрирование мыслительного сопоставления "событийного" и "идеального", которое раскрывало бы сущностную основу "формы" принятия, разработки решения управленца. Пользуясь таким раскрытием можно было бы идти в подобные ситуации и применять целое "раскрытия" и "раскрытого" в качестве ориентира или прототипа или средства, организующего ход разработки и принятия решения, рефлексивную самоорганизацию в таком процессе. Так как каждый студент или мини группа студентов предлагает свой образец, то его анализ позволял бы обогатить набор образцов и ходов разработки и принятия решений. Одной из функций семинаров и выступало это обогащение в ходе аналитики, апробация понятого на новом материале, предлагаемом иными студентами.
В то же время те "трудности", с которыми сталкивается принимающий, разрабатывающий решения, обуславливаются самыми разнородными факторами. Для придания организованности факторному анализу мы и предлагали фундаментальный набор схем из "Азбуки" ЯТД. С самого начала мы вводили схему, в которой существует позиция управленца в "окружении" позиций заказчика и исполнителей, а затем и сервисов исполнительского и управленческого типа, по обращенности к базисным позициям, которые они обслуживают. Первой раскрывающей "конкретизирующей" схемой выступила схема рефлексии, так как псевдогенетической предпосылкой управленческой позиции является рефлексивное сопровождение действия. Из псевдогенетических соображений мы вводили и схемы жизнедеятельности, социодинамики, социокультурной динамики, мыслекоммуникации, тем самым, мы проходили путь к миру деятельности пошажно, показывая студентам неслучайность возникновения деятельности, разделения управленческой и исполнительской позиции и т.п. Но мы показывали также сохранность прежних псевдогенетических этапов в функционировании деятельности, действие факторов жизнедеятельности, конфликтности, согласованности, идентификационности, мыслекоммуникационности, различия самореализации в коммуникации и понимания, критики, арбитрирования, организации коммуникативных действий, привлечение языковых средств и способов оперирования ими, коррекции этих средств и т.п. Именно внесение каждой схемы в курс было подчинено критерию все более усложняемого показа изменений в процессе разработки и принятия решений. Лекционная линия создавала основу для введения в семинары-тренинги тех схем, без которых нельзя было написать курсовую работу, а также для демонстративного хода внесения этих схем в создание третьих списков. В конце семинарской части учебного курса можно было обсуждать отличия между принятием решений в жизнедеятельности, в социодинамике, в социокультурной динамике, в деятельности, в управленческой деятельности. Венцом раскрытия должен был быть показ развернутого процесса ПУР с внесением факторов всех типов. Однако это оказалось пока недостижимым.
Интересным представляется сопоставление опыта проведения данного курса и игромодельных разработок по линии ПУР в управленческих иерархиях. Непосредственно видно, что наш учебный курс является начальным звеном в общей линии усложнения вплоть до реально подобных ситуаций и механизмов ПУР в системах разного уровня сложности, в том числе и характерных для госуправления. Основная трудность и причина не эффективности и сверх упрощенности ПУР в реальных структурах видится в отсутствии у управленцев реалистического, но абстрактно выраженного мировоззрения, включая слой мира деятельности и управленческих систем, отсутствия базисного механизма мышления, соразмерного сложности привлекаемого содержания. Качественно разные слои миров не различаются и рассматриваются в едином потоке, а само рассмотрение остается крайне стихийным, индивидуализированным, докультурным. Соотносительными являются и процессуальные стороны реальных процедур ПУР. Первое, что появилось в работе студентов на семинаре, это отсутствие или затрудненное проявление в мышлении признака процессуальности, а точнее – "причинно-следственной" последовательности или "каузальности". Создавая списки и расставляя элементы списком друг за другом, они демонстрировали каузальные разрывы. Приходилось тратить много времени на опознание того, в чем состоит наше критическое отношение, чем мы "недовольны" в оценке переходов от одного элемента списка к другому. Содержание каждого элемента существовало у них как бы изолированно, и они не замечали изолированности, легко сочленяя содержание элемента с теми случайными фрагментами содержания, которые у них появлялись в сознании. Они могли достаточно легко изменять содержания, примыкающие к фиксированному за счет элемента списка. Часто и само содержание элемента списка оставалось "непрочным", быстро меняющимся. Для выявления разрывов по объектному содержанию, для организации осознания наличия разрывов мы применили схемотехнику. Однако самостоятельное использование схем с удержанием содержательности и следованием ей, подчинение объектной содержательности возникало не сразу и с трудом, так как преимущественной формой бытия содержательности в их сознании оставалась смысловая форма, начальная и докультурная, имеющая жизнедеятельностную основу. В психолингвистике, психологи развития и т.п. давно зафиксировано, что переход от смысловой самоорганизации к значениевой самоорганизации в языковом мышлении является отличительной чертой перехода от детского возраста к подростковому. Еще Ж.Пиаже и др. в начале XX в. говорили об 11 лет как пороге перехода к "логическому". Но реально этот процесс задерживается и иллюзорно трактуется оценщиками психического развития. Аналогичные рубежи обсуждал еще Гегель в своей псевдогенетической системе развития духа. То, как строится образование и его интеллектуальная составляющая, предопределяет "задержки" в развитии. Подобное открытие мы сделали для себя еще в середине 70-х гг. Но до сих пор не можем не удивляться наивности сложившихся стереотипов оценок интеллектуального развития. Не случайно, что даже теория "поэтапного формирования умственных действий" (П.В. Гальперин, Н.Ф. Талызина) теория формирования "теоретического или диалектического мышления" (В.В. Давыдов и др.) своеобразно проблематизировали наличие у взрослых, как и у детей, нужного уровня развитости понятий вне специальных систем их формирования, вне высших уровней систем ориентировок.
Еще большие сложности в решении поставленных задач мы наблюдали по критерию "объектной каузальности". Если по линии каузального анализа крайне мало работ в педагогической психологии и педагогике, как нам постоянно указывали в конце 90-х гг. Т.П. Салатич в период подготовки диссертации по этой теме и в связи с попытками непосредственно опереться на наши формы работы, то еще более нераскрытой является проявленность объектной каузальности в мышлении. Отличие как раз и состоит в том, что при каузальном анализе остается в тени то, что и осуществляет реагирование и побуждение к реагированию другим "нечто". При неопределенности каузального слежения проявления средового характера становятся неотличимыми от проявления единиц объектного типа, от проявлений "нечто", обладающих внутренней устремленностью, внутренней причинностью, а для людей – внутренней ответственностью. Студенты легко и рядоположенно вовлекают в обсуждение фрагменты среды и единицы объектного типа, не вводя принципиального различия между ними. Требуется особая и достаточно длительная работа по формированию различий указанного типа.
Совершенно неслучайно подобное легко обнаруживается в любом аналитическом событии. Мы заметили, что в год юбилея А.А. Богданова и соответствующих торжеств при развернутом изложении его взглядов и оценках этих взглядов очень часто системный или "организованностный", тектологический анализ виделся как структурный. Различие между структурой и системой не выявлялось, не замечалось. При этом подобное неразличение характерно для большинства концепций системного анализа. Если структура и наделяется формой, то она остается именно морфологической формой и причина введения формного начала, его внешнего характера как бы исчезает за счет "самовозникновения". А еще Аристотель видел любое сущее двояко, имеющим и "форму", и "материю", и форме отводил предопределяющую роль, наподобие того, как кормчий правит кораблем и является причиной его "состояний". Именно формное основание и динамика отношений формы и морфологии создает бытие и возможность уравновешенности в этом бытии или функционирования "нечто" как системы. А подчиненное форме бытие морфологии дает структурный эффект. Платон подчеркивал, что надо во всем видеть два начала – существующие сами по себе и "вечно" (идеи) и стремящееся существовать в соответствии с ними (идеями), уподобляющееся им. В силу подчинения идеям им уподобляющееся все время находится в "возникновении", динамике отношений со своим внешним основанием. Платон рассматривал подобие этих отношений в душе, в которой кормчим является ум, неосязаемый, вечно предопределяющий. Как говорил Гегель, подлинное единство и неразличенность начал есть лишь у Бога как единство бытия и "нечто", как первая истина, составляющая "стихию" всего последующего.
Иначе говоря, пассивный "натурализм", "морфологизм" содержаний сознания не позволяет студентам проходить путь от чувственных регистраций к мыслительным конструкциям, в которых только и появлялись бы единицы бытующего. Когда мы раскрывали системную природу всех типов бытия и уделяли особое внимание формным характеристикам, то для них это было крайне затруднительным. Поэтому они не видели, не следили за линией подлинных причин трансформаций и жизнедеятельности, и социодинамики, и социокультурной динамики, и культуры, и деятельности и т.п. в их псевдогенетических, и потому, логико-мыслительных переходах.
Конечно, формирование "системного" видения реальности и оперирование системами как содержаниями мыслительных конструкций, слежение за качественными переходами в формном слое преобразований было бы более успешным, если бы была более высокой учебная мотивация и не действовали сложившиеся стереотипы. Но и в этих условиях постепенно возникали прозрения, и они накапливались в головах части студентов, готовых в конце все начинать сначала. Именно организационно-мыслительная постановка учебных задач создавала неслучайные условия прозрений, так как в обычной учебной практике разделение смысловых и значениевых схем почти не производится, а значение вые схемы остаются по своей содержательности "структурными", а не системными. И трактовка схем преобладает как структурная, а не системная, это не способствует возникновению "объектного сознания" и вообще системного мировоззрения и системной аналитики, выделению собственно "сущностного" теоретического мышления. В своем курсе мы как бы стали оппонировать всей "морфологичности" образовательной системы, ее антимыслительности.
В рамках задания на курсовую работу мы выделили три раздела. В первом разделе создаются три списка на материале сюжета из управленческой деятельности и принятия управленцем решения, стимулированного учетом жизнедеятельностного фактора (факторов). В качестве средства раскрытия берется схема жизнедеятельности. Во втором разделе принятие решения стимулируется учетом факторов социокультурной динамики. Поэтому привлекается схема социокультурного взаимодействия. А в третьем разделе принятие решения стимулируется учетом собственно деятельностных факторов. Привлекается схема (схемы), выражающая особенности деятельностного бытия. Мы давали возможность либо на одном сюжете найти действие всех факторов, либо подбирать три сюжета, где действие указанных факторов показывается достаточно отчетливо.
Особые трудности в решении учебных задач заключались в не способности достаточно точно "читать" понятийные схемы. Их чтение подчинялось как привычке читать "по-своему", в своей жизнедеятельностной причинности, так и опыту ситуационного реагирования. Вхождение в идеальные миры предполагало внутреннюю проблематизацию "индивидности" подхода и обнаружение "субъектного" подхода как требования социализации, а затем и окультуривания. Драма такой проблематизации описана Гегелем, а также множеством психологических концепций, социологических, семиотических, культурологических концепций. Однако, переход и организация перехода на точку зрения не просто иного человека с привлечением идентификации, а точку зрения самого идеального объекта остаются плохо изученными и даже плохо оформленным. Часто не различаются адаптация к внешней, предопределяющей силе в условиях угрозы санкций за несоблюдение, а также вовлеченность в иное бытие в рамках уподобления и заражения, в том числе по яркому образцу действий лидера, с одной стороны, и собственно – объектная (идеально-объектная) идентификация, с другой стороны. Для любой идентификации нужен образец, доступная фиксированность образца, согласие образца, его выразителя с фиксированным отображением образца, слежение за образцом для подготовки внешней уподобленности, само уподобление, нахождение отличий самодвижения по внутренним критериям и внешне предопределеным движением, отношение к отличию, внутреннее согласие на подчиненность возможному движению по извне диктуемому рисунку, положительное отношение к действию прежних причин в самодвижении, субъективное отстранение от этих причин, оценка отчужденного самодвижения как более подлинное для себя, субъективная рефлексия этого самодвижения, возникновение нового образа "Я" как основания "отчужденного" самодвижения и устранение субъективной отчужденности в отчужденном самодвижении. Когда мы имеем дело с понятием, то возникает перспектива такой модификации мыслительного процесса, строительства содержательности в мышлении, при которой модификация предопределяется понятием или его адептом, могущим удерживать правильность "оперирования" с понятием. Если понятие не выражено в изобразительной схеме, то не появляется доступных средств необходимых модификаций и контролируемости модификаций со стороны адепта понятия. Однако, чтобы схема могла выполнить свою роль посредника между прежним мыслительным самовыражением и требуемым мыслительным самовыражением, роль "моста" в переходе на новое "самовыражение", она должны быть сначала воспринята как самостоятельно существующая и доступная для ее прочтения.
Мы видим, что читающий схему, в ходе ее восприятия и выработки отношения к результатам восприятия, сначала реализует привычный способ реагирования и "прочтения". Воздействие адепта также воспринимается сначала как воздействие не адепта, определенного человека. Его "адептность" должна быть еще опознана и признана. Для этого действия адепта, должны быть демонстрирующих свою подчиненность понятию, и эта подчиненность опознается, пусть и не сразу – тем, кто осваивает понятие. Если положительный и "приятный", "яркий" образец демонстрации складывается, достаточный для его и опознания, и принятия, то адаптация к должному в прочтении схемы, происходит через уподобление мыслительным действиям адепта, хотя бы через признание его поправок первоначальных вариантов чтения. В этих процессах важным становится опознание различий прежних и новых, скорректированных по другой траектории, мыслительных процессов в чтении. Эти различия локализуются, и выделяется та часть траектории, которая уже не подчинена прежним субъективно оправданным устремлениям. Она должна быть не только опознана, но и положительно оценена, а ее прежний вариант – оценен отрицательно. В новом процессе, субъективно отрефлектированном, распознается новое состояние "Я", рассматриваемое как более подлинное, как основание будущих измененных самовыражений. Следовательно, коррекция чтения как особого проявления прежнего "Я" и как порождение нового "Я" и его проявления предстает как трансформация именно "Я". Все задержки с "пониманием" инструментальных схем, с вхождением в идеальные миры, в новый язык и т.п. предопределены задержками в трансформациях "Я" обучаемых. В свою очередь, коррекция "Я" и ее приемлемость вытекают из самой учебной установки. Поэтому отсутствие, неразвитость учебного самоопределения предопределяет драмы в усвоении новых содержаний инструментального, наиболее сложного для принятия типа.
Кроме того, даже в том случае, когда усваивающий понятия через уподобление эталонному образцу и принятие процессуального образца, через нахождение в себе модификации "Я", как основания адекватного оперирования понятием, становится иным субъектом, он еще должен осуществить отчуждение этой субъективности в самом демонстрировании правильного использования понятия, так как эта субъективность не самостоятельна и подчинена содержанию понятия. Другое дело, что это отчуждение как бы виртуально, замаскировано под отстранения "Я". Все это можно найти, в основной линии нашей мысли, у Гегеля. Однако, такая постановка цели и пути ее достижения до сих пор является "незнакомой". Вся техника взаимодействий со студентами, в объеме допустимом учебным процессом подчинена указанным различениям. Этому и способствует схемотехника, дополненная психотехникой и рефлексивной самоорганизацией ученика и учителя. Мы осознаем, сколько удлинений следовало бы осуществить в реальных условиях университетского процесса, чтобы пошажно проследовать по намеченной линии шагов. Но учебный процесс не предполагает подобных сложностей и его проектирование обращено, как и до Канта, на содержательный, отчужденный, результата (например, новое знание), а не на перестройку субъективных оснований для порождения новых знаний.
Сама мыслетехническая форма и натуральность соотнесений субъекта и предиката мысли, обусловленная схематическими изображениями, вызывала различное отношение студентов, в зависимости от субъективной предрасположенности и индивидуальных качеств, стереотипов. Чем ближе был период подготовки и сдачи курсовой работы как условия сдачи экзамена, тем более непосредственно изменялось отношение к самому участию в лекциях и семинарах – тренингах. Этим облегчался внутренний переход из потенциального принципа вхождения в суть решаемых задач и проблем в актуализацию. Стало накапливаться число прояснений и прозрений, попыток проверить все собственными руками. В результате подтвердилось базисное "предположение" о том, что схемотехника, помещенная в мыслетехническое пространство и усиленная субъективной рефлексией, психотехникой обеспечивает качественное изменение в системообразующих звеньях мыслительного механизма. Оно закладывает основы культурного уровня мыслительной работы.
То обстоятельство, что подобному преобразованию подвергалось мышление в рамках вполне "частного" курса разработки управленческих решений, для студентов выступило как совпадение благ знакомства с культурой мышления и погружение в тайны ПУР. Однако, мы убедились еще раз и более принципиально, что легко было бы изменить всю стратегию учебно-образовательного процесса на основе придания данному курсу общей формы с изменяющимся содержанием (см. также: Анисимов, 1991; 2002–2003). Это были бы курсы по мыслительной культуре, но на материале любых сложившихся учебных предметов. Общие критерии и формы педагогической и учебной деятельности сделали бы всех педагогов понимающими друг друга в одном технологическом пространстве, а студентов – совмещающими все типы содержаний, "знаний", построенных по универсумальным лекалам культуры мышления и интегрируемых в мировоззрение разного уровня конкретности, а когда необходимо – дифференцируемыми в ходе постановки соответствующих предметных, надпредметных, межпредметных задач и проблем. Именно это и нужно для полномасштабного интеллектуального сопровождения профессиональной деятельности в любой области деятельности, а также для любых кооперативных структур в социокультурном и деятельностном мирах.
С другой стороны, курс является и общекультурной базой для вхождения в любые типы бытия. В любом типе бытия могут и возникают затруднения, вызывающие рефлексивные процессы и принятие решений. Прежде всего, это нужно студентам в самом учебном процессе для придания ему осмысленности и эффективности. Такого рода идеи были определяющими при первой переориентировке стратегии учебных процессов в вузах, которую мы осуществляли в НИИ ВШ в секторах вечернего, заочного, последипломного образования, дидактики и производственного обучения и практики в 1976–1982 гг.
В конце курса студенты часто задавали вопросы о причинах "излишнего" усложнения и содержания, и формы курса. Наш ответ находился в структуре самого курса. Последний раздел касался специфики консультирования как формы и условия принятия управленческих решений, а затем игрового моделирования как особого типа аналитики и консультирования. Мы показывали, что наиболее развитая форма постановки и решения любых проблем в социокультурной и деятельностной практике – это такое игровое моделирование, внутренний принцип движения процессов, в котором базируется на рефлексивности и мыслительной культуре (см. также: О.С. Анисимов, 1989; 2003). Именно в этих типах мыслительных взаимодействий полномасштабно используется та мыслетехника, которая бала базисной на учебном курсе. С другой точки зрения, среди множества мыслительных форм, используемых в игропрактике, в консультировании, наиболее сложными и принципиальными остаются те, которые практикуем мы. Иногда это вытесняет легкие формы психотехники, группотехники, динамизм игровзаимодействий. Но сточки зрения постановки собственно проблем и их решения подобное усложнение оправдано.
VI
В течение второй половины 2004 г. в школе №349 г. Москвы появился крайне значимый опыт в общей линии мыслетехнического оформления поисков, специфичных для инноватики в этой школе. К началу учебного года сложилась проблемная ситуация. Попытки использовать базисную концептуальную идею, соответствующую ранее введенной версии содержания общего образования (см. О.С. Анисимов, 2003), и выявлять в действиях педагогов и учеников "единицы" – принятие и реализация решений, оказались непосильными. Индивидуальными и групповыми усилиями, в рамках методических объединений, реконструкция хода учебных занятий, воспитательных мероприятий и т.п., выявление в этих процессах единиц, их последовательностей, выявление возможностей коррекции единиц или оформления прообразов единиц, создание проектов скорректированных педагогических воздействий и самих учебных действий, самоорганизации учеников – все это оказалось для педагогов школы слишком трудным делом. В то же время, без выявления единиц, без их оформления, без создания цепей этих единиц и их подчинение проектной схеме занятий, мероприятий, где можно было бы сделать прозрачной реализацию концептуальной идеи, весь замысел ставился под сомнение по критериям его реализуемости.
Мы понимали, что для решения нами поставленных инновационных задач требуется достаточно широкая и архитектурно тонкая сущностная ориентация в замысле, в прогнозе перехода к новому состоянию и т.п., нужна базисная понятийная и онтологическая подготовленность. Предшествующее движение в соответствие с магистральной идеей, концептуальные разъяснения на семинарах, чтение материалов и книг, попытки увидеть соответствующее в своей работе, деловые обсуждения, подталкивание к активности и глубине со стороны руководителя школы (Т.А.Кривошеиной), разнородное обеспечение хода поисков с ее стороны, опыт пребывания в еженедельном семинаре под пристальным нашим воздействием, руководством, помощью с нашей стороны в мыслительных разборах и т.п. – все это по разному влияло на индивидуальные траектории прохождения инновационного пути. Наряду с индивидуальными усилиями, склонностями, предшествующим доинновационным, инновационным и специфически инновационным опытом в стратегии методологизации образовательного процесса, индивидуальными привычками, профессиональными стереотипами, накапливалась линия как индивидуальных, так и совместных попыток следовать предложенному руслу. Мы не могли обеспечивать и настаивать на полноте следования этому руслу, зная большую обычную деловую и неделовую нагрузку на современных женщин.
Поразмышляв внутри себя с нашим партнером – С. Чекиным, согласовавшись с самой Т.А.Кривошеиной, мы решили усилить внимание реконструкции целостности занятий, мероприятий в той форме, которая доступна педагогам, а затем перейти к проектированию уроков, мероприятий с акцентировкой на действия учителя, учеников. Лишь имея проекты, даже мало отличающиеся от реального опыта, появляется перспектива начать модифицировать эти проекты и постепенно подчинять их базисной концептуальной идее. Основные надежды возлагались на активность тех педагогов, которые готовы пройти путь и не подвергают сомнению необходимость приложения больших усилий.
После пробных реконструктивных докладов, их обсуждения, рефлексии обсуждений в "штабном" варианте совместное движение привело нас к стремлению наиболее активной части коллектива и директора школы разобраться с одним из интересных проектов, в реализации которого принимали участие многие педагоги. Суть проектной идеи состояла в том, чтобы на изучение одного объекта ("луна") совместить усилия по ряду учебных предметов и разделов в этих предметах, совместить различные формы учебных занятий и т.п. Таким образом, вместе с реализацией проекта школа приближалась к достижению одной из труднейших целей и целевых установок – интеграции предметов, формирование мировоззрения у учеников, совмещения действия, созерцания, мышления, чувственного отношения и т.п.
Было потрачено много сил для самого раскрытия характера живого инновационного опыта, его инновационности, положительных моментов. Например, дети рассматривали луну и как объект созерцания, и как образец для модельного, "ручного" воссоздания, как материал для сущностного, теоретического углубления, а сами результаты созерцания, также, луна, ее проявления рассматривались как материал для выработки чувственно-эстетического отношения. Все это наполняло живым интересом со стороны учеников, а деятельность педагогов становилась и интереснее, и сложнее. Необходимо было учитывать вклады различных учебных предметов, налаживать взаимодействие между учителями, нестандартно отнестись к организации учебного времени и к общей организации учебного процесса. Энтузиазм педагогов был совершенно оправдан.
Однако при обсуждении опыта стали выявляться проблемные зоны. Так мы проблематизировали уверенное утверждение о том, что само по себе рисование луны вело к появлению понятия луны, даже учитывая окружающую луну – среду, солнечную систему. Тем более, нужно было еще показать и доказать, что переход от созерцания к моделированию, от моделирования к рисованию схем, а также к эстетическому выражению представлений о луне, является вполне "прямым" путем от случайного взгляда на луну к неслучайному, сущностному взгляду. Возникло глубокое размышление о специфике понятийного взгляда на объект, отличающегося от созерцательного взгляда, о переходных этапах и о том, насколько в реальном процессе обучения удается проходить весь путь к понятию и не останавливаться на пути, создавая иллюзии понятийности.
Иначе говоря, на простом материале была выращена одна из кардинальных проблем образования. Сама проблема стала "застаревшей" именно в силу крайней поверхностности взглядов на мышление, средства мышления, на абстрактные замещения, способы и специфику их порождения и т.п. Тем более что все эти множественные неопределенности стабильно, устойчиво вносят в учебный процесс в вузе, лишают возможности разобраться будущих педагогов и других специалистов в том, что было достаточно выясненным и в античности, и в новое время, и в таких основополагающих разъяснениях, которые делали Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, и в опыте методологического кружка – ММК. При построении учебных процессов в университетах, конструировании учебных планов и учебных предметов, учебных пособий, вновь и вновь втягиваются самые предварительные и не основополагающие прототипы, а самые проницательные версии либо становятся наряду с другими, либо вообще не вносятся в учебный план, либо истолковываются очень неглубоко и превращенно. Те многочисленные детали, которые внесла философия языка, операционализм, инструментализм и др. направления философии, логики, семиотики в XX в. не оттеснили, не превзошли глубины и принципиальности таких могучих мыслителей, как Платон, Аристотель, Кант, Фихте, Гегель и др. Вместе с тем, само внимание к мышлению, и культуре мышления, культуре как таковой, принципам развития человека, высшим проявлениям человека и т.п. остается лишь факультативным и не способствующим, не готовящим к принципиальным анализам в ходе профессиональной деятельности.
Вторым узлом проблематизации с нашей стороны стало сомнение в твердой уверенности, что при объединении "нескольких" воззрений, знаний, которые организует педагог в учебных занятиях, порождается мировоззрение. И здесь мы фиксировали явление полной неожиданности, с которой столкнулись докладчики. Мы стали разъяснять, сто "мировоззрение" появляется как абстрактный конструкт, замещающий, по своему содержанию – все, а не некоторые "знания" о чем-либо. Само по себе совмещение некоторых знаний, построение заместителя некоторых знаний не ведет к мирокартине. Нужна установка на "все" знания, замещаемые в обобщении, на реально зафиксированные и незафиксированные и даже лишь возможные знания. Сам заместитель может быть построен лишь в переходе к абстракциям предельного, для мировоззрения, уровня. У педагога, который устремлен на формирование мировоззрения у учеников, должна быть мыслительная культура, неслучайные процедуры обобщения, оперирования понятиями, категориями, онтологиями, способности к этому, которые не возникают сами по себе и требуют достаточно длительных усилий. Педагог может этим не пользоваться, не обладать способностью и опытом ее приобретения. Но тогда, он лишь стихийно может готовить почву, возможность формирования мировоззрения.
Понятно тогда, почему крайне иллюзорным представляются все призывы и утверждения, касающиеся мировоззрения, его формирования. Как правило, никто и не думает о той организационно-мыслительной схеме, которая показывала бы траектории прихода к мировоззренческим конструктам, к адекватному оперированию ими, к возможности совершенствования конструкций. В то же время, общие принципы такой работы стали ясными не вчера и не позавчера.
После этих усилий и проблематизаций в зону значимости переместилось метасредство – "нечто", так как в нем воплощено универсумальное представление о "единице" и в нем заложено основание любого системного анализа. Наиболее активные участники семинара решили более глубоко вникнуть в это инструментальное содержание и пробрести перспективу его использования в анализе учебного процесса и педагогической деятельности. При этом стремление побыстрее прийти к анализу педагогической деятельности – преобладало. Мы представляли себе выгоды применения данного средства и предвкушали массу сопровождающих прояснений и открытий. Одновременно мы опасались трудностей, с которыми столкнуться педагоги в процессе погружения в "метафизическую" плоскость". Но такова природа инновационных поисков, чтобы стоять на "лезвии бритвы". Это состояние когда-то раскрывал в своих рассуждениях Эзоп, а в логике – Оккам. Порог терпеливости и доверия мы чувствовали, наряду с фактором неизбежности рисков.
Нечто как средство анализа предварительно сознавалось еще в период активного погружения в систему Гегеля в начале и середине 70-х гг. Более явно оперирование таким средством было продемонстрировано в системном марафоне с В.Бязыровым и частично, с Ю.Ясницким в начале 80-х гг. Тогда термин "нечто" был отодвинут в тень и его заменял термин "организованность", популярный в ММК. С тех пор подобный анализ, хотя и не выделенный, встроенный в более сложные контексты, сопровождал наши поиски. Середина и конец 90-х гг. были характерными в онтологическом "возрождении" и интересе к объектному мышлению. Но более явно само "нечто" вышло на сцену вместе с оформлением нами линии объектно-системной аналитики в 1996 г. В это время мы проводили трудные эксперименты в налаживании экспертной подготовки в Новокузнецке. В частности, мы проводили модули с акцентировкой на системодеятельностный анализ и соответствующие этому мыслительные способности (см. также: О.С. Анисимов: 1998; 2002). Для нас почти неожиданным выступил парадокс, который выразился в противопоставленном тезисе: применение "нечто" предполагает очень высокий уровень абстрактного воззрения и мышления и потому принципиально малоперспективно для новичков (С.Гончарова, Т. Салатич, частично – И. Стрыжков, А. Чурсин, А. Штанько и др.), с одной стороны и, напротив, применение "нечто" облегчено нашим объектным сознанием и доступно новичкам в большей степени, чем иные мыслительные средства (О.С. Анисимов). О ходе разъяснений на методологических консультациях, в динамике пленарных взаимодействий, в индивидуализированной аналитике и т.п. мы убеждались в реалистичности оптимистической гипотезы. Однажды, в 2003 г. во время пребывания в г. Мирном к нам обратилась специалист в психологии, пригласившая свою подругу психиатра. Она слушала мои пояснения в ходе игромодельных занятий с ответственными за производственное обучение в структурах "Алроса", особенно связанные с субъективным отношением людей к педагогическим и управленческим коррекциям. Ее заинтересовали различия в реакциях, и она попросила дать дополнительные разъяснения по типологии индивидуальных различий людей.
У нас было ограничение во времени, и мы хотели дать исходные ориентиры в типологическом разложении. Но даже более менее строгое введение различий между индивидными, субъектными и личностными качествами человека предполагало значительные траты времени. Подумав и учитывая явную дотеоретическую подготовленность партнеров, в чем мы убеждались в работе со студентами и преподавателями ряда гуманитарных вузов, мы решили ввести ту схему из "азбучного" набора в словаре, которая по содержанию совпадала с введением нечто, типами реагирования нечто. А затем мы провели самые общие аналогии каждого типа реагирования с реагированием человека на заметные, значимые для него коррекции. С удовлетворением мы заметили, что партнеры легко схватили "логику движения содержания" и характер оперирования со схемами. Мы немного продолжили ряд иллюстраций на материале типов руководителей.
Следует подчеркнуть, что в этом случае партнер имел достаточный опыт, самоанализ по близким содержаниям и мы лишь оформили этот опыт. Аналогично, во множестве случаев, партнеры имеют достаточный для таких различений опыт. Не хватает, как правило, судьбоносных концентраций внимания и соблюдения внутренней "логики" движения содержаний в рамках концентрированных замещений. Схемы обладают уникальными возможностями ухода, увода мыслителя от его потока смыслов и введения в объектную динамику. Подобное мы наблюдали множество раз в своей творческой истории. А само "нечто" является как бы присущим объектному сознаванию.
В 1975 г. нами был проведен невольный, "эксперимент". Мы работали в НИИ высшей школы, в секторе психологии отдела теории и методики обучения. Сектором руководил А.М. Матюшкин, а отделом – Т.В. Кудрявцев. Состав сектора был еще только складывающимся. В это время А.М. Матюшкин пригласил на работу В. Петровского, значимость которого оценивалась высоко как сына одного из лидеров психологии СССР и Академии педнаук А.В. Петровского, Мы с ним сначала столкнулись на одном из семинаров в НИИ психологии АН СССР, а в секторе сблизились в силу его замечательного творческого характера, общительности. В это время В.Петровский готовился к защите диссертации и носил с собой статью в журнал "Вопросы психологии", где излагались его основные содержания. Не находя адекватного понимания статьи, достаточно сложной и изысканной со стороны ряда психологов, он, по случаю, попросил нас почитать и дать оценку. Мы читали ее не более 10–15 минут и предложили ему "поговорить". Он долго не мог поверить, что мы прочитали сложную и большую статью и готовы ее оценить. Наконец, зная наши стереотипы обсуждения, он повел нас к доске, что заметил А.М. Матюшкин и вовлек в слежение за нашим рассказом Д. Аврамкова, В. Мозгового и др., включая и себя. Мы нарисовали схему такого же типа, что и "нечто", и на ней воспроизвели ткань мысли автора. Это было крайне необычным для всех, особенно для В. Петровского как автора. Он, почти в шоковом состоянии, согласился с ходом реконструкции и искренне благодарил, восхищался, что затем отразилось и на поддержке замысла нашей диссертации. До сих пор мы вспоминаем этот случай с удовольствием.
Основной эффект как раз и состоял в том, что лейтмотив мысли автора имел своим основанием ту группу различений, которая оформлялась нами в бытии "нечто". Тем более, это был период совмещения, растущей мыслетехники и содержательного проникновения в сущность бытия по "подсказкам" Гегеля. Примерно в тот период уже возникал замысел показать внутреннюю логику хода мысли Гегеля в "Философии духа", используя самодвижение "нечто", в его субъективном уровне развитости. С точки зрения инструментального анализа очень важным был опыт объектной схематизации воззрений о знаке и языке, о формной и содержательной сторонах языка, динамике псевдо исторических трансформаций, проведенный нами в 1973 г. Мы тогда обрадовались реконструкции взглядов Соссюра по его "Курсу общей лингвистики", так как такая реконструкция дала возможность выразить главное, в зафиксированных в конспектах, огромного количества воззрений о языке, накопленного нами в 1971–1973 гг. Используя поездки в метро, переходя от структурно-логических схем к изобразительным схемам, мы увидели в "объектной логике" сущность и движимость языка, его единиц. А схемы были очень близки к тому, что стало схемами "нечто". Схема как бы сама "говорила", что должно произойти в объекте на каждом из этапов, в линии развития объекта. По результатам нашего прозрения, мы написали крайне важную, хотя и предварительно оформленную, работу "Генезис языка" (см. также: Анисимов, 2001; 2003).
Характерно, что в дискуссиях внутри самого ММК, на семинарах, в которых мы делали доклады в 1975–1976 гг., мы рисовали именно целостные объектные, "нечтово значимые" схемы и получали критику именно из-за их объектной техники конструирования (например, со стороны А. Тюкова, Р. Спектора, В.Максименко и др., да и самого Г.П. Щедровицкого).
Следует сказать, что более полное структурное и системное раскрытие содержание единицы бытия, мы сделали все же в середине 90-х гг. (см. также: Анисимов: 1997; 2002). Именно тогда объектно значимым образом мы охарактеризовали стороны бытия: "в-себе", "для-иного", "для-себя" и "для-в-себе". В течение всей серии занятий с педагогами школы №349 мы неоднократно демонстрировали эту аналитику. И вот сами педагоги решили разобраться с различениями более строго. Они рисовали и трактовали типы бытия, но в основном "в-себе", "для-иного" и "для-себя". С ними нужно было разобраться как можно более глубоко, так как в другом случае эти средства будут просто обесценены, появится искажение содержания "исходной" базы мировоззренческого характера, усилятся отклонения и иллюзии при соотнесении с эмпирическим материалом и т.п. В то же время для педагогов наиболее специфичным является понимание особенностей бытия "для-в-себе", так как оно и выражает развивающие или "антиразвивающие" переходы. В процессе обсуждения различных атрибутов "нечто" мы осуществляли иллюстрирующие соотнесения с педагогической и учебной деятельностью, с субъективными качествами ученика и педагога. Это реализовывало функцию такого иллюстрирования, в котором появлялась осязаемая, готовая почва для придания эмпирической характеристике принципиальной содержательности, а точнее – для удобства мыслительного "взлета" в мир идеальных объектов. Об этой особенности иллюстраций при погружении в понятийные глубины говорил Кондильяк. Символы у него выступали трамплином для ухода в идеальные миры.
В процессе обсуждения, мы замечали, что педагоги предпочитают опору именно на саму изобразительную схему, достаточно формально "прикрепляя" к схеме базисные, ключевые слова. Но схема – всего лишь средство оперирования и для приобретения содержательности, она должна еще "прикрепиться" к соответствующему значению или некой конструктивной, идеальной содержательности. В отличие от привычного знака языка схема несет в себе, своей "фигуре", структуре некую изобразительность, отражательность. Именно она и должна быть обнаружена. Докладывающие же педагоги эту содержательность пытались выявить, найти, создать, уходя от первичных, индивидуальных, случайных скреплений с их собственными смыслами. Основная драма мыслительного взаимодействия и состояла в организации отхода от привычного с целью прихода "обнаружения", заложенного конструктором значения. Аналогии, ссылки на образовательную, педагогическую практику могли быть лишь факультативным условием порождения значений. Сами по себе аналогии и иллюстрации втягивали педагогов в анализ того, к чему они еще не были готовы. Подобные трудности совершенно неизбежны в любом усвоении нового языка, тем более – профессионального, сконструированного языка. Поэтому общее движение было все более замедленным и замедление оценивалось по разному, в зависимости от уровня нетерпеливости, не видения самого процесса порождения, трансформации ранее приобретенного, уровня, удачности в корректирующих воздействиях, уровня имитационности, гибкости, податливости, близости опыта тому, о чем велась речь и т.п.
Сохранение опоры на части схемы и на схему в целом лишь постепенно дополнялось построением образов содержательного типа, не противостоящих и согласующихся со схемой, с ходом ее "прочтения", графическим перемещением. Следует подчеркнуть, что это были схемы, выражающие всеобщее содержание. Следовательно, предполагался длительный процесс перехода от созерцаемых аналогий в примерах к мыслительным содержательным конструкциям. Мы не строили иллюзии быстрого получения результата по "сущности" понятий", но следили за линией и тенденциями в пошажных содержательных коррекциях. С другой стороны, мы стремились ввести оптимизм и терпеливость в этом сложном процессе. Для его ускорения необходима большая самостоятельная работа по трансформации первоначальных видений. Сравнивая динамику смещений в ходе семинара и между семинарами, мы осознали то, что в иных, легко возникающих, удачных случаях, мы имели не только процесс выращивания понятий, сколько организацию накопленного материала с помощью системы различений, содержательность которых была хотя и приблизительной в субъективном плане, но достаточной для отличения одного фрагмента опыта от другого. Те, кто "быстро" понял то, что нужно было понять именно им, оставались далеко не понимающими сами инструментальные содержания.
Когда мы, более-менее, согласовались с тремя типами бытия, то самым загадочным оставался четвертый тип. Нам пришлось увеличить материал, касающийся развития "чего-либо". Помогающим фактором служил фиксированный опыт качественных изменений учеников в ходе обучения и воспитания. Нас "теребила" установка на полномасштабное разбирательство с теориями развития, диалектикой и т.п. Но мы понимали, что все наши успехи могут быть лишь пошажными и многозвенными, промежуточными. Работа могла быть окончена в любой момент и могла возобновиться в любом звене сопровождающей практики. Ограничивали само движение лишь реальные условия.
Но в то же время, накопление новых различений, стремление к "прорыву" в главное, ограниченность действия терпеливости, зов инновационного процесса и т.п. создавали установку на переход к использованию даже ого, что удалось понять. Чувствуя это, мы решили закрепить сделанное и продемонстрировать действенность анализируемого материального средства. Мы стали идти последовательно в воссоздании содержания схемы и типов реагирования и обсуждать специфические особенности педагогической деятельности. Тем самым, мы возвратились к главному звену всей цепи процедур, к явному мыслительному "анализу", мышлению, где субъектом мысли выступили теоретические и эмпирические характеристики педагогической и учебной деятельности, а предикатом – характеристики "нечто", единицы чего-либо, обладающей как функционированием ("в-себе"-, "для-иного"-, "для-себя"-бытие), так и развитие ("для-в-себе"-бытие).
Если бы педагоги освоили эту процедуру и вошли бы "напрямую" в онтологические различения, стали бы иметь хотя бы в минимальной понятийно-категориальный инструментарий для всех типов анализа весь ход инновационного движения укрепился бы. Парадокс состоит как раз в том, что имеющаяся форма работы позволяет педагогам лишь частично осваивать механизм быстрого движения в решении любых задач и проблем. Не является реальным сделать "большой скачек", хотя по своей сути он возможен. Мотивационно-потребностно все хотят сделать движение более быстрым и даже ускоренным, чувствуя, в различной степени и определенности, что они находятся "на краю" больших успехов и открытий. Сам наш пример, постоянное демонстрирование виртуозности анализа, видения и т.п. убеждает в самом существовании высших уровней работы, их реализме самих по себе. Иногда это ощущение порождает восторг, а иногда – уныние, так как ожидания прорыва и явной успешности не оправдываются в эти конкретные сроки, в этих конкретных условиях. Складывается как бы самоотстранение и ограничение потенциальных возможностей через взгляд на себя как ограниченного, локализованного творца, не соответствующего тому потоку и призыву, на который он отозвался и "поверил".
Само по себе, ограничение уровня ожиданий ведет к более спокойному участию в поиске, и даже малые успехи воспринимаются полноценно, вызывают счастливое ощущение. Но умеренность в ожиданиях может не сохранять чистоту оптимизма и реализм в оценке происходящего, стирание многих контекстов, вводимых нами по ходу поисков и отражающих выдающийся характер инноватики, самих усилий, интеллектуальных и чувственно-оценочных хлопот, в которые помещены. Нельзя породить самосознание "невольника" в инновационном движении, не имеющего реальных возможностей уйти от "навязанного" движения. Но нельзя порождать и иллюзорный энтузиазм, который реальным процессом опробывается на прочность и ведет к иллюзорному восприятию своих успехов и неудач. Объективная логика совместного движения в инновационном пространстве и субъективной логике самодвижения каждого должны быть сближены настолько, чтобы опасности преувеличений оптимистического и пессимистического типов стали минимальными и не мешающими коллективному и индивидуальному обычному и профессиональному благополучию, не мешали бы реализации масштабных замыслов стратегов движения. Любой инновационный поиск выводит участников на опасную для их действий, сознаваний и т.п. колею, та как в инноватике более или менее удачно, неудачно опробывается будущее, возможное на материале настоящего и с учетом прошлого. Инноваторы являются служащими необходимости, возникшей у больших систем, больших планов, замыслов, а степень понимаемости и принимаемости необходимости при этом у большинства "частей" этих больших систем всегда меньше, чем у тех, кто пребывает в инноватике или чем уровень, который хотелось бы иметь, с точки зрения адептов больших систем. В этом состоит и естественная сторона лидерского бытия инноваторов как разведчиков нового состояния больших систем.
Будучи методологом и философом по линии жизни и склонностям мы неизбежно превращаемся в адептов больших систем и идей. Мы их раньше обнаруживаем, осознаем и входим в логику их бытия. Тем более что мировая история полна была теми мыслителями, которые становились адептами и самих больших систем, и их выразителей в прошлом. Поэтому и они, и мы живем не в опознаваемой созерцанием линии, потоке событий, а в ментальном пространстве, отражающем, прогнозирующем, проектирующем судьбу больших систем. В том числе – науки, образования, культуры, общества в целом и т.п. Мы вынуждены не только доступным образом и в доступном обеспечении двигаться в логике этих систем и ментальном поле, но и вовлекать в движение тех, кто к этому уже готов или может осознать, принять необходимость такого движения. Часто привлекаются и те, кто не может осознать, принять такие замыслы, кто предназначен жить в других объемах бытия. Они не могут не сопротивляться, не испытывать дискомфорт от помещенности в им несвойственное пространство. И тогда приходится думать лишь о том, чтобы минимизировать, насколько это возможно в условиях инновационной включенности, дискомфорт, неприемлемые проявления и не огорчаться уходом из инновационного поля.
Подобные мысли возникают и будут возникать в очень масштабном и принципиальном поиске. Лишь конкретная динамика, исторический процесс уравновесит сопровождающую действия, принципиальную и грустно-мудрую рефлексии по ходу поисков. Все, что появляется в подобной рефлексии опыта школы 349, появлялось и в рефлексии самого бытия, движения в рамках ММПК, ММК и вообще любого инновационного процесса. В 80-х и 90-х гг. мы неоднократно смещали фокусировки, уделяя внимание то мыслительному потенциалу, базисным мыслительным способностям и стремлению к прорыву через налаживание мыслительного механизма, то – самоопределенческому потенциалу, базисным самосознавающим, сознавающим, оценивающим способностям и стремлению к прорыву через налаживание этого ряда механизмов. Во всех критических ситуациях успеху одного направления мешало медленное движение, замедленность, неразвитость другого направления. Опознавание дисгармонии вело к тем или иным сменам направлений, смещениям акцентировок. И лишь уходя в интегральную рефлексию, мы понимали, что во всей этой динамике не нужно терять оптимизма и терпения. Хотя уходы активных членов семинара, потери в составе всегда усиливали огорчение из-за утери тех возможностей, которые несли с собой лидеры, но которые они связали с ограничением объема видения и с вхождением в зависимости от многих реальных, жизненных обстоятельств. Однако, столь мудрое понимание "всего" было достаточно редким из-за потока, несущего нас вперед, требующего действий и ответственности за происходящее.
4 Технологические аспекты МРТ
4.1 Методические диалоги
Осознание важности применения МРТ в практике, в исследованиях и в обучении привело к постановке проблемы раскрытия не только теоретической сущности этой формы организации и самоорганизации мыслителя и его мышления, но и перевода основных сторон явления в модельный план. Поэтому мы использовали материалы середины 70-х годов для написания модельно значимых диалогов, где раскрываются механизмы организации и самоорганизации мышления в условиях применения МРТ. Диалогические единицы сведены в три основные рубрики: логической, семиотической и деятельностной организации мышления. В следующем разделе мы покажем материал, где акцент внимания ставится на определении СИ. В этом разделе акцент сосредоточен на рефлексивно-методическом осмысливании сторон всей работы.
Протокол №1
Логическая организация мышления
Диалог 1.1
Э. Тема у нас прежняя "Знание". Отберите текст у автора по этой теме.
И. Кажется, этот. Однако не вижу того, чтобы сказать с уверенностью. Вот этот текст: "...человеческое знание естественно подразделяется на две области – знание идей и знание духов...".
Э. Что можно сказать про знание на этом материале текста?
И. Оно принадлежит человеку. Кроме того, знание может быть различным. В одном случае, это знание духов, в другом – идей.
Э. А может быть знание, не принадлежащее отдельному человеку?
И. Нет, думаю. А может быть и есть.
Э. Что это за случай, когда знание не принадлежит отдельному человеку?
И. В науке. Там оно как бы парит над учеными. Но в каждый момент хотя бы один из них имеет это знание.
Э. А в словаре, где даны определения, или в книге они существуют, не принадлежат никому явным образом?
И. Но там дан только текст. Без человека этот текст не становится знанием.
Э. Но эти тексты построены так, чтобы их читали вполне определенным образом и подготовленные для этого люди?
И. Так это так, но причем здесь подготовка?
Э. Если при непосредственном восприятии подготовка дана в виде созревания физиологических и психических структур, то при чтении используются результаты обучения человека языку. Поэтому во втором случае заслуга принадлежит обществу, а не организму.
И. У меня как-то не расчленялось все это. Про знание говорят по-разному, и я привык его относить к любому из ощущений, а в словари я не заглядывал.
Э. Обратите внимание, что словарные определения люди часто деформируют в практике своего мышления, благодаря чему знание человека может отличаться от знания, предписанного словарем.
И. Я понял. Не уяснив знание вообще, трудно выделить особенности человеческого произвола в использовании знания.
Э. Кроме того, указание на знания "идей" и знания "духов" о знании как таковом мы ничего нового не узнаем, поскольку в знании вообще объект знания не определен типологически.
И. Выходит, что я зря включал этот отрывок?
Э. Не совсем. Мы выяснили, что в этом тексте содержания будут иметь значение лишь после раскрытия того, что такое знание вообще. Если бы у вас было обращение к понятию "знание", различенного от других понятий ("человеческое знание" и др.), то вы быстрее бы сообразили, что дает нам и чего не дает этот отрывок. Ведь так.
И. Да. В строгом смысле, я подозреваю, у меня вообще нет понятий. Все остальное – неопределенные конгломераты представлений. Трудно даже сообразить, как отделить один комплекс от другого.
Диалог 1.2
Э. Мы с другими испытуемыми раньше уже уясняли себе, что Маркс вводит на данном отрывке равноправные отношения между товарами. Один из них выделяется как имеющий исключительное знание, состоящее в том, что он обменивается на любой другой товар. Остальные лишь случайные партнеры отношений. Давайте выразим это отношение в общей форме, построив схематизированное изображение. Вы читали текст?
И. Да, читал. И что мы будем делать с изображением?
Э. Использовать его для анализа содержаний автора в рамках темы и задачи на имитацию его содержаний.
И. А вроде бы ясно?
Э. Вы никогда не строили понятия?
И. Да нет. Мы понятия на лекции получаем и усваиваем на семинарах.
Э. Что такое понятие вы знаете?
И. Ну как. Это знание о действительности. Выражено в тексте.
Э. А любое высказывание дает и понятие?
И. Понятия бывают житейские и научные.
Э. В чем их отличие?
И. Понятие научное строится учеными. Обобщается наблюдение.
Э. Хорошо. Если нет обобщения, нет и понятия. Так?
И. Да.
Э. Если же понятие предполагает обработку данных наблюдения, есть там момент произвола ученого?
И. Да. Абстрактность вводится.
Э. Но при этом она не мешает отражать существенное.
И. Конечно. Значит мы будем строить понятие?
Э. Да, будем учиться строить понятие. Для удобства его содержание выразим в схематизированном изображении. Постройте его.
И. Это не так просто. Как изобразить неравенство рублей. Одна выше, другая ниже.
Э. Если будет выражать исключительность товара, данного, то пожалуйста.
И.

Схема 1
Э. Скажите, а товары и места для них имеют разное значение в рисунке?
И. Я не понял.
Э. Скажите, если уберу товары ваш остаток будет иметь значение?
И. Без товаров место пусто.
Э. Да.
И. Нет, не будет иметь значение.
Э. Почему?
И. Без товаров нет товарных отношений.
Э. А будут технологические отношения, если нет еще станков, заготовок и т.п., но есть технологическая карта?
И. И да и нет. Да, то что возможны отношения. Они должны даже.
Э. Ну вот видите. Так же и здесь.
И. Понятно. Но товары должны быть где-то.
Э. Давайте изобразим эту ситуацию.
И.

Схема 2
Э. В чем исключительность товара второго.
И. Не пойму. Трудно ответить.
Э. Куда помещать будем товар второй, а куда первый?
И. Мы уже говорили.
Э. А третий товар?
И. Тоже на место первого.
Э. Следовательно, исключительность товара Т2 в том, что только его помещают на высокое место. Остальные товары, хотя и предназначены на низкое место, но между собой они равны.
И. Здорово, как это изобразить с двумя товарами?
Э. Перегородку для "белых" сделайте там, где еще нет мест или ролей.
И.
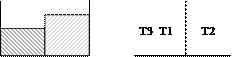
Схема 3
Э. Очень хорошо. Остается чуть-чуть модифицировать, чтобы выглядело более общим.
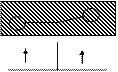
Схема 4
Все предельно просто и минимум содержаний. Раз два товара в одно место предназначены, а место для одного, то нужен выбор. Чем определен выбор? В самих товарах нет основания для выбора, они не отличимы. Наконец, оставшийся товар не испытывает таких потрясений. Ему уготовано место и более высокое. Встав на свои места, товары введены в отношения, которые могут быть предусмотрены, в соответствии с неравенством ролей.
И. Но все это рассуждения, не привязанные к действительности. Там это все богаче. Это действительно абстракция. Товары всегда определенные и их отношения зависят от случайных обстоятельств отношений между товаровладельцами.
Э. И что?
И. Как же анализировать пустой абстракцией реальные явления?
Э. Скажите, токарь напился и не сделал, то что нужно по технологии, что будет делать мастер?
И. А.., начинаю понимать. Наша схема лишь технология для анализа реальности. Только то важно в ней, что соответствует схеме. А если мы не правы?
Э. Технолог тоже может свою задачу неправильно решить. При столкновении с действительностью это выяснится. А в нашем случае?
И. У нас при работе с автором выяснится удачность нашей конструкции. Если не удачна – переделаем.
Э. Точно. Поэтому схема-понятие организует наше мышление, как и любое (научное) понятие.
Диалог 1.3
Э. Ваша тема "знание". Найдите у автора текста отрывки, в которых содержится материал по теме.
И. И у автора нет ничего по теме. Он говорит про идеи.
Э. Можно ли сказать, что говоримое про идеи никак не относится к вопросу о знании?
И. В какой-то мере, но это еще не вполне определенно.
Э. А что выявить несовпадение или совпадение содержания, стоящего за терминами "знание" и "идея"?
И. Вообще-то, я не очень представляю то, что имеют в виду, когда говорят про знание. Конечно, это и возникающее представление у человека. Но что-то еще, о чем трудно сказать.
Э. А вы представляете то, что имеют в виду, употребляя термин "идея"?
И. Вы имеете в виду то, что автор текста предлагает?
Э. Прежде всего так. Но главное – ваше возникающее представление.
И. Честно говоря, я теряюсь. Расплывается содержание насчет идей. Термины есть, а как их связать с содержанием?
Э. Если прикинуть в целом то, что вы знаете и о знании, а что вы поняли относительно идей, можно ли сказать, что в них есть общее?
И. Я теперь думаю, что есть. Если заменить один термин на другой, то характер рассуждения весьма мало изменится.
Э. Следовательно, перефразировав (замена термина) текст, вы можете сказать, что материал по теме есть?
И. Я осмелился сказать бы так.
Э. Значит дело не столько в терминах, как в характере их употребления и раскрываемой с их помощью картины бытия.
И. Согласен, так оно видимо и есть. Если мне удастся строить картины умственные, тем более простым будет решение задачи.
Э. Стройте картинки и этим организуете все процессы решения подобных задач.
Диалог 1.4
Ваша тема – "идея". Найдите материал по теме.
И. Вот этот материал: "...я действительно нахожу в себе способность воображать или представлять себе идеи единичных воспринятых мною вещей и разнообразно сочетать и делить их."
Э. Попробуйте упростить текст, чтобы осталось тематически значимое содержание. Если удастся, то легче будет работать.
И. Тогда так: ...существует способность воображать и делить их.
Э. У вас отсутствует соотнесенность способности с тем, что она рождает.
И. Да, я как-то имел это в виду, но как-то переключился на характеристики способности.
Э. Без указания на то, что рождаются идеи, этот материал уже не по теме.
И. Согласен.
Э. Кроме того, так ли уж очевидно, что дело касается рождения идей. Может быть, воображается то, что уже было рождено.
И. Не знаю, как ответить, вроде бы и вы правы. Чувствую, что я прав. Если вспомнить, что говорится потом...
Э. Это запрещается. Ассоциация не к месту. У вас вполне определенный текст.
И. Я сказал бы иначе. Да есть и текст автора: идеи единичных воспринятых мною вещей, разнообразные сочетания этих идей есть результат действия (функционирования, срабатывания) моей способности воображать.
Э. А зачем термины из другой культуры здесь, где вводится лишь ссылка на текст автора?
И. Невольно пролезает. Снимаю их.
Э. Сейчас вы уже правильно сделали. Привлекая этот текст вы ввели правильное указание на то, что идеи рождаются рассмотренной способностью.
И. И гипотеза подтверждается темное чувство просветлело.
Э. Кроме того, вы выполнили требование логики восхождения. Новый материал уточнил прежний.
И. И еще тогда: “Идеи единичных вещей я могу представлять, воображать, разнообразно сочетать и делить их."
Э. Но что здесь нового, что уточняющего?
И. Есть что-то, кажется.
Э. Давайте точнее разберемся, используя схему логики. Сначала схему акта мысли.
Или в нашем варианте:
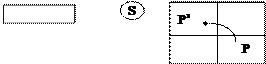 |
Схема 5
Учтите весь материал и дайте первый результат деления с помощью схемы.
И. Идеи единичных вещей, воспринятых мною.
Их можно воображать или представлять себе, разнообразно сочетать и делить их.
Э. Какую первую характеристику нужно ввести? Она нужна нам для развертывания дальнейших уточнений.
И. Идеи воображаются или представляются?
Э. Как с этим связано, что идеи – продукты восприятия вещей?
И. Тогда так, идеи – результаты восприятия вещей.
Э. А можно более дифференцировано?
И. Наверное, но не знаю как это сделать.
Э. Например, идеи – результат процесса.
И. Я понял. Затем надо: процесс – восприятия
восприятия – вещей.
Однако как учесть сочетаемость идей или их деление?
Э. Можно сказать, что сочетание идей и их деление – заслуга самих идей?
И. В том числе.
Э. А без чего-то другого (механизмов психики) идеи будут сочетаться?
И. Нет, так же как и возникать.
Э. Следовательно, можно ли сказать про возникновение и сочетание или деление идей, работа разных механизмов психики?
И. Говоря современным языком – да.
Э. Но сочетаясь или делясь, идея как-то преобразовывается, становясь другой идеей.
И. Конечно. Вообще, в таком случае, про идеи говорят только то, что они восприятия чего-то. Интересно, как, используя идею восхождения от абстрактного к конкретному, действительно сказать нечего кроме того, что идеи – результат восприятия. Но какие дополнительные ходы пришлось делать!
Э. А какие ходы?
И. Выяснять ситуацию судьбы идей, не выходя за рамки сказанного автором.
Э. Иначе говоря, строя объект мысли автора, на котором легко проецировать его в контексте темы. Выделить характеристики идей.
И. Можно было бы добавить, что структура идеи должна повторять структуру вещи.
Э. Об этом автор уже не говорит, но не исключает но не исключает по смыслу отражения вещи в идеи. Можно сказать, что логика восхождения организовала наш процесс получения окончательного результата?
И. Да, нам ведь не удалось найти уточняющую характеристику первой (уточняемой).
Диалог 1.5
Э. В результате нескольких предшествующих шагов с предшествующими испытуемыми мы получили следующий результат по теме "мысль".
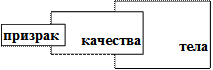
Схема 6
Автор говорит, что мысли суть призраки качеств тела, находящихся вне нас. Используя полученный ранее результат, постарайтесь развить линейную структуру результатов мысли по теме на материале авторских содержаний. Вам понятна общая схема логики восхождения?
И. Схема-то понятна. А вот как решить задачу?
Э. Формально это звучит каким образом?
И. Продлить линию предикатов.
Э. Представьте это в схеме.
И.

Схема 7
Э. Не совсем точно. Смотрите, я использую общую логическую схему (использует).
И. Я понял, но как решить задачу? Все замыкается на мысль. Но мысль вне нас.
Э. Так, что может служить уточняющим компонентом для "тело"?
И. Тело имеет качества.
Э. Вырвались за логическое развертывание. Какое место компонента "тело" в структуре предикатов? Вся структура дает характеристику объекта. В данном случае, что мысль это призрак качества тела. Если мы уточним что-то по поводу тела, то уточним характеристику мысли. Так что использовать для уточнения?
И. Пугает то, что тело вне нас, а мысль то в нас. Как тут использовать, например, характеристику тела для характеристики мысли?
Э. Какую характеристику тела?
И. Что тело вне нас.
Э. Вы можете отдельно рассмотреть характеристику тела быть вне чего-то?
И. Конечно.
Э. Рассмотрите это сейчас.
И. Формально-то можно разделять. Но так мы получаем неоднократный возврат на одно и то же – "нас", обладателей мыслей.
Э. Вы делаете акцент на объектной ситуации. А ее надо использовать в связи с решением задачи логической. В логической цепи мы обнаружили что-то незнакомое? Можно охарактеризовать более точно "тело" как находящееся где-то, а потом "вне нас" и этим охарактеризовать мысль более точно – как призрак тела, находящегося вне нас.
И. Можно, доходит до меня. Я все шел от объектного видения и боялся разлагать содержания. А если разложить, то все остальное совершенно формально.
Э. Если так, то введите в схему предикатов явным образом.
И.
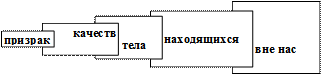
Схема 8
Э. Можно еще более детальнее:
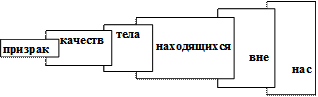
Схема 9
Компонент "вне" имеет свое значение, так как дает первое уточнение нахождения (вне или внутри). Затем дается второе уточнение (вне нас). Каждый раз суживаются альтернативы.
Диалог 1.6
Э. Вы уже выделили нужный для работы материал. А сейчас постарайтесь осуществить деление содержаний по теме. Дайте список компонентов содержания.
И. Так. Вот список.
1) Исследователь имеет дело:
а) не с объектом изучения
б) не со средствами анализа этих объектов в чистом виде.
2) Исследователь имеет дело с конкретными знаниями;
3) Конкретное знание фиксирует объектное содержание;
4) В знании два аспекта: знания и средства склеены;
5) Их не расчленить без специальной техники.
Э. Ваша работа по делению кончилась?
И. Да, я вроде бы все схватил.
Э. Вы взяли материал содержаний и разложили его как могли?
И. Да.
Э. А вы гарантируете, что части эти уже не делимые?
И. А причем здесь это? Вы сказали, чтобы я делил, я и делю.
Э. Что в результате деления должно быть?
И. Части.
Э. А если части делимы дальше, можно продолжать деление?
И. Да, но если это надо делать?
Э. Инструкция "делить" велит иметь в конце части, которые уже не делимы.
И. Как же это так. Сколько угодно раз бывает иначе. Электрон делим и дальше.
Э. Он то делим. А инструкция предполагает, что результат деления не является составным.
И. А почему вы обращаетесь к инструкции? Разве в ней дело. Инструкция одна, а случаев много.
Э. Я то предписывал вам деление вообще, а не деление как отдельная акция. Иначе инструктивное содержание не отличалось бы от описания реального действия.
И. Я начинаю соображать. Но никогда не думал об этом. Обычно инструкции четко соотнесены с ситуацией. Нет такой проблемы.
Э. Это говорит о том, что инструктивное содержание еще не отделилось от описания будущей деятельности, перенятой с прошлой Д. Это особый случай предписания. Не по понятию предписания. Если есть правило логики, то его наполнение ограничивается лишь одним логическим действием. После этого правило надо уже забыть?
И. Да... Понятно. Но очень необычно. Я всегда в инструкции вижу определенное действие. Так сказать действительное. А вы говорите о возможности и необходимости ее?
Э. Верно.
Диалог 1.7
Э. Вы нашли материал по теме: "Человеческие мысли, взятые реально, есть призраки качества тела, находящегося вне нас." Выявите компоненты содержания по теме "мысль" и постройте список компонентов.
И. 1. Мысль есть ущербное отражение какого-либо качества тела.
2. Отдельно взятая мысль соотносится с отдельно взятым качеством.
3. Мысль не влияет на качество.
Э. Обратите внимание на первый компонент. Почему вы употребили термин "ущербное"? Есть он у автора? Чему он соответствует, если сравнить с текстом автора?
И. Мне кажется, что автор говорит негативным образом о призраках, так как они не совпадают с вещами.
Э. Вы согласны с тем, что ввели подмену от себя?
И. Правильно, виноват. Но это наверное появится позже.
Э. Пока что мы имеем определенный материал текстов автора. Отнеситесь к содержаниям автора как к объекту познания.
И. В этом случае мы познаем точку зрения автора.
Э. Да. Подмены такие лишь уводят нас от автора. Повторите работу снова.
И. 1. Мысли есть призраки качеств тела.
2. Отдельная мысль есть призрак качеств тела
3. Мысль не принадлежит телу.
Э. Чем отличаются 1. и 2.?
И. Второе уточняет первое.
Э. Можно обойтись только вторым?
И. Если для темы достаточно рассмотреть одну мысль.
Э. Скажите, а "мысль" и "призрак" одно и то же?
И. Думаю, что одно.
Э. Тогда зачем лишние слова?
И. Я все хотел схватить.
Э. А "призрак" и "качество" одно и то же?
И. Нет, призрак вне тела.
Э. Если так, то почему вам нужен третий компонент? Во втором предполагается то, что дано в третьем.
И. Вообще-то я шел так. Разделил текст – метод не могу сообщить. Затем ввожу к каждому компоненту свое представление, получая отдельные компоненты.
Э. Введя свое, вы не замечали авторское?
И. И да, и нет. Общую картину я вижу, может не очень точно.
Э. Каково содержание слова "призрак" в ваших картинках?
И. Призрачность и мишура.
Э. Неадекватность отражения тоже?
И. Пожалуй так.
Э. Но тогда мысль всегда лишь мишура? По автору.
И. Нет, я понял у него призрак – это отражение, может быть не адекватное.
Э. Но автор хотел сказать, что ему важна отражаемость?
И. Да, останется, следовательно, один компонент:
мысль – это призрак.
Э. Вы рассмотрели призрак как характеристику описания. А если иметь в виду наличное, то тогда важно указать отнесенность призрака к чему-то. Так?
И. Да мысль – это призрак чего-то.
Э. Замечаете, как важно точно знать, где ваше, а где не ваше?
И. Понятно. Я не задумывался над этим.
Диалог 1.8
Э. Вам уже удалось выявить тот фрагмент текста Гоббса, который соответствует Вашей теме "знание". Не трудно с ни работать? Он понятен?
И. Понятен, хотя он употребляет слова мне не привычные и с ними я теряюсь в некоторых смыслах. Вообще при чтении я замечаю, что понимаю только урывками. Если не обращать внимание на сомнения в деталях, то вроде бы я понимаю содержания.
Э. Эти трудности можно преодолеть логическим приемом. Если до сих пор на другом тексте мы находили содержания автора по теме непосредственно, то теперь вы сразу же подчините свое мышление логике восхождения. Помните ее требования?
И. Да, помню принцип и вроде бы все остальное.
Э. Вам, помня авторские содержания нужно найти его исходные определения знания.
И. В наиболее абстрактной форме.
Э. Да.
И. Не слишком это противоестественно? В общем-то автор пишет достаточно понятно. Зачем усложнять.
Э. Представьте, что вам придется читать лекцию по теме "знание", используя представления Гоббса. Слушатели никогда не имели дело с этой тематикой. Поймут ли они то, что вы скажете, цитируя Гоббса?
И. Не знаю.
Э. Они зададут массу вопросов, на которые вы будете уходить в наиболее простые представления о знании с точки зрения Гоббса.
И. Понятно. Удивительно, что это не пришло мне в голову. Я знал об этом, мне кажется. А могу я для непрерывности изложения свои слова вводить?
Э. Если следовать логической идее без перехода к своей терминологии, то лучше. По Гоббсовски звучать будет.
И. Когда я подобное делал, то вводил слова.
Э. А что было причиной этому?
И. Я вижу людей, или представляю их, или же сам чувствую их конкретные затруднения и ввожу для большей понятности свои слова.
Э. Введение слов не исключается. Но они не должны быть в дисгармонии с авторскими. Если вам уже кажется лучше ввести свою терминологию, то ориентируйтесь на потенциального, а не на реального слушателя. Логические требования восхождения и рассчитаны на такого слушателя и для любой темы.
И. Наверно лучше себе рассказывать и этим не зависеть от аудитории.
Э. Чтобы не зависеть от аудитории, не работать на каждого слушателя одновременно, достаточно понять, что логика восхождения адекватна для организации мышления лектора.
И. Мне уже это совершенно понятно, и я уверен в правильности этой мысли. Коммуникация странным образом снимает себя.
Э. Оставаясь по функции. Механизм лишь меняется. Психические процессы оискусствляются. Лучше рассматривать данную коммуникацию как логическую, предельную.
И. Почему она предельна, потому, что не обращена к случайному слушателю.
Э. Да. Правильно сказали. Попробуйте решить поставленную задачу.
И. Я как-то склоняюсь к необходимости комментирования содержаний.
Э. Комментирование уже относится к другим слоям работы историко-критической, – квалификации и оценке точки зрения автора. Даже если вы поясняете. Иначе вы забегаете в те уровни уточнения, которые надо еще достичь. И вообще вы лишь готовите и читаете лекцию для любого другого, следовательно, ни для кого в отдельности. Поэтому они вопросы вам не зададут. Комментарии не нужны. Они за пределами имитации авторских содержаний.
Диалог 1.9
Э. Вы уже пользовались схемой акта мысли и уяснили содержание схемы логики восхождения. На первом шаге вы получили: человеческое знание – разделяется на две области, знание идей и знание духов. Первая часть выступает в роли субъекта, а вторая часть – в роли предиката. Продолжите логическое деление дальше.
И. Сначала я левую часть С (субъект) разделю на части. Тогда получится следующее:
знания – человеческие.
Левая часть выступает в роли субъекта, а правая в роли предиката. Затем перехожу к делению правой части. Сначала получится:
разделяется на две области: знание идей и знание духов.
При делении новой правой части частица "на" имеет самостоятельное значение и лучше ее заменить на выражение "на что-то". Тогда получаем:
на (что-то) – области (знание идей и знание духов).
Наконец области выделяются как субъект нового результата деления, подразумевая под областями области знания:
области (знания) – идей и духов.
Э. А в связи с чем у вас выпало указание автора текста на количество областей – две?
И. Но ведь и так ясно, что две (область духов и область идей).
Э. Читая этот текст, вы видите, что две. Мысленно рисуете две части одного пространства знания. Так?
И. Конечно, слово "две" не несет никакой особой нагрузки. Поэтому его можно выбросит без ущерба для результата.
Э. Но тогда и слово разделяется ни к чему. Ведь в этой мысленной картине и так ясно, что две разделенные области пространства.
И. Наверно так. Но сомневаюсь.
Э. Что заставляет вас сомневаться?
И. Не могу сформулировать.
Э. Но вам понятно, что с точки зрения мысленной картинки некоторые слова не значимы?
И. Да.
Э. А с точки зрения процесса описания картинки, они значат.
И. Начинаю догадываться. Процессуально, или с точки зрения постепенности раскрытия содержания картинки, значимыми являются сначала "делимость" пространства знания, затем "на что-то", потом на "области", еще дальше на "две" области, после чего – конкретизируется состав областей.
Э. Именно так. По логике восхождения мы восстанавливаем полноту нашего знания введением уточняющих характеристик, на каждом шагу конкретизирующих то, что было, а не вообще дополнительных. У вас этот процессуальный критерий затем дополнился результатным (вы уже "видите" и новые уточнения превращаются в бессмысленные). В этом смысле вы перестали быть формальными, и обратились к содержанию "как таковому". Не текст стал важен, а ваше представление.
И. Я согласен, так и получилось.
Диалог 1.10
Э. Итак, что у нас получилось? Нарисуйте и опишите.
И. (рисует).
Здесь введена система капиталистических отношений – экономических. С одной стороны, существует, первичен, рынок, в котором осуществляется обмен между товарами Т1 и Т3 через посредство исключительного товара (деньги – Тх). С другой стороны, существует система производства, в которой производятся эти три товара. Эта система вторична и она организует процесс обмена, давая основания для сравнимости товаров – размеры стоимости.
Э. Все?
И. Да.
Э. И мы тем самым выразили весь материал по теме?
И. Да, кстати, подождите. Мы ведь не ввели еще деятельности в отношения друг с другом.
Э. Чем это вызвано?
И. А как же. Согласно требованиям языка схематизированных изображений и логики нужно ввести в отношения, иначе не будет признака объективности. Ведь отводящий круг дан и этим целостность предполагается. Кроме того, части в отрыве друг от друга могут быть, так товары связаны друг с другом через согласования стоимостей.
Э. Вы не забыли требования акта мысли? Ведь мы говорили о схеме в имитационном плане. Предполагали подтвержденность наших построений авторским текстом. Вы же оторвались от подтвержденности и продолжаете конструировать. Ведь так?
И. Действительно. Увлекся. Схема тогда перестанет быть объектной, если считать, что авторские содержания суть объект изучения.
Э. Верно, может быть, у автора было указано о связях?
И. Да нет. Он говорил пока лишь о наличии производства многих товаров.
Э. Ну, вот видите.
Протокол №2
Семиотическая организация мышления
Диалог 2.1
Э. Выразите теперь в языке СИ выражение "человеческое знание", учитывая результаты логической имитации:
знание – человеческое.
Компонент "знание" выступил в роли субъекта, а компонент "человеческое" – в роли предиката.
И. По правилам логики сначала нужно выразить в языке СИ содержание первого компонента. Говорится о том, что здесь все пространство знаний. Переходя к уточнению и выражая то, что имеем в виду не весь объем знаний, а лишь часть и именно "человеческие" знания, то получим:
человеческие знания.
Э. Вы плоскость знаний разрезали таким образом?
И. Да.
Э. А почему у вас линия разреза так расположена? Могли бы вы иначе разложить? Например, так (рисует).
И. Да, мог бы. У меня получился случайный разрез.
Э. А вы бы вспомнили о языке СИ?
И. Вообще-то я забыл. Но, кажется, в языке СИ получается тот же результат. Пожалуй, точнее этот результат дали вы.
Э. Как в языке СИ выражается наличие частей у одной вещи?
И. Два маленьких кружочка означают части.
Э. Правильно, но почему вы не перенесли это высказывание на языке СИ на вышерассмотренный пример?
И. Вначале я нарисовал круг, как и требуется. А затем привычка сыграла свое. Часть, значит надо резать.
Э. А по содержанию ваш результат равен моему?
И. Конечно.
Э. Не совсем. Если вы ввели вполне определенный способ получения частей, то мой способ относим к любому случаю многообразия частей, будь то части площади, или части идеи и т.п.
И. Я опять остался в позиции не имеющего языка СИ?
Э. Да. Игнорируете особенности языкового выражения конкретного содержания.
Диалог 2.2
Э. Мы рассматривали представления автора об анализе деятельности, в связи с проблемой целостности предмета психологического исследования. Вы имеете какие-то исходные данные представления об анализе деятельности, исследовании и т.п. Не так ли?
И. Да, имею конечно.
Э. Давайте попробуем извлечь из вас эти представления. Что такое "анализ"?
И. Я так сразу не соображу. А почему, собственно, вас интересует именно анализ?
Э. Вы считаете мой вопрос неправомерным?
И. Да нет, спрашивать вы можете. Но почему об анализе, а не об анализе деятельности, что ближе к тексту?
Э. А меня интересует именно анализ, как вы его понимаете?
И. Если бы вы спрашивали об анализе деятельности, то мне было бы все гораздо понятнее. Я видел бы ситуацию. А насчет "анализа". Это что-то разлагается. Было одно, а стало много.
Э. Ну, вот видите, кое-что получается.
И. Да, была единая деятельность, а затем ее растащили на продукт, материал, средства и т.п.
Э. Так то оно так, но меня интересует анализ безотносительно к частной ситуации анализа.
И. Анализ вообще.
Э. Да.
И. Ну я уже сказал.
Э. Давайте выразим наши представления в СИ.
И. Примерно так (рисует).
Переход от целого к части.
Э. А что исчезает при этом?
И. Исчезает целое.
Э. Если целое исчезнет, не останется и частей.
И. Не придумаю.
Э. Разложите целое на части.
И. (рисует). Разрезаю, а потом кладу части.
Э. Вы не языковым, а натуральным способом "разрезаете". Ведь из каких языковых компонентов состоит вышеизложенное высказывание? Из "целостности" (общий круг), "части" (маленькие кружочки) и "отношений" (палочки). Так?
И. Да, как-то вылетело из головы. Тогда дело представляется следующим образом (рисует).
Э. А теперь разложим опять вещь, а не языковое высказывание. Что исчезает при анализе?
И. Связи, а следовательно целостность.
Э. Правильно.
И. Я бы так изобразил (рисует).
После разложения систематизация и квалификация, раскладывание по полкам.
Э. А причем здесь систематизация? Мы говорим про анализ.
И. Так более реально. Анализ предваряется чем-то другим.
Э. Постарайтесь вырвать анализ из любых связей с другим, иным, чем анализ. Забудьте все, кроме анализа.
И. Хорошо. Я понял.
Э. Что вам мешает обходиться лишь тем, что от вас требуется?
И. Трудно удержать такую абстракцию отдельно от чего-то иного.
Э. В семиотике высказывание рассматривается как нечто синтетическое, называют синтагмой. Вы ведь имеете слова "я", "идти", "в", "кино". Из них образуется сочетание "я иду в кино". Слово "иду" происходит от слова "идти". Но вы не говорите "я идти в кино". Следовательно компоненты изменяются в морфологии при вхождении в синтагматические связи. Понятно?
И. Да. Ясно совершенно.
Э. Но у каждого слова в словаре имеется свое значение, и поэтому содержание значения можно изобразить. Следовательно, можно изобразить содержание как компонента языковой парадигмы, так и синтагмы в целом. Мы и вырываем компоненты их в связи (анализ, а не анализ деятельности), чтобы увидеть его словарное значение. А вы боялись уйти из синтагматического плана
И. Дело в том, что у меня были неясные представления об анализе как таковом. Это и смущало меня.
Диалог 2.3
Э. Итак, вы получили нужный результат имитации авторской мысли. Воспроизведите его.
И. Я рисую (рисует).
Э. Ну вот, мы имеем Фрейдовское представление о психике в рамках того, что мы окончательно охватили в его тексте. Опишите это схематизированное изображение, отождествляя его с самой психикой. Это уже психика, а не высказывание в языке схематизированных изображений.
И. Мне говорить за Фрейда, так как он писал?
Э. А причем здесь Фрейд? Перед вами психика. Требуется ее описать.
И. Так что, безлично описывать?
Э. А разве психика имеет отнесенность к личности?
И. Но ведь личность связана с психикой? Хотя я имел в виду не это, а то, что это мое произведение, и я ответственен за него. От себя я и должен описывать.
Э. Во-первых, о чем вы говорите? Перед вами психика. Где здесь личность? Ничего личностного здесь нет. Во-вторых, вы имеете в виду уже не то, что дано вам как объект, а лишь нечто, вовлеченное в вашу деятельность, например по имитации мысли Фрейда. Но тогда вы забыли характер поставленной вами задачи. Что это за задача?
И. Ну как, описать это схематизированное изображение.
Э. Не точно. Мы подчеркивали, что, говоря о СИ, мы еще оставляем себя в прежней работе по его построению. Сейчас же это не высказывание в языке СИ, не результат имитации авторских содержаний, а некий объект, психика.
И. Но ведь трудно отойти оттого, что это не объект. Это рисунок.
Э. Скажите, а вы, глядя на телевизор, много раз вспоминаете, что это там не действие увлекательное происходит, а лишь физико-химические явления происходят?
И. Вообще-то я постараюсь.
Э. Давайте, еще раз опишите психику.
И. Психика представляет собой целостность, имеющую компоненты.
Э. Почему вы говорите про семиотическое содержание, а не объективное?
И. Я опять ушел от объекта в свои размышления о нем. Вспомнил, что это языковая структура. Еще раз. Перед нами психика, имеющая сознание и подсознание, а также два рода факторов, которые мы можем выделить.
Э. Говоря "мы можем выделить", вы опять уходите от объекта к вашей работе с ним.
И. Да вот ведь чертовщина. Подсознание может выступить как качество более фундаментальное, чем сознание. Хотя эта сторона не освещена в рисунке.
Э. Откуда вы взяли про фундаментальность?
И. Это у автора развивается.
Э. У автора-то, может быть, и говорится об этом. Но у нас здесь нет. Мы пользуемся лишь тем, объектом, который есть у нас. Потом вы сможете проблематизировать наш результат, переделать его в соответствии с авторским текстом, но потом. Сейчас перед вами один единственный мир, выраженный в особых средствах.
И. Я понял, так и тянет в сторону от объекта, хотя и по его поводу.
Э. Скажите, а легко вы можете удерживать то, что говорится вашим собеседником, и не скользить к своим соображениям по поводу его соображений.
И. Я как-то не присматривался. Чаще это не так уж и важно. Разговоры динамичны и не уследить за всеми деталями.
Э. Теперь вы поняли, что скольжение делает ваше общение весьма отклоняющимся к игнорированию собеседника.
И. Да, в нашем случае я это осознал. Языком пользуемся, а условия языкового общения не соблюдаем. Так ведь нередко и бывает?
Э. Вы поняли, в чем дело.
Диалог 2.4
Э. Найдите новый материал по теме "знание".
И. Пожалуйста. "Те движения, которые непосредственно следуют друг за другом в ощущении, продолжают следовать в том же порядке и после исчезновения ощущений.
Э. О чем здесь говорится? не упускайте из виду тему работы.
И. О том, что внутренние процессы, воспроизводящие объект, воздействующий последующими ударами, повторяются и после воздействия.
Э. Можно сказать, что каждому удару соответствует один из последовательного ряда образов?
И. Да. За счет их ассоциирования создается синтетический образ.
Э. Что нового к прежнему вы видите?
И. То, что образ включается в новую структуру, общую. Место, занимаемое в нем.
Э. Как это выразить в СИ?
И. Трудно.
Э. Почему?
И. Не нахожу средств фиксации.
Э. Скажите, а как зафиксировать ряд элементов в изобразительных средствах?
И. Примерно так (рисует).
Э. Но вы написали ряд так, как пишется это в алгебре.
И. Я не понимаю.
Э. Давайте тогда поподробнее разберемся. Как вы изобразите целостность элементов (образов).
И. Надо написать весь ряд.
Э. Следовательно целостности не изображаете, признака целостности.
И. Затрудняюсь, может быть с точками с запятыми выразит целостность. Нет, я предлагаю другое решение (рисует).
Э. Стрелка фиксирует целостность?
И. Да.
Э. Стрелок много, а целое одно.
И. Но тогда я обведу их.
Э. Что означают стрелки?
И. Переход от одного к другому.
Э. Следовательно, меняется то, что целым является в каждой точке?
И. Нет, я так не сказал. Они, стрелки действительно относятся не к этому.
Э. А к чему?
И. Не знаю.
Э. Можно сказать, что к процессам?
И. Да, наверное так.
Э. Но в процессе не увидишь непосредственно целостности.
И. Я согласен. Действительно, если так рисовать, есть лишь миг, миги.
Э. А какое значение имеет обводной квадратик?
И. Признаюсь, формально зарисовал.
Э. Могу я так интерпретировать ваш результат: сначала один образ, затем другой и т.п.?
И. Да.
Э. Нельзя ли тогда трактовать ваш рисунок как замена предложения соответствующими знаками? Вместо "сначала одно" вы рисуете. Вместо "затем" – рисуете стрелочку; и т.п.?
И. Так получается, а как надо?
Э. Безвыходное положение?
И. А что если так? поставить знак равенства между целостным ощущением и уже рассмотренной структурой?
Э. Чем это отличается от предшествующего решения.
И. Затрудняюсь сказать...
Э. Опять ведь алгебраическое выражение как особая форма линейного языка, к которому относится и обычный язык. Тогда как язык изображений ориентирован на одномоментный показ действительности.
И. Как все-таки решить задачу?
Э. Давайте вместо и т.п. введем кружочки, символизирующие нечто данное неязыковое. Тогда ваше решение примет вид (рисует)
И. Неплохо. Я что-то начинаю понимать. Ведь вы уже говорили об особенности языка изображений.
Э. Попробуйте дальше сами.
И. Нет. Я не смогу.
Э. Что нам стоит следовать первому шагу и нарисовать другой, больший круг, объемлющий меньшие круги.
И. Я понял, надо рисовать так (рисует).
Э. А теперь устраните процесс, чтобы иметь образ в "покое", а не в "динамике".
И. Тогда (рисует).
Э. Ведь отдельные образы связаны в этом состоянии. Следовательно, рисовать надо так (рисует).
И. Прекрасно. Теперь все стало на место. Я все сводил к обычному языку.
Диалог 2.5
Э. Каким образом в изобразительной форме выразить содержание понятия "разделяется"?
И. Различным образом. Например, так (рисует)
Э. Вы подчеркиваете разделенность результата процесса.
И. Да, на одно и другое. Не важно, какое именно.
Э. А ведь процесс трактуется вами как "естественный", для вас как наблюдаемое.
И. Конечно.
Э. Зачем вам тогда запятая?
И. Я подчеркнул то, что части безразличны друг другу.
Э. А разве без запятой это не было бы очевидным?
И. Согласен, зря я ввел запятую.
Э. Относится она к языку СИ?
И. Нет, я по привычке неосознанно поступил.
Э. Вы согласны с тем, что при использовании этих изображений в функции наблюдаемого запятая просто ни к чему, что вы языковой характер процесса (?) с неязыковой интерпретацией результата.
И. Да. Я понял, постараюсь следить за собой.
Диалог 2.6
Э. Найдите фрагмент текста автора, в котором были бы дополнительные к только что фиксированным в СИ содержания по теме.
И. Пожалуйста. "Объект действует на глаза, на уши и др. части человеческого тела и в зависимости от разнообразия своих действий производит разнообразные призраки".
Э. Какие новые компоненты содержания вы выделите?
И. Надо посмотреть, что насчет глаз и ушей написал Гоббс.
Э. А зачем это вам? У вас новый текст есть и есть результат прошлого. Вы проблематизируете полноту снятия авторских содержаний.
И. Да нет, но на всякий случай надо вернуться.
Э. К чему вернуться?
И. К тексту Гоббса.
Э. Но то, что нужно по теме работы, нами представлено в изображении.
И. Но все равно проверить надо. Тем более, что у меня память не очень хорошая.
Э. Скажите, а легко помнить то, что в нашем изображении?
И. Напротив. Я сказал бы, что слишком легко помнить.
Э. Тем самым легко и выяснить ваш вопрос, что тут есть про глаза и уши.
И. В нем нет относительно ушей и т.п. ничего. Надо посмотреть то, что дальше говорится относительно них.
Э. Вы методику нашу хорошо помните?
И. Да, я понял. Просто запрет на просмотр вперед.
Э. Умейте приучить себя использовать только то, что есть. Не расплывайтесь. Кроме того, вы не видите в нашем изображении, что касается глаз и ушей. А там есть...
И. Интересно, где же?
Э. Скажите, а говорится о том, что вещи, действуя на нас, производят в нас призраки?
И. Да.
Э. Можно сказать, что в нас есть то, что позволяет рождать призраки?
И. Конечно.
Э. Следовательно, предполагаются механизмы, рождающие призраки.
И. Да.
Э. А можно сказать, что глаза и уши суть механизмы, рождающие призраки? Ответственные за ощущения?
И. Я понял, неявно говорится об ушах и глазах.
Э. Явно говорится о механизмах, но пока неизвестно о каких. А затем уточняется представление о механизмах.
И. Действительно. Нет содержания и оно есть. Как это различать?
Э. Надо попытаться свести признаки новых содержаний к старым. Только тогда увидите разницу.
И. Интересно, наверно немало заключено в нашем изображении.
Э. Как только вы забудете реальный авторский текст и будете пользоваться результатами снятия в нем тематически значимых содержаний, так перед вами откроются тайны мыслительного отношения к авторским содержаниям в тексте.
И. Но надо еще уметь "видеть" в изображении то, что есть. Это непривычно. А если мы ошиблись, то надо ведь вновь идти к тексту?
Э. Конечно, но только в случае проблематизации результата.
Диалог 2.7
Э. В результате предшествующих работ было получено выражение в языке СИ, содержащее сочетание "человеческие знания" (рисует).
Сейчас нам необходимо в языке СИ выразить содержание по теме "знание" на материале содержания "человеческое знание". Сделайте это!
И. Остается лишь вновь показать на это СИ, выделив кружочек относящийся к человеческому знанию.
Э. Но это будет "человеческим знанием", а не "знанием".
И. Но ведь оно часть знания.
Э. Как часть оно получено в результате деления всей области знания на части. Там мы говорили о знании, как исходной абстракции в процессе ее уточнения. Сейчас же мы имеем представление о части пространства знания и должны охарактеризовать его. В качестве основания характеристики берется то обстоятельство, что человеческое знание – суть знание. Знание превратилось в предикат нового высказывания о человеческом знании, как субъекте.
И. Могу я сказать, что нарисованное вами выше относится к одному процессу (результат его), а начало нашего процесса еще не введено?
Э. Правильно.
И. Тогда я нарисую процессуальную картинку (рисует).
Одна и та же точка в разных процессах имеет разное содержание (знаниевое и субъективное).
Э. Да, остается лишь вернуться к проекционным соображениям.
И. Я не очень это представляю.
Э. Используйте то, что уже сказано. В одном процессе вы имеете "человеческое знание" как уточненное отображение, выступающее в роли объекта. Сейчас же это отображение выступает в роли объекта. Вам нужно проекционно отобразить объект. Поскольку человеческое знание не перестает быть знанием, то с точки зрения этой проекции надо рассмотреть человеческое знание как знание. Тогда особенности "человеческого знания" должны быть сняты, и человеческое знание станет просто знанием: (рисует).
Одно выступает в роли объекта, а другое в роли отражения (проекции) объекта.
И. Самое трудное помнить, что в какой функции.
Э. Как вы думаете, почему вы вначале не могли явно различить объект и его проекцию, хотя наверное, предполагали различие.
И. Я чувствовал, конечно. Как бы видел. Но функциональное различие, которое я сейчас стал параллельно просматривать с помощью функциональной схемы акта мысли, позволили понять то, что вы сказали и осознать поставленную задачу.
Диалог 2.8
Э. Какие компоненты содержания вы выделили в отрывке автора по теме "мысль".
И. Призрак; Качество; Тело.
Э. Введите их в логические отношения по схеме восхождения:
Вы помните содержание этой схемы?
И. Да, помню. Сделано так (рисует).
Э. Компонент "тела" уточняет компонент "качества"?
И. Вообще-то я лучше сделаю так (рисует).
Э. Так компонент "тело" уточняет компонент "качество"?
И. Конечно.
Э. А почему вы изменили правилу рисования логических отношений между компонентами?
И. Так натуральнее выразить то, что тело имеет и другие качества.
Э. Зачем вам беспокоиться о других качествах?
И. По ассоциации. Как бы ближе к реальности. Но я понял свою ошибку. Нужна логика.
Э. Чем вам не нравится логика как организатор мыслительных процессов?
И. Слишком это формально. Хотя и стройное. Но я понял задачу.
Э. Если вам хочется выразить многообразие качеств, то вы должны сначала ввести в текст многообразие качеств. А затем ухитряйтесь логически.
Чем же отличаются варианты рисования?
И. Не вижу теперь, что лучше.
Э. А если все-таки строго придерживаться правил зарисования, то как надо рисовать?
И. (рисует).
Э. А компонент "мысль" какую логическую нагрузку несет?
И. То, что про него говорят.
Э. Если это субъект высказывания, то его и надо поместить в место для субъекта. У нас же здесь только предикаты.
И. Вы имеете в виду схему акта мысли?
Э. Конечно.
И. Но остается неуверенность, нужно ли устроить этот член ряда предикатов.
Э. Оставьте, но что тогда можно сказать в этом месте о мысли?
И. Не знаю.
Э. А можно сказать, что она существует?
И. Я понял. Конечно. Никак не заставлю себя вести строго по логическим схематизмам, хотя схемы удобны для работы.
Диалог 2.9
Э. Давайте по порядку, в соответствии с полученной предикативной структурой, будем рассматривать отдельно каждый из предикатов. При этом их содержание изобразим.
И. И как будем изображать?
Э. Как удастся. При этом старайтесь минимизировать изобразительный материал. Первый предикат – "мысль человеческая". Как изобразить?
И. Какие элементы графики нужны здесь?
Э. Подумайте сами.
И. Это нечто новое для меня. Пусть так (рисует) – в голову прилетела мысль.
Э. А теперь найдите компоненты этого изображения, из которого оно составлено.
И. А зачем это? Я в тексте эти содержания увидел и выразил.
Э. Если вы задумаетесь о составе, то создадите унификацию, что поможет вам в других действиях подобного рода.
И. А какое значение имеет, как я рисовал? Например (рисует).
Э. Пока вы рисуете случайно, это не имеет значения. Но после введения стандартных наборов – имеет. Станут действовать запреты. Почему вы именно так нарисовали?
И. Я много раз видел такого человека на схемах. Не мог оторвать от этого. Психологический барьер.
Диалог 2.10
Э. Вы усвоили программу логических операций по последовательной имитации тех или иных содержаний (программу восхождения от абстрактного к конкретному). Теперь будем переходить к применению полученных знаний. Реализуйте программу для имитации содержаний "Тело, находящееся вне нас".
И. За исходный берем "тело". Учитывая то, что тело находится вне нас, мы так рисуем компоненты (рисует).
Э. А почему вы рисуете человечка ("мы")?
И. Но ведь тело вне нас. Как же без внимания нас?
Э. Скажите, вы не хотите отвлечься от картины ситуации?
И. Да.
Э. Вспомните программу мыслительной деятельности. При обращении к предикату, в данном случае к первому, нужно ли вспомнить о субъекте мысли?
И. Ах, да. Вот ведь привычка. Конечно, надо отвлечься. Но и совсем отвлечься нельзя. Что делать?
Э. Когда нужно вспомнить о субъекте мысли?
И. Вспомнил, при образовании знания.
Э. Это в конце процесса. А когда еще?
И. Не помню.
Э. При подборе предиката следует учитывать свойства субъекта мысли.
И. Конечно. Понятно. Иначе голый формализм, и мы не получим знания, так как предикаты не будут отражать объекты.
Э. Вот именно.
И. "Тело" нами учтено. Дальше! Оно находится вне нас. А это означает, что рисовать надо так (рисует).
Э. Так-то так. Но вы нашли уточняющий предикат к исходному?
И. Я полетел вперед. Уточняющий предикат говорит о том, что тело находится вне нас.
Э. Я не является ли это сложным предикатом? Составным из частей.
И. Не понял, вроде бы проще не придумаете.
Э. Тело где-то находится. А затем уточняется, что оно находится вне чего-то.
И. Пожалуй.
Э. А почему вы затрудняетесь в разложении содержаний?
И. Я вижу картину и делю ее, ситуацию. Но так тонко делить не привык.
Э. Можно сказать, что вы боитесь потерять целое ситуации?
И. Думаю, что да. Итак, тело находится где-то.
Э. Но где у вас границы того, в чем нечто (а не тело еще) находится?
И. Да, я вспомнил требования языка изображений. Но причем здесь оговорка "еще не тело"?
Э. Предикативным содержанием-то является "находится где-то". Что находится не важно для данного предиката.
И. Опять я не вышел из субъективной роли. Тянет она меня.
Э. Привычка мыслить объектами.
И. Да. Понятия где-то сбоку. Вне осознания.
Э. Введите этот предикат в мышление и образуйте новое, уточненное знание.
И. Надо нарисовать "тело находится где-то".
Э. Конечно. Тело не просто существует, но и куда-то помещено.
И. Не понимаю. Что же нового надо рисовать? Уже ведь все есть в предикате: и тело, и то, в чем оно.
Э. Но это не было в предикативном пространстве. А надо его сделать субъективированным содержанием, т.е. сделать знаниями.
И. Что, просто перерисовать? Пожалуйста (рисует).
Э. Формально вы субъективировали. Учтите, что это уже не что-то вообще, а тело находится где-то.
И. Это понятно, ну и что?
Э. Тогда признак тела нужно ввести.
И. А...Понял (рисует).
Тем самым я не только отразил находимость, но и осуществил восхождение от абстрактного к конкретному, уточнил исходный предикат – "тело".
Э. Да. Продолжайте уточнение.
И. Пока что опять к уточняющему предикату – "вне". Подчеркиваю на рисунке внешность (рисует).
Э. И вы опять не ушли из субъекта. Если говорить о внешности, то от тела или от чего-либо остается лишь "чистое" бытие, предполагание реального бытия.
И. Как это выразить?
Э. Снятием наполненности чего-то своим специфическим содержанием (рисует).
И. Здорово. Я понял. Действительно, трудно уйти от субъекта. По сути дела я, наверное, и другие всегда имеем дело лишь с ними и оттого так трудно. Уточняю внешность тем, что ее содержанием является "мы". Поэтому вначале рисую нас: (рисует). Это предикат. А затем субъективирую его и осуществляю восхождение (рисует).
Э. Вы не проскочили слишком далеко вперед?
И. Вроде бы нет. Ведь результат предшествующий нам известен.
Э. Да, но вы сначала уточняете предшествующий предикат "вне". Затем уточняете предикат "находиться вне" и лишь затем – тело находится вне нас.
И. Понятно, опять игнорирую логику процесса. Она как-то с трудом остается в сознании. Видится лишь ситуация.
Диалог 2.11
Э. Представляете себе, что объект, находящийся вне, производит в нас посредством работы специфических механизмов ощущение как образ объекта. Изображая эту ситуацию так (рисует)
А сейчас обратимся к анализу текста по теме мысль: "Мысль есть призрак качества тела, находящегося вне нас". Скажите, что нужно оставить в изображении для сочетания "мысль человеческая"?
И. Пожалуйста (рисует).
Э. Вы имели в виду процессы пространства мысли?
И. Нет, я понял, поправлюсь (рисует).
Мысль принадлежит человеку.
Э. А я вас спрашивал о принадлежности мысли или мыслей?
И. Вроде бы это подразумевалось. Хотя нет, я согласен с вами. Но вы говорили о человеческой мысли, а не о мысли.
Э. В этой картине нет других мыслей, кроме человеческой.
И. Сдаюсь, понял: (рис).
Э. А как интерпретировать компонент "призрак "?
И. Это то же, что мысль.
Э. Зачем автор выделяет слово "призрак"?
И. Наверное потому, что призрак это не настоящее.
Э. А что "настоящее"?
И. Вещь, а может, подлинная мысль, верное отражение. Последнее.
Э. Как выразить это обстоятельство?
И. Не знаю как.
Э. Терминами изображения (рисует).
С одной стороны, призрак отражает тело и поэтому похож на подлинный образ. Точно так же и в случае другой гипотезы: призрак противопоставлен телу; призрак похож на него и не похож.
И. Я понял.
Э. Как теперь выразить, используя изображение, компонент "качества тела"?
И. Затрудняюсь.
Э. Когда можно говорить про качество?
И. Когда тело имеет свойство.
Э. В каком случае тело имеет свойства?
И. Не соображу.
Э. Если тело не простое, а составное, то можно говорить о внутренней динамике и тому подобном.
И. Я понял.
Э. Как выразить это в изображениях?
И. (рисует).
Э. Компактнее так (рисует). Введены отношения между частями, и, следовательно, динамика. Как предстанет картина в целом?
И. (рисует).
Э. Почему у вас изображение мысли не изменилось, хотя вещь стала более дифференцированной?
И. А я думал, что мысль, призрак даны для любой вещи. Но я понимаю теперь, что нужно соответствие.
Э. Иначе не будет реального смысла в картине. Как все-таки изображать "качества тела"?
И. Это одно из многих. Но точнее затрудняюсь.
Э. Почти нашли ответ. Если мы выделим одну из частей вещи и противопоставим целому вещи, то возможность разговора о качестве появится. Давайте части пронумеруем. В общем виде возьмем часть. Тогда можно написать (рисует). Условно и будем считать качества тела?
И. (рисует).
Э. Правильно. А соответствующий призрак?
И. (рисует).
Э. Хорошо.
Протокол №3
Деятельностная организация мышления
Диалог 3.1
Э. Нашей темой будет "генезис знания" с точки зрения Беркли.
И. Скажите, а какой генезис вы имеете в виду – функциональный или исторический?
Э. Что вы имеете в виду, когда говорите о функциональном и историческом генезисах?
И. Функциональный генезис – это когда я порождаю знание, а исторический генезис предполагает возникновение знания в обществе.
Э. Скажите, а зачем вам нужны эти типы генезиса, речь-то велась о генезисе, без различия на типы генезиса.
И. Я понимаю, что говорить о генезисе вообще. Но вы, вроде бы, говорили раньше о типах генезиса, которые надо различать и на материале знаний.
Э. Тогда мы говорили о понятии генезиса и его использовании для выявления типов генезиса. Вы неточно воспроизвели то, о чем мы говорили. Но не в этом дело. Когда мы вспоминали о типах генезиса знания, вы уточнили рамки вопроса, предполагаемого в постулировании темы? Какие действия должны быть осуществлены, если точно следовать указанию на то, что темой работы является генезис знания?
И. Как мы должны по вашей методе: представит себе понятийное содержание термина "генезис знания" и обнаружить у автора текст, содержание которого может быть рассмотрено как наполнение места (понятийного содержания) материалом авторских содержаний, того, что понимает автор под генезисом знания.
Э. Если бы мы темой взяли, в ваших терминах, "функциональный генезис знания" или "исторический генезис знания", можно было бы с уверенностью сказать, что у автора пришлось извлекать большее количество материала содержаний.
И. Да. Поскольку помимо генезиса знаний, пришлось бы искать то, что характеризуется автором текста как функциональный или исторический генезис знания.
Э. Почему тогда вы изменили тему работы, спросив какой именно генезис я имел в виду?
И. Это произошло незаметно. Я мысленно уже пошел дальше простого указания на генезис, чтобы конкретизировать ответ.
Э. Можно сказать, что вы потеряли связь с содержанием моего вопроса, переключившись на свои размышления?
И. Пожалуй, да. Я понял, в чем дело. В вашем формулировании темы уже содержалось то, что я должен был сделать, а я невольно размыл тематические рамки и этим подвел себя к иной программе работ.
Э. Правильно.
Диалог 3.2
Э. Будем работать с текстом Гоббса по теме "знание".
И. Проникнуть в эту тему?
Э. Да.
И. А чья эта тема? Наша или Гоббса?
Э. Вопрос о теме возник в нашей работе. Для чего-то нам нужно работать с этим материалом. Либо для тренировки умения, либо для историко-критической работы, реконструкции и т.д.
И. Запрос на тему появился в нашей деятельности?
Э. Да, правильно. Гоббс когда-то писал, считая, что содержание будет важным не для него одного. А затем мы читаем текст, решая задачи. Результат получится наш. Но цель наша такова, что мы отождествляемся, насколько позволяет наша культура, ее средства, с Гоббсом.
И. Но тогда это тема Гоббса, которую мы заимствуем.
Э. Мы заимствуем, и характер заимствования зависит от целей, которые мы преследуем, от методов заимствования.
И. Но ведь все равно, раз мы заимствуем, то это уже не наша тема.
Э. Скажите, если это не наша тема, должны вы уйти в его, Гоббса, век?
И. Да, жить там.
Э. И все воспринимать и мыслить как там?
И. Да, как актеры.
Э. Можете вы вырваться за пределы усвоенных знаний и методов, даже если цель ваша и цель Гоббса совпадут?
И. Наверное. Не уверен. Я понимаю, кажется. Но тогда имитация наша фиктивная.
Э. Да, но мы вживаемся в Гоббса, но в своей культуре, а не актерским образом.
Э. Да. Можно тогда сказать, что цели и темы всегда сначала наши, и лишь вторично приписываются автору?
И. Что требует подтверждения текстом.
Э. Именно, и в этой проверке – сущность трудностей работы с текстом. Гоббс появляется как наш Гоббс, но за счет использования его текстов.
И. Нелегко это различать и сохранять различение в работе.
Диалог 3.3
Э. Найдите новый, дополнительный отрывок текста автора по вашей теме.
И. Начало всех призраков есть то, что мы называем ощущениями. Все остальное есть производное от него.
Э. Что же нового введено автором относительно ранее полученного результата?
И. Представление о процессе рождения призрака.
Э. Что же говорит автор о процессе?
И. То, что призрак является.
Э. Разве это новое? У нас было появление призраков и раньше?
И. Да. В изображении нашем это было. Но зато у нас не было перехода от ощущения к "остальным" призракам.
Э. Говорит автор об этом актуальном процессе?
И. Я не понял об актуальности, но автор говорит о преобразовании ощущения.
Э. Это преобразование уже произошло, или автор застает его и описывает?
И. Если автор говорит о производности, то должен быть процесс преобразования ощущений. Наверное он это и имеет в виду.
Э. А в чем причина вашей неуверенности?
И. Предложение как-то написано не очень четко. Можно подумать и о том, что производные призраки уже получены.
Э. Если получены, то в чем особенность мысли автора?
И. Он как бы делит одни призраки на исходные, а другие – на производные.
Э. Прекрасно. Так что это за мысль по характеру?
И. Систематика?
Э. Именно. Он осуществляет анализ имеющихся призраков. Тем самым, он уже не наблюдает их рождения. Разные это работы.
И. Да.
Э. Следовательно, разные и мысли у автора.
И. Как их сказать? Ведь автор раньше не говорил о трансформации призраков.
Э. Он может нарушить порядок изложения и систематизировать до изложения процессов, являющихся основаниями квалификативных работ рассуждений. Но квалификативное расуждение предполагает предшествующее описание процессов.
И. Меня к этим процессам и тянуло.
Э. Вы ничего, кроме них не видели.
И. Да.
Э. Как вы думаете, почему?
И. Я искал объективные содержания, а про анализ автора забыл.
Э. Следовательно, специфика любой мысли сводится вами к одному из видов – рассуждению об объекте?
И. Думаю, что да. Наверное, обеднял свое чтение?
Э. Конечно, так как богатство мышления автора вы не могли видеть.
Диалог 3.4
Э. Есть ли новый материал по теме?
И. Тут указания на то, что не нужно делать. Ссылки на современную культуру и тому подобное. Думаю, что все это не надо учитывать. Автор делает что-то другое, чем нам нужное.
Э. Что именно он пишет?
И. Не уклонимся ли мы от нашей задачи?
Э. А какова задача?
И. Воспроизвести мысль автора по теме.
Э. А не уточнялось ли это задание указанием, что в качестве материала будут тексты автора?
И. Это само собой.
Э. А можно рассматривать в качестве материала авторских текстов оглавление, введение, наименование его работы?
И. Немного неожиданно, но думаю, что можно.
Э. А что вас смущает?
И. Да нет, я понял. Не будет смущать.
Э. Что он пишет?
И. "Однако во всех университетах... учат другой доктрине. В отношении причины зрения они говорят, что видимая вещь посылает во все стороны..., что по-английски обозначает призрак, аспект или видимое видение, проникновение которого в глаз есть зрение... Более того, в отношении причины понимания они также говорят, что понимаемая вещь посылает ..., т.е. умственное видение, проникновение которого в рассудок производит наше понимание".
Э. Могли бы вы превратить это рассуждение противников автора, сделать рассуждения автора?
И. Затрудняюсь. Как это?
Э. Что говорят противники?
И. Вещь посылает что-то в органы чувств, рассудок, внедряясь в которое оно становится образом.
Э. Вернее, становится условием понимания, и, следовательно, появляется образ. А теперь, что должен сказать автор, как их противник?
И. Наверное, следующее: наше понимание не имеет своим условием посылку чего-то от тела в органы чувств или рассудок.
Э. Именно. Ограничивает этот процесс построения автора из этого замечания. И поэтому просто так нельзя отбрасывать этот текст сходу.
К каждому фрагменту текста надо подходить с точки зрения решенной задачи, и в этом смысле весь текст равно значим. Однако степень и характер того, что извлечется будет различным.
И. А я искал прямых указаний относительно того, что соответствует теме.
Э. А как вы думаете, почему такое ограничение своей работы вы вводили с ходу?
И. Не знаю, привычка, наверное.
Э. Скажите, а имитировать текст автора значит отождествляться с ним и делать то, что он делал? Например, когда строил свое представление, отличаемое от представлений противников.
И. Конечно.
Э. Но мы имитировали результат, а не процесс. Кроме того, наша работа будет иной, чем у автора. Лишь результат должен реализовывать имитационную функцию относительно результата.
И. Я понимаю. Мы не можем быть в ситуации автора. У нас иная традиция. Он много чего делал. Нам же важно то, что соответствует цели работы.
Э. Правильно.
Диалог 3.5
Э. Найдите новый материал по теме.
И. "...после большого промежутка времени слабеет наш образ прошлого...Это ослабленное ощущение...мы называем представлением, когда желаем обозначить саму вещь."
Э. А теперь попробуйте новое к прежним содержаниям ввести в ранее построенное СИ.
И. Я думаю, представляя себе как мы шли раньше, сразу рисовать добавку или на базе прошлого.
Э. Разве вам не ясна инструкция?
И. В общем-то ясна.
Э. Что же вас уводит от нее в сторону, в программирующие рассуждения?
И. Я понял. Я отвлекся. Но ведь схема фиксирует лишь результат, а не путь мышления автора.
Э. Зачем вам путь? Согласно предписания, вы должны преобразовать ранее полученное схематическое изображение. Все просто в инструкции.
И. Так-то так. Я мог бы нарисовать продукт неизвестно чего, но ведь упустил бы мышление, давшее нам схему. Может быть, я чего-то путаю?
Э. Вам не удастся усвоить содержание предписания.
И. Наверное. Хотя вроде бы все ясно.
Э. Скажите, а вы смогли бы задачу рассмотреть вне связи с представлениями о предшествующей деятельности?
И. Да. Но нельзя же так абстрагироваться! Задача имеет место в целом нашей работе.
Э. Пока вы не будете (?) строгое следование предписанию и последующим увязыванием полученного результата с другими работами, у вас ничего не получится. В чем содержание предписания?
И. Преобразовать схему на базе новых содержаний. Я повторяю за вами, но как-то "размягченно" в голове.
Э. Давайте более четко выразим это содержание. В чем суть его? Вы работаете по методике на материале большого текста и делите работу, охватывая часть текста по теме за частью. Циклы. В результате цикла получаете результат промежуточный (рисует).
- текст – штрихованная часть текста суть та, которая вами уже проработана
– стрелочка с кружочком означает механизм мыслительной деятельности, извлекающий у автора содержания по теме и оформляющий эти содержания в изображения
- стрелка говорит о последовательности в процессе захвата авторского текста.
Пока вам понятно?
И. Предельно ясно.
Э. Предположим. На части текста вы получаете результат в виде СИ. Формально сколько кусков, столько и изображений: (рис).
Задача состоит в том, чтобы следуя логической идее восхождения, преобразовать предшествующие СИ, беря содержание последующего в роли уточняющего предиката. Вы помните в чем смысл логики восхождения?
И. Да. Я все понимаю.
Э. Что еще остается уточнить в нашем рассуждении, чтобы мы пришли к вам поставленной задаче?
И. Как будто все и сказано.
Э. Скажите, а в нашей задаче учитывается весь материал содержаний последующего куска текста автора?
И. Я вспомнил. Как это я забыл! Мы выделяем лишь дополнительные содержания. Формально, на только что введенной схеме, мы строили бы СИ дополнительных содержаний и затем учитывали бы при уточнении предшествующего СИ.
Э. Очень хорошо. Совпадает ли то, что вы предполагали до введения моих схем и то, что в них заложено?
И. Вы знаете, я бы не нарисовал бы это. Темное чувство было похоже на вами нарисованное, но еще многое чего. Выделить и дать так четко, предельно ясно я не смог бы. Вообще-то я стал бы преувеличивать сходство между тем, что я имел в виду, в голове и вами нарисованное.
Э. Попробуйте выразить мысль автора.
И. Думаю, что так:
(рис)
Одно означает образ неослабленный, а другой – ослабленный.
Э. А стрелка означает переход?
И. Да.
Э. Остается выявить характер перехода. Но это потом.
Диалог 3.6
Э. Выделите материал по теме "логика".
И. Я выделил уже. "Ни в какой другой науке не чувствуется столь сильно потребность начать с самой сути дела, без предварительных различений, как в науке логики".
Э. А теперь выделите компоненты содержания по теме.
И. Логика; Понятие логики.
Э. Почему вы ввели компонент "понятие логики". Где у автора говорится о понятии логики?
И. Я спутал с другим текстом, похожим на этот. Правильно будет так:
1) Логика.
2) Наука логики.
Э. Скажите, а логика и понятие логики как соотносятся друг с другом?
И. Наука логики – это знание о логике. Связь здесь есть.
Э. Можно сказать, что зная все про логику, как новый объект, мы можем еще не знать о науке, познания логики?
И. Если мы уже знаем о логике, то следовательно было познание ее. Наука здесь ни к месту, так как она познает что-то, включая и логику.
Э. Уж если так, то разговор про науку ничего нового не даст, если она привела нас к знанию об объекте. Нас интересует объект, а не его исследование.
И. Я понял. Но как-то остается неуверенность.
Э. В чем она состоит?
И. Чтобы делать ошибки, нужно знать, как соотносятся между собой объект и его исследование. Так ведь?
Э. Конечно. А каково место объекта в науке как особой системе деятельности?
И. Я не скажу точно. Ученый наблюдает явление, затем о нем. Да, еще спорит с другими учеными.
Э. Если бы вы развернули свою мысль, вы много бы обнаружили интересного об объекте в науке.
И. Про объекты легко говорить. А у нас ведь логика. Это что-то гораздо сложнее.
Э. А какая разница для науки что познавать? Одни ученые познают кометы, другие – металлы, а третьи познают мышление. Мы теперь встретились с познанием логики.
И. Как-то иначе, наверное, познают логику.
Э. Можно исследовать деятельность?
И. Да.
Э. А продукт деятельности?
И. Можно.
Э. Можно рассмотреть логику как продукт деятельности логика?
И. Да.
Э. А деятельность логика можно исследовать?
И. Чем он занимается? Правила пишет, как мыслить?
Э. Да, помогает организовать мышление путем изобретения "правил" мышления, используя знания о мышлении.
И. А разве не логик исследует мышление?
Э. Если для вас исследование мышления означает логическое исследование. Но чем-то логик отличается от психолога, физиолога и т.п. Так или иначе, но что-то логик делает и рождает при этом либо учение о мышлении, либо правила мышления. Эту деятельность, например, по ее продукту и можно исследовать как объект, наподобие того, как исследуется деятельность оператора.
И. Я понимаю, начинаю понимать в чем дело. Я стремился к результативной стороне в деятельности. Поэтому логику ставил на одну доску с познанием логики. В результате познания получаем как бы тот же самый объект (логика), только иной. Отсюда и ставил их рядом, как разные.
Э. Мне мало, что можно добавить. Лишь то, что логическую деятельность вы не отличали от познавательной. Иначе говоря, некую практическую (логическую) деятельность от познавательной. Это неразличение позволило искать в свойствах познавательной деятельности свойство той деятельности, которая познается.
И. Да. Хотя это еще более тонкая вещь. Я не отличал деятельность от ее продукта.
Диалог 3.7
Э. Давайте, обнаружьте новые содержания по нашей теме "дух".
И. Дух для нас имеет своей предпосылкой природу. Он является ее истиной и тем самым абсолютно первым в отношении нее.
Э. Понятно содержание?
И. Построение какое-то дикое. Может быть, переводчик Гегеля перестарался?
Э. А что именно "дикое"?
И. Да относительно предпосылки. Что имеется в виду, говоря о том, что дух предпосылка природы? Одни слова.
Э. Что вас не удовлетворяет? Автор что-то сказал и нужно самым прямым образом его понимать. Иначе ничего в нем не поймете.
И. У меня не возникают ассоциации. Можно так улучшить текст: "Дух является истиной природы". Но то же не ясно. Причем тогда "быть первым в отношении природы"?
Э. Скажите, можно упростить содержание, прежде чем отвечать на более сложные вопросы?
И. Можно, но не знаю как.
Э. Давайте предположим, что есть два образования – дух и природа. Как это содержание изобразить?
И. Вот уже задача? Природу еще легко, а как же дух?
Э. Если это некие (снимаем специфику каждого) образования, то все гораздо проще, если не идти от умственных образов "духа" и "природы", а от языка изображений: (рисует)
1 – дух
2 – природа
Вам это понятно?
И. Извините, я забыл о языке. Сразу же полетели ассоциации. А уж относительно "духа" совсем неясные они. А так понятно.
Э. Каковы между ними отношения?
И. Сложно ответить. Не знаю как.
Э. Что вам мешает отвечать?
И. Как сказать. Надо ведь понять текст, чтобы ответить.
Э. Давайте танцевать от языка. Что здесь первичное, а что вторичное?
И. Да. Это то основание, которое легко увидеть. Я ответил бы так: вначале автор говорит о первичности природы. Так ведь?
Э. Да. Так как быть истиной природы можно лишь имея природу в наличии. На первой части рассуждения легко сделать этот вывод. Он вам привычен, я думаю.
И. Да, это материализм.
Э. Но затем автор говорит о том, что раз дух суть истина природы, то он и абсолютно первый, основа природы. Вот тайна перехода в совсем другое мировоззрение.
И. Действительно. Но подождите, причем это? Ведь целым, которое нарисовали вы, является все равно природа.
Э. Почему вы так легко об этом говорите.?
И. А как же?
Э. Откуда вы взяли это?
И. Это всем понятно. Кроме природы нет ведь ничего.
Э. А вы у автора спросили? Или вы уже не имитируете его мысль? Вы вместо него стали утверждать о том, что дух (духовная материя, психика) и природа (физическое и т.п.) внутри материального целого?
И. Да, я посмел. Навязываю ему свое решение?
Э. Конечно. Возвратимся к автору. Это говорение: "Если ..., то ...". Нужно осмыслить.
И. И как же осмыслить? Совершенный трюк. Абракадабра.
Э. В этой ситуации попытайтесь найти ситуацию, в которой было бы осмысленным сказанное автором. Лишь если не удастся, вы станете иметь право сомневаться в осмысленности говорения. И то, как имитирующий, вы отдаете преимущество автору и быстрее сомневайтесь в себе, не сумевшем найти нужную для осмысления ситуацию.
И. Как же найти ситуацию для данных слов. Это не возможно. Мне кажется, это просто спекуляция автора. Или не так?
Э. Давайте попытаемся найти ситуацию. Скажите, в деятельности что является причиной, первичным? Цель или процесс ее достижения?
И. Цель, конечно.
Э. А в продукте цель содержится?
И. В определенном смысле слова да. Признаки цели есть.
Э. Следовательно, пока мы не взяли заготовку, цель мы не получили в продукте?
И. Да. Это понятно. Ну и что же?
Э. Обратите внимание. Два противоположных высказывания. Цель в продукте появляется после заготовки. Цель появляется раньше заготовки, так как после определения цели, появляется и заготовка. Чувствуете параллели?
И. Не совсем. Хотя... Так. Если дух суть цель, а природа – заготовка, то все совпадает. Цель – суть, "абсолютно первое" в отношении природы. Интересно. Да! Здорово я поспешил. Но я бы сам никогда не догадался. Гегель говорил про деятельность!
Э. Я привел лишь ситуацию, в которой слова Гегеля стали осмысленными. Хотя еще надо доказать, что он имел ввиду именно это. Мы лишь реализовали правильность работы в позиции имитирующего автора. Не спешили заменить его содержание своими, привычными. Так ведь?
И. Да, здорово. Я понял. Но я подозреваю, что всегда нарушал это требование.
Диалог 3.8
Э. Вы нашли тек т по теме. А сейчас нужно с ним поработать.
И. Найти-то нашел, но мысль как-то идиотски выражена. Понятийных содержаний здесь не видно. Сплошные утверждения об объектах. В целом в этой части текста можно выделить лишь то, что "нечто что-то имеет". Я теряюсь, что с этим текстом делать.
Э. Как поступить?
И. Не знаю.
Э. Давайте на базе "тлеющих" содержаний введем понятия и попытаемся понятийно выразить, восстановить то, что сказано автором.
И. Какие понятийные содержания? Понятия?
Э. Те, которыми мы владеем.
И. Тогда мы потеряем автора.
Э. Вы думаете, что имеете автора, когда плывете в своих ассоциациях по поводу его содержания?
И. Вы как-то слишком резко.
Э. Или не так?
И. Мне высвечиваются авторские содержания. Я их вижу.
Э. Но не сейчас?
И. Много раз почитаю, может быть яснее станет.
Э. Скажите, вы пытались сопоставлять мнения о содержании автора какого-то у разных людей, каждый из которых утверждал, что понял автора?
И. Я не задумывался. Не помню сразу. Наверное, случалось.
Э. И что, вы не наблюдали спора и ожесточения в споре?
И. Я не помню. Не так уж часто люди спорят подобным образом. Чаще нам понятно одно и то же.
Э. Пока люди не вдумываются. Вот ученым важны детали и глубина понимания, поэтому они спорят ожесточеннее и обоснованнее. Возьмите к примеру сложных авторов: Канта, Гегеля, Гуссерля и т.п. Спорят и сильно спорят.
И. Что делать? Может у них антагонизм не научный?
Э. Мы отбрасываем сразу нечестную игру. Имеем в виду научный спор.
И. Вы убедили. Только как же навязывать свои понятия автору?
Э. Во-первых, мы можем принадлежать к одной культуре и, следовательно, основной корпус понятий у нас общий с автором. Ведь сейчас такой случай?
И. Да.
Э. Во-вторых, мы можем поработать на одной части текста. Чем больше текста, тем надежнее проверка. Так ведь?
И. Так, но как-то трудно привыкнуть к этому.
Диалог 3.9
Э. Вы нашли фрагмент текста по теме?
И. Да. Вот он: "Видное место принадлежит и развитию других сторон психики. Например, эмоции, волевые характеристики, характеристические качества, потребности, интересы, склонности, способности. Формирование этих сторон личности опирается на общее учение о личности."
Э. Что такое личность, если сказанное автором учитывать?
И. Личность имеет разные свои стороны: эмоции, интересы и т.д.
Э. Скажите, а и т.д. есть свойство личности?
И. Нет, это просто приговорка.
Э. А она относится к ответу на наш вопрос?
И. И да, и нет. С одной стороны, это разговор про какие-то качества, с другой стороны ничего про качества личности здесь не говорится.
Э. Скажите, а т.д. относится к автору или к вам?
И. Конечно, ко мне.
Э. Если это так, то это ваше "и т.д." выражает возможность дальнейшего описания личности?
И. Да, конечно.
Э. Но не говорит, следовательно, про личность.
И. Не говорит.
Э. Можно сказать, что вы занялись уже иным делом, чем-то, что я вас просил.
И. А... Я понял, куда вы ведете. Понял. Да. Как-то само собой это получается.
Э. Хорошо. Скажите, а автор дает вполне определенное число свойств личности?
И. Читаю его и сомневаюсь.
Э. Что вы хотите этим сказать? Главное для вас – сомнение?
И. Да, в этот момент времени.
Э. Но я вам вменил другую работу. Вы все подвергаете сомнению. А я разве о проблематизации просил вас высказываться?
И. Я засомневался в ответе на ваш вопрос.
Э. И забыли про сам вопрос?
И. Да нет, все связано.
Э. Но начав осуществлять нужную работу, вы вспомнили о другом и переключились на иную работу. Так?
И. Да, очень похоже. Трудно одно отделить от другого. Все-таки рассуждать надо при ответе на вопрос. Что делать, если новый план выявился?
Э. Вам трудно придерживаться одного вида работы?
И. Да. Тянет одно другое.
Э. Вы согласны, что все другое имеет значение служебное к исходной работе, помогает уточнять ответ?
И. Да.
Э. Но ведь и только. Сделали одну работу, а затем, разрешив возникающие вопросы, вновь вернуться к прежней работе, удостоверившись в верности полученного ответа. Само по себе это простое требование?
И. Простое-то, да. Но очень трудно знать, что и было все согласовывать. Как клей, одно тянет другое. Но требование ваше стало понятнее.
Э. Придирка, подумаете вы.
И. Раньше- то может быть и подумал, а теперь понял на примере, что это не пустяк.
Э. Скажите, вы стараетесь сопоставить разные виды работ, которые вами уже усмотрены как разные?
И. Как правило, нет. Может быть, и было, что-то, но мельком.
Диалог 3.10
Э. Вы нашли текст по теме "целостность"?
И. Да. Для краткости я оставил следующее выражение "образование целостной картины объекта".
Э. Вы помните схематические выражения представлений об акте мыслительной деятельности, оперирующей понятиями?
И. Да. Вот эта картина (рисует).
Э. Так. А ее вариант, в рамках традиционной логики?
И. Это то, что называют суждением? Субъект, предикат...
Э. Да.
И. Тогда (рисует).
Э. Используйте эту схему для логического деления выражения.
И. Примерно так: образование – целостной картины объекта.
Первое слово выступает пока в роли субъекта мысли, а остальное в роли предиката.
Э. Каким соображением вы руководствовались, когда выбирали субъект?
И. Ну как каким? Можно сделать так?
Э. Можно. Но все-таки!
И. Я зная, что весь текст надо поделить на две части, одна из которых должна играть роль предиката. Имеется несколько возможностей. Я изобрел одну из них, самую простую. Взял первую часть, слово, в роли субъекта.
Э. Разве деление вы рассматриваете в отрыве от других требований?
И. Что вы имеете в виду?
Э. Ваша работа подчинена требованию тематической выдержанности?
И. Да. Вы имеете в виду тему "целостность"?
Э. Конечно.
И. А... Вообще-то я понял, в чем дело. Не ограничен выбор альтернативных контекстов тематического соответствия. (?) Так?
Э. Да, так.
И. Тогда решение будет другим: целостной – картины объекта.
Не знаю только, что делать с первым компонентом.
Э. А к какому члену относится?
И. К картине. "Образуется картина".
Э. Ну вот, решение рядом. Используйте логику восхождения в рассуждении. Какую роль играет "образование" по уточнению к "картине"?
И. Наверное, является уточняющим.
Э. Конечно. "Картина". А затем уточняется, какая картина: которая еще образуется, еще не образована. Становится.
И. Понятно. Тогда решение таковое:
целостность – картины объекта, которая образуется.
Только лишние слова получаются. Что с ними делать?
Э. Но вам понятен способ рассуждения?
И. Да. Очень ясен.
Диалог 3.11
Э. Вы несколько раз использовали термин "общение" при анализе авторских содержаний. Это не случайно?
И. Сначала это неожиданно выскочило. Но теперь я скажу, что не зря, он нужен.
Э. Давайте разберемся в том, что вы понимаете под общением.
И. Зачем?
Э. Чтобы осмысленно использовать свои понятия как средства анализа авторских содержаний. Вы ведь в аналитической функции их употребляли?
И. Правильно, пожалуй. Нечто вроде резца, пока не знаешь его свойства, нечего класть его в станок для изготовления строго определенной вещи.
Э. Правильно. Ну, так что такое общение?
И. Это: существование, которое невозможно без сосуществования. Элемент в общении существует как часть чего-то, как партнер.
Э. Ну, а сейчас скажите, что в этом определении главное, исходное?
И. То, что партнера нельзя рассматривать вне другого.
Э. Его отношений с ним?
И. Да.
Э. Хорошо. Давайте, выразим в языке СИ это содержание.
И. Общение должно быть структурным целым, в котором партнеры суть элементы. Примерно так (рисует).
Э. Вы не ввели признака целостности. Но пока я вас спрошу. Какое содержание вы могли бы рассмотреть как специфическое для общения и предельно общее? Вы ввели взаимосвязи. Ведь это сложные содержания. Разложите их.
И. Не пойму. Чего еще проще? Формализм это, думаю.
Э. Скажите, а "отношения" более или менее богаты "взаимоотношений"?
И. В принципе и еще.(?) Они однонаправлены.
Э. Не точно, они фиксируют направленность, но приложимы к обоим элементам.
И. Не очень это понятно. Может быть, нарисуете, как вы это любите.
Э. Смотрите: в первом случае уже есть целое частей, но нет в отношении направленности и ее поэтому и нельзя еще рассматривать как фиксированное мыслительное содержание. Во втором случае можно.
И. Это понятно. Действительно легче понять с рисунками. Но причем здесь общение? Кругляшки могут быть и людьми, нас интересующими, и молекулами, нас не интересующими.
Э. Скажите, а человек – животное? Или человек – это тело физическое?
И. В том числе.
Э. Точно также и здесь. В общении вы имеете дело со структурным целым и те содержания, которые положены в категории "структура", "целое" здесь законны для анализа общения.
И. Не так легко это понять. Но, в общем, я понял сейчас. А как же остальные содержания, касающиеся общения? Ведь многое осталось за бортом.
Э. А вы больше сказали, чем это выражено в изображении?
И. Конечно. Правда, я еще подразумевал много.
Э. Неявное остается неявным. А мы анализируем явное.
И. Хотя сущность здесь схвачена.
Э. Опираясь на это, можно систематически уточнять и раскрывать характер отношений и т.д.
И. Да. Эти рисунки – понятийные костыли.
Э. Да. Организующие анализ содержаний средства.
И. Теперь двигаться мне нужно совсем иначе? Перестроить свою работу, ведь так?
Э. Конечно.
И. Я стал глубже понимать общение. Давайте я сопоставлю то, что раньше думал , и то, что родится в голове под воздействием разговора?
Э. Позднее. Вернемся к задаче.
Диалог 3.12
Э. Давайте последуем методической программе и найдем первый кусок авторского текста по теме, чтобы потом поработать с ним.
И. Может быть, лучше почитать текст и найти существенное, главное, с чего и начать работу?
Э. А почему вам не хочется следовать методике?
И. Я думаю, что мы можем ошибиться в порядке работы. Даже при выборе куска содержаний ведь лучше сначала прочитать все, разобраться, где более существенное.
Э. А если вы пойдете таким путем, будете гарантированы от ошибок?
И. Наверное, их будет меньше.
Э. Как вы думаете, что эффективнее, интуитивная неуверенность, или строгое следование правилу?
И. Когда как. Но вы правы. Методично идти, наткнешься и на существенное.
Э. Тем более, что поработав с одним кусочком, вы легче разберетесь с тем, что существенного в другом кусочке. Чем дальше, тем надежнее ваш выбор.
И. Убедительно. Хотя сосет под ложечкой и думается, что формализм может слишком много захватить; не увидишь то. что хотел.
Э. А вы систематически отбирайте нужное, ставя себе контрольные вопросы.
И. Конечно, вы правы.
Э. Тем более, что после нескольких методических циклов вы убедитесь, что она (методика) как раз и устроена так, чтобы как тралом забирать мины, существенные содержания. Хотя после этого собирается и все остальное, уточняющее, конкретизирующее существенное.
И. Давайте поработаем.
Диалог 3.13
Э. Какие тексты вы обнаружили по теме "Информационное обеспечение исследования".
И. Посмотрите. "Перед вами ставятся задачи информационного обеспечения не только сферы исследований и разработок, или сфер планово-управленческой деятельности, производственной и сбытовой. Например не только поиск и оценка информации, но и исследование; планирование; разработка объектов; разработка прогнозов".
Э. Скажите, а разве в тексте автора введены такие формы подчеркивания сторон деятельности в перечислении через тире?
И. Нет, вот видите. В тексте не так.
Э. А почему же у вас так?
И. Я немного вырвался вперед. Быстрее к результату. Хотя, вообще-то, это невольно получилось.
Э. Что-то вас подтолкнуло.
И. Я вам объясню. Здесь просто. Вы рассказывали членение программы работы. Там самым важным является схематизация содержаний.
Э. Вы схематизировали содержание?
И. Нет. Я схематизировал текст. Вернее, даже не это. Я расчленил текст и разместил его схемно, для удобства видения аспектов.
Э. У вас перед глазами был образец подобной работы?
И. Я помню в текстах подобные выделения.
Э. Является ли это схематизацией? Как вы думаете?
И. Что-то сходное есть. Хотя я не очень понимаю тонкости отличий. Наверное, не то?
Э. Можно сказать, что вы имели интуитивные представления о схематизации, на базе личного опыта чтения текстов. Затем, вы слышали от меня, что схематизация содержаний составляет центральный прием многих сторон мышления в работе с текстом. Приняв одним ухом идею последовательной подготовки к схематизации и ее проведения, вы вторым ухом центрируете внимание на идее схематизации и сразу же оцениваете текст с точки зрения приложения возможностей идеи схематизации. Пока вам был дан текст, и вы его схематизируете.
И. Очень похоже. Но, наверное, я лишь начал двигаться в сторону идеи. Остановился на пути.
Э. Да. Но не в этом упрек. Вы не обратили внимание на структуру организации частей методики. Тем самым, у вас перемешались разные слои работы. Не так ли?
И. Я даже не сказал бы так. Единым махом все получилось, хотя вы правы, что я и ту, и другую часть работы провел вместе. И если бы вы не обратили внимание, то я сразу пошел бы дальше. Но что я сделал из того, что надо совершить для построения схемы текста, как вы сказали?
Э. Только членение и перечисление, вклинившееся в другую работу – переписку нужного отрывка. Тем более что членение у вас не организовано схематизмами. Вы членили текст, а не текст по теме имитации мысли автора. Подчинение этой процедуре тематическим соответствием состоялось, если бы вы различили связи между разными видами работ.
И. Я теперь согласен. Пока ясно. Но надо закрепить понимание в деятельности.
Диалог 3.14
Э. Перед вами работали по теме "мысль". На рассмотренном материале получен следующий результат (рисует).
Как развить результат по логике восхождения, учитывая многообразие качеств тела?
И. (рисует) Тело имеет много качеств.
Э. Правильно ли я вас понял, что тело как бы объемлет качества?
И. Да.
Э. Почему бы вам не нарисовать так? (рисует).
И. Но это же не будет логическим движением. Это уже тело, а не мысль о нем.
Э. Вы правы, что мой рисунок объектный. Но почему у вас введен тот же принцип?
И. Нет, я просто формально объединил мысли.
Э. А способ объединения определен содержательными соображениями – "объемлет качества". Хотя и не до конца. Я лишь предложил и втащил качества в тело.
И. Да. Пожалуй. Но не представляю, как решить задачу.
Э. Например, так (рисует).
И. Понятно, но нелегко освоить технику уточнения.
Диалог 3.15
Э. Ищите материал по теме "понятие трансцедентальной философии" в тексте нашего автора.
И. Вот здесь. Шеллинг пишет: "А почему, если действительно существует трансцедентальная философия, то ей остается лишь идти в противоположном направлении, исходя от субъективного как от первичного и абсолютного, и показывая, как отсюда возникает объективное".
Э. А где здесь разговор о понятии трансцедентальной философии? Или понятие вы отождествляете с тем, что надо еще найти, создать?
И. Ну, а как же иначе? Здесь говорится о трансцедентальной философии. О ней пишет автор, следовательно дает понятие о ней.
Э. Скажите все-таки, понятие объекта и объект – одно и то же?
И. Нет. Понятие возникает в познании объекта. Но здесь другое дело. Автор говорит не так, но дает понятие трансцедентальной философии.
Э. Из чего вы исходите при этом?
И. Это очевидно, мне кажется.
Э. А мне не очевидно. Что делать?
И. Я не знаю. Но если подумать, то в чем-то правы.
Э. В чем?
И. Не дойду до этого. Хотя так. Объект и понятие о нем суть разные. Следовательно и тексты должны быть разные о них?
Э. Да, хорошо. Тем самым вы согласны, что сделали ошибку?
И. Не до конца. Чувствую, что есть ошибка. Но что-то остается неясным.
Э. Вы же ответили. Два текста должны быть у автора: о трансцедентальной философии и ее понятии. Мы встретили текст о философии, как об объекте описания. наша же тема – понятие трансцедентальной философии.
И. Да, вы правы, правило нарушил.
Э. А почему?
И. Говоря о понятии трансцедентальной философии, я "смотрел" на саму философию.
Э. В других случаях вы также "переводы" делаете?
И. Да, наверное. Сейчас осознаю, что было.
Э. В чем мысль состоит? Что наиболее исходного в содержании по теме "трансцедентальная философия"? Мы поменяем тему, чтобы использовать полученные результаты.
И. То, что за начало берется субъективное, от которого возникает объективное.
Э. Какую роль играет указание на то, что философия "показывает" переход от субъективного к объективному?
И. Это одно и то же.
Э. Философия у вас сливается с субъективным и объективным, включая переход их?
И. Я тут затрудняюсь что-либо сказать. Мне казалось, что все ясно. Но ваш вопрос все поколебал. Роятся мысли в голове и ощущения того, что вы не зря задали вопрос и теперь кое-что я начинаю видеть. Философия, здесь трансцедентальная, говорит о субъективном и объективном и как-то отличается от них. Но как выявить отличие?
Э. Вы вспомните, что получилось выше, в прежнем недоразумении. Понятие и объект вы слили, не различили. Установка была на объект, поэтому не различали своеобразия понятий.
И. Подождите. Теперь, если формальную делать аналогию, я сливаю философию и то, о чем она говорит. Так?
Э. Да.
И. А установка тогда... на то, о чем говорит философия?
Э. А как вы думаете?
И. Пожалуй, да. Как это я сам не догадался. Наверное, просто не способен.
Э. А вы часто думаете о том, что вы сделали?
И. Как-то, да.
Э. Не о том, что сделали, а о том, что делали?
И. А...наверное, нет, или очень редко.
Э. В этом и причина. Но еще больше можно сказать. Вы не пытаетесь воспроизвести суть вашего прошлого затруднения и его причины. Ведь люди часто повторяются в своих ошибках на разном материале. Разных ошибок не так много.
И. Да, но сложно наверное видеть и оценивать разные ошибки как похожие.
Э. Попробуйте следить за собой. А теперь нарисуйте содержание того, что мы рассмотрели. Существенное в содержании отрывка по теме.
И. (рисует). Стрелка означает переход.
Э. А куда делась философия?
И. Я забыл опять. Но не знаю, куда ее деть. Она где-то во мне?
Э. Да. Нарисуйте.
И. Я только не пойму их отличия.
Э. Философия рассмотрена как деятельность, результатом которой выступают такие содержания, как переход от субъективного к объективному.
И. Следовательно. я не различил, игнорировал деятельность философа и видел в ней только результат?
Э. Да, у вас продуктное видение. Смотрите. Отождествляя понятие, как средство с объектами, или, точнее, объективным содержанием, вы также акцентировали лишь на результате использования средства. Понятию, после использования, дано "говорить" как объекту. Слушающий не замечает понятия, которые ему предлагают, а "видит" за ним объективности. Иначе не будет возможна коммуникация. Ради введения объекта используют и понятия, так как тому, кто слушает, не виден реальный объект. Он реконструирует объект по разговору. Понятно, что я говорю?
И. Если объект тут не натуральный, а воссозданный, то да. Но это уж слишком тонко. Хотя стало понятно. Как только ввести в рисунок философскую деятельность.
Э. Для простоты так (рисует).
Философ полагает содержания (благодаря текстам), касающимся отношений субъективного и объективного.
И. Не плохо. Но показывание совпадает у вас с полаганием?
Э. Да, это вас смущает?
И. Да нет, кажется, это позволительно.
Э. Ну, хорошо, а что дальше?
И. Давайте перейдем к новому тексту. Он кое-что конкретизирует.
Э. Пожалуйста.
И. "Таким образом, натурфилософия и трансцедентальная философия делят между собой два возможных направления философствования".
Э. Об одном известно, а другое в чем состоит?
И. Говорилось раньше, что философия идет в противоположном направлении. Смотрите первый отрывок. Тогда я смогу нарисовать про нее так: (рис).
Э. Прекрасно. А сейчас, давайте, темой будет "философия". Выразите в изображении ее.
И. Надо нарисовать обе картинки.
Э. Здесь будет сумма частей. А целое где же – философия?
И. Здесь и должна содержаться.
Э. Явно ее задайте.
И. Не могу ничего добавить.
Э. Вы не согласны, что два вида философствования предполагают предшествующий процесс перехода к разделению философствований? Они же из одного куска.
И. Вы имеете в виду, что стать тем или иным философом можно лишь в результате спецификации философии?
Э. Конечно. Сможете решить задачу теперь?
И. Нет, не могу.
Э. Отрефлексируйте затруднение. В чем смысл моего вопроса?
И. Так, так. Что-то я опять не различил? Философию и виды философии. Видообразования нет?
Э. Да, правильно.
И. Так, я опять результатное вижу, а процесс не вижу. Как-то не догадываюсь проверить, похоже ли это затруднение на прошлое. Сразу тянет думать о ситуации, ковыряться в ней.
Э. Правильно. Это вы хорошо сказали. А как нарисовать?
И. Примерно так (рисует).
Э. Главное вы поняли.
Диалог 3.16
Э. Мы увидели, что рынок имеет свое не только функционирование, но и развитие. Давайте вновь обратимся к полученному результату и посмотрим на рынок внимательнее, с точки зрения его развития. Нарисуйте рынок и кратко его опишите.
И. (рисует). Рынок представляет собой отношения трех товаров, один из которых – деньги, как универсальный товар, предназначенный для обмена на любой другой товар (Тхх).
Э. Чем организуются рыночные отношения?
И. Эквивалентными пропорциями, в зависимости от стоимости товара.
Э. Правильно. Можно сказать и иначе. Рынок подчиняется отношениям товаров, фиксированных в особых нормативных принципах. Помните "запреты"?
И. Это о том, что товары Т1 и Т2 предназначены только для "низшей роли", а Тхх – для высшей?
Э. Да. В них и выражены нормы существования рынка. Теперь рассмотрим нормативные содержания подробнее. Скажите, эти содержания однородны?
И. Не понял.
Э. Правила здесь только те, о которых мы уже упомянули?
И. А как же.
Э. Разве предшествующие стадии развития рынка не оставили своих следов?
И. Они ушли в прошлое. Я не понимаю, в чем основа вопроса.
Э. Скажите, а можно обмен товаров Т1 и Т2 как обмен между товарами, не разделенными запретами, но в неравной роли?
И. Но ведь товар Тхх уже утратил свое естественное лицо.
Э. Вы обращаете внимание на теперешнее состояние рынка. А давайте, рассмотрите товар теоретически, как идеальный объект. У него свои характеристики. Есть и те, которые соответствуют любому товару. Как вы думаете, в чем сходство?
И. В том, что они произведены, имеют стоимость.
Э. Конечно. Как стоимости.
И. Если так, то можно представить себе Тхх как обычный товар Т?
Э. Именно. А сейчас, раз он равен до рынка любому товару, то он может попасть и на место, которое занимал товар Т1.
И. Теоретически, конечно.
Э. Мыслите теперь только теоретически.
И. Приучаюсь.
Э. Как вы изобразите рынок, в котором товар Т2 сведен по правилам существования до товара Т1?
И. Если уж сама норма рыночных отношений не изменилась, то примерно так (рисует).
Э. Хорошо. А эта норма работает в условиях нашего денежного рынка?
И. Нет. Это ведь все теоретически. На деле норма у вас другая.
Э. А можно рассмотреть эту норму как более общую?
И. Нет, ведь она более ранняя, более частная.
Э. Нельзя ли сказать иначе? В ней заложена возможность и иных видов норм? Например, история имеется в вашем рынке.
И. В каком-то смысле да. Ну и что же?
Э. Тогда она более, могущая быть специфицирована далее.
И. Не хотите ли вы сказать, что она и частная, и общая?
Э. Именно это.
И. Тогда я могу продолжить. Если устроить фиксацию ролей, то товары совсем станут равными. Будет...да, натуральный обмен.
Э. Нарисуйте эти отношения.
И. Так (рисует).
Э. Вот вы уже имеете более детальную и широкую перспективу развития рынка.
И. Только затруднение у меня остается. Как поступить с частным и общим одновременно?
Э. С точки зрения развития, предшествующий этап развития рынка более общий. А с точки зрения функционирования, один из ряда частных форм рынка. Поэтому Маркс и рассматривал исходную форму как зародыш всех форм, но в контексте анализа развития.
И. Так, конечно. Я, правда, с трудом этим владею. Вроде бы понятно, но напряжение в голове остается.
Э. Не зря Ленин говорил о первых главах как труднейших. Но вспомните логику восхождения. Абстракция суть неуточненное изображение более конкретного. При уточнении рамки целого остаются. Вводится лишь детализация.
И. Да, я понимаю, помню логику, вспоминаю. Но не совмещаются пока рынок и логика.
Э. Ваша последняя картинка – суть первый, исходный предикат. Затем выбираете основание уточнения – неравенство ролей – и уточняете картинку. Получили первое преобразование, которое мы сегодня сделали(рис 2). Следующее основание уточнения – неравенство наполнителей несет в связи с неравенством мест, ролей. Получайте вашу исходную схему. Все по схеме логики. Помните? Я немного ее упрощу (рисует). И два уточняющих предиката. А затем вы глядите на реальную картину истории и обнаруживаете, что первому предикату соответствует исходная натуральная форма рынка. Это уже историческое подтверждение. В теории эта форма несет в себе возможности всего, а в истории – только следующую форму. В развитии анализируют целое преобразование, поэтому в конечной форме слиты все предшествующие (рисует).
Мы его и имели в начале анализа.
И. Да. Понятно, еще раз уточнить для себя логические содержания, чтобы самостоятельно видеть сквозь них текстуальное содержание.
Э. В этом залог вашего развития.
4.2 Технологические аспекты МРТ
В данном разделе мы представим характерные формы исследовательского взаимодействия в организации мышления при работе с текстами, которое мы осуществляли в 1976 г., как и в течение всего периода 1974–1978 гг. Мы реализовывали как исследовательскую, так и формирующую функцию. В качестве методической формы мышления выступал МРТ, выраженный полностью или частично до прямого экспериментального взаимодействия, а также вводимого по ходу развития взаимодействия как средство организации рефлексии. Материалом служили различные гуманитарные тексты.
Приводимые фрагменты дают лишь избирательную картину акцентировок и акцентированного влияния на первичное мышление, решение мыслекоммуникативных задач. Для того чтобы осознать место каждого фрагмента, следует все время иметь перед собой технологический образ МРТ, а затем всех сторон мышления и знаково-символических средств мышления. Поэтому в процессе чтения раздела предполагается огромная работа по подобному "помещению" фрагмента в пространство мысли. Важно усмотреть канву, присущую каждому фрагменту. С левой стороны приведены методические или исследовательские комментарии (пометки) и схемные выражения, которые реализуют рефлексивную и методическую функции и могут помочь в понимании специфики явления. Сам материал дан фрагментами, разделенными сплошной линией. Во фрагментах широко представлены схемотехника и логические процедуры.
В целом материал раздела полезен в соотнесенности с предшествующим теоретическим, методическим разделами и последующими демонстрациями самой монологической работы с текстами. Фрагменты могут стать источниками обсуждения всех типовых проблем техники мышления в работе с текстами.
В данных материалах упоминаются позиции исследователя-экспериментатора (Э) и испытуемого (И).
| Формулирование темы ▲ Спрашивается больше, чем предложено Свои представления накладываются Уже содержательно относится, тогда как тема – без содержания (место) | Тема: ЗНАНИЕ И ЕГО ГЕНЕЗИС (на материале Беркли)
И Уточните, какой генезис имеется в виду?
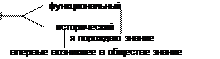  Э:
Э:
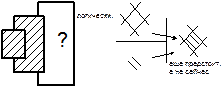
| ||||
| Подбор материала по теме ▲ неуверенность, что материал по теме, нет опор для квалификации ▲ невольный выход за пределы тематического содержания Авторский материал еще квалифицируется, для чего нужны средства квалификации (категории) ▲ Порядок логически оправданный Логическая форма порядка развертывания тематизмов | Подберите текстуальный материал по теме.
И Кажется, этот по теме, однако я не вижу того, чтобы уверенно сказать об этом:
"… человеческое знание естественно разделяется на две области – знание идей и знание духов…"
Э Это уже вводит типологию знаний, а нам этого и не надо.
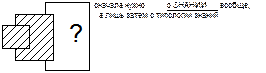
| ||||
| Минимизация текстуального материала | а) человеческое знание естественно разделяется на две области – знание идей и знание духов
б) человеческое знание ////(пропуск) разделяется на две области – знание идей и знание духов
в) человеческое знание //// ////(пропуск) – знание идей и знание духов

| ||||
Логическое деление

| Человеческое знание – знание идей и знание духов
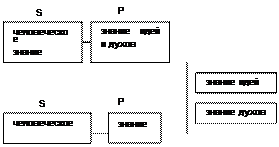
| ||||
| Иерархия предикатов в логике восхождения ▲ Вычленение уточняемого предиката на базе уточняющих или наоборот (деление) | Разделяется на две области – знание идей и знание духов
Как сделать, чтобы получить простой исходный предикат?
И "На что-то".
Э А что делать с "разделяется", есть ли компоненты и отношения между ними в тексте?
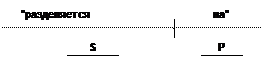 И Да, тогда еще выделить надо компонент "области".
И Да, тогда еще выделить надо компонент "области".
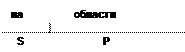
| ||||
 Деление в рамках иерархии
▲ Не до конца используется логический принцип
Содержание индивидуально понимаемое, определяет границы использования правила Деление в рамках иерархии
▲ Не до конца используется логический принцип
Содержание индивидуально понимаемое, определяет границы использования правила
| 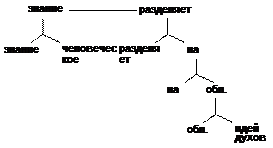 Э А где у вас представлено "две"?
И Я сомневаюсь, что "две" требует расшифровки, иначе это слишком формально.
Э
Э А где у вас представлено "две"?
И Я сомневаюсь, что "две" требует расшифровки, иначе это слишком формально.
Э
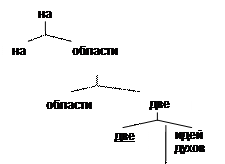
| ||||
Имитация рациональной логической организации.
▲ Не отделяется от материала при создании продукта с т.зр. М1 судит о М2
Нет деятельностного принципа 
| И В сравнении с текстом автора, это нечто иное: (и для чего оно) делится – на области две, идей и духов. Э Наша задача может не совпадать с авторской – имитация для квалификации, а не коммуникация. Мы логически выпрямляем мысль автора. | ||||
| Выражение в СИ результата уточнения ▲ Не до конца логическое решение | Переход: ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ
И Знание это вообще
 а человеческое знание, это часть
Э Если вводить основание ЧАСТЬ – ЦЕЛОЕ: а человеческое знание, это часть
Э Если вводить основание ЧАСТЬ – ЦЕЛОЕ:
 то либо
либо
то либо
либо
| ||||
| Выражение в СИ Тематически отделен под содержание на материале реального текста ▲ Содержание текста давит, не позволяет быть тематичным (М1 давит на М2) | На материале "человеческое знание" выразить содержание по теме "ЗНАНИЕ"
И Тогда
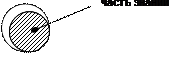 Э Но в рамках темы нужно выделить лишь ЗНАНИЕ и тогда оно = человеческое знание
Э Но в рамках темы нужно выделить лишь ЗНАНИЕ и тогда оно = человеческое знание
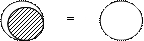
| ||||
| Строгое следование методическим требованиям ▲ Использует догадку или воспоминание о другой части содержания | И Здесь автор не говорит о "человеческом знании", но затем имеет это в виду и говорит об этом.
Э Если здесь он не говорит, то нельзя привлекать другие части, неметодично.
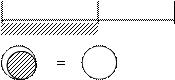 Если мы ошиблись, то в другой части текста автор нас поправит.
Если мы ошиблись, то в другой части текста автор нас поправит.
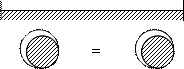
| ||||
| Выражение в СИ уточняющего Р ▲ Вместо явного введения уточняющего предиката, подразумевание, а внешнее выражение – по другому уточняющему предикату ▲ Наряду с онтологическим, языковое деление ▲ Догадка не операционализируется | Э Итак, "знание" выражено  , а "человеческое знание"?
И Тогда. , а "человеческое знание"?
И Тогда.
 Э А специфика человеческого знания в отличие от знания вообще?
И Примысливается.
Э А специфика человеческого знания в отличие от знания вообще?
И Примысливается.
 Э А "разделяется" как изобразить?
И Самыми разными способами. Например:
Э А "разделяется" как изобразить?
И Самыми разными способами. Например:
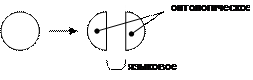 Э А процессуально показать это, точнее
И Не знаю, как использовать общее.
Э:
Э А процессуально показать это, точнее
И Не знаю, как использовать общее.
Э:
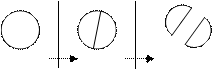 И И я так хотел.
Э Перейди к использованию данного результата для ответа на вопрос о выражении содержаний "человеческое знание разделяется на два знания".
И И я так хотел.
Э Перейди к использованию данного результата для ответа на вопрос о выражении содержаний "человеческое знание разделяется на два знания".
| ||||
▲ Содержательная интерпретация терминов сложна
Неумение перевести | Подбор материала текста по теме "Терминологическая квалификация"
И Как это сделать?
Э:
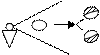 Следует взять у автора представление о знании вообще и о видах знания. Найди тексты на эти темы.
И У автора про знания ничего нет, а все про идеи.
Э Выдели про "идеи".
И Я теряюсь, расплываюсь.
Э Можно сказать, что прямо не говорится?
И Да, так.
Э Что мешает выделить материал?
И Термины есть, а как это связать с содержанием… Вслепую.
Следует взять у автора представление о знании вообще и о видах знания. Найди тексты на эти темы.
И У автора про знания ничего нет, а все про идеи.
Э Выдели про "идеи".
И Я теряюсь, расплываюсь.
Э Можно сказать, что прямо не говорится?
И Да, так.
Э Что мешает выделить материал?
И Термины есть, а как это связать с содержанием… Вслепую.
| ||||
Перефразировка и сжатие с сохранением терминов автора
▲ Не сохраняется, т.к. установка переделки
▲ Колебание с отождествления по теме (содерж.)
При отборе и перефразировке удерживается мысль в целом, а нет тематического проецирования
▲ Не пользуется принципом упрощения логического характера
 ▲ Логика мешает до ее оспособления
▲ Логика мешает до ее оспособления
| И "Я в действительности нахожу в себе способность воображать или представлять себе идеи единичных, воспринятых мною вещей и разнообразию сочетать и делить их". Э Надо упростить, перефразировать с сохранением смысла по теме. Компактнее. И "… существует способность воображать и делить их" иначе "идеи единичных, воспринятых мною вещей, разнообразные сочетания этих идей есть результат действия (функционирования, срабатывания) моей способности воображать". Э Это уже лучше с точки зрения схемы. Термины свои, а не автора. И Я сомневаюсь, что это про идеи. Э Да, это про механизмы их образования и сочетания по другой теме. И Еще раз: "Идеи единичных, воспринятых мною вещей, я могу представлять, воображать, разнообразно сочетать и делить их". Э Все то же, нет тематической точности в отборе. Ничего нового об идеях не узнали, кроме указания на возникновение. Неясно, в сочетаниях и т.п. они изменяются, или нет. И Например: S – идеи единичных воспринятых мною вещей; Р – воображать или представлять себе… разнообразно сочетать и делить их. Э Да, но не абстрагировано, не упрощено. S – идеи существуют как результаты восприятия моего вещей воображается сочетая деля И Я запутался в использовании логических принципов. | ||||
| ▲ Объект предопределен темой, что должно быть осознано Конкретизация содержаний СИ Þ новые содержания ▲ Видение старых содержаний в новых трудно Переход Р1ÞР2 Р2=Р1+ DР S2=S1+ D S | Используя S – P надо выделить объект (часть, где говорится об объекте).
И А как определить объект нашей работы, у автора их много.
Э Он дан темой.
Э Будем работать с двумя отображениями историко-критической деятельности:
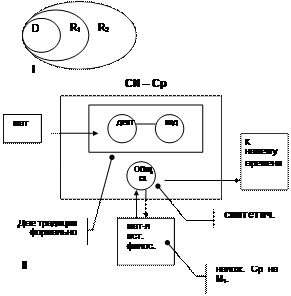 I – деятельность философов
II – продуктная схема
И Чем отличается продуктное видение от деятельностного видения?
Э
I – деятельность философов
II – продуктная схема
И Чем отличается продуктное видение от деятельностного видения?
Э
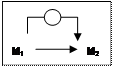 М2 = М как единственное, что есть и выражено в тексте.
И Оба схематических изображения всеобщие. И СИ1 не имеет ничего общего с СИ2.
М2 = М как единственное, что есть и выражено в тексте.
И Оба схематических изображения всеобщие. И СИ1 не имеет ничего общего с СИ2.
| ||||
| Влияние прошлой деятельности и полученного в ней результата | И У меня груз прошлого года "знания в деятельности" и свои мысли относительно этого. | ||||
| Имитация сод. и деят. Тема – только заимствов. ▲ не усматривается отношений "моей" и "его" (Гоббса) темы Недеятельн. взгляд сразу видит автора PS=S не видя Р | И Проникнуть в тему? Чью? В Вашу или Гоббса?
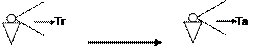 И Тема Гоббса, по схеме видно.
Э Нет. Имитируем мы, от нас тема, зависит от задач, техники. Сам Гоббс в нашей лишь работе.
И Рисунок отвечает на вопрос Гоббса?
Э Нет, на наш.
И Можно ли это соотнести со схемами?
И Тема Гоббса, по схеме видно.
Э Нет. Имитируем мы, от нас тема, зависит от задач, техники. Сам Гоббс в нашей лишь работе.
И Рисунок отвечает на вопрос Гоббса?
Э Нет, на наш.
И Можно ли это соотнести со схемами?
 Э Гоббс появляется в нашей работе
Э Гоббс появляется в нашей работе
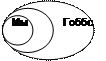
| ||||
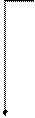 Позиция лектора для перефразировки® облегчение работы слушателя
Сохранение содержания
Для обобщенных людей
Чище логизмы
▲ Рациональная имитация – трудно
Ради:
· логики
· имитации
· полноты смыслов
Гоббс
Нет уверенности
Забегает вне требований методики
Устранение элементов
Вторичное согласование:
по своей логике или
имитация Позиция лектора для перефразировки® облегчение работы слушателя
Сохранение содержания
Для обобщенных людей
Чище логизмы
▲ Рациональная имитация – трудно
Ради:
· логики
· имитации
· полноты смыслов
Гоббс
Нет уверенности
Забегает вне требований методики
Устранение элементов
Вторичное согласование:
по своей логике или
имитация
| Тема: ЗНАНИЕ И Могу свои слова вводить? Э Лучше, если теми же терминами, что автор. И В коммуникации ввожу слова. Э Потенциальный слушатель. И Может быть, себе пересказать, тогда не зависим от аудитории. Э 1) текст в рамках твоих задач 2) имитация И Это уже не коммуникативная задача. Э Да, логическая. И Вообще-то проще переписать. Я ввел еще комментарий, чтобы пояснить смысл. Э Это уже за имитацией и не есть материал работы. И Тогда я введу новый авторский текст, чтобы было ясней. Э Да, пожалуйста. "Взятые раздельно…. Каждые из них есть представление или призрак какого-либо качества или другой акцеденции тела вне нас, называемого обычно объектом". И "Представление" выбросил, т.к. одинаково c "призраком", а для коммуникации "призрак" важнее, Но не уверен. Однако – я учел уже всю страницу, тогда как ее еще не должен был прочитать (читал по инерции). Вообще, зачем минимизация? Э Больше нечего опускать? И Нечего. Э "…Человеческие мысли, взятые раздельно, есть призраки качества тела, находящиеся вне нас" И Это уже стилистика. Ты и падеж учел, не только извлек. Э Да: Т1 – Т2 – Т3 Т1 + Т2 ® Т1 – Т2 | ||||
| Деление ▲ Использовал своих знания ▲ Нюансы как отдельные компоненты ▲ Непроизвольные включения Суперминимизация ® неразличение тематических содержаний Конвенциональность – признак коммуникативности, но не мыслительной очевидности | Э Компоненты содержания по теме найти.
И 1) Мысль есть ущербное отражение какого-либо качества тела.
2) Отдельно взятая мысль соотносится с отдельно взятым качеством.
3) Мысль "не влияет" на качество.
Э Использовал свои знания ущербно
И Конечно.
Э Но мы в рамках имитации.
И Мысль есть:
1) призраки качеств тел;
2) отдельно есть призрак какого-либо качество тела;
3) не принадлежит телу.
Э "Нам" не принадлежит – где материал для этого?
И Я по инерции.
Э Чем отличается (1) и (2)?
И Это уточнение –
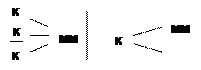 Э "Мысль"…"призрак" – разное? Призраки качеств тел – это квалификация мысли, или объектное?
И Я все пытался схватить.
Э А минимизация, отрывисто.
И Я не вижу тогда ничего, кроме одной характеристики. «Мысль – призрак»
Э А еще – мысль – человеческая?
И Да, но для минимизации нельзя ли выбросить "человеческая", где критерии включенности материала по теме и полноты списка?
Э В условиях группы людей – это договоренность в уверенности, в очевидности, а при одном человеке – уверенность и ее проверка Методика формализует и организует процесс, а также делает его категорическим. Снятие психологизма.
"взятые раздельно" (мысли)
мысль – "отдельная"
вводится критерий логический – множественности (мыслей)
Э "Мысль"…"призрак" – разное? Призраки качеств тел – это квалификация мысли, или объектное?
И Я все пытался схватить.
Э А минимизация, отрывисто.
И Я не вижу тогда ничего, кроме одной характеристики. «Мысль – призрак»
Э А еще – мысль – человеческая?
И Да, но для минимизации нельзя ли выбросить "человеческая", где критерии включенности материала по теме и полноты списка?
Э В условиях группы людей – это договоренность в уверенности, в очевидности, а при одном человеке – уверенность и ее проверка Методика формализует и организует процесс, а также делает его категорическим. Снятие психологизма.
"взятые раздельно" (мысли)
мысль – "отдельная"
вводится критерий логический – множественности (мыслей)
| ||||
| Логические отношения компонентов ▲ Содержательные соображения вне логической программы, случайно, скользят. Норма не выделена как норма Поэтому любая форма годится, она "управляется" содержанием. | Э компоненты:
мысль
призрак
качество по теме "мысль"
тело
Введем в логические отношения:
 Например:
Например:
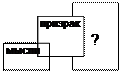 И:
И:
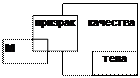 _______________
То же самое при:
_______________
То же самое при:
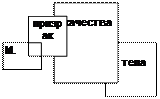 Э Р3 уточняет ли Р2 ?
И "Качество" тела, которое может иметь и другие качества.
Э Р3 уточняет ли Р2 ?
И "Качество" тела, которое может иметь и другие качества.
 Э Это соображение содержательное, никак пока не введенное в форму (логическую).
И Да, я думал о связи "качества" и "тела" как таковые, по понятию.
Э И поэтому оба варианта равноценны?
И Вообще-то не вижу, что лучше.
Э Это соображение содержательное, никак пока не введенное в форму (логическую).
И Да, я думал о связи "качества" и "тела" как таковые, по понятию.
Э И поэтому оба варианта равноценны?
И Вообще-то не вижу, что лучше.
| ||||
| Остатки несоблюдения нормы Формализм как противовес "содержательности", но с включением содержательного подхода | И После адаптации к норме соединяется две линии
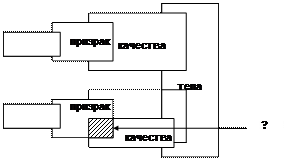
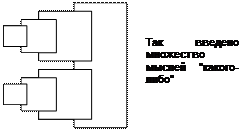 Э Формальное движение сочетается с содержательным.
Э Формальное движение сочетается с содержательным.
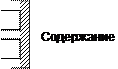 Но ведь "какого-либо" точнее представить надо "именно этого", тогда абстрактная возможность множества специфицируется для данного признака:
Но ведь "какого-либо" точнее представить надо "именно этого", тогда абстрактная возможность множества специфицируется для данного признака:
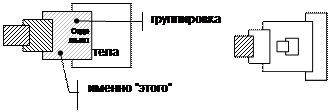
| ||||
| ▲ Не соблюдается требование логики, легкость перехода | Э Продолжить это можно?
 И Очень трудно, т.к. за счет других содержаний все замыкается на "мысль", мысль в нас.
Э Это "нас" путает?
И Да.
Э А ты уходишь в другую ветвь, что не по логике, а если:
И Очень трудно, т.к. за счет других содержаний все замыкается на "мысль", мысль в нас.
Э Это "нас" путает?
И Да.
Э А ты уходишь в другую ветвь, что не по логике, а если:
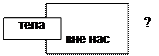 И Да. Следовательно:
Мысль:
· человеческая
· отдельная
· призрак – качества – тела - вне нас.
Э Можно так сделать. Но эти линии вместе не стоит оставлять. Детализация дает новую линию.
И Да. Следовательно:
Мысль:
· человеческая
· отдельная
· призрак – качества – тела - вне нас.
Э Можно так сделать. Но эти линии вместе не стоит оставлять. Детализация дает новую линию.
| ||||
| Выражение словарных содержаний в СИ ▲ отсутствие "языка" изображений Перенос привычки рисования по продукту, а не изображение деятельности | Э По порядку линии логического развертывания – каждый предикат P отдельно выразить по содержанию в СИ? Мысль – "человеческая" минимизируя.
И Какие элементы графики нужны здесь?
Э Как получится.
И Это нечто новое для меня
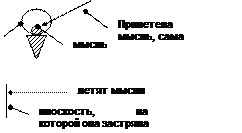
| ||||
| Перенос привычки рисования по продукту, а не изображение деятельности Использование СИ1 для создания СИ2 ▲ Отсутствие "языка" изображений | Э Могли бы Вы увидеть здесь "языковый" состав СИ?
И Но в тексте эти соединения есть, и я их выразил, зачем язык СИ?
Э В языке унифицируется изображение и в этом новом качестве вновь вводится для выражения содержания.
И А имеет значение различие того, как я рисовал?
   Э Да. Но почему Вы именно так рисовали:
Э Да. Но почему Вы именно так рисовали:  ?
И Был психологический барьер, не мог оторваться от старых схем.
Э Если ситуация появления мысли: ?
И Был психологический барьер, не мог оторваться от старых схем.
Э Если ситуация появления мысли:
 То как ее изображение использовать для изображения "Мысль человеческая"?
И:
То как ее изображение использовать для изображения "Мысль человеческая"?
И:
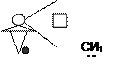 Э Проекция исходной картины. А как изображается "Мысль отдельная"?
И:
Э Проекция исходной картины. А как изображается "Мысль отдельная"?
И:
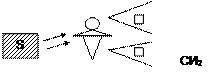 Э А что, если
Э А что, если
 прежнее прежнее  И Опять психологический барьер.
И Опять психологический барьер.
| ||||
| Натурализация понятийного содержания или отсутствие понятийного содержания Гипотеза об объекте мысли | Э Мысль – "призрак". Как интерпретировать это соединение "призрак"?
И Ввести изображение мысли и искаженный значок объекта.
Э Можно назвать "призрак" отражением, в нашем языке?
И Думаю да.
Э По этой гипотезе ("призрак" – отражение) отношения отражаемого и отражения не может снять содержание, которое подразумевается за термином "призрак" –
 И Конечно.
Э Используй СИ ситуации познания для формальной записи атрибутов "призрака"?
И Конечно.
Э Используй СИ ситуации познания для формальной записи атрибутов "призрака"?
| ||||
| Минимизация парадигмы СИ Формальность в парадигматизации и, натуральность парадигмы Доопределение нового уточняющего предиката (DР) Парадигма Сборка синтагмы Ощущение легкости движения в материале |
И Кроме того, что S – призрак, я могу еще что-то ввести?
Э Если надо, нельзя иначе.
И Качество я изображу как фрагмент объекта:  И А если Si( S) ?
И Вполне.
Э "Тело"
И А если Si( S) ?
И Вполне.
Э "Тело"  – "вне нас"?
И: – "вне нас"?
И:
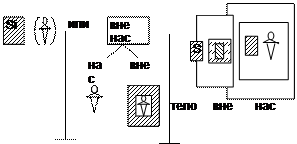 Э А что, если:
"[вне нас]"
Э А что, если:
"[вне нас]"  "вещь [вне нас]"
"вещь [вне нас]"  "мы вне вещи"
"мы вне вещи"  Тем самым, какой у нас набор (парадигма ЯСИ)?
И:
Тем самым, какой у нас набор (парадигма ЯСИ)?
И:
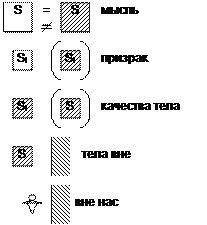 Э Как собрать целое изображение?
Э Как собрать целое изображение?
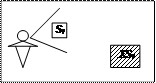 Понимаю, что делаю, чувствую, что быстро буду читать.
Понимаю, что делаю, чувствую, что быстро буду читать.
| ||||
| ▲ Прежний результат не определяет решение задачи Использование М2 в новой работе СИ – снимает проблемы памяти, при семиотическом оспособлении Дифферениация. новации к прежнему ▲ Не видит дифференциальные признаки, предполагая их | Э Найди фрагмент, в котором обнаруживается новое содержание к прежнему.
И "…Объект действует на глаза, уши и другие части человеческого тела и в зависимости от разнообразия своих действий производит разнообразные призраки".
Э Фиксируй новые компоненты содержания.
И Надо исходить только из введенного в работу материала и ранее полученного результата, контроль правильности – потом.
И Но у меня память слабая, как использовать уже готовое?
Э Для того и создается СИ, чтобы не иметь дело с текстами, которые легко забыть.
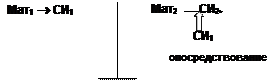 Э Какие содержания новые (список) и как учесть их в новом СИ?
Э Какие содержания новые (список) и как учесть их в новом СИ?
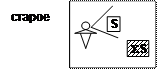 И 1) Объект действует на субъект.
2) Разнообразные действия производят разнообразные признаки в субъекте новое СИ.
И 1) Объект действует на субъект.
2) Разнообразные действия производят разнообразные признаки в субъекте новое СИ.
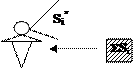
| ||||
| Нет экстериоризации (согласование экстериоризации и интериоризации) ▲ Не отрывается парадигматическое от синтагматического ▲ Мечется в крайности не видит легкого перехода к нужному результату на базе полудела | Э Это учтено (1), а где учет (2)?
И Оба уже, хотя… Да, согласен.
Э Кроме того, мы должны выделить DР как парадигматический "объект действует".
И Я подчеркну:
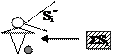 Э Неявно Вы сделали парадигматизацию, но необходимо это сделать явно:
Э Неявно Вы сделали парадигматизацию, но необходимо это сделать явно:
 И Надо все переделать.
Э Нет. Достаточно отойти от целостности картинки, подчеркнуть проекцию:
И Надо все переделать.
Э Нет. Достаточно отойти от целостности картинки, подчеркнуть проекцию:
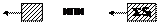
| ||||
Синтагматика уточняет смыслы: то, что в парадигме снимается для синтетической целостности
▲ Не различается Онтология
Объектов Деятельности
▲ Основание проекционного отображения не видится
▲ Не различает
| Э Новый фрагмент?
И "Начало всех призраков – есть то, что мы назвали ощущением… Все остальное есть производное от него".
Э Что нового?
И Представление о процессе рождения призрака.
Э Что говорит автор, точнее?
И "Начало" всех признаков, "производное" от него…
Э Но есть ли тут процесс, не говорится ли: 1) это одно, а там другое, 2) другое есть результат преобразования одного?
И Пожалуй, да. Я понял, в чем дело.
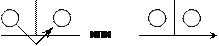 Э Переход означает мышление (классификация) по поводу многообразия
Э Переход означает мышление (классификация) по поводу многообразия
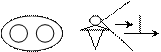 И вот теперь ясно стало. Привычка к онтологии.
Э А это означает, что автор говорил сначала о ситуации появления представлений, а затем – о типологии представлений.
И Сначала об одном, а затем о другом.
Э В чем связь? Каков ее характер?
И Автор хочет что-то подчеркнуть.
Э Да. И что для этого делает?
И Говорит о типологии представлений!
Э Но если о типологии представлений, то "масло масляное". Чтобы сказать о типологии представлений, нужно иметь формальные основания:
И вот теперь ясно стало. Привычка к онтологии.
Э А это означает, что автор говорил сначала о ситуации появления представлений, а затем – о типологии представлений.
И Сначала об одном, а затем о другом.
Э В чем связь? Каков ее характер?
И Автор хочет что-то подчеркнуть.
Э Да. И что для этого делает?
И Говорит о типологии представлений!
Э Но если о типологии представлений, то "масло масляное". Чтобы сказать о типологии представлений, нужно иметь формальные основания:
 И Ну, конечно, о типологии чего-то.
Э Правильно, о понятии типологии. Как это, что поняли, сделать наглядным на материале прошлого
И Ну, конечно, о типологии чего-то.
Э Правильно, о понятии типологии. Как это, что поняли, сделать наглядным на материале прошлого
 И Это и есть понятие типологии!
Э Но здесь уже введены конкретные S1 и S2?
И Ах, да, надо:
И Это и есть понятие типологии!
Э Но здесь уже введены конкретные S1 и S2?
И Ах, да, надо:

| ||||
Не использует анализ
 Для его использования в результате
▲ СИ – делает очевидным то, что надо различить
Для его использования в результате
▲ СИ – делает очевидным то, что надо различить
| Э А теперь вся процедура мысли автора?
И Не понял.
Э О чем сначала сказал автор, затем и потом.
И:
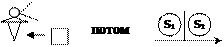 Э Но мы только установили:
Э Но мы только установили:
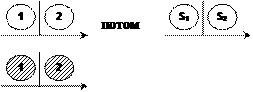 И Но автор не пишет о введении.
Э Следовательно, логика не полностью выделена или подразумевается для нашей работы, логика должна быть явной:
И Но автор не пишет о введении.
Э Следовательно, логика не полностью выделена или подразумевается для нашей работы, логика должна быть явной:
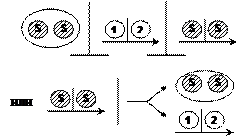 И Вот теперь-то все ясно.
И Вот теперь-то все ясно.
| ||||
| Сведение новых содержаний к старым, неразличение нового | Э Новый материал?
И "Таким образом, ощущение во всех случаях есть по своему происхождению лишь призрак, вызванный давлением, т.е. действом находящихся вне нас объектов, на наши…органы".
Однако это уже рассмотрено только что.
Э Совсем нет. А "происхождение", "вызванный давлением", … – не явные указания на процесс вызова ощущений?
И Да, но говорится про ощущение как ставшее.
Э Но ставшее – начало рассуждения, как продолжение "воспоминанием о его становлении", с указанием характера становления.
И Да, пожалуй. И тогда надо: 
| ||||
| ▲ Вместо результата перемещает акцент на процесс Использование СИ для разъяснения (вся стр.) ▲ Неадекватность задаче Требование N, когда нужно естественное действие. | Э Добавку ввести в СИ (выразить в СИ). И Я размышляю о том, как мы шли, и думаю, либо сразу рисовать, либо на базе прошлого менять. Э А причем здесь прошлое? И Схема снимает движение, она результат. А мышление фиксирует путь. Э Зачем это Вам? И Как бы чего не сделал поспешно, надо следить за мышлением, чтобы не получить обрубок. Если хочешь – да. Но образец где? Э Нет его. Надо делать, не нужен образец о заимствовании позиции автора. | ||||
| ▲ Не членятся действия (слитие) ▲ Эффект снятости текстового содержания в полученном результате ▲ Ощущение несоотнесенности с текстом ▲ Консервативно и максималистки понимается методика (не регулятивно) | Э Ищите новый материал по теме. И Вот материал, вроде бы старый. Э Но, прежде всего – по теме ли, а потом – новый ли. И Ничего не нашел в главе, в сравнении со старым Новое есть, но не могу определить куска текста. Э Найдите начало текста, где возникает ощущение и конец. И Глава. Но это слишком неопределенно. Разрыв с методикой. Э Нет. В начале процесса всегда все неопределенно, но должна быть хотя бы минимальная определенность. | ||||
| ▲ Не хватает средств фиксации в СИ ▲ Трудности очевидной фиксации содержаний в СИ ▲ Не видится содержание целого как отд. содержание от частей ▲ Неправильно читал автора т.к. пошел за своей гипотезой об объекте его мысли СИ – очевидным делает ошибку и ее обнаружение ▲ При анализе Р говорит о S | "Те движения, которые непосредственно следуют друг за другом в ощущении, продолжают следовать в этом же порядке и после исчезновения ощущений…"
Э Какие характеристики ощущений вводятся?
И Никаких. Берется целое их.
Э Что за целое?
И Последовательность ощущений. Характеристика целого совпадает с характеристикой элементов.
Э Какое отношение между частями?
И Включенность в целое: место в нем.
Э Это фиксировано в СИ.
И Нет, не трудно…
Э Почему?
И Не находим средств фиксации.
Э Ряд зафиксирован?
И Да: S1, S2 … Sn
Э А целое?
И Весь ряд.
Э А как фиксировать "пальцем"?
И Трудно. Сверну структуру в знак:
S1 ® S2 ® Sn
Структура выражена.
Э В изображении?
И Да
Э А целое как фиксируется в изображении?
И Стрелка.
Э Стрелок много, а структура одна.
И Не понял. Я думал, что уже можно "пальцем", тогда обведу: S1 ® … Sn .
Э Но в каждый момент времени t есть целое?
И Время размазано в S1 ® … Sn ?
Э Не снимается целое, если так рисовать, есть лишь миг.
И Да, у автора этого и нет, он находит в ощущении структуру. Я читал по-другому. Сейчас-то понял, на рисунке ясно видно то, что я сделал и что у автора.
Э За счет чего видишь?
И От рисунка удобнее идти к тексту, глазами бегаешь.
Э Как зафиксировать то, что ощущение есть целое частей?
И Надо знак равенства ввести:
= 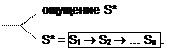 Однако знаковая накладка?
Э Нет:
Однако знаковая накладка?
Э Нет:
 Но как в общей картине это учесть?
И:
Но как в общей картине это учесть?
И:
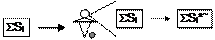 Э Все учел?
И Да.
Э
Э Все учел?
И Да.
Э
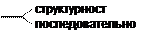 И Да, это еще не учел.
Э Явно у автора последовательность, а неявно – структурность. Какое понятие вести надо и выразить в СИ?
И Не знаю.
Э:
Затем:
– с процессом
– без процесса
И Да, это еще не учел.
Э Явно у автора последовательность, а неявно – структурность. Какое понятие вести надо и выразить в СИ?
И Не знаю.
Э:
Затем:
– с процессом
– без процесса 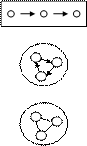 И Но с текстом расхождение.
И Но с текстом расхождение.
| ||||
| Соединяет с автором свой Р |
Э располагаем
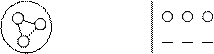
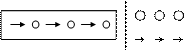 Автор выделяет "процессы", тогда:
Автор выделяет "процессы", тогда:
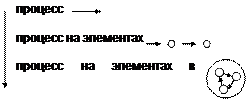 И Да!!!
И Да!!!
| ||||
| ▲ Не онтологическое схематизирование ▲ Ответ онтологичен с перескоком на лингвистическую организацию и имеет в виду онтологию Онтологическое конструирование Имеет в виду онтологию, но выражает не онтологию | Тема: ЛИЧНОСТЬ
"Видное место принадлежит развитию и других стороны психики (эмоциональная жизнь, волевые характеристики, характеристические качества, потребности, интересы, склонности, способности). Формирование этих сторон личности опирается на общие учения о личности, ее психологических качествах и свойствах".
И Можно перефразировать? А нарисовать?
Э Пожалуйста.
И:
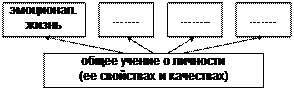 Э Стрелки обозначают что?
И Формирование этих сторон опирается на изучение общих свойств личности и качеств.
Э А блоки относятся к личности?
И Да.
Э А что тогда
Э Стрелки обозначают что?
И Формирование этих сторон опирается на изучение общих свойств личности и качеств.
Э А блоки относятся к личности?
И Да.
Э А что тогда  ?
И Это фундамент … Не знаю… общее, на которое накладываются частности.
Э А можно так? ?
И Это фундамент … Не знаю… общее, на которое накладываются частности.
Э А можно так?
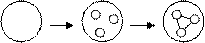 И Но я и подразумевала это.
И Но я и подразумевала это.
| ||||
| Логические схемы сбивают с толку Использование СИ как средство ответа на вопрос | Э Используя схему S – P , ответьте на вопрос: что такое личность?
И Трудно.
Э Используйте текст автора в естественном его варианте.
И Мы уже сделали, рисуя схему: 
| ||||
Использование авторского текста, который путает в онтологическом ответе
Не чисто онтологический ответ
 Не выдерживается жанр работы, скользит
Не выдерживается жанр работы, скользит
| Э Какие характеристики личности Р? И "Формирование сторон, опираясь на общее". Э Это про изучение, а не про личность, другая тема.Дай характеристику личности, используя материал автора текста. И Это личность, имеющая стороны: эмоции, интересы, способности… и т.д. Э "И так далее" текстуальное, а не объектное. У автора, наверное, нет "и т.д."? У него определено число свойств. И Читаю и сомневаюсь в этом. Э Но Вам нужно извлекать из автора, а не критиковать. | ||||
| Не различается Р и S Разные темы сливаются | Э Что является Р ? И Р – формирование личности, во времени. Э Но это ведь не про личность, а про педагогическую деятельность! А где "развитие" личности? И Я рассматриваю это как синонимы – развитие личности = формирование. | ||||
| ▲ Текстовой смысл влияет на тематический отбор ▲ Связь тематических содержаний не позволяет отделить тему | Тема: ЛОГИКА (на материале Гегеля)
Э Выдели компоненты (содержание) на выделенном материале текста по теме.
И "Ни в какой другой науке не чувствуется столь сильно потребность начинать с самой сути дела, без предварительных различений, как в науке логики":
1) логика
2) понятие логики
Э А тема-то "Логика".
И Тогда "Наука логики".
Э Чем отличается
1) логика
2) наука логики
И Логика – деяние. А наука логики – знание о деянии. Нельзя, следовательно, "Наука логики". Но они связаны между собой.
Э Какова именно связь?
И Точно не скажу.
Э По крайней мере
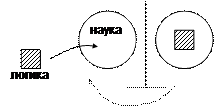 Следовательно, надо отойти от связи
Следовательно, надо отойти от связи
| ||||
| Ассоциации с внетематическими содержаниями (опыт) мешают точно следовать теме. | Э Предположим, что отношения между людьми  определяются нормировщиком определяются нормировщиком  .
Если нас интересует судьба .
Если нас интересует судьба  , то следует видеть разные состояния их существования и не обращать внимания тела на , то следует видеть разные состояния их существования и не обращать внимания тела на  как такового. как такового.
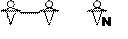 И Но тема и связаны, и человек может пребывать в обеих ипостасях.
Э Если мы ввели такую онтологию, то тематически мы не можем наблюдать переход человека из И Но тема и связаны, и человек может пребывать в обеих ипостасях.
Э Если мы ввели такую онтологию, то тематически мы не можем наблюдать переход человека из 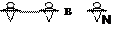 , и наоборот. Вообще бывает это. Но в рамках введенного содержания – нет. , и наоборот. Вообще бывает это. Но в рамках введенного содержания – нет.
| ||||
Непонимание 
| И Трудно ответить. Сам знаю, а назвать и кому-то другому это сообщить не знаю как. Средств не хватает. | ||||
| ▲ Текст непосредственно (лингвистически) безобъектно (по теме) воздействует на читателя, не выделяя собственные характеристики | "Наука логики – наука, которая требует начинание с самой сути дела".
 Э Если, то говорится про требования к нам, а где материал по теме (логика)?
И Но исходит требование от нее (логики), следовательно, говорится о ней.
Э Да, говорится о логике, но что про нее можно сказать вне ее внешней функции.
И Не понимаю – как иначе.
Э Если разговор о нас, то это уже другая тема.
И И про то и про это.
Э Что можно сказать про логику как таковую?
И Не знаю. Что сказать.
Э Что она существует!
И Да. Э Если, то говорится про требования к нам, а где материал по теме (логика)?
И Но исходит требование от нее (логики), следовательно, говорится о ней.
Э Да, говорится о логике, но что про нее можно сказать вне ее внешней функции.
И Не понимаю – как иначе.
Э Если разговор о нас, то это уже другая тема.
И И про то и про это.
Э Что можно сказать про логику как таковую?
И Не знаю. Что сказать.
Э Что она существует!
И Да.
| ||||
| ▲ Дальние ассоциации, не спецификации тематической ▲ Недифференцированность понятий мешает работать тематически ▲ Вид лингвистической работы с текстом | Э Что дополнительного к тому, что она существует? И "В каждой другой науке рассматривается ее предмет и научный метод, различается между собой". Э А про логику что можно сказать? И Незримо присутствует что-то. Э Новый материал по теме? И "Равным образом и содержание тех наук не начинается абсолютно с самого начала, а зависит от других понятий и связано с окружающим ее материалом". Новое – логика имеет содержание. Э Но говорится о содержании науки логики, а не логики. Или это не разводится тобою? Но зато, если идти по теме "наука логики", то тогда что, кроме "содержания" можно ввести в набор характеристик? И Неясно. Нет. Наверное. Э А переведи в позитивную форму негативные высказывания: · содержание · содержание истин с самого начала · содержание независимо от других содержаний · содержание не связано с окружающим материалом. И Да, конечно. Я подозревал. | ||||
| ▲ Невыполнение тематически значимой проекции онтологии ▲ Неоправданное вторичное введение проекции в целое | Тема: ДУХ. Гегель "Философия духа"
Э Найди материал по теме.
И «Дух есть, и он обладает рядом предикатов…»
Э Если отношение  ,
то, что сказать про дух?
Учтите, что ,
то, что сказать про дух?
Учтите, что  более широкое пространство, чем дух.
И Но более узко нужно сказать. Не вообще дух, а дух человека. Следовательно, дух это уже не S, а Р.
Э По тексту так говорится, но по теме – нет. Нам нужен дух. более широкое пространство, чем дух.
И Но более узко нужно сказать. Не вообще дух, а дух человека. Следовательно, дух это уже не S, а Р.
Э По тексту так говорится, но по теме – нет. Нам нужен дух.
| ||||
| ▲ Сведение текстового содержания к привычному (не имитация) ▲ Нелегко функционально смотреть на морфологию мысли, представленной в тексте | "Дух для нас имеет своей предпосылкой природу, он является ее истиной и тем самым абсолютно первым в отношении ее".
И Непонятно само построение. Почему и что это – предпосылка природы? Только слова, нет ассоциаций. Яснее – "дух является истиной природы", но тоже не очень ясно.
Э Если 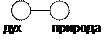 каковы отношения?
И Зачем это? Дух – Р, природа – S.
Э Истина – Р2 S – P2 – P1, но целое природа!
дух – истина Р1,
истина – природы Р2.
И Но это ничего не говорит об истине как S 1 .
Э Перефункционирование. каковы отношения?
И Зачем это? Дух – Р, природа – S.
Э Истина – Р2 S – P2 – P1, но целое природа!
дух – истина Р1,
истина – природы Р2.
И Но это ничего не говорит об истине как S 1 .
Э Перефункционирование.
| ||||
| ▲ Свободный переход от одной ассоциации к другой (мимо темы) | "В этой истине природа исчезла и дух обнаружился в ней как идея, достигающая своего для себя бытия, как идея, объект которой, также как и субъект, есть понятие".
Э Что означает "в истине природа исчезла"?
И Мы уже говорили: в духе природного не осталось, значит, оно было в духе, слитно ли?
Э Это все ассоциации с прежним. А сейчас надо ответить без ассоциаций:
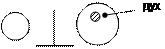
| ||||
| ▲ Перевод из формы авторского изложения в то, которое имитирует по теме сложное Имитация ® имитация по теме | "Сущность духа есть, поэтому с формальной стороны – свобода, абсолютная отрицательность в смысле тождества с собой".
Э Есть материал по теме?
И Малое отношение к нашей теме. Т.к. говорится про сущность.
Э:
 Следовательно, есть по теме.
Следовательно, есть по теме.
| ||||
| Стихийная работа по указанию Стихийная работа по указанию ▲ Суживается понятийное содержание при его употреблении, хотя и подразумевается остальное. СИ – позволяет выявить это. | Тема: Фрейд "Я и ОНО"
И Суть абзаца:
сознательное – описательный термин, опирающийся на непосредственное и надежное восприятие.
Элементы – не длительно сознательные и могут (наоборот). Можно назвать "бессознательное". Почему вообще так?
Определяющий термин "бессознательное":
Анализ; выводы.
Э Используя введенное словарное И:
Э Но ведь в словаре
И Я сразу же главное ввела. Я помню. Э Но оно "висит". Если его ввести, то нужно ввести целое
к "состоянию" через "вещь". | ||||
▲ Неразличение в ЯСИ возможности иметь заданное содержание
несоеди-
ненность .  Проецирование затрудняет
Проецирование затрудняет
| И Да, я ввожу вещь и ее состояния.
 Э Почему неточно рисуешь. В соответствии со словарем.
Э Почему неточно рисуешь. В соответствии со словарем.
 Теряется связь рисунка и мысли. Остается похожесть.
Э Как выразить в ЯСИ "возможность"?..
Теряется связь рисунка и мысли. Остается похожесть.
Э Как выразить в ЯСИ "возможность"?..
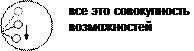 Э Но одно состояние актуальное.
И Возможность как целостность, вообще – возможность не к миру, а к сознанию.
Э Лучше – к проекции, а не к целому, возможное состояние и возможность его актуализации:
Э Но одно состояние актуальное.
И Возможность как целостность, вообще – возможность не к миру, а к сознанию.
Э Лучше – к проекции, а не к целому, возможное состояние и возможность его актуализации:
 И Да.
И Да.
| ||||
| ▲ Процесс и результат не противопоставляются. | И Неплохо. СИ сделали и забыли. Зато легко вспомнить, что было. Сравнивать с новым, выбрасывать, вносить – окончательное СИ. Э Но это Вы говорите не о том, что надо получить, а о процессе получения. | ||||
| Даже несовместим термин – событие ▲ Увлеклись, говорит то, что мгновенно значимо | И Дам характеристику сознания и бессознания как описательных терминов:
1) Сознание – психическое состояние, которое регистрируется непосредственным восприятием.
Э Но это характеристика событий, а не терминов.
И Характеристика терминов, которые характеризуют явления. Менее глубокое, более глубокое описание. Глубже даже: изменения явлений и аппарата описаний синхронны.
Э Надо либо про одно говорить, либо про другое, т.к. разные тематизмы.
И Но мы не натуралисты и аппарат может меняться, т.к. меняется объект. Наше сознание выступает как средство наблюдения природы. Одновременно это и объект, который изменяется. Как средство – уплощает объемы. Язык – изменяет представления, организует его:

| ||||
| ▲ Нет языкового следования; натуральность деления ▲ Результативность не видит в начале | И Получили результат: Сознательное + Бессознательное = Психика
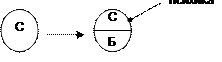 Э А можно С и Б рассматривать как отдельности?
И Разве это не отдельности?
Э Отдельность, когда все признаки целостности:
Э А можно С и Б рассматривать как отдельности?
И Разве это не отдельности?
Э Отдельность, когда все признаки целостности:
 Иначе:
Иначе:
 И Да, можно. Не так уж и много от Фрейда.
Э Зато уже конечный результат, хотя и не уточненный.
И Элементов психики много. Связаны ли…
Э А в тексте об этом есть?
И Не указано. Но на самом деле есть.
Э Но мы имитируем лишь.
И Следовательно, нет в тексте.
И Да, можно. Не так уж и много от Фрейда.
Э Зато уже конечный результат, хотя и не уточненный.
И Элементов психики много. Связаны ли…
Э А в тексте об этом есть?
И Не указано. Но на самом деле есть.
Э Но мы имитируем лишь.
И Следовательно, нет в тексте.
| ||||
| ▲ Натурализация рассуждения – без ЯСИ Без требований ЯСИ перенос того, что до этого различал | Э Как учесть внешние отношения? Учтите то, что уже было:
 И:
И:
 Э Но по ЯСИ элемент воздействует на целое и через него на части.
И Да.
Э:
Э Но по ЯСИ элемент воздействует на целое и через него на части.
И Да.
Э:
 А внутренние отношения (условия)?
И:
А внутренние отношения (условия)?
И:
 Э Но внутренние отношения на ЯСИ непосредственно через другие:
Э Но внутренние отношения на ЯСИ непосредственно через другие:
 И Да.
И Да.
| ||||
| ▲ Выход за рамки текста | Э Как учесть неравенство отношений: С – Б и Б – С? И Это филогенетически возникает. Э Это уже ассоциации. Надо ввести в СИ. | ||||
| СИ ® выход в будущее | И Мы в анализе схемы забежали вперед и говорили о механизмах более тонких, чем С и Б, говорили о внешней и внутренний стимуляции. | ||||
| ▲ Ассоциации зрительные без смысловой организации ▲ Нет соотнесенности средств с материалом ▲ Описание объекта сливается с рефлексией (R) деятельностного описания ▲ Выход за описание в анализ содержания | Э Будем говорить о сознании, а не о его элементах:
 Как ввести состояние сознания?
И
Как ввести состояние сознания?
И
 Это место для сознания, не наполненное.
Э Если нет наполнения, то о чем говорить?
И Да. Наполнено представлениями. А состояние, когда нет наполнения?
Э Вспомните понятие "состояние".
И
Это место для сознания, не наполненное.
Э Если нет наполнения, то о чем говорить?
И Да. Наполнено представлениями. А состояние, когда нет наполнения?
Э Вспомните понятие "состояние".
И
 Э Что тогда?
И:
Э Что тогда?
И:
 Э Да. Только:
Э Да. Только:  Опишите объект мысли. Опишите объект мысли.
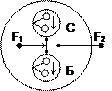 И Мне говорить за Фрейда? Как он писал или безлично? Описывать объект, который мы видим?
Э Да.
И Психика представляет целостность, имеющую основные элементы, которые мы можем выделить.
Э Мы же описываем объект, а не свою деятельность описания.
И Так "…Б может выступать как качество более фундаментальное, чем сознание. Эта сторона не освещена в рисунке…"
Э Более, менее фундаментальное – это критическая работа, а вам нужна имитация. И Мне говорить за Фрейда? Как он писал или безлично? Описывать объект, который мы видим?
Э Да.
И Психика представляет целостность, имеющую основные элементы, которые мы можем выделить.
Э Мы же описываем объект, а не свою деятельность описания.
И Так "…Б может выступать как качество более фундаментальное, чем сознание. Эта сторона не освещена в рисунке…"
Э Более, менее фундаментальное – это критическая работа, а вам нужна имитация.
| ||||
| ▲ Трудно доверять СИ как выражающему "реальное" | И Я описывала СИ так, чтобы сделать его не плоским. Чтобы оно дышало. Вы так СИ используете, как будто ничего нет кроме СИ. Полное доверие СИ, а я не доверяю, сама старалась заложить в него что-то. | ||||
| ▲ Вторичное: S®P®PS = S Трудно | И Читаю, а СИ в сознании не оживает. Вне нашей работы это не осознается. СИ как мертвое, штамп, который постоянно надо оживлять. | ||||
| ▲ легкость вычленения из материала без языковых контекстов, но в языковых терминах Легко переводит текстовые содержания в свой вариант и от него ® решение ▲ Нет строгого проецирования для ответа на вопрос ▲ Натуральное содержание противопоставляет понятийному. Оценка языка с т.зр. целостного содержания | Э Итак, Вы ввели "динамику" как  , а "напряженность" как?
И При нормальном течении, когда не добавляется другой силы, тогда переход , а "напряженность" как?
И При нормальном течении, когда не добавляется другой силы, тогда переход 
 А если добавляется, то
А если добавляется, то  .
Э Почему Вы не соблюдаете ЯСИ .
Э Почему Вы не соблюдаете ЯСИ  ? И, кроме того, где в тексте указания на силу DF?
И А там разговор о количестве. При том же количестве состояние Const, но появляется дополнительная сила. "Вытеснение – состояние, в котором они (представляются) находятся до осознания"
Э К чему относится термин "состояние", учитывая то, что мы уже имеем? ? И, кроме того, где в тексте указания на силу DF?
И А там разговор о количестве. При том же количестве состояние Const, но появляется дополнительная сила. "Вытеснение – состояние, в котором они (представляются) находятся до осознания"
Э К чему относится термин "состояние", учитывая то, что мы уже имеем?  И К психике.
Э Нет, это состояние элементов психики, способ. Ответ надо искать в СИ. Вы отвечаете больше чем на вопрос.
И На СИ имеем 2 типа состояния элементов психики, С и Б. Состояние элементов другого осознания – называется вытеснением. Для ухода в С нужен стимул, сила.
Э Элементы находятся либо в "С", либо в "Б"; когда они в Б, то существование называется вытеснением. Все остальное – лишнее.
Э Говорим о "душевном аппарате". Что о нем сказать?
И У него есть поверхностный слой.
Э Зарисуйте.
И К психике.
Э Нет, это состояние элементов психики, способ. Ответ надо искать в СИ. Вы отвечаете больше чем на вопрос.
И На СИ имеем 2 типа состояния элементов психики, С и Б. Состояние элементов другого осознания – называется вытеснением. Для ухода в С нужен стимул, сила.
Э Элементы находятся либо в "С", либо в "Б"; когда они в Б, то существование называется вытеснением. Все остальное – лишнее.
Э Говорим о "душевном аппарате". Что о нем сказать?
И У него есть поверхностный слой.
Э Зарисуйте.
 И Целостная система, у которой есть новый слой к внешнему миру. Автор об этом и говорит. Линия И Целостная система, у которой есть новый слой к внешнему миру. Автор об этом и говорит. Линия  – новый слой.
Э Какое значение у – новый слой.
Э Какое значение у  ?
И Однако, душевный аппарат мы изобразили как вещь, но он не вещь.
Э Мы лишь использовали ЯСИ. ?
И Однако, душевный аппарат мы изобразили как вещь, но он не вещь.
Э Мы лишь использовали ЯСИ.
| ||||
| Ощущение отсутствия нового | И Я почитала текст опять. Весь. Показалось. Что нет уже ничего нового к нашему. Все расшифровывается в нашем СИ. Автор поясняет на примере то, что уже есть у нас. | ||||
| ▲ Онтологичности не получается лишь следование точке рассуждения | Э Выразите в изображении, где "о влечении, об объекте влечения, о смене объекта влечения".
И:
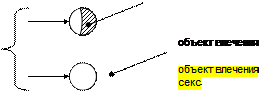 Э А что означает –
Э А что означает –  ?
И Влечение.
Э Влечение чего-то?
И Это просто направленность. Без носителя, страсть.
Э Но это не онтологическая манера. Онтологическая.: ?
И Влечение.
Э Влечение чего-то?
И Это просто направленность. Без носителя, страсть.
Э Но это не онтологическая манера. Онтологическая.: 
| ||||
| ▲ Приписывает тексту то, что кажется должным | Москвичев. Проблемы мотивации в психологии Э Что еще было? И Еще о возникновении программ деятельности, о том, почему именно эта программа, что порождает деятельность? Э Это было в тексте? И Подразумевается, поскольку такие вопросы правомочны. Э В тексте это раскрывалось? И Нет. Э Кроме текста мы ведь не имеем ничего, а о целях говорит автор? И Должно быть. Э Но мы не знаем об этом вне текста. | ||||
| ▲ Трудно парадигматизировать | "Мышление необходимо рассматривать в двух аспектах: 1) как фиксированное знание, как образ определенных объектов, 2) как процесс или деятельность, посредством которых это знание формируется, а затем используется". Э Компоненты выдели. И: 1. мышление необходимо рассматривать в 2-х аспектах 2. как фиксированное знание 3. как образ определения объектов 4. как процесс, или деятельность. 5. Не знаю, можно ли отнести сюда "посредством которых это знание используется"? Э В пункте 1-м что говорится о мышлении? И Что оно подвергается рассмотрению. Э А о мышлении мы что-то узнали? И Пока нет. Э Следовательно, это не в рамках поставленной задачи. Э Остановимся на компоненте "процесс". И Имеется в виду процесс мышления? Э Нет, процесс как понятие. | ||||
Э Получили мы:
 Сейчас необходимо учесть другой компонент списка "отношения". Каково его содержание?
И Надо использовать ЯСИ
Сейчас необходимо учесть другой компонент списка "отношения". Каково его содержание?
И Надо использовать ЯСИ  и тогда: и тогда:  Э Но в нашем случае Вы не следуете понятию "отношение" формально соединили, не раскрыли.
И Как, все уже есть. Включается
Э Но в нашем случае Вы не следуете понятию "отношение" формально соединили, не раскрыли.
И Как, все уже есть. Включается  в отношения и этим во взаимосвязь.
Э Но у компонентов до и после включения в отношения равные состояния?
И Вообще-то, да!
Э Как учесть у нас?
И Трудно сказать. Много следствий.
Э А в контексте темы?
И Знания рождаются.
Э По крайней мере, способность актуализируется. Как зафиксировать?
И: в отношения и этим во взаимосвязь.
Э Но у компонентов до и после включения в отношения равные состояния?
И Вообще-то, да!
Э Как учесть у нас?
И Трудно сказать. Много следствий.
Э А в контексте темы?
И Знания рождаются.
Э По крайней мере, способность актуализируется. Как зафиксировать?
И:
 Э:
Э:

| |||||
| ▲ Не ограничивается ответом на вопрос и мигрирует (тема) | Тема: Системное исследование (1972 г.) Э Какую тему изберете? И Исходя из заголовка, т.к. не знаю. Анализ заголовка привлекает – "целостность предмета исследования". Что автор понимает под этим? Принять ли для себя? Характер проблемы целостности и в какой мере ее решает. Решает ли автор? Э Нужна формулировка темы как результат выбора и не более. | ||||
| ▲ Не отличает заимствованной позиции и самого автора | И Однако, я введен в заблуждение. Вы говорили, что "тема нашей работы". Непонятно, почему "нашей". Наша работа по поводу текста и тема внутри единого текста, а наша работа … | ||||
| ▲ Не может оторваться от потока | Э По теме кусок выпишите. И Да. Э А более короткие есть части, которые можно рассматривать независимо (относительно). И Да, есть. Например, с новой строки. Вот, пожалуй. Я при выделении семиотических частей, прикован к словам. | ||||
| ▲ Деление на СИ проще ▲ Вводит добавки, не выраженные в СИ | Э Попробуйте осуществить семиотическое деление, имеющегося СИ.
 И 1) Элемент
И 1) Элемент  целого. 2) Связь (между элементами). 3) Граница. 4) Включенность.
Э Как представлен 4-й пункт?
И Это не показано. целого. 2) Связь (между элементами). 3) Граница. 4) Включенность.
Э Как представлен 4-й пункт?
И Это не показано.
| ||||
| Э Дайте определение связи? И Если двигается одно, то движется и другое. | |||||
| ▲ Случайность выделения содержаний в СИ, так как не опирался на ЯСИ – | Э Выразите "структура" в СИ.
И:
1)  – элемент целого
2) – элемент целого
2)  – отношения – отношения
 Это система отношений, но с сохранением выделения за ней целого.
Э А как выделить "структурность"?
И: Это система отношений, но с сохранением выделения за ней целого.
Э А как выделить "структурность"?
И:
 Э Чтобы сделать это различение наглядно, надо нарисовать сначала в общей форме:
Э Чтобы сделать это различение наглядно, надо нарисовать сначала в общей форме:
 а затем выделить слой
а затем выделить слой  указание на целое отношений,
а если указание на целое отношений,
а если  , то нет замкнутости отношений. , то нет замкнутости отношений.
| ||||
| ▲ Трудно выйти из синтагматики | Э Выразим в СИ "анализ". И Анализ деятельности? Э Нет, вообще анализ. | ||||
| ▲ Выход за рамки содержания понятия | Э Выразите в СИ "анализ".
И:
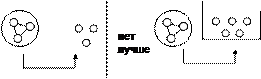 Да, а затем квалификация и систематизация:
Да, а затем квалификация и систематизация:
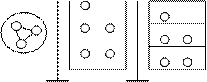 Э Но анализ не предполагает квалификации.
И Средство расщепления должно быть расположено на полках, лучше так:
Э Но анализ не предполагает квалификации.
И Средство расщепления должно быть расположено на полках, лучше так:
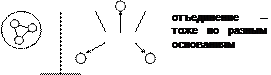 Э Все же выходите за рамки только понятийных границ.
Э Все же выходите за рамки только понятийных границ.
| ||||
| ▲ Не выражает того, что не видно непосредственно | Э Выразите "ряд".
И Уже выражено ( š š š )
Э Но ряд предполагает не просто наличие чего-то, а организацию располагания и, следовательно, основание этой организации. Как это учесть?
И Но я ведь уже это и сделал, расположил.
Э Но статус не придали этому располаганию, нет выраженности извне этого:
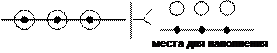
| ||||
| ▲ Синтетическое видит и не оторвется при темоопределении ▲ Трудно использовать свое | И Я разведу 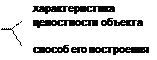 Э Оба входят в тему или только одно? Какое?
И Первое интересует, но постольку, поскольку интересует второе.
Э Так входят ли они в тему?
И Ко второму не подойти без первого.
Э Выбери одну из них, потом другую и соединишь затем.
И Мысль идиотски выражена. Нет понятий, есть какие-то утверждения о каких-то объектах. В куске есть указания, из которых выделить можно лишь то, что "нечто имеет что-то".
Э И что делать?
И Не знаю.
Э А если мы свой понятийный аппарат введем для различения?
И Это будет наше, а не автора.
Э Не поможет различить авторское и "расклеить" у него.
И Не уверен.
Э Оба входят в тему или только одно? Какое?
И Первое интересует, но постольку, поскольку интересует второе.
Э Так входят ли они в тему?
И Ко второму не подойти без первого.
Э Выбери одну из них, потом другую и соединишь затем.
И Мысль идиотски выражена. Нет понятий, есть какие-то утверждения о каких-то объектах. В куске есть указания, из которых выделить можно лишь то, что "нечто имеет что-то".
Э И что делать?
И Не знаю.
Э А если мы свой понятийный аппарат введем для различения?
И Это будет наше, а не автора.
Э Не поможет различить авторское и "расклеить" у него.
И Не уверен.
| ||||
| ▲ Боязнь препарирования реального содержания текста | Э Можно ли логически делить "распределенные составляющие"? По схеме Р–S. И Формально можно, но насколько это содержательно. | ||||
| ▲ Логическое деление не соединяется с тематикой | Э Сделай членение по логической схеме S–Р "образование целостной картины объекта".
И
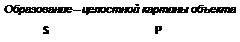 Э А почему?
И Мог бы и иначе, наоборот.
Э А тема, какова у вас?
И Как только этот кусочек в отрыве дан, то как угодно могу.
Э Все равно связь с темой необходима и она делает выбор.
Э А почему?
И Мог бы и иначе, наоборот.
Э А тема, какова у вас?
И Как только этот кусочек в отрыве дан, то как угодно могу.
Э Все равно связь с темой необходима и она делает выбор.
| ||||
| ▲ Выделение понятия из содержания трудно | Смысл и значение (1974 г.) Тема: ЗНАНИЕ Э Введи объект, в котором был бы компонентом то, что "знание". И Пример можно привести? Э Нет. Надо без примеров, т.к. понятиями занимаемся, следовательно, это позиция создателя словаря. Он пишет (автор) в различных частях опираясь на понятие "знание". И Следовательно, его текст надо найти мне, где знание вводится. Э Нет, ситуацию выявить с использованием текста, в которой присутствует знание. И Есть знание на основе опыта, с объектами Si, а теперь объект Si+. | ||||
| ▲ Несоблюдение тематизма от деятельности уходит в М2 | Тема: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОСТРОЕНИЮ ЗНАНИЙ Э Что такое наука тогда? И Может быть, сказать, что такое теория? Э Почему? И Наука всеобъемлюща. Э Что такое? И Сеть знаний. Э Но тогда выделяешь лишь продуктную сторону, а потом – деятельность. | ||||
| ▲ Излишняя активность (неспецифично) не методично | И Взаимосвязь знаний. Э Деятельностно не берете. И 1-й кусок я писал не особенно сознательно, а теперь более, так как понял, что ты хочешь (читает). Э Зачем читать? И Чтобы начать делать. Э Надо делать, а это лишнее. | ||||
| ▲ Не по понятию делается | Э Деление осуществите. И 1) Исследователь имеет дело а) не с объектами изучения б) не со средствами анализа этих объектов в чистом виде. 2) Исследователь имеет дело с конкретными знаниями. 3) Конкретные знания фиксируют объективное содержание. 4) В знании два аспекта – знаний-средств склеены. Их не расчленить без специальной техники. Э Эти компоненты – составные или нет? И Надо еще членить? Э А по понятию деления – до предела. | ||||
Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга. (1975 г. Краснодар.) (О семантической функции невербальных средств общения в процессе межличностного общения. Процесс межличностного общения.)
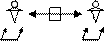 Э Где расположены содержания выражения "средств общения в процессе...", где это?
И В процессе используются какие-то средства.
Э А почему не используются СИ?
И Надо сказать, вербальные, невербальные.
Э Где они?
И В схеме что ли? Нет этого.
Э Что тогда делать?
И Не знаю.
Э Изменить СИ. СИ –1®СИ –2.
И Общие средства есть, но не специфические.
Э Где расположены содержания выражения "средств общения в процессе...", где это?
И В процессе используются какие-то средства.
Э А почему не используются СИ?
И Надо сказать, вербальные, невербальные.
Э Где они?
И В схеме что ли? Нет этого.
Э Что тогда делать?
И Не знаю.
Э Изменить СИ. СИ –1®СИ –2.
И Общие средства есть, но не специфические.
| |||||
| ▲ Неонтологичность схемы ▲ Формалистичность онтологий не усваивается | Основные проблемы вузовского обучения. (Н.И. Тупальский)
Э Вот выделены:
1. знания;
2. средства;
3. оперирование;
4. материал;
5. учебный материал;
6. усвоение;
7. овладение;
8. навыки;
9. умения.
Надо построить онтологическую картину (ОК), где они все присутствуют:
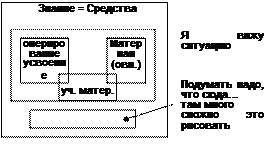 Э Это не объектная картина. Что такое ОК?
И Изображение моего представления по требованиям:
1. выделение элементов;
2. отношение их;
3. целое;
4. категориальность;
5. онтологическая картина.
Э Полагаете представление?
И Содержательное, отражение сущности, не всего в представлении, в зависимости от того, как представлено бытие.
Э:
Э Это не объектная картина. Что такое ОК?
И Изображение моего представления по требованиям:
1. выделение элементов;
2. отношение их;
3. целое;
4. категориальность;
5. онтологическая картина.
Э Полагаете представление?
И Содержательное, отражение сущности, не всего в представлении, в зависимости от того, как представлено бытие.
Э:
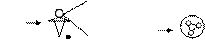 И Это
И Это  еще не онтологическая схема.
Э Ей придам онтологический статус "это суть бытия" и приговариваете. еще не онтологическая схема.
Э Ей придам онтологический статус "это суть бытия" и приговариваете.
| ||||
| ▲ Неаналитический подход в выборе текста; натура недеятельностная позиция ▲ Парадигматизация не до конца. Исток – в сознании привычные склейки, а не формальная работа | Атрибутивные знания Э Выделить надо материал по теме. И А остальной материал, что с ним? Э Его надо забыть. И Когда художественное произведение мы все ведь прослеживаем? Ведь если не замечаешь, то этим не устраняешь. Э Вы осуществили деление по схеме S–Р. А теперь надо продолжить в качестве материала: Р-1 – "действующая причина". И Не могу. У меня это не разделяется, действует как целое. В сознании это неразделимо. Соответствует слову "импульс" и т.д. Э А вот без контекста, самостоятельно рассмотрите. | ||||
| ▲ Лингвистическая детерминация по порядку S–P, а не логико-объектная ▲ новые формы (схемы) функционально не принимаются | И Тогда
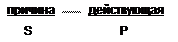 Э Сейчас деление "Все привел в порядок"
И
Э Сейчас деление "Все привел в порядок"
И
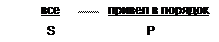 Трудно, не чувствовать не могу. Сопротивление в себе.
Э Почему?
И Попроще бы смысл схемы S–Р.
Э Р – что говорится, S – о чем. Давай "Привел в порядок".
И Порядок – привел
S Р
Э Наоборот: привел – в порядок, что-то сделал, потом уточнение.
А потом: в порядок – все.
Трудно, не чувствовать не могу. Сопротивление в себе.
Э Почему?
И Попроще бы смысл схемы S–Р.
Э Р – что говорится, S – о чем. Давай "Привел в порядок".
И Порядок – привел
S Р
Э Наоборот: привел – в порядок, что-то сделал, потом уточнение.
А потом: в порядок – все.
| ||||
| ▲ Имея результат СИ легко восстановить его содержание не углубляясь в него ▲ Не вводит комментарии на описание ▲ Но аналоги наглядные, а не логические ▲ Неуместная критика на объективность ▲ Пока нет построенной ситуации, нет абсолютного решения. Деление до охвата всего – до категорий | Э Теперь я дам СИ незнакомое, с незнакомым содержанием. Надо описать введенную действительность, наглядные имена.
И Что такое "Введенная действительность"?
Э Рисую + имена = действительность. Опишите СИ.
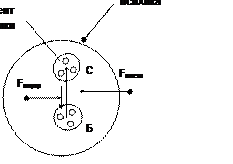 И Психика содержит две области или, если можно, две сферы, сознательную и бессознательную. Каждая включает массу элементов. Название элементов психики. Эти элементы могут проникать из сферы в другую под воздействием сил. По этой схеме – из сознательного в бессознательное, под воздействием силы внутренней, а бессознательное в сознательное – под воздействием силы внешней. Это непонятно, чем подтверждается, почему Fвнутр, Fвнеш.
Э Вы выделили элементы, включая "язык", а он сам по себе сложен или прост?
И Как рассматривать. Если смыслы языка, то простейшее – атом.
Э В каком отношении – сложный?
И Язык – сумма элементов. Как филолог знаю.
И Психика содержит две области или, если можно, две сферы, сознательную и бессознательную. Каждая включает массу элементов. Название элементов психики. Эти элементы могут проникать из сферы в другую под воздействием сил. По этой схеме – из сознательного в бессознательное, под воздействием силы внутренней, а бессознательное в сознательное – под воздействием силы внешней. Это непонятно, чем подтверждается, почему Fвнутр, Fвнеш.
Э Вы выделили элементы, включая "язык", а он сам по себе сложен или прост?
И Как рассматривать. Если смыслы языка, то простейшее – атом.
Э В каком отношении – сложный?
И Язык – сумма элементов. Как филолог знаю.
| ||||
| ▲ Легкость категориального выражения ▲ Предполагает больше, чем говорит. | Э Что такое "общение"?
И Это – существование, которое невозможно без сосуществования. Элемент в общении существует как часть чего-то (партнер).
Э Можно так выразить?
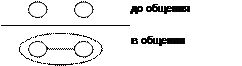 И Так и не так. Максимально общий вид. Надо переформулировать для естественного языка. Но слишком вообще. Многого нет.
Э Но Вы сказали больше, чем сказали?
И Многое предполагала.
Э Но не выразили в явной форме.
И Да.
И Так и не так. Максимально общий вид. Надо переформулировать для естественного языка. Но слишком вообще. Многого нет.
Э Но Вы сказали больше, чем сказали?
И Многое предполагала.
Э Но не выразили в явной форме.
И Да.
| ||||
| ▲ Недифференцированное введение нового образования ▲ Предполагается больше, чем нарисовано ▲ Неонтологическое рисование. ▲ Выделяется одна сторона, но без соотнесения с другой | Э А теперь изменим немного:
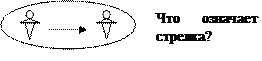 И Воздействие на язык?
Э Язык еще ввести надо. Как?
И:
И Воздействие на язык?
Э Язык еще ввести надо. Как?
И:
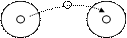 Э Что кладется вовне, и как?
И Общее – язык, а как вкладывается смысл.
Э Тогда надо ввести спецификацию:
Э Что кладется вовне, и как?
И Общее – язык, а как вкладывается смысл.
Э Тогда надо ввести спецификацию:
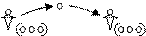 А это
А это  – физическое?
И Философски – да, но не материальное.
Э Не философски.
И Не физическое все же.
Э Тогда нужно новое СИ.
И Это ситуация общения, переносится смысл.
Э Как его перенести, физически?
И Не знаю. – физическое?
И Философски – да, но не материальное.
Э Не философски.
И Не физическое все же.
Э Тогда нужно новое СИ.
И Это ситуация общения, переносится смысл.
Э Как его перенести, физически?
И Не знаю.
| ||||
| ▲ Оценивает в процессе имитации с т.зр. своих нужд ▲ Боязнь иметь плохой М2, а не методичность | Проблемы управления познавательной деятельностью. (1975 г.) Тема: "СТРУКТУРА ТЕОРИИ". Э Найдите материал по теме. И Есть, но не удовлетворяет меня. Общие рассуждения. Не идем ли мы ошибочным путем? Мне надо прочитать, а потом приступать к работе. Может быть, в тексте мало что есть. Я могу неправильно выглядеть, выделить. | ||||
| ▲Норма общей организации текста как средство квалификации и оценки содержания | Информационное обеспечение НИР Э Теперь Вы поняли, норму развертывания содержаний по одной теме? И Да, кстати: я не видел раньше, что текст то хилый. А сейчас, различив тему, норму мышления – вижу. | ||||
| ▲ Не видит парадигматичность и привязанность к естественным (е) представлениям ▲ Деформация текста автора, не осознавая | И Перед нами ставятся задачи информационного обеспечения не только сферы исследований и разработок, но и сфер планово-управленческой, производственной и сбытовой. Например: не только поиск и оценка информации, но и: – исследование – планирование – разработки (объектов) – разработки прогнозов. Э Но Вы деформировали текст автора. Уже выходя за рамки задачи – фиксировали отрывок. Иначе не будете отчленять, где Вы, где автор. Мы не видели материал. Сейчас надо изобразить ситуацию. Она, в отрыве от других, ситуацию вообще, ее и изобразите. И Как можно давать ситуацию вообще? Мы решаем конкретную задачу. Э Используйте позицию пишущего статью в словарь. И Словари бывают разные. У меня-то не вообще. Я от практики иду. | ||||
| ▲ Нет семиотической рефлексии Форма слита с содержанием и ему подчинена Е-форма | Э Выделите отрывок текста по теме. Используйте видение Вашей работы с текстом как с тем, что можно резать:
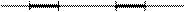 Текст выступает сам по себе здесь.
И Мы не можем рассматривать текст сам по себе, без его содержания.
Текст выступает сам по себе здесь.
И Мы не можем рассматривать текст сам по себе, без его содержания.
| ||||
| ▲ Натуральность аналогии в СИ или формальность ▲ Изображение без ЯСИ | Э Нарисуйте СИ для понятия "система".
И:
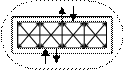 Э Сравните с
Э Сравните с  Определите по СИ Определите по СИ  все его, объекта, характеристики.
И СИ не помогает определить, все ли характеристики.
Э Если не помогает, то надо менять ЯСИ. все его, объекта, характеристики.
И СИ не помогает определить, все ли характеристики.
Э Если не помогает, то надо менять ЯСИ.
| ||||
| ▲ Выделение списка, подключая свое ▲ Использование СИ с центрацией на действительность | Э Перечислите компоненты. И: 1. Задачи 2. Информация 3. Информационная служба 4. Организация работ по переработке информации 5. Объект исследования 6. Характеристика информационной деятельности 7. Что воздействует на объект 8. Задачи – способы, методы воздействия на объект 9. Задачи – цели информационной службы …Я в беспорядке. Э Так и надо. И А ассоциирующее надо? Э Нет. И А я делал 5–9. Э Как ты соотносишь СИ с действительностью? И Я выбираю значащие элементы действительности. Э Как, за счет чего? И Интуиция, опыт. Перебираем его. Анализ набранных элементов. Картина (СИ) анализирует с действительностью, сравнение. Если видим разницу, нечетко, анализ ее (разницы). Понять откуда разница. Оценить ее значение для проекта… Э А почему бы и нет. СИ для отбора, оно как рельсы к действию. | ||||
| R (рефлексия) и критика своей работы | И После логической организации текста появляется много средств для оценки текста, куска, для оценки моей работы, оценки того, что надо делать. Легко становится читать тексты на эту тему. Останавливаюсь не на всем, а что жду. Программирую, т.к. все уже дано. Уверенность. Мы нашли тип элементов, необходимых, на которых, например, информационная служба. Это отвечает всем требованиям политэкономии и жизни. Четкая схема:
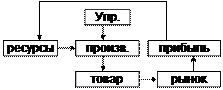 Для политэконома – не ново, а для меня – в другом свете. Если есть такая картина, то четко вижу суть производства. И информационная служба – обеспечивает все эти сферы. Другие чаще используют общие слова. Но не было единого основания. Я знал все это раньше, но Вы, дисциплинировали меня, принуждая следовать этому эталону.
Для политэконома – не ново, а для меня – в другом свете. Если есть такая картина, то четко вижу суть производства. И информационная служба – обеспечивает все эти сферы. Другие чаще используют общие слова. Но не было единого основания. Я знал все это раньше, но Вы, дисциплинировали меня, принуждая следовать этому эталону.
| ||||
| ▲ Материал не по теме Даже не сразу понимает, о чем. Использует свои заместители, зависит от опыта | Краткий политэкономический словарь. Гегель "Философия духа". Тема: "ДУХ". Э Найдите материал по теме. И "Познание духа есть самое конкретное и потому самое высокое и трудное". Э Что можно сказать про "дух" на этом материале? И Вещь не вещь, про один из его атрибутов, даже не атрибут, а деятельность по его познанию. Э Пишется про это здесь? И Про дух, в сравнении с другими предметами. Атрибут духа. Э Какой? И Возможности его познания. Трудности при этом. Э Но это ведь про познание, а не про дух. И В неявной форме – материал по теме. | ||||
| ▲ Скольжение из темы ▲ Не парадигматизирует ▲ Приписывает ассоциации | Не могу доказать. И про дух, и не про дух.
Э Можно сказать, что про дух сказать остается лишь то, что он существует:
 И Не только. Он имеет качества, атрибуты. Познание его самое конкретное.
Э Как это выразить в качестве характеристики "духа"?
И Не знаю.
Э Можно сказать, что дух есть, и как-то сложно устроен?
И Не только. Он имеет качества, атрибуты. Познание его самое конкретное.
Э Как это выразить в качестве характеристики "духа"?
И Не знаю.
Э Можно сказать, что дух есть, и как-то сложно устроен?
 И Думаю, что да.
Э И в тексте лишь неявно это выражено.
И Думаю, что да.
Э И в тексте лишь неявно это выражено.
| ||||
| ▲ О методе не думает, а о М2 | Шеллинг. Система трансцендентального идеализма Э Каков первый шаг? И Читать от начала до конца. Э Почему? И А как узнать о том, что написано? Э Можно поработать с заголовком. И Оттуда ничего не вытянешь. Э Как Вы работаете с текстом оглавления? И После окончания чтения у меня складывается схема материала. Я схватываю структуру предстоящего движения по тексту. Как происходит – другой вопрос. Э Как обычно Вы делали? И Не знаю. | ||||
| ▲ Непосредственная имитация. Установка ▲ Легкость перехода к интерпретации отождествления с автором Невычленение позиций | И Зачем мы делаем акцент на наши понятия? Мы должны извлекать содержание у автора. Э Но не можем избавиться от нами используемой культуры. Имитация появится позже. И Между объективным и субъективным по Шеллингу обязательное соответствие. Подразумеваем: между понятием и знанием обязательное соответствие. Э Разве есть у Шеллинга такое подразумевание? И Да. Трансцендентальная философия (ТФ) – суть объективное, понятие – субъективное. Э Это ведь наш анализ, у него то нет. И Да, понял. | ||||
| ▲ Установка мешает ввести себя в тему предписанную ▲ Не ищет формально по словам темы ▲ Не по теме | Э Найди материал по теме: "Понятие трансцендентальная философия". И "А потому, если действительно существует трансцендентальная философия, то ей остается идти лишь в противоположном направлении, исходя от субъективного, как он первичного и абсолютного и показывая как отсюда возникает объективное ". Как будто это и есть по теме. Создается впечатление, что о трансцендентальной философии уже упоминалось в тексте, хотя и на деле – нет. Э Но в отрывке нет слов "понятие ТФ". Опять не по теме. Следует искать слова «понятие ТФ». У тебя сильная установка на ТФ? И Да. Э Поэтому и не слушаешь меня? И Да, по-видимому. | ||||
| При создании СИ ▲ Центрирует на одном, забывая другое ▲ Тематически невнимателен ▲ Мешает в СИ объектное и текстуальное | Э Тема – "Трансцендентальная философия". Используй текст, что можно сказать про ТФ?
И Она – исходит из субъективного (первичного и абсолютного), – показывает, как возникает отсюда объективное.
Э Как это выразить?
И
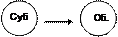 Э Но где здесь ТФ? Здесь отношения С. и О.
И Она вне их, тогда.
Э Нарисуй.
И:
Э Но где здесь ТФ? Здесь отношения С. и О.
И Она вне их, тогда.
Э Нарисуй.
И:
 Э Какова роль ТФ? Это что-то объективное или это словесное?
И Это содержание.
Э Но оно нами рисовалось в объектном статусе?
И Я понял.
Э Какова роль ТФ? Это что-то объективное или это словесное?
И Это содержание.
Э Но оно нами рисовалось в объектном статусе?
И Я понял.
 Э Но каковы отношения между ТФ и С, О?
И Она исходит, показывает.
Э Можно сказать, что она равноправна с ними?
И Не понял.
Э ТФ осуществляет отношения к С. и О. Как к материалу своего анализа?
И Да.
Э Но каковы отношения между ТФ и С, О?
И Она исходит, показывает.
Э Можно сказать, что она равноправна с ними?
И Не понял.
Э ТФ осуществляет отношения к С. и О. Как к материалу своего анализа?
И Да.  и и  присутствует в сфере присутствует в сфере  таким же образом, как и вне сферы. таким же образом, как и вне сферы.
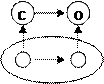 Э Об этом еще ничего автор не сказал. Зато остается активное отношение ТФ к С и О.
И Да, вот так:
Э Об этом еще ничего автор не сказал. Зато остается активное отношение ТФ к С и О.
И Да, вот так:
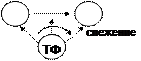
| ||||
| ▲ Не иерархизирует ▲ Ошибки не вводит в контекст методичности | Э Учти еще одну фразу: "Таким образом, натурфилософия и трансцендентальная философия делят между собой два возможных направления философствования…" Что здесь дано?
И Виды философствования.
Э Как это выразить в СИ?
И:
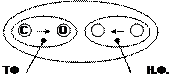
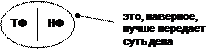 Тут продолжение:
"…Если вообще всякая философия должна сводиться к тому, что либо природа делается интеллигенцией, либо интеллигенция природой, то ТФ выполняющая последнюю задачу, представляется второй необходимой первонаукой философии".
Э И что это дает нового?
И То же самое все.
Э Но: философия – сводится к
Тут продолжение:
"…Если вообще всякая философия должна сводиться к тому, что либо природа делается интеллигенцией, либо интеллигенция природой, то ТФ выполняющая последнюю задачу, представляется второй необходимой первонаукой философии".
Э И что это дает нового?
И То же самое все.
Э Но: философия – сводится к
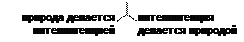 "Делается" – что это за перевоплощение?
И Это, конечно, размышление с точки зрения либо Природы, либо Интеллигенции.
Э Правильно. Почему тогда стрелки О ® О остаются? Они же возникают в рассуждении, т.е. в философии.
И? Тогда что делать с философией? Куда ее?
Э Отделить природу и интеллигенцию надо, т.к. интеллигенция различным образом относится к ним как к внешним для себя в философствовании.
"Делается" – что это за перевоплощение?
И Это, конечно, размышление с точки зрения либо Природы, либо Интеллигенции.
Э Правильно. Почему тогда стрелки О ® О остаются? Они же возникают в рассуждении, т.е. в философии.
И? Тогда что делать с философией? Куда ее?
Э Отделить природу и интеллигенцию надо, т.к. интеллигенция различным образом относится к ним как к внешним для себя в философствовании.
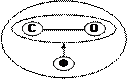 И Вот сейчас понятно. Очевидно стало. Но тогда мы ошибались?
Э Нет, из текста исходили. Шли методично. Уточнение возникло за счет новой целостности (объекта) – философия.
И Вот сейчас понятно. Очевидно стало. Но тогда мы ошибались?
Э Нет, из текста исходили. Шли методично. Уточнение возникло за счет новой целостности (объекта) – философия.
| ||||
| ▲ Парадигму неточно воспроизводит ▲ Не соблюдает правила синтагматики Не соблюдает законов целостности и отношения делает между целым 1 и частью целого 2. | Ленин. "Две тактики…"
Э Я нарисовал вам на материале текстов выражение тех, содержание которых изложил В.И.Ленин. Сейчас на другом материале измените (уточните) СИ.
И Замена своим вариантом. Целое разбавляет, рассматривает части, а не части целого и признак (П) относит не целому а частям

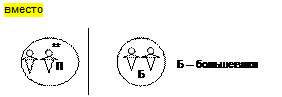 Замена своим вариантом с изменением количества признаков.
Замена своим вариантом с изменением количества признаков.
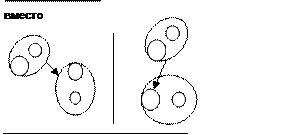
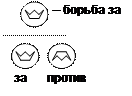
| ||||
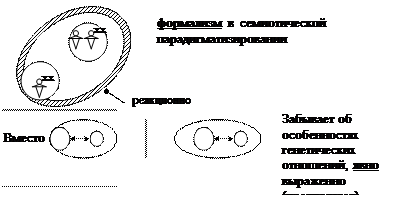 | ||||||||||||||||||||||
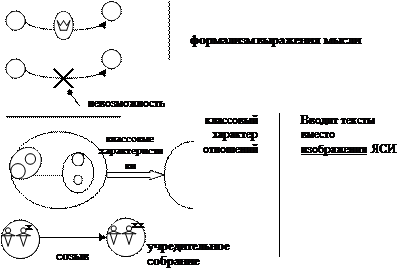 | ||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
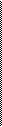 |  | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||
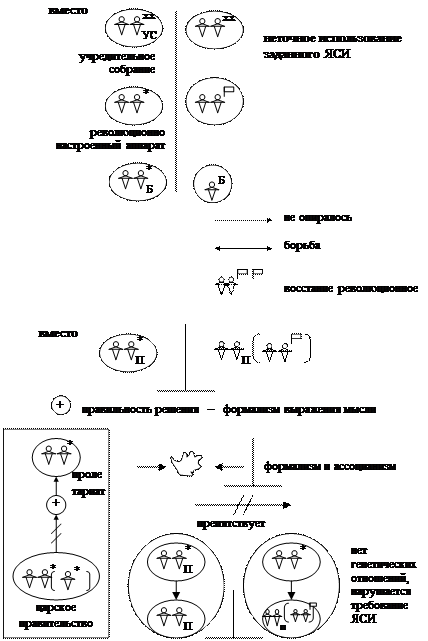
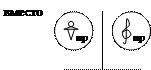 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
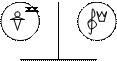 |
| |||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||
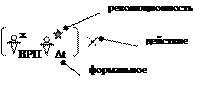 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||
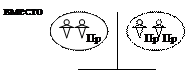 | ||||||||||||||||||||
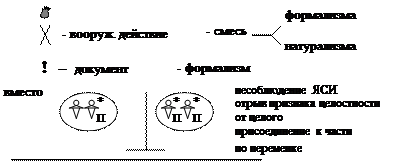 | ||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||
 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
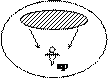 | ||||||||||
|
| |||||||||
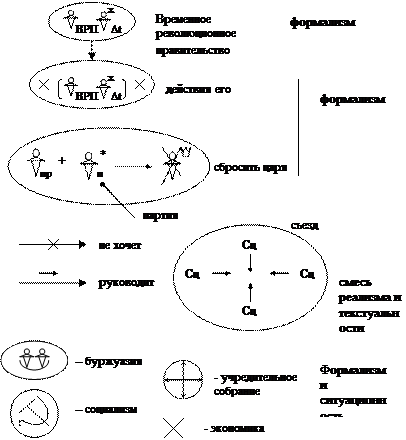 | ||||||||||
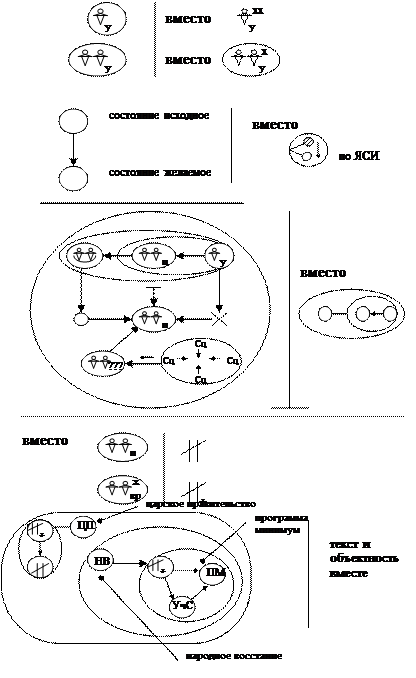
| ▲ Относительность объектного статуса содержаний - !!! при предметизации S ® PS ® S ® PS ▲ трудность вхождения в функциональное видение | К. Маркс "Капитал". 1т.
Э Итак, говорится, что товар это вещь с полезными свойствами. Можно сказать, что товаром выступает любая вещь, имеющая полезные и иные свойства?
И Конечно.
Э Но если рассмотреть такую вещь, то можно представить ситуацию, когда предметом анализа выступят неполезные свойства. Будет ли это политэкономический анализ?
И Нет. Но вещь остается вещью. Если есть в ней полезные свойства, а такие всегда есть, то она товар.
Э Нужно не забывать. Что полезные свойства определяются возможностью помещения вещи на рынок, т.е. полезность рыночная.
И Это да. Но я не пойму, зачем делить тогда товар, вещь на части, она ведь неделима.
Э Этим мы делим не вещь. А предметы анализа и в каждом предмете вещь получает свой особый облик:
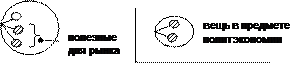 И Это яснее, хотя трудно иметь дело с абстракцией в анализе реальных вещей.
Э Но эта абстракция рассматривается как "полноценная" вещь, иначе она не преодолеет "абстрактности" и не будет объектов в предметном анализе.
И Это самое трудное видеть в абстракции реальность.
Э Итак:
И Это яснее, хотя трудно иметь дело с абстракцией в анализе реальных вещей.
Э Но эта абстракция рассматривается как "полноценная" вещь, иначе она не преодолеет "абстрактности" и не будет объектов в предметном анализе.
И Это самое трудное видеть в абстракции реальность.
Э Итак:
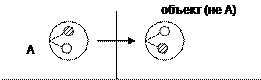 Э Мы видели, что вещь как ПС поступая на рынок, начинает подчиняться не только своим свойствам, но и свойствам рынка и поэтому выступает как МС (сравнимость с другими товарами). От природы это свойство (быть МС) вещь – товар не имеет. Природно рынок выглядит как взаимная передача товаров (вещей):
Э Мы видели, что вещь как ПС поступая на рынок, начинает подчиняться не только своим свойствам, но и свойствам рынка и поэтому выступает как МС (сравнимость с другими товарами). От природы это свойство (быть МС) вещь – товар не имеет. Природно рынок выглядит как взаимная передача товаров (вещей):
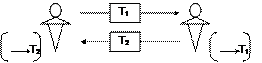 Однако, в предмете политэкономии к товару- вещи добавляется способность быть обмененной, т.е. возможность стать другим товаром- вещью:
В1 (В2) и В2 (В1)
Следовательно, между ПС и МС можно (или нельзя?) установить отношения генетического типа, иерархии:
Однако, в предмете политэкономии к товару- вещи добавляется способность быть обмененной, т.е. возможность стать другим товаром- вещью:
В1 (В2) и В2 (В1)
Следовательно, между ПС и МС можно (или нельзя?) установить отношения генетического типа, иерархии:
 И Мы говорим то о ПС и МС как об вещах совершенно новых. На самом деле они не что иное как та же вещь- товар.
Э Как Вы видите, необходимость обозначений диктуется переходом к предметному анализу. Но если ПС неотличима, почти, от внешности, то МС вообще не интерпретируется. Это – отношение вещей на рынке (обменность). Это свойство рынка, воплощенное в вещах. Поэтому вторая картинка – это атрибутивная картинка.
И Это совершенно непонятно и трудно, зачем такая искусственность? Ведь наглядно вещные отношения.
Э Дело в том, что в мире деятельности мы все время имеем дело с функциями, которые реализуют вещи природы. Наше видение должно быть поэтому не только вещным, но и функциональным и его надо делать явным, для чего и служит введение специальных средств – языка, включая ЯСИ.
И Понятно теперь. Но трудно отойти от видения вещей.
Э Когда мы ввели товар – вещь на рынок, то возникает вопрос (одно из затруднений) о количественной эквивалентности обмена Т –1 на Т-2. Одному Т-1 кажется, что достаточно обменять Т-1 на 5Т-2, а другому – нет. Должны быть какие-то основания снятия затруднения. Они могут либо быть конвенциальными – сторговались, либо иметь объективное основание. Этим основанием и выступает их произведенность, связанная с затратами труда. Производство выступает в качестве определяющего N (норму) обмена (величину МС) и через это отношения между Т-1 и Т-2
И Мы говорим то о ПС и МС как об вещах совершенно новых. На самом деле они не что иное как та же вещь- товар.
Э Как Вы видите, необходимость обозначений диктуется переходом к предметному анализу. Но если ПС неотличима, почти, от внешности, то МС вообще не интерпретируется. Это – отношение вещей на рынке (обменность). Это свойство рынка, воплощенное в вещах. Поэтому вторая картинка – это атрибутивная картинка.
И Это совершенно непонятно и трудно, зачем такая искусственность? Ведь наглядно вещные отношения.
Э Дело в том, что в мире деятельности мы все время имеем дело с функциями, которые реализуют вещи природы. Наше видение должно быть поэтому не только вещным, но и функциональным и его надо делать явным, для чего и служит введение специальных средств – языка, включая ЯСИ.
И Понятно теперь. Но трудно отойти от видения вещей.
Э Когда мы ввели товар – вещь на рынок, то возникает вопрос (одно из затруднений) о количественной эквивалентности обмена Т –1 на Т-2. Одному Т-1 кажется, что достаточно обменять Т-1 на 5Т-2, а другому – нет. Должны быть какие-то основания снятия затруднения. Они могут либо быть конвенциальными – сторговались, либо иметь объективное основание. Этим основанием и выступает их произведенность, связанная с затратами труда. Производство выступает в качестве определяющего N (норму) обмена (величину МС) и через это отношения между Т-1 и Т-2
 И Простите, но именно рынок определяет производство. Не было бы рынка – не было бы и деятельности.
Э Генетически да. Но характер отношений нами рассматривается при снятии генезиса, т.е. в функционировании.
И Это и непонятно, ведь все равно рынок определяет, он остается сам по себе:
И Простите, но именно рынок определяет производство. Не было бы рынка – не было бы и деятельности.
Э Генетически да. Но характер отношений нами рассматривается при снятии генезиса, т.е. в функционировании.
И Это и непонятно, ведь все равно рынок определяет, он остается сам по себе:
 Э Разве рынок диктует, сколько затратится труда на производство товара.
И Нет.
Э А затраты влияют на то, как будут обмениваться два человека.
И Да.
Э Следовательно, рынок определяется производством.
И Но на рынке люди могут переиграть и выйти за стоимости.
Э Это да. При нетеоретическом анализе, возможность эта предполагается в теории, т.е. не только С и МС, но и ПС, следовательно, может быть не отличена от просто вещи и поэтому сняв все требования сравнимости вещей с точи зрения деятельности. Но это при обратном движении от полноценного товара к его предыстории, возврат в начало (методическое). Иначе, исторически Вы правы, а в синхронии – нет. Появилась деятельность – все перевернулось.
Э Разве рынок диктует, сколько затратится труда на производство товара.
И Нет.
Э А затраты влияют на то, как будут обмениваться два человека.
И Да.
Э Следовательно, рынок определяется производством.
И Но на рынке люди могут переиграть и выйти за стоимости.
Э Это да. При нетеоретическом анализе, возможность эта предполагается в теории, т.е. не только С и МС, но и ПС, следовательно, может быть не отличена от просто вещи и поэтому сняв все требования сравнимости вещей с точи зрения деятельности. Но это при обратном движении от полноценного товара к его предыстории, возврат в начало (методическое). Иначе, исторически Вы правы, а в синхронии – нет. Появилась деятельность – все перевернулось.
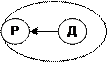 И Это ясно стало. Трудно развести эти слои:
· генетический;
· функционарный.
Глядится та же объективность совершенно иначе, мешается.
Э До сих пор мы обходились двумя товарами. Предположим, что первый человек не может ждать. Пока В-1=Т-1, испортится и хочет вступить в обмен, но еще не знает, на что именно меняться. Так как на что-то меняться надо, то выходом выступает обмен на товар, который не меняется в течении долгого времени. Этот особый товар назовем Т-хх (например, золото), т.к. нужен не он сам по себе. А другой Т-2 = В-2, то "естественный" процесс обмена:
И Это ясно стало. Трудно развести эти слои:
· генетический;
· функционарный.
Глядится та же объективность совершенно иначе, мешается.
Э До сих пор мы обходились двумя товарами. Предположим, что первый человек не может ждать. Пока В-1=Т-1, испортится и хочет вступить в обмен, но еще не знает, на что именно меняться. Так как на что-то меняться надо, то выходом выступает обмен на товар, который не меняется в течении долгого времени. Этот особый товар назовем Т-хх (например, золото), т.к. нужен не он сам по себе. А другой Т-2 = В-2, то "естественный" процесс обмена:
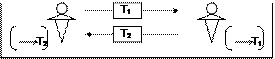 заменяется (сокр.):
заменяется (сокр.):
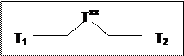
| |||
▲ Абстракции " не реальны"
▲ Опосредствование познания
Задержка на фазе Р
▲ Средственность используемых средств
▲ Необходимость подтверждения (функция средств)

| С одной стороны:
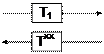 С другой стороны:
С другой стороны:
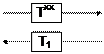 Эти процессы одинаковые и равны прежним с т. зр. прежних критериев, но они являются опосредствующими в каждом - человек удовлетворен лишь наполовину.
Следовательно, Тхх занимает неравное место с Т, что и выразим:
Эти процессы одинаковые и равны прежним с т. зр. прежних критериев, но они являются опосредствующими в каждом - человек удовлетворен лишь наполовину.
Следовательно, Тхх занимает неравное место с Т, что и выразим:
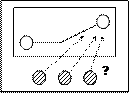 Это различие и является функциональным. Должны быть те вещи – товары, которые могли бы играть ту или иную роль. Кто займет место Тхх?
В обычных отношениях обмена это разделение встречается, т.к. с точки зрения одного из товаров другой важен лишь постольку, поскольку дает возможность реализации: свойство Т быть в МС и С.
И Место и наполнение места, это все нереальные рассуждения. Место – это абстракция, а наполнение – лишь тот или иной товар. При говорении бог знает, что можно вводить, но какое это значение имеет для анализа реальных событий.
Э Эти абстракции реальны, т.к. благодаря их свойствам одни реальные отношения преобразуются в другие, если мы абстракциями отразили то, что есть?
Э Итак, общая картина нами получена: на материале текста автора: Это различие и является функциональным. Должны быть те вещи – товары, которые могли бы играть ту или иную роль. Кто займет место Тхх?
В обычных отношениях обмена это разделение встречается, т.к. с точки зрения одного из товаров другой важен лишь постольку, поскольку дает возможность реализации: свойство Т быть в МС и С.
И Место и наполнение места, это все нереальные рассуждения. Место – это абстракция, а наполнение – лишь тот или иной товар. При говорении бог знает, что можно вводить, но какое это значение имеет для анализа реальных событий.
Э Эти абстракции реальны, т.к. благодаря их свойствам одни реальные отношения преобразуются в другие, если мы абстракциями отразили то, что есть?
Э Итак, общая картина нами получена: на материале текста автора:
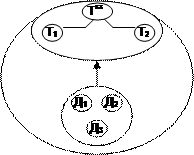 И А почему Д-1, Д-2, Д-3 не введены в отношения? Ведь по ЯСИ надо обязательно, т.к. иначе это необъектная схема.
Э Дело в том. Что мы не подтвердили текстом автора наличие отношений и их определенность. Тем самым мы рисуем дважды – в рамках требований нашего языка:
И А почему Д-1, Д-2, Д-3 не введены в отношения? Ведь по ЯСИ надо обязательно, т.к. иначе это необъектная схема.
Э Дело в том. Что мы не подтвердили текстом автора наличие отношений и их определенность. Тем самым мы рисуем дважды – в рамках требований нашего языка:  , и другой раз – в рамках подтверждения текстуальными , и другой раз – в рамках подтверждения текстуальными  . содержаниями: И этим снимаем некоторые содержания. . содержаниями: И этим снимаем некоторые содержания.
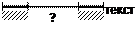 И Понятно.
И Понятно.
| |||
| ▲ Задержка на том, что было, при работе с тем, что сейчас (не видит ¹) ▲ Формальность переноса ▲ Сомнение ® возврат ▲ Надо имитировать вопрос ▲ формальность разложения и выражения его ▲ Неадекватность изображения мысли | Э Скажите, рассуждение о деньгах дает что-то новое в наши СИ?
И Ничего нового, кроме того, что вместо Тхолста – Тденьги.
Э Не совсем. Когда говорится о холсте, то имеется в виду любой товар, который может выполнить функцию Тхх, а когда о деньгах – то особенный товар в этой функции, который "сливается" с функцией, т.е. есть тождество, но есть и отличие. Прежние рассуждения (=) не дали вам увидеть (¹)
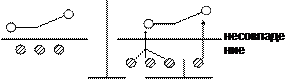 И Почитаем вновь: "всеобщий эквивалент не обладает общим…". "Товар находится форме всеобщего эквивалента лишь тогда, когда выталкивается из среды".
Э Текст: "когда товар выталкивается всеми другими товарами из среды", что означает "выталкивание" здесь?
И Тк – не похож на остальные.
Э Как выразить непохожесть?
И Отношение этого товара
И Почитаем вновь: "всеобщий эквивалент не обладает общим…". "Товар находится форме всеобщего эквивалента лишь тогда, когда выталкивается из среды".
Э Текст: "когда товар выталкивается всеми другими товарами из среды", что означает "выталкивание" здесь?
И Тк – не похож на остальные.
Э Как выразить непохожесть?
И Отношение этого товара  к другим иное, чем у других. Или: к другим иное, чем у других. Или:
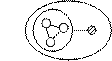 Э Вы в "чистой" форме выделяете Тк как "иное":
Э Вы в "чистой" форме выделяете Тк как "иное":
 Затем говорите об иных отношениях, но это не выражено. Вместо этого вы вводите отношение Тк с иными. В чем инаковость отношений? Формально, невольно может быть, Вы выделили отношения между другими Т –
Затем говорите об иных отношениях, но это не выражено. Вместо этого вы вводите отношение Тк с иными. В чем инаковость отношений? Формально, невольно может быть, Вы выделили отношения между другими Т –  , введя в целостность Вы замкнули и исключили иные подобные варианты, все остальное – вне. Но явно инаковость не введена.
Гораздо проще – , введя в целостность Вы замкнули и исключили иные подобные варианты, все остальное – вне. Но явно инаковость не введена.
Гораздо проще – 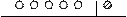 .
Изоляция и ее основание предопределенность места в функциональной структуре: .
Изоляция и ее основание предопределенность места в функциональной структуре:  . .
| |||
▲ Не выделяет плоскостные содержания (не разлагает). Особенное нормативное (функциональное)
▲ Содержание Р не отделяется от Р S и чаще от S( PS)
▲ Нисхождение на СИ – результат
▲ Зрительно упрощая
 ▲ Упрощая, не тематизирует (по N, а не вообще)
▲ Не видят детали перехода
▲ Упрощая, не тематизирует (по N, а не вообще)
▲ Не видят детали перехода
| Э Мы увидели, что рынок развивался, и N его были различны. Давайте по восхождению (нисхождению) снимем определенность max развитой N. Какая у нас max развитая N рынка?
И Товар обменивается на эквивалент, товар через посредство Тхх.
Э Введите рынок как объект явно и там выделите нормативное содержание.
И В этом СИ уже все есть: неравенство членов обмена и др. Норма там уже есть. Как ее выделить?
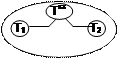
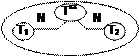 Э Как выделить проекционно-нормативное содержание?
И Оно есть, а как выделить. Не знаю.
Э А что в N (норме) присутствует?
И Требования к товарам и их отношениям.
Э Что это значит?
И Что товары должны обмениваться так то и так то.
Э Следовательно,
Э Как выделить проекционно-нормативное содержание?
И Оно есть, а как выделить. Не знаю.
Э А что в N (норме) присутствует?
И Требования к товарам и их отношениям.
Э Что это значит?
И Что товары должны обмениваться так то и так то.
Э Следовательно,
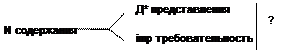 И Да.
Э Выделите картину будущей деятельности на рынке.
И Но получится то же, что и было.
И Да.
Э Выделите картину будущей деятельности на рынке.
И Но получится то же, что и было.
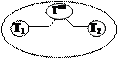
И Да, пожалуй. Э А теперь давайте снимать специфику этого нормативного представителя. Что нужно снять прежде всего? Какое свойство? И Вместо трех членов – два сделать. Э Но если эти два подчиняются той же норме, то ничего нового. И Тогда неравенство ролей устранить.
Э Правильно. А как рынок тогда изменится? Будут ли ступени? И Тогда будет два рынка.
Э Перескочили. Сначала:
Норма осталась прежней, а в роли Тхх – Т3 Затем: двойные отношения:
и наконец:
| |||
| ▲ Результат используется для квалификации (новое: "=" и "–") | Генезис рынка Э Почитайте текст и найдите новое к ранее рассматриваемому. И Я читал и не нашел. Лишь исторические экскурсы, а теоретически ничего нового. Э Типы обращения к СИ: · для подтверждения текста; · для опровержения текста. | |||
| ▲ На объективный вопрос ответ не объектный (сразу в Р), а не на S) ▲ Не соотносит главное и тематизм ▲ Использование СИ как результата для поиска нового содержания ▲ Проецирование на части текста, не учитывая другие части ▲ Вхождение в контекст ▲ Сведение к прежнему и решение задачи |
"Вещь формально может иметь цену, не имея стоимости".
Э Является ли это содержание дополнительным к прежнему?
И Этого не было в СИ.
Э Надо сначала отвечать в объектном модусе, т.е. рассматривать СИ как объект и содержания текста, как объектные.
И Этого в объекте не было.
Э Что нужно делать тогда с новым текстовым материалом?
И Разобрать предложение логически, рисовать СИ, соотнести с имеющимся СИ.
Э Что значит разобрать логически?
И Использовать логическую схему S–P и выделить главное содержание.
Э Что значит "главное"? По отношению к чему?
И По отношению к другим предложениям.
Э Нет, все – по отношению к теме. Главное – это исходное содержание Р, по сравнению со вторичным.
Сначала надо было увидеть в содержании текста то, что у нас уже было или соотносимо с тем, что было. Что означает – "не имея стоимости"?
И Значит, не имеется производства.
Э Рынок при этом поменялся?
И Нет.
Э Почему?
И Просто "отрезали" деятельность.
Э В рамках этой части текста "не имея стоимости" мы обязаны изменить и рынок:
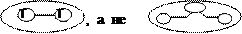 .
И Да, пожалуй.
Э А что означает "имея цену" в соотнесении с нарисованным?
И Что ему (Т) назначили стоимость.
Э А в рамках формы рынка?
И Не знаю, как ответить.
Э Что рынок подвергается более развитым формам, несмотря на статус ЕД.
И Так в этом и суть "формально".
Э Именно. .
И Да, пожалуй.
Э А что означает "имея цену" в соотнесении с нарисованным?
И Что ему (Т) назначили стоимость.
Э А в рамках формы рынка?
И Не знаю, как ответить.
Э Что рынок подвергается более развитым формам, несмотря на статус ЕД.
И Так в этом и суть "формально".
Э Именно.
| |||
▲ Свою деятельность "не видит", интенция на объект

| Э Вы сказали, что "можно ошибиться, в какой позиции работал автор (Маркс)". Это ситуация вашей работы или автора?
И Подразумеваю две ситуации: для меня и для "автора".
Э А говоря так – Вы имеете какую ситуацию?
И Имею в виду деятельность автора … Нет, пожалуй, наша. Но мы касаемся автора.
Э А как относятся эти ситуации к вашей деятельности?
И Я думаю, на материале текста, о деятельности автора и тогда о деятельности Маркса.
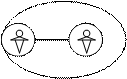 Вы в позиции автора – заимствуя его Вы в позиции автора – заимствуя его
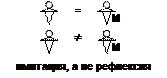
| |||
| ▲ Ответ на вопрос ▲ Смещение цели на способ ее достижения ▲ Испытуемый не различил признаки Р и характеристики S при использовании понятия в процессе составления списка | Тема: ОТЛИЧИЕ ВСЕОБЩЕГО ЭКВИВАЛЕНТА ОТ ДЕНЕГ Э Какова цель нашей работы? И Сначала охарактеризовать Т-деньги и Т-эквивалент (1), затем сравнить их (2). Э Но это уже о процессах. А не о цели. | |||
| Различение N и реализованной N понятия | И Но говорим мы о понятии или понятии цены? Э Говорим о понятии и о понятии цены, но только раздельно: норма и ее реализация на материале. Р и Рц. | |||
 ▲ Не полностью описывает то, что изображено
Вопрос "ЧТО?" к СИ, а ответ отсылает к словарю, т.е. «выход» из объекта
▲ Не полностью описывает то, что изображено
Вопрос "ЧТО?" к СИ, а ответ отсылает к словарю, т.е. «выход» из объекта
▲ Чистое описание СИ | Э Вы нарисовали, используя то, что было раньше:
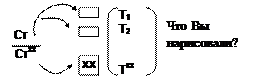 И Это отношение переменного к постоянному.
Э Чего переменного к чему постоянному?
И Соотношение овеществленного труда к …
Э Вы нас отсылаете к словарному содержанию, а мы просим опираться на имеющиеся СИ.
И Тогда так: Я ввожу указание на использование языка графики (на содержание, а не сам язык). Содержанием выступают стоимости. Отличие компонентов в том, что нижний предопределен в отношении к товару всеобщему, а верхний – ко множеству товаров, точнее – к одному из множества.
Э Вы говорите только о форме СИ.
И Это отношение переменного к постоянному.
Э Чего переменного к чему постоянному?
И Соотношение овеществленного труда к …
Э Вы нас отсылаете к словарному содержанию, а мы просим опираться на имеющиеся СИ.
И Тогда так: Я ввожу указание на использование языка графики (на содержание, а не сам язык). Содержанием выступают стоимости. Отличие компонентов в том, что нижний предопределен в отношении к товару всеобщему, а верхний – ко множеству товаров, точнее – к одному из множества.
Э Вы говорите только о форме СИ.
| |||
| ▲ Абсолютизация терминов вне их использования (мистика знаковая) | И Я забыл. Что означает слово "стоимость"? Э Имеете в виду понятие "стоимости"? И Нет. Термин как таковой. Э Но термин не имеет значения, вне способа употребления. | |||
| ▲ Мысль неадекватно выражена ▲ Ответ не на те вопросы | Э Маркс говорит: " Цена – денежная форма товаров", раскройте это содержание, исходя из введенной формулы
 И Мы уже разбирали это. В другой форме зарисовали.
Э Вместо ответа, Вы ссылаетесь на прежнее решение, тогда как надо ответить, а потом соотнести с прежним.
И Я имел ввиду сравнение, точнее – создать унифицированный вариант.
Э Тогда содержание мысли не выражено адекватно – необъективное мышление.
И Мы уже разбирали это. В другой форме зарисовали.
Э Вместо ответа, Вы ссылаетесь на прежнее решение, тогда как надо ответить, а потом соотнести с прежним.
И Я имел ввиду сравнение, точнее – создать унифицированный вариант.
Э Тогда содержание мысли не выражено адекватно – необъективное мышление.
 Э Итак, мы установили, что Ц и С связаны друг с другом. Как именно?
И Эта связь иная, чем та, которая нами была ранее установлена.
Э Отвечаете на другой вопрос, я о связи, а Вы о разнообразии ответов.
Э Итак, мы установили, что Ц и С связаны друг с другом. Как именно?
И Эта связь иная, чем та, которая нами была ранее установлена.
Э Отвечаете на другой вопрос, я о связи, а Вы о разнообразии ответов.
| |||
| ▲ Несоразмерные части воедино Лингвистическая установка – все иметь на одном Нет объектного расслоения ▲ При вопросе к СИ отвечает за пределами СИ ▲ В рамках СИ не работают, дополняют своим | Э Связь Ц и С хотите нарисовать?
И Да.
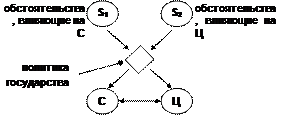 Хотя я изменю рисунок:
Политика влияет на отношения, а не на части. "С" не зависит от политики, а "Ц" зависит и связь зависит.
Хотя я изменю рисунок:
Политика влияет на отношения, а не на части. "С" не зависит от политики, а "Ц" зависит и связь зависит.
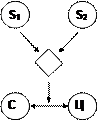 Э Но тогда нет явного указания на то, что Ц зависит и связь зависит.
И Тогда, пожалуйста: Э Но тогда нет явного указания на то, что Ц зависит и связь зависит.
И Тогда, пожалуйста:
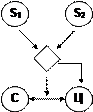 Э А S1 и S2 влияют на политику?
И В какой-то мере, хотя в третьем утверждении об этом говорится.
Э Вы отвечайте на вопрос к схеме, а обо всем остальном забудьте.
И Все-таки учитывать влияние государства на С надо:
Э А S1 и S2 влияют на политику?
И В какой-то мере, хотя в третьем утверждении об этом говорится.
Э Вы отвечайте на вопрос к схеме, а обо всем остальном забудьте.
И Все-таки учитывать влияние государства на С надо:
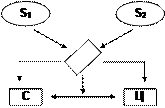 Э Имея СИ, какие будут вопросы в рамках СИ?
И Как С и Ц влияют на S1 и S2? Не отражено постоянство Ц и С.
Э Но это выходит за рамки СИ, вы дополняете своим.
Э Имея СИ, какие будут вопросы в рамках СИ?
И Как С и Ц влияют на S1 и S2? Не отражено постоянство Ц и С.
Э Но это выходит за рамки СИ, вы дополняете своим.
| |||
| ▲ Описывает СИ не полностью | Э Что мы имеем в результате?
И:
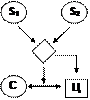 Э У нас была формула:
Э У нас была формула:  . Как учесть с помощью СИ постоянство С и переменность Ц?
И Это уже учтено: . Как учесть с помощью СИ постоянство С и переменность Ц?
И Это уже учтено:
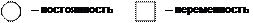 Э А почему это Вы нам не сказали?
И Вы не спрашивали.
Э Но, имея СИ, Вы должны его описать.
Э А почему это Вы нам не сказали?
И Вы не спрашивали.
Э Но, имея СИ, Вы должны его описать.
| |||
| ▲ Часть содержания не выражена, не следует правилам ЯСИ | Э Что мы имели?
И Связь между Ц и С.
 Э Но если связь Вы вводите (отношения) и рассчитываете трактовать объектно, то должен быть знак целостности:
Э Но если связь Вы вводите (отношения) и рассчитываете трактовать объектно, то должен быть знак целостности:
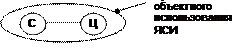
| |||
| ▲ Порядок (логики восхождения) не соблюдается полностью ▲ Нарушение правил ЯСИ | Э Что дальше?
И1 Ввести обстоятельства:
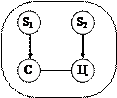 или или 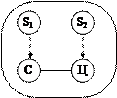 неопределенность отношений (пунктирные стрелки). Как будут обстоятельства действовать – не знаю.
И2 Может быть, рассмотреть S1 и S2 вместе?
неопределенность отношений (пунктирные стрелки). Как будут обстоятельства действовать – не знаю.
И2 Может быть, рассмотреть S1 и S2 вместе?
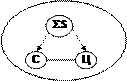 Э Да, дифференцировка обстоятельств – позднее. Но опять не соблюдаются правила ЯСИ.
Э Да, дифференцировка обстоятельств – позднее. Но опять не соблюдаются правила ЯСИ.
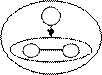
| |||
4.3 Конструирование понятий
(на примере построения понятия "экология")
Появление понятия в большинстве случаев остается интимным, плохо знакомым для большинства специалистов процессом. Все внешние требования являются известными. В частности, это касается и обобщения. Однако как себе операционально представить обобщение? Какова технология этой процедуры? При всей длительной истории обсуждений такой процедуры, образцов внешне легко замечаемого и готового к употреблению процесса мы почти не знаем. В то же время опыт мышления, в котором отслеживаются все значимые операции и операционные комплексы, имеется. В наибольшей степени такой опыт создан в Московском методологическом кружке (ММК), так как в традиции ММК законны и требуемым выступало рефлексивное сопровождение мыслительных процессов, использование критериев, вплоть до конечных оснований. Как правило, все обсуждения стимулировали дискуссии, противостояние точек зрения и приход к необходимости арбитража мыслительного противостояния. В таких условиях необходимость в понятиях была очевидной, и она порождала демонстративное построение понятий.
Однако и в ММК технологическая форма процесса обобщения, построения понятий в целом не стала достаточно определенной. Она терялась в живой полемике, и было крайне трудно собирать процедуры и операции только лишь для технологического конструирования. В одной из ветвей ММК, сосредоточившей свое внимание на обучении методологии, на формировании базы современной мыслетехники в методологической мыследеятельности, внимание к указанным процедурам стало особенно значимым.
В Московском методолого-педагогическом кружке эти вопросы не только сопровождали всю его историю (с 1978 г.), но и были исходной базой самого становления ММПК. Более конкретно такая база сформировалась на основе специального метода работы с текстами (МРТ), возникшего в 1973–1974 гг. Именно МРТ позволял свести конструирование понятий к технологически значимой форме.
В этой работе мы используем МРТ для конкретной задачи по построению понятия. В качестве исходного материала для мыследеятельности выступает ряд определений, рассуждений о сущности экологии. Этих материалов может быть значительно больше, но мы ограничились теми, которые стали доступными, и основные надежды возлагали не на отбор лучших определений, а утомительную работу с тем, кто есть по той форме работы, которая "сама" должна вести к хорошему результату.
Обсуждаемый материал воззрений, выделенный из развернутых текстов с иными целями, чем процедура введения понятия, сводится к следующему:
Первая процедура, которая нами вводится, заключается в отборе всего, что кажется нам значимым. Мы уравниваем в начале пути значимость самих цитат, частей материала, так как не знаем, что может стать значимым в самом мыслительном процессе (см. сх. 1).
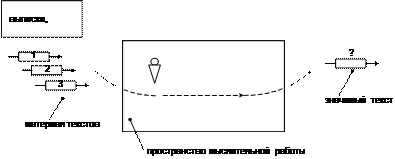
Схема 1
Мыслитель сначала читает и, на основе предшествующего опыта, выделяет в каждом фрагменте то, что кажется наиболее "сущностным". Границы части отрывка устанавливаются достаточно "интуитивно", некритериально.
В последующем недостатки вычленения преодолеются в логической фазе работы. Общей функцией вычленения выступает минимизация текстуального материала и сосредоточение внимания на том, что выражает "наиболее" существенное. Особым ориентиром и средством ограничения становится ключевое (тематическое) слово или слова. Помогающими условиями, как правило, предстают как синтаксические и грамматические отношения слов, так и смысловые связи ключевого термина с другими словами (см. сх. 2).
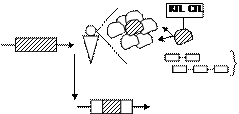
Схема 2
Возьмем для нашей работы нижеприведенные характеристики исследуемого объекта:
1. Э ("Экология") – общая наука об отношениях организмов к окружающей среде, к всем условиям существования, частично органической, частично неорганической природы.
Органические условия – общее отношение организма к другим организмам, среди которых большинство способствует его пользе или вредит и которые живут совместно на одном и том же месте. Объяснение этих явлений дает учение о приспособлении организмов к окружающей их среде, их изменении в борьбе за существование (Геккель).
Примечание: Конкретно могут быть небольшие деформации текстов, обеспечивающие обычную завершенность высказываний. Эти коррекции текстов замещают прежние целостности в рамках уменьшенного объема.
2. Э – исследование систем на уровне, когда особи могут рассматриваться как элементы взаимодействия друг с другом или со свободно организованной матрицей окружающей среды (Маргалеф).
Примечание: Некоторые материалы полностью пропускаются, если мыслительно кажется, что там не содержится ничего нового. Принцип неповторяемости характеристик совмещается с принципом рассмотрения всех материалов, как утверждающих об одном и том же.
3. Э – совокупность проблем взаимодействия общества и природы, отражающий все аспекты научного понимания действительности (Колбасов).
4. Э – рассмотрение организма не в постоянной среде, а в окружающем мире, где действуют постоянно меняющиеся силы (Плантефоль).
5. Хотя отношения организмов к среде могут лимитироваться, они никогда полностью не прерываются, коль скоро жизнь должна поддерживаться (Кюнельт).
6. Э – исследует закономерности жизнедеятельности организмов на всех уровнях интеграции в естественной среде обитания с учетом изменений, вносимых в среду деятельностью человека (Радкевич).
7. Э – наука о популяциях (Шварц).
8. Э – трансформировалась в науку о структуре природы, о том, как работает живой покров Земли в его целостности. Будущее экологии – в теории создания измененного мира (Шварц).
Примечание: Иногда пересказ иных концепций рассматривается мыслителем как положения автора, если нет условий для работы или поиска трудов самого автора. Погрешности из-за неправильного пересказа могут выявиться в дальнейшем, а также прием позволяет быстро формировать гипотетическую конструкцию понятия с возможностью и контролируемой коррекцией самой конструкции.
9. Э – становится теоретической основой поведения человека индустриального общества в природе. Регуляция численности популяции дает возможность управлять рядом процессов, не заостряя биосферу вредными веществами (Шварц).
10. Э – изучает и необратимые процессы в природной среде в результате интенсивного антропогенного воздействия, близкие и далекие последствия этих воздействий (Морачевский).
11. Э – изучает "собственный дом" – вся биосфера. Качество экологической обстановки – в соответствии с условиями, определяемыми средой, потребностями общества и здоровью населения, возможностям его стабильного существования и своего самовыражения. Деятельность рационально организованного общества должна находиться в таком русле эволюционного развития, берега которого не препятствуют, а лучше – содействуют развитию окружающей среды природы (Моисеев).
12. Э – социология растений, животных, микроорганизмов, их сочетаний (Розанов).
13. Э – наука о строении и функциях природы (Одум).
14. Э – сторона взаимодействия организмов со средой, которая обуславливает развитие, размножение и выживание особей, структуру и динамику образуемых ими популяций, структуру и динамику сообществ разных видов (Наумов).
15. Э – изучает законы функционирования экосистем, рассматривает значимую для центрального члена анализа (живой объект, субъект) совокупность природных и отчасти социальных (для человека) явлений с точки зрения его интересов.
16. Э – изучает единство организмов со средой в пределах которого осуществляется трасформация энергии и органического вещества (Федоров).
17. Э – наука о биотической навигации по реке, не имеющей ни истока, ни устья, плывя на бревнах, увлекаемых течением. Заторы, маршруты с возможностью их выбора, использование почвы, флоры, фауны (Леопольд).
18. Господство жизни над средой обеспечивается разнообразием живых существ и их взаимоотношений и координированностью биологических явлений. Богатство человеческого сообщества основано на разнообразии личностей, возможностей и интересов, соединенных духом сообщества (Дювеньо, Танг).
19. Для благополучия природы необходимо не только размножение организмов, но и их разрушение, которая дает возможность существовать другим (Линней).
20. Изучение изменений гигиенических характеристик биосферы, возникающих под влиянием человеческой деятельности (Лазарев).
Во всех выделенных характеристиках в тех или иных пропорциях представлены содержания как объекта изучения, так и исследовательские акценты. Если выделить объектные характеристики и учесть, что при создании понятия объектное содержание не носит эмпирический, наблюдаемый, созерцаемый характер ("идеальный" объект), то мы получим еще один шаг к понятию. Пока что продолжается сбор объектно значимых характеристик с установкой на их интегрируемость, совместимость. Они как бы складываются на функциональное место для текстуально выраженных характеристик идеального объекта (см. сх. 3).
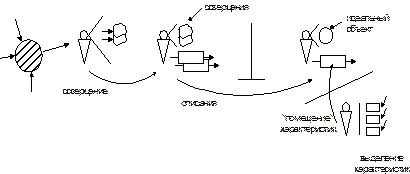
Схема 3
Приведем результаты выделения значимого:
1. Отношения организмов к окружающей среде, к условиям существования, к другим организмам, способствующим пользе или вредящим и вызывающим приспособление к среде, изменение в борьбе за существование.
Примечание: Некоторые деформации текста подчинены выделенному отрывку той формы, которая обычна для замещающего текста – повторяющего завершенность, но в новом материале текста. Кроме того, введены фокусировки внимания, представленные подчеркиванием. Это облегчает быстрое нахождение звена текста и избирательное совмещение в последующем синтезе.
2. Окружающая среда как свободно организованная матрица.
Примечание: Вновь реализуется принцип неповторяемости текста по критерию содержания с ответственностью мыслителя за правильность реализации.
3. Взаимодействие общества и природы.
4. Среда постоянно меняется.
5. Жизнь должна поддерживаться.
6. Изменения от деятельности человека.











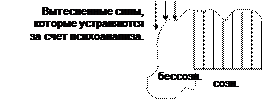



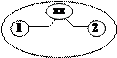
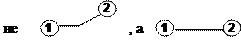

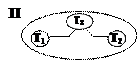
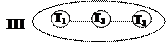 ,
,