Сознательная составляющая возникает прежде всего в использовании знаковых средств коммуникации и общения.
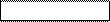 |
 бессознательное динамика образного
бессознательное динамика образного

 многообразия
многообразия
 поведение рефлексивное
поведение рефлексивное

 воздействия самопознание и
воздействия самопознание и
среды самоотношение
 | |||||
 | |||||
 | |||||
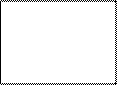 сознательная динамика
сознательная динамика
 составляющая образного
составляющая образного
 многообразия
многообразия
самосознательная
составляющая
Схема 3
Вместе с совершенствованием знаковых средств, механизма языка, способов его трансляции и приобретения языковых способностей у людей возникает языко-культурный слой модификации бессознательного интеллектуального механизма, также как и иных механизмов (чувственно-оценочного, мотивационно-потребностного и др.). Основу модификации составляет переход от конкретных образов к абстрактным, к содержаниям иного типа (не созерцательного), а затем и переход от "естественного" течения образов к логически оформляемым переходам от содержания к содержанию, к "оискусствлению" этого процесса. Это требует уже подчиненности "внешним" (культурным) требованиям к содержательному манипулированию. Для реализации необходимости человеку следует формировать основание произвольности манипулирования и соответствия требованиям – "Я" или самосознание, его и познавательного, и корректировочного (рефлексивно-корректировочного) бытия.
Итак, мышление первоначально связано с течением образов и их использованием в организации действия. Затем оно усложняется трансформационными возможностями, выражающимися в структурировании образов и параллельным существованием имитационных и структурированных образов, совмещением положительных следствий параллелизма и отрицательных следствий параллелизма. На следующий стадии происходит вмешательство языковых систем, которые направляют трансформацию и структурирование в русло построения абстракций и их объединений. Вместе с этим возникает сервис сознания, а затем – самосознания, внутреннее структурирование управленческого (рефлексивно-самоорганизационного) звена психики – "Я".
Рефлексивные функции порождают три базовые формы мышления – отражающее, проблематизирующее и депроблематизирующее. Однако все они до использования языка, возникновения сознания и самосознания, придания самокоррекции организованного и социокультурно значимого характера являются лишь предпосылками того, что мы называем проблема, задача, норма (включая норму процесса и результата – цель). Так как вместе с использованием (и историческим порождением, совершенствованием) языка, совершенствованием организации мыслекоммуникативного процесса и механизма меняется сама форма отражения, проблематизации и депроблематизации и их морфология, то можно указать общую схему прихода к задаче и проблеме, к более общим типам норм (стратегия и др.).
В мыслекоммуникации самой по себе, как в "механизме" рефлектирующего мышления выделяются позиции автора, понимающего, критика и арбитра, а также – организатора, совмещающего основные позиции. Оперирование средствами языка, знаками и скрепленными с ними значениями приводит к возможности задавать вопросы на понимание, а затем и критические, арбитражные вопросы. Более того, сама позиция арбитра требует средственного обеспечения в сравнивающем оценивании противостоящих сторон – автора и критика. Поэтому именно арбитражная позиция является порождающей основные возможности языка – обобщение, абстрагирование, парадигматизация, выделение общих правил оперирования абстрактными средствами. Если средств языка не хватает для обслуживания эффективной полемики, то они дополнительно строятся в арбитражной коммуникативной позиции. Поэтому сам механизм коммуникации использует и совершенствует, усиливает возможности языковых средств, а затем и трансформации сознания, самосознания, рефлексивной самоорганизации.
При арбитражном обслуживании понимания или "отражения" в условиях коммуникации появляются вопросы, так как для введения вопросов необходимы абстракции. Ответы на вопросы суть конкретные аналоги вопросов и между конкретными и абстрактными содержаниями мысли устанавливается соответствие.
Вопросы на "допонимание" являются предшественниками задач и задачной формы мышления, а затем и проблемной формы мышления. Проблемная форма внутри коммуникации обслуживает критику автора, а затем и переход к депроблематизации – введения иной, более совершенной точки зрения. Тем самым, как и в устройстве рефлексии, в коммуникации оформляются позиции и отражения, и проблематизации, депроблематизации. Но арбитражная позиция приводит в рефлексивной коммуникации к появлению дополнительной рефлексивной функции – концептуализации, построения обобщенного заместителя как средства, организующего реализацию функций проблематизации и депроблематизации, а затем и функции отражения. Это инструментально-интеллектуальная, средственно-критериальная функция. Она ведет к приданию рефлексии, а затем всему интеллектуальному обеспечению действий, культурной формы. Поскольку проблематизация опирается не только на сопоставление, но и оценивание содержаний, а интеллектуальная оценка связана с мотивационно-потребностной оценкой со стороны "Я", то применение концепций (абстрактного выражения ситуации) порождает переход к охватывающей и в пределе – мировоззренческой концепции, а затем к абстрактным значимостям – ценностям как средствам мотивационно-потребностного оценивания в структуре рефлексии. На этой базе появляются переходы от первичной к высшей мотивации, от стихии появления мотивов к самоопределению.
Иначе говоря, "задачи" опираются на такое использование абстракций, когда вопрос о действии, уже имеет своим содержанием форму (способ) действия и требуется найти ей "содержание", ответ как конкретизацию способа действия в натуре самого действия. При постановке проблемы вопрос содержит более общую форму действия и "конкретизация" формы происходит за счет введения тех конкретных нормативных содержаний, которые можно реализовать в действии. Поскольку проблематизация всегда происходит в ходе анализа ситуации, а ситуация включает предшествующие действия и их недостаточность, неэффективность, приостанавленность из-за затруднений и т.п., то содержание проблемного вопроса – акцентуированно-локальное, предполагает поиск иных конкретных нормативных содержаний в части структуры прежней нормы, прежней задачи. Проблематизация сводится к ответу та технологические вопросы – что оставить в прежней норме, что устранить, что добавить или детализировать к прежнему в норме? Структурно полная проблематизация ведет либо к построению "совершенно иной" по содержанию нормы, либо к переходу к более абстрактному ее выражению с умыслом замены прежней конкретности новой с "сохранением" абстрактной базы (путь к стратегиям как абстрактным проектам деятельности).
Особую роль в мышлении играют "объектная содержательность" и "причино-следственная цепь" в объектно-средовых отношениях. Они нужны и в познании, и в проблематизации, и в прогнозировании, и в нормировании. Психика так устроена, что она может иметь представленность "внешнего" в себе только в замещении. Поэтому даже имитационный образ объекта суть результат "самостроительства". Активность органов чувств и оставление следов этой активности является предпосылкой познания. Однако чтобы использовать эти следы "содержательно" или как отражения объектов, необходимо иметь свойство принятия следов за сам объект ("предметность образа восприятия"). Тем самым, следы собственной активности принимаются за внешнее, "принадлежащее" объектам – объективация и она всегда заместительна в познании (не в проектировании и прогнозировании).
Когда следы имитационного реагирования еще и организуются, структурируются, то это тем более создание своего результата, в рамках возможностей структурирующего механизма, в его досознаваемых и сознаваемых формах. Объективация структуры – также заместительна (см. сх. 4).
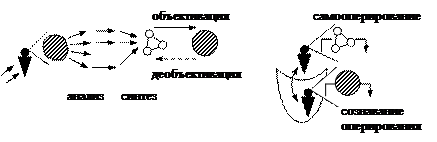 Схема 4
Схема 4
Объективация структуры следов имитации, также как объективация структуры языкового конструкта, позволяет оперировать структурой как объектом в пределах сознания и сопоставлять новые следовые фиксации, новые образы с прежним как сопоставление объектов. Сознавание состоит как раз в рефлексивном опознавании этих "объектов". Сознаваемость изменений в "объектах" и их зависимость от самой мыслительной активности в "трансформациях" и "траекториях" объектов является основой сознавательного бытия. Но тогда возникает вопрос об "устройстве" объекта, характере его отношений с другими объектами, со средой. Этот вопрос обращает внимание на детерминированность изменений, влияние внешних и внутренних факторов на бытие объектов (см. сх. 5).
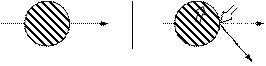
Схема 5
Этот принцип распространяется на целое и часть объекта, на целое и часть среды и т.п. Само воздействие и последующее изменение бытия (состояния, структуры, траектории и т.п.) опосредствованы реагированием (внутренним) в зависимости от специфики устройства объекта и, в частности, чувствительности к воздействию. И тогда оформляется принцип "каузальности" – зависимости последствий от причин. Но точнее его нужно назвать принципом "объектной каузальности", так как одно и то же воздействие вызывает различные последствия, реагирования в зависимости от устройства объекта и внутренних процессов.
И при познании внешней реальности, и при рефлексивном познании общая "картина" не сводится к объектной структуре, так как вмешивается огромное количество сопровождающих воздействий и обстоятельств, внутренних и внешних. Это же сохраняется в мыслекоммуникации и в рефлексивной коммуникации. Различная мера объектности сопровождает использование массива образов и их ассоциаций, влияя на характер использования. Даже в процессе понимания высказываний появление потребности в объектной и объектно-каузальной реконструкции является одной из перспектив в мышлении. В то же время решение задач, постановка задач и проблем, формулирование вопросов, конструирование понятий, теорий, создание стратегий, проектирование технологий и т.п. подводят к прямой необходимости объектно-каузальной ориентации в мышлении. Чаще всего такое приближение к объктности и каузальности связано с контролируемым переструктурированием, когда требуется надежность в организации поиска ответа на содержательный вопрос.
Мышление, в его коммуникативном и рефлексивном вариантах, интегрирует участие всех типов "познавательных", интеллектуальных и не только интеллектуальных механизмов психики. Но одни обслуживают прежде всего базовый процесс изменений в цепи образов, а другие – обсуживают самоорганизацию, единость управления мыслительным процессом, приданием ему формы "квазидеятельности" (решения задач) или деятельности (мыследеятельности). Поэтому можно говорить о мышлении, осуществляемом "Я" в той или иной мере его подчеркнутости (бытии в "центре" или на "периферии").
Вместе с применением языка и созданием коммуникативных форм протекания "единого" мышления целостность формы, начинает реализовываться многими участниками, реальными и потенциальными. Физические границы мышления легко переходят границы отдельного человека, его сознания и самосознания, его "Я". Напряжение мысли, длина ее траектории, эффективность, структурная сложность и др. предполагают распределение всех внутренних и внешних мыслительных функций и специализацию участий в едином мыслительном процессе. Мышление вовлекает многих, вытесняет некоторых из них, меняет свой человеческий состав, но не может протекать без людей. Появляется коллективное сознание и самосознание, чувства и воля и др.
2.3 Символы, схемы и мышление
Основная проблема интеллектуальной самоорганизации состоит в рациональном привлечении "внешних" средств для преодоления инерции и недостатков внутренней динамики всвязи с решением интеллектуальных задач и проблем. Применение знаковых средств языка недостаточно эффективно, так как содержательная сторона их применения, оперирование значениями остается вне прямого контроля мыслителя и всегда нужен внешний источник организации, внешний организатор, в роли которого выступает либо понимающий, либо критик, либо арбитр, либо собственно организатор коммуникации и рефлексивных процедур. Однако и их воздействие в содержательном плане тоже достаточно косвенно. Все "содержания" остаются в сознании, а самоотношение с их представленностью в сознании – интимно и слито с бытием мыслителя. Тем самым, остается проблема натурального вывода вовне содержаний, находящихся "внутри" сознания и совмещения внутренних процессов и манипулирования с внешней выраженностью содержаний. Если знаки уже утеряли "изобразительность, то схемы, символы – сохраняют эту непосредственную, извне замечаемую и удобную для конструктивного вмешательства, коррекции и манипулирования представленность содержаний.
Поэтому приведем ряд идей, касающихся свойств этих дополнительных средств мышления.
Таблица 3
Схемы и символы
| Автор | Высказывание |
| Кузанский | Без символических образов не приблизиться к божественному. Ищущему неведомое надо опираться на ведомое. Символы ведут за переделы уподобления и помогают слабому уму |
| Кант | Схема в сознании воспринимает класс объектов, подходящих под понятие. Она – априорное, форма явлений, способ соединения чувственности и рассудка, способ, которым воображение доставляет образ понятию. Это – продукт способности воображения, касающегося не единичного. Схематизм – искусство сокровенное. Схема выражает категорию и синтезирует по правилу единства. Синтез – первое, на что обращено внимание, чтобы судить о происхождении знания. Схема не может существовать нигде кроме мышления и обозначает правило синтеза способности воображения. В основе чувственных понятий не образы, а схемы |
| Фихте | Способность синтеза ведет к объединению противоположного, к мысли о едином. Созерцание – это продуктивная сила воображения, колебание духа между противоположностями, удерживая их. Это колебание идет вместе с борением с собой. Через Я входит порядок, гармония в бесформенную массу |
| Гегель | Символ – это чувственный элемент и в нем истина еще не раскрыта. Понятие постигается лишь духом. Его определенность (символа) является тем содержанием, которое он выражает. Символ не равен знаку, так как его (символа) внешняя форма заключает в себе содержание, непосредственно соединяя чувственное и всеобщее. Мышление приводит весь материал чувств в единство, придавая ему форму. Символ – максимально годен вызвать намекающее на понятие. Фигуры – неподатливый материал для выражения мысли. Они просты и это малоудовлетворительно |
| Соссюр | Символ – не до конца произволен, не вполне пуст. Он редуцирует связь означающего и означаемого |
| Сепир | Символы постепенно теряют внешнюю связь с тем, что они замещают |
| Леви-Брюль | Языки низших обществ выражают представления, также как и в восприятии. Воспринимаемое рисуется |
| Зинченко | Главное условие возникновения способности к манипулированию образами это дифференцировка на вещь изображаемую и изображающую. Предметные модели объектов ведут к символическим замещениями. Мнемонические схемы условно показывают структуру и динамику объектов, отображают связи с другими объектами, помогают быстро обнаруживать дефекты. Они выступают видимым значением объектов. В зависимости от задач число признаков уменьшается, что-то исключая, дополняя |
| Гамезо | Условные схематические образы продукт аналитико-синтетической деятельности мышления. Информация дается систематично, обобщенно, структурированно. Они выполняют функции замещения объектов, действий с ними для появления новой информации, вскрытие характеристик объектов. Знаковая сила их предполагает воспроизведение, интерпретацию, владение алфавитом. Схема – изобразительная модель для выявления и описания умственных действий, контроля, выработки предположений. Они позволяют строить цепь рассуждений и контролировать работу. Знаковое моделирование материализует, экстериоризует психические процессы, помогают усвоению нового материала, создает условия для наблюдения и фиксации хода мысли, влияния на нее |
| Коршунов Мантатов | Символы схватывают сущность абстрактного объекта, придают ему чувственную, наглядную форму |
| Уваров | Символ – это преобразование материального в идеальное и наоборот, сохраняющее схожесть с объектом. Он выражает недоступное чувственному созерцанию, чувственно оформляет зарождающиеся идеи, упорядочивает, выявляет сущность, используется для порождения новых идей в проблемных ситуациях |
| Ибраев | Изображение сохраняет подобие, но не условное, а искусственное |
| Салмина | Схемы, раскрывающие сущность и опора в умственных действиях, условно символичны, отражают структуру объекта. Они кратки, легко обозримы, раскрывают информацию, фиксируют |
| Якиманская | Образ, рожденный при натуральном моделировании, условно-графическом изображении, знаковом моделировании, зависят от наглядной основы и требований деятельности |
| Садовяк Свердан | Схемы, структурно-логические, дают четкое отображение, взаимосвязанность, целостность. Они требуют полноты, устойчивости, гибкости, наглядности, компактность, понятность |
| Розин | Схемы используются в функциях модели (репродуктивной) и предписания, организующего деятельность. Чтение схемы, при использовании ее как модели, меняется. Схема – гипотеза о строении объекта |
| Дридзе | Схемы опираются на выделение смысловых узлов |
| Менчинская | Схема – наглядна, освобождает от помех, обнажает. Преобразование геометрических фигур подготавливает понятийную регуляцию в мышлении |
| Орестов | Симультанное опознание предваряется фиксацией "центров" объектов |
| Обухова | Схема выступает объектом анализа, средством ориентировки. Схематизация ситуации опирается на выделение объектных частей. Схема выражает отношения объектов, соответствующие понятию |
| Гальперин | Схемы действий и схемы как средства ориентации выделяют свойства, которые ведут к решению задач. Развитие мышления определяется образованием базальных оперативных схем мышления |
| Гурова | Образная логика формирует форму решения задач, свободу ориентации в ситуации решения задач и внезапное нахождение решения. С помощью схем "сгущается" информация, усматриваются сквозные логические ходы |
| Антонов | Символ несет сжатую информацию. Он порождает опережение за счет преобразования в идеальном плане, несет информацию о значении. Вырабатывается сознательно |
| Пономарева | Схематическое изображение способствует отображению существенных признаков, опорных моментов, изменение структуры объекта. Они мыслительно воспроизводят структуру объекта, стимулируют создание внутренних схем и предвосхищение. Сличение схемы с объектом ускоряет приход к коррекции |
| Рево-Д'Алон | Схемы – средства для переработки восприятия и лучшего понимания объекта |
| Сохор | Схема позволяет оценить роль элементов рассуждения |
| Басин | Изобразительный знак полезен для созерцания того, что означает он, но ограничен по приложению к объекту только подобием ему |
| Лосев | Символ осязаем, является средством отражения объекта, вводит заданность объекта его порождающим принципом, обобщенным, могущим вести к перевоплощениям. Символ обеспечивает слежение за элементами в структуре. Он совмещает предметность сознавания и конструктивность и активность сознания, создает равновесие образности и идеи. Символ является результатом мыслительной переработки, выступающим в функции объекта, а также средства изменения объекта |
| Шафф | Символ передает общее через частное |
| Смирнов | Символ находится между образом и знаком, замещает похожее объекту. Он обеспечивает появление смысловых группировок |
| Багиров | Изобразительный знак имеет неполное сходство с объектом |
| Юрьев | Структурные схемы сжимают содержание, устанавливают связи – причино-следственные, функциональные, объемов понятий |
| Антонов | Символы вырабатываются сознательно для обозначения повторяющихся свойство объекта, что обеспечивает сокращение действий, преобразование объекта в идеальном плане и опережению событий. В них объективируются идеальные образы. |
| Кудрявцев | Схемы предполагают обращение к понятиям и к образам, мысленное представливание динамики явлений. Они выделяют существенное, а некоторые признаки формы объектов – отсутствуют, содержат ряд условностей, связывают понятия с образами, влияют на ход мышления, дискурсии, вводят маршруты чтения схем по наиболее важным точкам. Они снимают противоречие дискретности и динамичности восприятия схем. Схемы являются мостом от знаний, понятий к конкретным задачам |
| Кондаков | Схематические изображения условно обозначают и замещают объекты, сохраняют минимум реальных признаков, вводя ограниченное количество знаков, обращенных на существенное |
| Ильенков | Символ – условный, чувственно воспринимаемый знак, обозначающий идею, понятие. Форма символа не имеет сходства с объектом |
| Тюхтин | Символ – средство выявления сути объекта, всеобщего в нем, овеществления идеального образа. Она согласуется с формой объекта или деятельности, независима от устройства мозга, предмет деятельности и мышления |
| Бородай | Образ – результат познания объекта, упорядоченность элементов в котором соответствует упорядоченности элементов, свойств, отношений в объекте |
| Ломов | Схема – чувственное представление о методе построения эмпирического образа, априорный образ деятельности оп построению того образа, выявления идеально-всеобщего у объекта |
| Ветров Горский Резников | Схемы формируются в зависимости от графической деятельности, наблюдения, изменения, построения. Прибегают к использованию схем в проблемных ситуациях. Они являются средствами перевода действий из умственного плана в практический и наоборот, регуляции действий, а также средствами анализа задач и методом решения задач |
| Болтянский | Символ – знак, заключающий в себе наглядный образ для выражения часто отвлеченных и значительных содержаний |
| Анциферова | Схемы позволяют реализовать изоморфизм и простоту восприятия |
| Кабанова-Маллер | Использование схем в ходе решения задач актуализирует массу аналитико-синтетических действий, облегчающих приход к решению |
| Богоявленская Менчинская | Обобщенные образы ведет к обладанию обобщенными приемами |
| Ветров | Схемы нужны для стимулирования умственной деятельности и облегчения ее |
| Волков | Схемы – образцы являются отдаленно схожими с объектами |
| Гамбурт | Рисунок изобразительно фиксирует связи как грамматические и смысловые связи языка, не оставляет места произвольному чтению, выражает изобразительный опыт общества. Восприятие рисунка другое, чем восприятие объекта |
| Шлик | Символ это знак, который представляет человеку смысл объекта и имеет не физическую, а функциональную ценность |
| Боцманова | Мы знаем объект благодаря мышлению, упорядочивающему и соотносящему наглядные содержания |
| Талызина | Схема переводит словесные решения в план конкретных действий |
| Сухобская | Схема как модель чем-то схожа с объектом, упрощена, заменяет образец, материализует умственную деятельность, промежуточна между материальным и речевым, дает возможность объективного контроля |
| Богомолов | Схема позволяет укрупнить единицы информации, симультанно рассматривать данные задачи |
| Перминова | Схема содержит способ деятельности по построению эмпирических образов, соответствующих общему понятию |
| Айдарова | Структурно-логическая схема это знание о структуре объекта и о способе действий. Она раскрывает целостность и структуру объекта, является опорой в получении знаний, в отборе информации об объекте, в организации самостоятельной работы и ведет к системности знания |
| Завалиншна | Графические модели фиксируют общее |
| Щедровицкий | Функции схем – фиксация знаний, удерживание существенного, материализация мышления |
Мы видим, что свойства схем, оперирования ими, функции, которые они реализуют в мышлении многочисленны. Типы схем могут быть различными. Но, прежде всего выделяется два класса схем – схематические изображения, как результаты, схематизации изображений, изобразительных реконструкций содержания созерцания, и схемы-конспекты, как результаты схематизации текстов. В основе лежит универсальный набор операций по схематизации: расчленение, отбор значимых компонентов, трансформация компонентов и синтезирование значимых компонентов в целое конструкции по тому или иному критерию. Поскольку схема должна быть содержательной, содержательным средством мышления, то конструкция (изобразительная или конспектная) рассматривается как выражающая "объектное" содержание (изображаемого, конспектируемого). Кроме того, схема является замещающей первоначальный материал (изображение, текст).
Для того чтобы подчеркнуть особенности и функции схем, выделим их из материала идей.
Таблица 4
Схемы
| № п/п | Свойства и функции схем |
| 1. | Приближение к сущности, глубокому в знании |
| 2. | Опора в анализе неведомого, нового, сложного |
| 3. | Подобны объекту (замещаемому) |
| 4. | Выводят за пределы уподобления |
| 5. | Выражает общее, абстрактное |
| 6. | Является конструкцией, зависящей от "воли" конструктора, априорной, результатом воображения |
| 7. | Соединяет чувственное и рациональное |
| 8. | Является способом, носителем операций, правилом |
| 9. | Подчинена идее целостности, структурности |
| 10. | Соединяет различное и совмещает его |
| 11. | Существует для мышления |
| 12. | Вовлекает "я" в самоотношение, борение с собой |
| 13. | Гармонизирует бесформенное, оформляет |
| 14. | Приоткрывает истину, прикрывает ее |
| 15. | Не тождественен знаку, сохраняет подобие объекту |
| 16. | Соединяет единичное и всеобщее |
| 17. | Обладают неподатливостью |
| 18. | Не до конца произвольны и не вполне пусты |
| 19. | Могут терять внешнюю связь с замещаемым |
| 20. | Обладают условностью |
| 21. | Показывают структуру и динамику объектов |
| 22. | Помогают выявить дефекты и ускоряют это |
| 23. | Количество дифференцировок зависит от задачи |
| 24. | Продукт аналитико-синтетического мышления |
| 25. | В них информация систематизирована, обобщена, структурирована |
| 26. | Используются для выявления новых содержаний |
| 27. | Замещают объекты |
| 28. | Предполагают интерпретацию и чтение, владение алфавитом |
| 29. | Опора в организации рассуждений |
| 30. | Овнешняет, материализует психические процессы |
| 31. | Помогает усвоению нового, пониманию |
| 32. | Помогает следить за мыслью, фиксировать ее ход |
| 33. | Придают абстрактному чувственную форму |
| 34. | Преобразует идеальное в материальное и наоборот |
| 35. | Выражает недоступное созерцанию |
| 36. | Оформляет зарождающиеся идеи |
| 37. | Упорядочивает материал |
| 38. | Помогает порождать новые идеи |
| 39. | Подобие объекту искусственное |
| 40. | Легко обозримы, компактны, помогают видеть целостно |
| 41. | Устойчивы и гибкие |
| 42. | Предписывают чтение и использование |
| 43. | Гипотеза о строении объекты |
| 44. | Опирается и создает смысловые узлы |
| 45. | Освобождает от случайного |
| 46. | Объект оперирования и анализа |
| 47. | Средство ориентировки, свободы в ориентации |
| 48. | Условие внезапных решений |
| 49. | Концентрирует, уплотняет содержание |
| 50. | Обеспечивает сквозные ходы в мышлении |
| 51. | Обеспечивает опережающие выводы, предвосхищение |
| 52. | Стимулируют создание внутренних схем |
| 53. | Приводит к оценке фрагментов рассуждения |
| 54. | Ограничена подобным в содержании |
| 55. | Осязаема |
| 56. | Содержит порождающий принцип |
| 57. | Совмещает предметность содержания с конструктивностью |
| 58. | Опирается на активность сознания |
| 59. | Устанавливает причино-следственные и функциональные связи |
| 60. | Необходимы в проблемных ситуациях |
| 61. | Ведут к овладению обобщенных приемов |
| 62. | Стимулируют и облегчают умственную деятельность |
Схемы, особенно изобразительные, выступают удобными предметами оперирования, которые обеспечивают первичный опыт манипулирования конструкциями, изучения возможностей в их изменении, применении в решении интеллектуальных задач, опыт трансформаций конструкции, их упрощения, усложнения, отнесения к объекту, соотнесения оперирования конструкциями, их трансформации с ходом мыслительного процесса, с процессом решения задач, постановки и решения проблем, в понимании и критике, в изложении мнений и арбитражном взаимодействии и т.п.
Первичный опыт такого манипулирования и его рефлексия ведет к появлению и развитию языкового сознания и самосознания, сознавания различий между содержанием и формой, средствами мысли, переходов от содержания к форме и от формы к содержанию, появлением, использованием и совершенствованием системы средств (парадигмы), придания им содержательности, переходов от стихийных содержательностей средств к нестихийным, от конкретных содержаний к абстрактным, от абстрактных фрагментов к комплексам и структурным целостностям абстракций.
Естественно, что вне рефлексивного сопровождения подобный опыт остается слабым, неоформленным, неразвитым, зачаточным при любом увеличении объема опыта. Но именно "материальность" схем, изобразительных и текстуальных, облегчает войти и предварительно освоить все типы мыслительных операций. Эти операции заключены уже в процессах схематизации и применении, перестройке схем (членение, отбор, оформление, замещение, синтезирование, обобщение, отнесение, сопоставление и т.п.). В самом применении схем появляются их "внешние" функции (поиска нового, выявления глубокого, сущностного, оформление мысли, сопоставление с объектом, формулирование вопроса, постановка задачи, постановка проблемы, создание средств высказывания, понимания, арбитрирования, управления "чужим" мыслительным процессом, своим мышлением, сознавание хода мышления, самосознавание, самокорректирование, самоопределения, коррекции действий другого мыслителя, согласования мнений и т.п.
Схемы, в силу их "статичности" и пошаговой переструктурируемости, морфологичности, подчиненности замыслу манипулирующего ими и т.п., легко осознаются как обладающие нормативностью, предписывания, вынуждения к вполне определенному обращению с ними. Они достаточно быстро становятся предметом группового манипулирования, совместного и параллельного, стимулируют к сплочению, согласованности мыслительных действий.
Кроме того, схемы, прежде всего изобразительные, облегчают переход мыслителя в содержательную плоскость, с сохранением структурности и предписываемости, в плоскость содержательной идентификации мыслителя, вхождения в "жизнь" объекта мысли. Поэтому облегчается опознавание необходимости причино-следственного подхода к анализу содержаний, а затем – объектно-каузального подхода.
Рефлексивное сопровождение опыта манипулирования схемами ускоряет уточнение в понимании самой "природы" мышления, в ее содержательном (с помощью изобразительных схем) и формной (с помощью схем-конспектов) аспектах. Кроме того, рефлексия ускоряет опознавание и целенаправленное использование переходов от прогресса в оперировании, решении задач и проблем к процессу самого сознания и самосознания, воли и самоопределения и т.п. В опознании сущности мышления и его "механизмов" выявляются реальные процессуально-функциональные иерархии, переходы внутри одного уровня абстрактности и между различными уровнями абстрактности содержания.
В то же время выход за пределы смыслового поля, "прикрепления" частей смыслов к частям схем, "скольжения" по схеме и по смыслам, неконтролируемой смены жесткости движения мысли гибкостью и, наоборот в связи с переакцентировками от конструкции схемы к потоку смысла и наоборот и т.п., этот выход обусловлен изменениями в самоотношениях, появлением глубинной структуры "Я", опираясь на которую можно было бы перейти от стихии самоорганизации к владению собой в процессе оперирования схемой. Развитие сознания и самосознания, интеллектуальной воли становятся условиями (внутренними) прихода к высшим абстракциям, дисциплине абстрактного мышления и мышления с использованием абстракций. Вне такой дисциплины невозможно овладение всеми основными логическими и культурно-рефлексивными формами.
В практике самоорганизации вероятность реализации указанной перспективы зависит от индивидуальных особенностей мыслителя. Схемы позволяют проходить последовательный путь от самовыражения и стихийности мысли к предельным формам логически организованного и культурно-рефлексивным формам организации мышления. Но траектория этого пути, задержки, конечные пункты, в которые "приходит" мыслитель зависят от его индивидуальных качеств и опыта, среды мыслительного бытия. Если среда стимулирует понимание и принятие задач и критериев, специфичных для все более сложных этапов на этом пути, то при фиксированных особенностях мыслитель пройдет большее количество этапов. И наоборот.
Схемы не только делают очевидными основные мыслительные операции, их осознавание и манипулирование, но превращает в демонстративные операции по "объективации" и "деобъективации" схемы как конструкций. Этим крайне облегчается осознавание основного и скрытого механизма "объективной интерпретации", осуществляемой субъектами в познании и мышлении в целом. Осознание подобного явления и механизма обеспечивает организованную идентификацию с любыми знаково-символическими конструкциями и вхождение в объектно-каузальное мышление. На основе самоконтроля за построением и интерпретацией схем как конструкций быстро растет контроль и коррекции хода мышления с расслоением на контроль и коррекции формной и содержательной сторон мышления, а также контроль и коррекции согласования ("зашнуровки") формы и содержания мышления.
Поскольку оперирование схемами позволяет материализовать все этапы обработки первичных фиксаций содержания, то демонстративным становится процесс концентрации содержания, упаковки его в узлы, замещаемыми их "чистыми" аналогами. Поэтому возврат от заместителей к первичным регистрациям предстает как "порождение" конкретного из абстрактного, а абстрактная схема – как "порождающий принцип". Выведенными вовне предстает механизм порождающего бытия "духа", базовых структур "Я", которые проявляются как в реконструкции, так и в прогнозировании, конструировании и проектировании, в их тактической и стратегической формах.
Подобные возможности особенно значимы для использования наиболее перспективной формы движения мысли и механизма "очищения" содержания и порождения объектно-абстрактных комплексов, получивших название "восхождение от абстрактного к конкретному", "дедуктивная логика", "диалектическая логика" и т.п. В самоорганизации мыслителя, в достижении качественного результата в ходе постановки и решении проблем и задач, в дискуссиях, в выработке новых идей, в обнаружении новых перспектив роста содержаний, направления интеллектуальных поисков и т.п. важнейшую роль играет построение "эталонов" содержания, средств организованного обнаружения "дефектов" и "перспектив", привлекая в качестве материала то, что удается взять у автора или что рассматривается как "заготовка" для будущего продукта. Данная установка осознается как переход от несущественной версии к сущностной версии для применения сущностной версии в достижении всех наиболее значимых интеллектуальных целей. Тем самым, если удается иметь "логическую машину", перерабатывающую материал содержаний и строящую сущностной заместитель, заменяющую субъект мысли максимально совершенным предикатом, то полученный результат затем применяется как средство в поиске желаемого, в достижении интеллектуальных целей.
При совмещении наглядности, материальности, манипулятивности и т.п. схем с этой "логической машиной" мыслитель приобретает огромные возможности в интеллектуальном поиске и в интеллектуальном развитии. Он порождает средства, меняющие не только ход поиска, но и его самого.
2.4 Значения и понятии как средства мышления
Наиболее привычный тип мышления – это мышление в коммуникации, при понимании текстов, при построении текстов (автора и критика). В мыслекоммуникации носитель языка включен в условия и систему требований, придающие его внутренним процессам "мышления" определенность и организованность. Статической стороной процессов мышления выступают образы, представления. Специфика языка; как системы средств мыслекоммуникации, состоит в том, что эти образы и представления разделяются на два крайних типа – "смыслы" и "значения". Структурные и содержательные свойства смыслов зависимы от индивидуальности мыслителя, ситуации и ее динамики, тогда как значения стоят над ситуацией и индивидуальностью и выступают как социокультурные средства, конструктивные и обобщенные. Благодаря этим особенностям мышление приобретает те качества, которые и являются специфическими для современной культуры мышления. Их конструктивизм, надиндивидуальность, обобщенность, надситуативность предопределяет трансформации в сознании, появление надиндивидуальных замещений первичных смыслов (см. сх. 6).
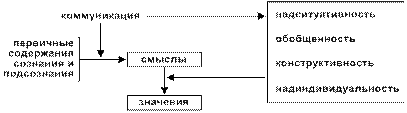
Схема 6
В силу огромной важности последствий появления в сознании значений, а затем и их особого типа – понятий, остановимся более подробно на их качествах, выделенных во многих исследованиях.
Таблица 5
Значения, понятия и категории
| Автор | Высказывание |
| Гегель | Категории – всеобщи, служат для более точного определения, являются сокращениями |
| Кант | Категории – не знания, а формы мышления, служат для создания знаний из наглядных представлений, как логические функции, руководят проявлениями рассудка в опыте |
| Бредли | Понятия – творения разума, элементы целого, застывшие в самостоятельности |
| Леонтьев | За значениями стоят общественно выработанные способы |
| Бланшар | В восприятии осуществляется подведение под универсалии |
| Наторп | Понятия – это не разговор о вещах, а о чистых закономерностях мышления |
| Мах | Понятия – замена реального опыта, экономия сил |
| Мариген | Понятия – средство познания |
| Дьюи | Понятия формулируются в терминах операций |
| Куайн | Понятия – конвенциональны, системы удобных связей, могут быть пересмотрены |
| Айдукевич | Изменение понятий ведет к изменению формулировок проблем при тех же данных |
| Давыдов | Понятие – это средство обнаружения скрытого |
| Домбская | Изменение конвенции ведет к изменению вопросов и ответов при том же опыте |
| Мейерсон | Идеальные объекты – схемы, руководящие усилиями разума |
| Бриджмен | Понятие – совокупность операций |
| Кассирер | Понятия – ориентиры в многообразии явлений, выходят за данное в созерцании, строгие |
| Буслаев Лурия | Значения – появляются через понимание, абстрагирование, обобщение первичных представлений |
| Шахматов | Значения определяются через отношения с другими знаками |
| Карцевский | Значения – результат схематизации представлений |
| Резников | Это конструктивный концепт |
| Рижский | Это выражение существенного |
| Шпитцер Звегинцев | Значение предопределяется культурными условиями |
| Фолсом Щедровицкий | Зависит от социальных коопераций, является конвенциальным |
| Соссюр Якобсон | Значение постоянно до его конструктивного изменения |
| Бенвенист Ельмслов | При делении знаков делится и значение |
| Звегинцев | Значение зависит от требований коммуникации |
| Блумфилд Щедровицкий | Деление значений – конструктивная процедура |
| Бозанкет | Значение состоит из универсалий, опирающихся на тождество |
| Рубинштейн | Понятие это и конструкция мысли, и отображение бытия |
| Кант | Категории чистые понятия рассудка, условие возможности опыта, доопытные и применимы ко всем элементам опыта, сообщают единство чистому синтезу |
| Горский | Понятие – мысль, отражающая общие и существенные признаки объекта, образуемая словом, это – огрубление |
| Щедровицкий | Значение является средством понимания текста, конструкция, созидаемая для трансляции, является замещением смысла |
| Гамезо | Понятия – выражают сущность явлений, опираясь на инструментальные свойства абстрактных знаков |
| Строгович | Понятие возникает в обобщении, выделении существенного в группе объектов |
| Асмус | Понятие объединяет группу существенных признаков как содержание, определение понятия |
| Якобсон | Связь означающего и означаемого в языке является заученной и закрепленной обычаем, обязательной для всех членов языкового коллектива |
| Карцевский | Понятие – схематический продукт интеграции, общий тип |
| Баженов Бирюков | Значение знака предполагает соотнесение общества, языка и человека |
| Бриджмен | Значение – применение понятия в конкретной ситуации |
Мы видим, что представления этого типа создаются в мыслекоммуникативных взаимодействиях, когда первичные, индивидуальные, ситуационные и т.п. представления перестают быть эффективными в понимании, в критике, не могут обслужить требования, возникающие в общении, в коммуникации, в познании, организованном как социокультурный процесс, в социокультурной критики и т.п. Иначе говоря, когда появляется потребность в социокультурных содержаниях, в средствах преодоления эгоцентризма индивидуального мышления, в результатах "коллективного" мышления, в доказательности и несубъективной убедительности, тогда "смыслы" перестраиваются, обобщаются, конструктивно замещаются и т.п. и становятся значениями. Они утверждаются в согласовании (конвенции) всех заинтересованных сторон в дискуссии или конструируются с направленностью на будущее утверждение согласующимися. Так как первичные представления возникают, прежде всего в познании, а все иные направленности использования образов объектов опираются на "познанность", на выявленность объектной сущности, то переход к "значениям" сопровождается и усилением познавательного эффекта, углублением, приближением к отражению сущности.
Сам переход к "глубине", к сущности меняет субъективную ситуацию в человеке, трансформирует содержание сознания, сам механизм сознания и самосознания, так как без такой трансформации нельзя привести индивидуальные состояния и динамику смыслов в соответствие с требованиями языка, языковых значений, нового типа содержаний. Тем более что сама "техника" оперирования значениями (понятиями, категориями) требует от человека, его сознания, самосознания, воли и т.п. высших механизмов психики иного бытия и самоорганизации. Изнутри определяемые действия становятся подчиненными внешним критериям, внешней организации, подчинением нормам оперирования, создающимися извне. Тем самым, и со стороны содержания представлений, и со стороны организации языкового и коммуникативного поведения человек ищет опоры и приобретает извне, им подчиняется, меняется в ходе подчинения, приобретает качественно новые свойства.
Для интеллектуального саморазвития важен переход от смыслов к значениям путем самостоятельных усилий. Для этого человек должен войти в позицию строителя языка, семантической стороны языка, точнее – семантической парадигмы. Заимствование подобной позиции стимулируется арбитражной потребностью, возникающей в практике дискуссий. В самоорганизации внешний характер стимулов к арбитражности и самой дискуссионности, критическим отношением в версии автора заменяется внутренним стимулированием. Следовательно, человек должен обладать способностью к активизации себя в критическом отношении к своей предшествующей версии, к организации самопротиводействия, к обнаружению общего в версиях и к использованию общего в качестве средства успешного завершения "дискуссии". Естественно, что без соответствующего развития "Я", его самодвижимости, без опыта совмещения активности "Я" с внешними требованиями хода мышления в коммуникации, рефлексии, решении задач и проблем, достигнуть указанного эффекта невозможно.
На фоне арбитражной активности меняется характер и базовых процессов – изложения и понимания точек зрения, критики точки зрения.
2.5 Схемы и схематизация
Схемы неизбежны в достаточно долговременной и сложной мыслительной практике, особенно включающей организацию понимания, критику, арбитрирование высказываний в полемике. Наиболее заметны схемы в инженерии, образовании, в теоретической, аналитической работах. Там, где полемика становится базисным процессом, вероятность встречи со схемами резко повышается. Она стала неизбежной в методологической работе, опирающейся на организацию инновационных поисков, проблематизацию в мыследействиях и в самой рефлексии. Поскольку методологические семинары, игры и иные интенсивные формы включают в себя множество типовых процедур и жанров мыслительных взаимодействий, то в каждом из них можно встретить или ввести схемы. Подобные ситуации возникают и в любой развернутой аналитической практике, в процессах выработки коллективных решений, особенно имеющих стратегический характер.
Изучение особенностей и сущности схем, их порождения, модифицирования, включенности в целое мыслительных процедур, в содержательное структурирование, в создание семантических сервисов и т.п. привело ко многим раскрытиям механизма схематизации и переконструирования схем, к осознанию различных свойств схем, относимых к семиотике, всеобщему учению о языке и т.п. Однако в любой области познания наступает этап, когда становятся недостаточными и непосредственные наблюдения, реконструкции, первичное обобщение, введение частных "законов", которым подчиняются объекты изучения. Наиболее рафинированным типом выражения сущности "объекта" выступает следование псевдогенетическому методу показа бытия объекта, введенному, обоснованному и продемонстрированному Гегелем и получившему название "восхождение от абстрактного к конкретному". В своих трудах мы во множестве мест раскрывали и показывали сущностные свойства схем, опираясь на сложившиеся в гуманитарной науке представления о них, учитывая методологический опыт и умножая этот опыт в своих разработках. Здесь же мы осуществим конструктивное введение сущностных воззрений, отвечая на несколько исходных для понимания схем вопросы, помогая тем, кто имеет систематическую практику схематизации, "схемотехники".
1 Какие схемы мы предполагаем анализировать?
Схемы "текстов" и схематические изображения. Они являются наиболее часто встречаемые в мыслительной практике. Они остаются в пространстве языкового обеспечения мышления. Они связаны с получением всех высших результатов в мышлении, в том числе в постановке задач и проблем, в прогнозировании и нормировании, в порождении понятий, категорий, в создании онтологических схем и т.п.
2 Что такое "схема" и "схематизация"?
"Схема" является результатом процесса "схематизации" первичного материала (текста, изображения). "Схематизация" включает в себя следующие типы операций: членение на части, отбор значимых (для какой-то мыслительной необходимости) частей, соединение значимых частей в структурный конструкт ("схему"), отождествление конструкта с первичным материалом ("замещение"), придание частям "удобную" для употребления конструкта формы, придание всему конструкту удобную для применения формы. При неудачах в ходе построения или в применениях осуществляется возврат к более предшествующим операциям, к их повторению и появлению "более совершенного" варианта конструкта.
3 В чем состоит "содержательность" схем?
Предпосылкой "содержательности" в мышлении является созидание "объектных" образов во внутреннем плане, субъективно рассматриваемых как сами "объекты", отражаемое. Применение языковых средство позволяет "манипулятивно" осуществлять построение образов, сознавать этот процесс, ставить цели в построении образов, организовывать достижение целей, осуществлять слежение за построением образов и корректировать эти процессы. Если имеется схематизируемый материал языковых средств, и он субъективно относим к образам, скреплен с ними, то субъективно скрепление может рассматриваться как скрепление с "объектами". Материал средств предстает как выражающий "содержание" мысли. При схематизации значимые части и их конструктивное целое удерживают "части" и "конструкцию" содержательности, если части содержания образа субъективно трактуются как части объекта. Манипулятивность, конструктивность схемы создает возможность отхода от объектности, созданию объектно "бессмысленной" конструкции. Если все же субъективно конструкция схемы воспринимается объектно, создает замещающий внутренний эффект, то схема становится содержательной.
4 В чем состоит "произвольность",
"ситуационная случайность" схем?
Поскольку членение, отбор значимых частей осуществляется в зависимости от состояния схематизатора, динамики его внутренней жизни, случайностей сочетания внутренней динамики и ситуационной непредсказуемости, то конструкты, схемы приобретают "случайность", непредсказуемость. Если же схематизатор ставит цели, достигает их, подчиняется содержанию целей, то возникает эффект "произвольности" в конструировании и случайности целеполагания. Вместе с вписанностью целеполагания в целое социокультурного, деятельностного, культурного процессов произвол "теряет" случайность и приобретает предсказуемость, нормативность.
5 Что означает "способность", с помощью схем,
к конструированию "миров"?
В процессе схематизации осуществляется переход от принципа уподобления "реальности" к принципу конструирования "реальности", к фантазированию. Случайные и произвольные схемы до тех пор остаются содержательными, если субъективно они воспринимаются как объекты. Человек может модифицировать свою способность к объектным интерпретациям, все далее отходя от созерцательности и уподобляемости. Часто это согласовывается с прогностической способностью, опирающейся на переход от того, что уже "произошло", к тому, что "может" произойти, внося в фантазию причинно-следственную переходимость бытия объектов в будущее. Языковые средства позволяют в огромной и непредсказуемой, но доступной субъективности, степени раздвигать объем объектно трактуемых конструкций.
6 В чем состоит особенность "обобщающих" фантазий с помощью схематизации?
В процессе создания схем наряду с отбором значимых частей исходного материала "схематизируемого" может вноситься множество фрагментов "со стороны" и субъективно трактоваться присоединение как дополнение частями "того же" объекта в "достраивании" объекта. Кроме того, схематизатор может ввести фрагменты и их целостность не только дополняя, но и замещая ранее полученную конструкцию. Если замещение субъективно рассматривается как переход к "тому же" объекту, к его иному состоянию, то искусственность внесения заместителя преодолевается. Схематизатор может ввести замещение на одной конструкции, а их множества, каждый элемент которого трактуется как "тот же" объект, как его "состояние". В этом случае осуществляется обобщение. При объектной трактовке обобщенного заместителя созидается образ нового типа – "абстракция". Если ее содержание не противоречит содержанию замещаемых элементов и замещающий эффект сохраняется для каждого элемента множества, то само содержание трактуется как "глубинное основание всех состояний как проявлений одного и того же". Замещающая схема превращается в "отражение" основания, часто называемого "сущностью" объекта. Тем самым, в познающем понимании воспринимающего схемы возникает различие схем, отражающих "явления" и отражающих "сущность" отражаемого объекта, реальности. В познании содержание второго типа схем называют еще "идеальными объектами". Но это уже касается применения схем в предметизированных научных исследованиях.
7 Что означает "чтение схем"?
Поскольку любой текст предполагает его восприятие, выявление языковых характеристик "натуры" текста, переход от знаковых и символических конструкций к их содержанию, что и включает как последовательность процедур "чтения", то и схема может рассматриваться как особый "вторичный" текст и побуждающая к чтению.
8 В чем состоит переход от случайного, произвольного чтения схемы к неслучайному?
Если схема построена так, что в ней есть части и переходы от частей к частям, побуждающие к "порядку" прочтения, некоторое подобие "синтаксического и грамматического" потенциала, то он предопределяет порядок чтения, вносит "необходимость" в первоначально случайное и произвольное чтение. Но содержательная необходимость появляется тогда, когда возникающие объектные трактовки частей схемы и связей между частями принуждают к слежению за "ходом процессов" в объекте. В этом состоит объектная каузальность, причинно-следственная непрерывность в чтении схемы.
9. В чем состоит отличие схемы текста (конспекта)
от схематического изображения?
Конспект, как и исходный текст, требует в процессе чтения перехода от реконструкции языкового в морфологии схемы к "реконструкции" содержания схемы. Субъективно сама схема, конспект, воспринимается как средство, искусственное условие прихода к содержанию схемы, конспекта. Необходимы различаемые переходы от средства к содержанию, выражаемому средством. Чаще этот процесс связан с затруднениями и средственность конспекта отделена от содержательности конспекта, а преодоление отделенности воспринимается как специфический успех понимания конспекта. В случае схематического изображения переход от средственности компонентов схематического изображения к их содержательности облегчен и быстро, в зависимости от особенностей индивидуальной психики схематизатора, читателя схемы, схема такого типа воспринимается как объект, а части схемы – как части объекта. Прямое слежение за содержательными переходами в схеме создает эффект чтения не схемы, а самого объекта.
10 В чем особая польза схематических изображений?
Схематические изображения, если налажен процесс их чтения, обеспечивает облегченные процедуры как реконструирования, так и конструирования, порождения модификации объекта, модификационных линий, введения допустимых трансформаций объектов, их изменения, качественных изменений, развития, проектирования будущего, прогнозирования будущего, моделирования "благополучия" и "неблагополучия" объектов, перехода к сущности, поиску альтернативных сущностей, обнаружению недопустимых состояний и псевдосущностей, введению всеобщих сущностей, исходных оснований "всего", слежению за действием исходных оснований "во всем" и т.п. Все это превращается в объектное конструирование, манипулирование мирами вне необходимости слежения за развернутыми высказываниями, правильности их построения. Высказывания знакового типа лишь обслуживают ход манипулирования вне синтаксического, грамматического контроля. Вместе с созданием абстрактных заместителей возникает свертывание в самых абстрактных схематических изображениях огромного объема содержаний, могущих быть вторично развернутых как в схематических изображениях, так и "обычных" текстах знакового типа.
11 В чем состоит основа мыслительной культуры?
Конструирование текста может быть как неорганизованным, не контролируемым, неосознаваемым, так и организованным, рефлектируемым, сознаваемым. Языковые правила вносят упорядоченность, унифицируемость, опору в самовыражении. В основе организации лежит форма суждения, рассуждения, умозаключения и т.п. Единицей языкового мышления выступает связь "субъекта" и "предиката", где предикат вносит языковые содержательные, семантические стандарты, а их множество до построения высказываний составляет "словарь", семантическую "парадигму". Правила обеспечивают унификация в применении единиц содержания, значений и структурируемых комплексов значений в "синтагматике", в порождении содержаний выраженных текстом. Носитель языка становится организованным, сознающим, если он усвоил множество стандартов и правила их соединения в высказываниях, подчинил свое "сознание" средственной природе стандартов как в непосредственном процессе следования правилам и стандартам, так и в порождении необычных, "инновационных" высказываний. Всеобщий формат порождения высказываний является введение "вопроса" и "ответа" на вопрос. Так как вопрос предполагает фиксацию значения или конструкцию значений при акцентрировке на какую-либо часть значения или комплекса, создание "напряжения", поиска ответа в массиве "смыслов" или в замещаемой конструкции значений, то следование последовательности вопросов и ответов лежит в основе мыслительной культуры, соответствия всеобщему в единичных процедурах в ситуациях как "рутинных" (задачных), так и инновационных (в т.ч. проблемных).
12 Почему схемы "ведут" к "мыслительной" культуре и используют возможности мыслительной культуры?
Схемы, как конструкты, облегчают фиксацию содержания и обсуждение объектной неполноты, полноты, изменяемости, развиваемости, переходимости к иным объектам, соотнесенности со средой, выявления границ обнаруженного при обнаруживаемого "мира" и т.п. При введении формы "вопрос-ответ" могут быть поставлены любые задачи и проблемы в пределах фиксированной схемы, а сама схема испытана на ее контролируемую изменяемость. Конструктивность и управляемая манипулятивность схем является предпосылкой перехода к формам движения мысли, а ясная перспектива контролируемого абстрагирования, переконструирования абстракций, контролируемого создания абстракций высокого и высшего типа, порождающих все более высокие требования к субъективности для адекватного оперирования или во всех типах использования – к абстрактным, неслучайным, содержательно всеобщим и конкретизируемым формам движения мысли, что составляет общую основу культуры мышления. Схемы "подталкивают" к самоорганизации и формам процессов, к окультуриванию, являются средствами оформления, формообразования, предстают как выразители исходных, всеобщих оснований и являются помощниками сохранении требований мыслительной культуры в конкретной мыслительной практике.
13 В чем причина абстрагирующего потенциала схем?
В конструировании схем предполагается разделение материала на значимое и незначимое, отбор значимых частей. Если реализуется установка на обобщение, то значимыми становятся части, могущие внести вклад в построение обобщающего заместителя. Содержательность абстракций легче обеспечить с помощью схематических изображений, ориентированных на выражение объектных характеристик. Это позволяет не только следить и организованно "перемещаться" по объекту, но и выявлять то, что лежит в основании "частных" проявлений. Сами схематические изображения имеют ограниченный набор типовых единиц и переход ко "все более типовым" единицам позволяет быстро приходить к предельным единицам. Они заставляют задумываться об их обобщенной и всеобщей содержательности. В результате появляется объектная парадигма. Чем более она абстрактна, тем быстрее выявляется принцип содержательного воссоздания конкретного, основанного с опорой на основания. Тем самым, сочетание парадигматизации в средствах изобразительного (и "обычного") типа с установкой на поиск оснований всего, первопричин в их "содержательности" наиболее быстро ведет к онтологическим конструкциям, исходным сущностным основаниям. Однако этот процесс "замораживается" при инертности субъективности, при низких темпах развития самой субъективности, непродвижении к высшим уровням субъективности.
14 Что такое семантический "конфигуратор"
и его универсумальный тип?
Если осуществляется замещение множества разнообразных текстов одним, но не по той же теме, подтеме и т.п., то процедура содержательного замещения совпадает с обобщением. При разнообразии тем обобщение приобретает особенности и может быть названным "конфигурирующим" обобщением. Введение определенности и строгости в переходах от конфигуративного заместителя к замещаемым, конфигурирующим текстам появляется перспектива "пирамиды" замещений, а верхний уровень приобретает черты онтологического замещения, онтологической абстракции. Реальное построение "онтологемы" предполагает в качестве замещаемых "любое" множество текстов по "любым" темам. Сам же переход от онтологемы, ее выражающего текста ко всем остальным может быть либо "мягким", нестрогим, либо предельно строгим. Во втором случае реализуется форма движения конкретизирующей мысли, называемая "логикой систематического уточнения". Построение конфигурирующего текста и его содержания можно сделать контролируемым, организованным если ввести систематическую схематизацию, особенно – символическую, построение схематических изображений. Семантическим конфигуратором называется конфигурирующий текст, содержание которого замещает все доступное конфигурирование множество первичных текстов. Универсумельным становится семантический конфигуратор, замещающий любое возможное множество текстов, их содержаний. Поскольку при этом сам текст может замещать все части многообразия с различной степенью конкретности, то само содержание семантического конфигуратора организуется как "семантическая пирамида", верхняя часть которой совпадает с онтологемой универсумального типа.
15 Как схематизация связана
с построением понятий?
Если понятия рассматривать как дифференциальные семантические единицы, выступающие в качестве мыслительных инструментов, то прототипом понятий являются "значения" обычного языка. Если же сей язык подвергается трансформации в связи с нуждами организации мышления в какой-либо области познания, аналитики и т.п., потребностями типа деятельности, то значения выводятся из стихии языкового оперирования и подвергаются дополнительным конструктивным доопределениям. Они превращаются в понятия, более жестко построенные компоненты парадигматического набора, совмещенного с более жесткими правилами оперирования единицами. Сами понятия приобретают вид дифференциальных "определений", имеющими свои определяющие тексты. Поскольку все подобные "ужесточения", стремления к большей определенности и однозначности имеют своим источником не только сами трудности языкового мышления, мыслекоммуникативные недоразумения но, и прежде всего, переход к арбитрированию, то именно арбитражные потребности, трудности в реализации арбитражной функции заставляют проходить к схематизации, особенно символического типа. Схематизация является необходимым "технологическим" условием прихода к понятиям, к их конструированию.
16 Какова роль схем в порождении логических форм?
Логические формы движимости мысли опирается на грамматические формы построения высказываний. Но вместе с приданием значимости внесения определенности в "перестроение" содержания первичного текста, вместе с внесением рефлексивного слежения за перестроением, вместе с появлением вопросов о том, каково должно быть содержание последующего высказывания в связи с предшествующем, с внесением всеобщего характера вопросов и ответов такого типа появляются требования логического типа. Простейшим является тип формы движения мысли, реализующий установку на "дополнительность", завершаемость построения содержания вне изменения типа и границ объекта. Самым сложным выступает форма движения мысли, реализующая установку на "уточняемость", так как она опирается на содержательный принцип развития объекта или его редукцию, "антиразвитие". В тех же границах вводится смена и порождение многоуровневых "состояний" развитости. Форма "уточнения" включает в себя требования "диалектики объекта". Контролировать все содержательно-конструктивные переходы невозможно без использования схем и схематизации.
17 Какова роль схематических изображений
в следовании логическим формам?
В силу того, что схематическое изображение при его чтении позволяет следить за объектом, процессами внутри него "непосредственно" и таким же образом осуществлять контролируемую модификацию объекта, переход к конструированию миров, в том числе развитие объектов и мира в целом, то именно схематическое изображение, оперирование им, переконструирование, подчиненное мыслительным конструкторско-объектным задачам и проблемам, позволяет справиться с указанными задачами и проблемами осознанно и эффективно.
18 Какова роль схем и схематических изображений,
в особенности, в складывании коллективного мышления?
При организации решения любых мыслительных задач и проблем введение схем, конспектов и схематических изображений, наряду с обычными текстами, позволяет осуществлять последовательное "делегирование" операций, процедур, позиционных наборов процедур другим мыслителям. При закреплении частей всей формы, в том числе – технологической, за постоянными участниками и внесении соответствующих функций, кооперативных сочленений функций и позиций появляется кооперативная форма решения тех же задач и проблем. Само рефлексивное сопровождение также может быть рефлексивно оформлено, выделены технологические и кооперативные формы, что еще более увеличивает возможности совместного мышления. Схемы, используемые в соорганизации, согласованиях, в руководстве кооперацией, являются самыми эффективными средствами придания всем процессам и процедурам взаимосогласованности и включенности в "единое" мышления.
19 Можно ли говорить о схематизации в материале движений, чувств, отношений и т.п.?
В любом моделировании осуществляется переход от "образца" к "модели" под соответствующую задачу и критерий. Поэтому в движении, поведении, взаимодействии, динамическом протекании чувственного состояния, проявленного чем-то внешне, можно осуществлять членение, отбор, синтезирование отобранного, переход к замещениям, отнесениям к подвижному материалу образца, к фантазированию, построению иных "реальностей" в зоне субъективной и натуральной доступности. Эти переходы и модификации осуществляются в художественном творчестве, в искусстве, в воспитании, социальном конструировании. Используются многие свойства схематизации.
20 Можно ли говорить о языке схем?
Если конспектирование в огромной степени зависит от ситуационности, внутренней и внешней, процедур и получаемого результата, а унификации подвергается операционный состав, то в случае построения схематических изображений не только операции, но и сам состав схематических изображений может быть подвергнут унификации. Символические схемы "придумываются", а не "подхватываются", а порождение уподобляется реальности. Уподобляемое прежде всего касается форм и чаще всего – плоскостных. Чем более высоким становится уровень обобщения схематизируемого содержания, тем более значимой является плоскостная и линейная форма "изображения". А формные образцы поддаются унификации и парадигматизации, что в высокой степени освоено в инженерии, в создании изобразительно-графических стандартов. В мыслительном пространстве, в котором изобразительность совмещается с миром "идеальных" объектов, характер графического конструирования значительно отмечается от инженерного типа. Но возможность создания устойчивых "парадигм" охраняется. Поэтому появляются и своеобразные "правила" пользования. Они во многом совмещаются с "законами бытия", так как за графикой "стоит" идеальное бытие. В то же время, конструктивизм и искусственность унификаций, парадигматизации, синтагматизации также охраняется и зависит от автора языкового конструирования, от согласования результатов в связи с их помещением в пространстве мыслекоммуникации.
21 Зависит ли выработка "языка схематических изображений" от типа мыслекоммуникативной позиции?
Языковое конструирование на материале изображений начинается в позиции автора " в связи с приданием надежности и определенности выражаемым содержаниям. Но серьезный импульс к конструированию унифицированных схем вредит позиция "понимающего", так как она связана с реконструктивностью в мышлении и необходимостью подтверждения автором "правильности" его понимания. Зависимость от особенностей содержания, особенно собственно идеальных объектов, также проявляется. Свою роль вносит и позиция "критика", в которой обязательным является введение новизны, усовершенствования, корректирования, проведения границ, отделяющей сохраняемое и несохраняемое, иное. Однако наибольшая зависимость объема языкового конструирования, парадигматизации от типа позиции проявляется в позиции "арбитра". Она требует предельной однозначности и определенности созидаемых средств как "стандартов" по содержанию и форме.
22 Можно ли изучать сущность языков на практике схематизации и особенностей из результатов?
Осуществляющий схематизацию непосредственно пользуется, хотя и в самой разной степени и различным образом, позицией языкоконструктора, совмещая ее с позицией потребителя языка. Рефлектируя свое языковое конструирование в различных ситуациях и сопоставляя "опыты" этой работы он найдет множество тех явлений языкового типа, которые обсуждены применительно к "живому" языку и "профессиональному" языку. Чем больше такой рефлексии, следовательно и реконструкций, и критики, и проектирования, и прогнозирования, тем быстрее выявляется материал для построения онтологии языка в его становлении, функционировании, развитии и увядании, тем легче воссоздается путь, проходимый конструктором и совершенствователем языков. Резко ускорить "сознавание" подобного рода можно через использование базисных знаний о языке, содержание которых становится быстро понимаемым благодаря указанной рефлексии.
23 Можно ли прийти к воссозданию истории языков через посредство рефлексии схематизации?
Если систематически соотносить выявляемые особенности языка "вообще" в практике схематизации с знаниями о реальных языках, их становлении, развитии, то многие "трудные" вопросы находят и найдут свое разъяснение. В том числе вопросы о типах языков, об их динамике, взаимоотталкивании и взаимопритяжении, об особенностях языковых воздействий на субъективные качества людей и даже различных этносов. Конспектирование является полем "подготовительной" рефлексии языкового типа. Схематические изображения, их созидание, переконструирование, употребление и т.п., становясь объектом и предметом рефлексивных реконструкций и постановки вопросов языкового ряда, позволяют войти в глубинные основания переходов от имитационного этапа мыслекоммуникативных взаимодействий к порождению средственного обеспечения и средственных воздействий на субъективные возможности. Раскрываются плюсы и минусы изобразительно-языковых средств, пиктограмм, иероглифов и т.п., плюсы и минусы звукового сопровождения и звуковой схематизации. Все это понимается более определенно и непосредственно в личной практике схематизации, сопровождаемой специализированной рефлексией.
24 Помогает ли практика и рефлексия схематизации проникать в сущность субъективных процессов?
При повороте рефлексии процессов схематизации и мыслекоммуникации, опирающейся на схематизацию и применение схем, в сторону субъективности можно начинать систематическое раскрытие свойств субъективного мира. Сначала это может касаться интеллектуальных процессов, поскольку слежение за субъективными процессами, их сопровождением процедур схематизации быстро приводит ко всем типовым "внутренним операциям" интеллектуалистики. Но если рефлексия начинает специализироваться на субъективных факторах в оперировании и конструировании схем, то замечаются явления и потребностно-мотивационного плана, а затем и целостности самоорганизации, самоопределения, волевого регулирования, осознавания, самосознавания и т.п. Приобретение опыта субъективной рефлексии облегчает понимание всех теорий, сложившихся в психологии, но достаточно легко позволяет перейти к их проверке и совершенствованию.
25 Позволяет ли рефлексия схематизации, применения схем раскрывать явления культурогенеза?
В самоорганизации, необходимой для использования и конструирования схем, особенно в условиях совместных разработок сложных "проблем" интеллектуальной деятельности, в свою очередь включенных в решение "больших" проблем в рамках типов деятельности, сфер деятельности и т.п., человек может найти зависимости своей продуктивности, эффективности, признаваемости, своего развития и т.п. от факторов "культурного" типа. Он вынужден проходить путь изменений, предопределенный особенностями средственного мира, специфических средств, мира схем различного характера. Поэтому конструктивность основы всех процессов, переходимость от "естественного" к "оискусствленному" и "искусственному" позволяет на себе заметить все основные особенности культурогенеза. Рефлексия подобного типа быстро подводит к границам, отделяющим критерии ситуационного, типового и всеобщего уровня. Тем более что вносящий "новое" в мыслекоммуникативное взаимодействие, в совместные мыследействия и через них в весь объем взаимодействий становится фактором культурогенеза, если он переходит к внесению критериев всеобщего типа. А они могут носить как интеллектуальный, так и мотивационный характер и выходить на критерии любых согласуемых отношений.
26 Можно ли использовать схемы
для духовного развития?
Так как схемы, прежде всего схематически е изображения, могут быть эффективно выражающими онтологические воззрения, то следует максимально подчинить схемы функции фиксации мировоззренческих представлений. Необходимой предпосылкой духовной практики выступает универсумальное самоопределение и самоотношение. Если удается выявить субъективные требования от имени универсума, что допустимо путем субъективного прочтения онтологемы и построения требующего "я", то через соотношение с образом самоустремленного "я" и нахождение в содержании "требующего я" своего реального места, приведение содержания актуального "я" в соответствие с "требующим я" в локализации и в единости требующего "я" открывается путь перевода образа включенности реального "я" в универсумальное "я" в состояние реальной включенности в универсум. Самоотношение как коррекция состояния не включенного бытия в состояние включенности и составляет базисный процесс духовного типа. Совершенствование и развитие духовного бытия состоит в переходах от случайных версий универсума к неслучайным, что опирается на готовность к коррекции своих универсумальных представлений в пользу их большей "истинности", в развитии механизмов субъективности, например, сознания, самосознания, мышления, рефлексии, "рассудка", "разума", "духа", воли, самоопределения и др., которое позволяло более "точно", определенно, однозначно строить высшие абстракции, их корректировать, снимать субъективную составляющую, вырабатывать адекватное самоотношение и самокоррекцию, помещать себя "в необходимую часть универсума, считывать сущностные требования универсума к себе и т.п. Особую роль играют схемы в придании определенности и "объективности" всем субъективным операциям, в выявлении сущностей основы универсума, его функционально-формной базы, выявлении "первопричин" формообразования универсума, выявлении первопричиной основы всех компонентов универсума, включая самого проходящего духовный путь. Тем самым, в общем совмещении интеллектуальных и самоотношенческих слоев духовного процесса роль работы со схемами, с учетом вышесказанного про свойства схем, может быть огромной и часто решающей, если самоотношение развивается достаточно благополучно.
2.6 Формы мышления и логика
Вместе с включением в мышление языковых средств и закреплением за знаками языковых значений сам мыслительный процесс перестает быть зависящим только от внутренних факторов, а в реагировании на внешнее – их рассмотрение как случайного набора условий. Появляется внешнее предопределение, в том или ином объеме, самого хода процессов. Появляется внешняя предписывающая форма мышления, которой приходится подчиняться. Персонификация организационного отношения, введение внешнего организатора очевиднее всего обнаруживается в связи с освоением языка как системы средств, содержащих предписывающую силу. Организатор процесса усвоения организует и само оперирование знаковыми средствами, формирует соответствующие операциональные стереотипы, соответствующую рефлексивную самоорганизацию.
В мышлении, имеющем организованность, форму процессов, особую роль играет языковое средство. Эта роль во многом раскрывалось в логике. Приведем ряд исходных идей логики, ее "сущности".
Таблица 6
Логика и мышление
| Автор | Высказывание | |
| Анахт | Логика включает в себя правила мышления, она служит для доказательства каких-то положений. | |
| Гоббс | Способность к суждениям, рассуждениям приобретается усвоением правил, употреблением имен. | |
| Кант | Логика – наука о необходимых законах рассудка и разума, об одной форме мышления вообще, отвлекаясь от содержаний, о необходимых правилах, о том, как мы мыслим, как должны мыслить. | |
| Дидро | Логика – наука правильного мышления, употребления умственных способностей. | |
| Гоббс | Логика учит последовательности слов для образования суждений, рассуждений. | |
| Юркевич | Логика порождает номы для мышления. | |
| Хаякава | Логика – совокупность правил употребления языка. | |
| Чичерин | Это умение связывать понятия. | |
| Фортунатов | Она определяет условия правильности процессов суждения при помощи слов. | |
| Гегель | Логика – наука чистого мышления. | |
| Спиноза | Она учит как совершенствовать разум. | |
| Юм | Логика объясняет принципы, действия способности суждения, природу идей. | |
| Декарт | Логика учит управлению разумом для приобретения истин. | |
| Потебня | Она обсуждает сочетание понятий при неважности предметного содержания. | |
| Бэкон | Логика состоит в улавливании отвлеченного содержания. | |
| Пор-Ройяль | Суждение состоит из двух членов: о чем и что утверждается. | |
| Платон | Кто не подобрал слова – тот не знает. Слова идут за отличиями вещей. Они схватывают общее. | |
| Кант | Суждение – это подведение под правило. Логический момент здесь – способы соединения представлений. Мы мыслим вещи с помощью категорий. Вещи приписывается априорное знание. Априорное познание – познание предметов возможного опыта. Априорные основоположения – основания других суждений, имеют в своей основе еще более общего. | |
| Гегель | Всеобщее определяет себя из самого себя. Предмет логики – мышление, всеобщее во всех представлениях. В логике мысль не имеет другого содержания, кроме как порожденного мышлением. Суждение содержит синтетический и аналитический моменты, всеобщее определяет себя через себя как другое по отношению к себе. Логика – формальная наука об абсолютной форме. Предмет логики – мышление вообще, о сути вещей, их понятии. Суждение требует предиката, относящегося к субъекту, как отношение понятия, всеобщее к особенному или единичному. Мышление – соотношение с собой. Логическое имеет абстрактное (рассудок), диалектическое (негативный разум), спекулятивное (позитивный разум). | |
| Фортунатов | Суждение имеет подлежащее, о чем, и сказуемое, что мыслится о подлежащем. | |
| Лосский | В суждении субъект дает основание для предиката. | |
Как мы видим, в логике фиксируются "правила" для мышления, "законы" мышления, знания о сущности мышления. Подчеркивается еще, что имеется в виду "чистое" мышление, особое использование мыслительных способностей (рассудка, разума), которое может вести к "истине". Отмечается и то, что благодаря таким правилам и опоре на такие законы, на сущностные знания, можно совершенствовать мыслительные способности.
Тем самым, логика обеспечивает переход от случайного мыслительного процесса к неслучайному, от стихийности самовыражения мыслителя к самоорганизации, подчиненной общим формам, правилам, с одной стороны (нормативной) и сущностным ориентирам, знаниям о самом мышлении, с другой стороны. Поэтому в самоорганизующемся мышлении необходимо выходить к знаниям и предписаниям (логическим) как организующему внешнему, социокультурному основанию, следует не только рефлектировать и предполагать ее, но и вносить в нее критериальную базу (сущностные представления о мышлении), переходить от ситуационных, индивидуализированных предписаний для себя к надситуационным, надиндивидуальным нормам как средствам и ориентирам в построении конкретных, ситуационно значимых предписаний, способов достижения целей мышления.
Овладение логикой объективно меняет и сам мыслительный процесс, и субъективную его базу, свойства сознания, самосознания, воли, самоопределения. Мышление выходит за рамки "внутренних" процессов и в него включаются внешние культурные (логические, языковые и т.п.) факторы, субъективные носители этих факторов, сама социокультурная среда. Но их включение в конкретное мышление имеет особенности, раскрываемые в знаниях о мыслекоммуникации, решении задач и проблем и т.п.
Сама предписывающая сторона логики или ее практическая основа, относительно которой наука о мышлении выступает в качестве сервиса, прикреплена прежде всего к тому, что легче всего регламентировать. Внутренние субъективные процессы регламентировать непосредственно невозможно, хотя ради них и предпринимаются усилия, вводятся регламентации. Поэтому регламентации подвергается прежде всего "действенная" сторона, оперирование со знаками – "правила употребления языка", "условия суждения при помощи использования слов" и т.д.
Но оперирование знаковыми средствами важно лишь в той мере, в какой оно связано с содержательной стороной мышления. При стихийности содержаний, их динамики ("течения ассоциаций" и т.п.) правила не нужны и применение знаковых средств лишь сопровождает внутреннюю динамику как внешне – внутренний фактор. Организация и предписывание оперирование языком, знаками становится важным для преодоления стихийности мышления, обеспечения выхода на сущностные результаты, прихода к требуемому эффекту и т.п. если знаки скреплены с очень строгими, имеющими конструктивную форму, сущностными представлениями – с "значениями", "понятиями", "категориями".
Оперирование со знаками воплощается в построение текстов, в перестраиваниях их, создании замещающих текстов и т.п. Поэтому появляется сама необходимость так организовывать построение знаковых структур, текстов, чтобы в них отражался мыслительный поиск, внутренняя исходная динамика. Выведенное во вне, в оперирование текстами мышление воссоздает первичное течение его организацию. В первичном материале выражаются смыслы, а языковые значения (и понятия, категории) используются для мыслительной оценки материала. Так возникают суждения, имеющие стороны материала (субъект мысли) и средства (предикат мысли). В мышлении человек осуществляет поиск, раскрытие, констатацию и др., но уже не непосредственно, за счет соотнесения смыслов, а за счет перехода от случайной стороны содержания и поиска к неслучайной, обеспечиваемого культурными, надиндивидуальными содержательными средствами – значениями. Логика регламентирует соотнесение смыслов и значений в реализации различных мыслительных функций, типовых целей и задач. Чаще подчеркивали функцию познания. И тогда значение, как замещение смыла, дает более глубокий, сущностный вариант знания. Для "полного" раскрытия требуется построение синтетических значений, конструирование на основе выраженности первичных смыслов. В логике регламентируется такое конструирование и оно возможно лишь за счет отхода от естественного, докультурного "оперирования" смыслами, требует того, что называли "чистым мышлением" ("мышление вообще", "мышление сущности" и др.).
Однако помимо познавательной функции мышления существуют и другие (понимание, изложение мнения, критика, решение задач, решение проблем, постановка задач, постановка проблем, проектирование, прогнозирование и т.п.). Рефлексивный характер основной "массы" мышления требует иной регламентации, других логических форм. Особую роль в самоорганизации вообще и в самоорганизации в связи с самостоятельным мыслительным поиском, вхождением в новые поля проблем, в новые области проблем, в новые области знания, а также в связи с участием в совместных формах мышления и т.п. играют такие мыслительные формы, как "решение задач", "решение проблем", а также "постановка задач", "постановка проблем". В этих функциональных линиях потока мышления формы мышления и средства мышления ведут к интеллектуальному развитию, что предполагает поиск эффективных форм самоорганизации и саморазвития мыслителя.
2.7 Решение задач и мышление
Первоначально изложим ряд идей, касающихся сущности решения задач. Несмотря на привычность указанного типа мышления, самих терминов "задача", "решение задач", множество описаний хода мышления и др. сущность этой формы мышления требует особого внимания.
Тем более это касается условий рефлексивной самоорганизации и организации интеллектуального саморазвития.
Таблица 7
Решение задач
| Автор | Высказывание |
| Рубинштейн | Задача должна быть понята и принята. |
| Славская | Мышление – это решение задач. |
| Пономарев | В ходе решения задачи осуществляется рефлексия, в которой выявляются побочные продукты и используются. Различные фазы участники решения задач проходят неодновременно, что может разрушить единую направленность общения по поводу решения задачи. |
| Алексеев | Рефлексия процедуры проверки, регулируемая логическим представлениями ведет к осознанности решения задачи и к умению решать задачи определенного класса в целом, к неизменности способа решения задач, особенно при небольшом варьировании условий постановки задач, к возможности формулирования способа решения. |
| Гурова | Психические процессы нарушают логическую последовательность решения задачи, к забеганию вперед, нащупывании трудностей, к нахождению ключа к решению. Возникновение гипотез, частных и общих, способствует уточнению решения. |
| Москалев | В задаче есть условия и требования. Оперирование условиями ведет к решению. Способ решения задачи включает оперативную составляющую, преобразование условий, и управление этим процессом. Процесс решения предстает много этажным движением по замещениям объективного содержания. Условия и требования даны в соответствующей системе понятий. |
| Мансуров | Процесс решения задачи зависит от ее формулировки и оформления, например, в чертеже. В чертеже можно проводить перестраивания, на хождение новых черт, новых отношений, что ведет к решению. |
| Поливанова | Стратегия решения задачи включает и наглядное, и интуитивное решение, использующее узловые пересечения содержательных связей для создания эффекта концентрации информации, с точки зрения достигаемой цели. |
| Давыдов | Теоретическое решение задач предполагает анализ условий и требований одной задачи, абстрагирование ее существенных зависимостей и переход к решению обобщенному и сразу, что опирается на использование рефлексии хода решения задачи. |
| Путляева | На ход решения задачи влияет степень соответствия ей уровня знаний, имеющийся у субъекта, применяемый им способ действия, установки, опыт, эмоциональная устойчивость. |
| Терехов | Решение задачи дает средства и условия достижения более отдаленной цели. Субъект в процессе решения приобретает именно те средства и способы, которые были актуальны для него в решении задачи. |
| Верник | Чем задача труднее, тем больше и дальше уходит субъект за ее первоначальное содержание. В ходе решения применяются модели разных уровней, от фиксирующих условия и формальных до глубинных, где исчезает граница содержания и формы, преобладает содержание. Через укрупнение элементов ситуации возникают скачки через информационные пробелы. Модель задачи – это срез хода решения, применяемые в нем схемы и содержания. |
| Братусь | Текст задачи предполагает изображение событий, установление их порядка, что позволяет раскрывать действия решения задачи. |
| Обухова | Текст задачи надо членить, восстанавливать по ним проблемную ситуацию, схематизировать ее, выделяя объектные части. Это ведет к решению. |
| Аверин | Решение задачи облегчается, если она опирается на переход от абстрактного к конкретному. Место неизвестного занимают новые обобщенные знания и способы обобщения. Это требует рефлексивного осознания собственных действий, способа решения задачи. |
| Идобаева | Ориентировка в структуре действия ведет к обобщенному анализу задач. Условия задачи анализируются не только по предметному содержанию, но по строению действий. |
| Тихонова | В процесс решения задачи входят анализ задачи, формулировка и проверка гипотез, составление методики изучение и обработка данных. |
| Моляко | В задаче выделяется знакомая и незнакомая части. Замысел предопределяется выделением ориентиров, поиском приложимых признаков, сравнение и с ориентирами, принятием решения о приемлемом, проверкой замысла. Задача изучается и переформулируется. В ней выделяются конкретные звенья, проводится умственный эксперимент, осуществляются переносы. |
| Брушлинский | В задаче анализируется отношение, соотнесенное с реальным, выделяется свойство как носитель неизвестного, связанный с известным. Осуществляется поиск этой связи за счет вхождения в новые связи, что и развивает ход мышления. |
| Эсаулов | В ходе решения задачи переформулируются вопросы, цели как по линии конкретизации, так и по линии обобщения. |
| Цацковская | Ознакомившись с содержанием задачи субъект приступает к схематизации отношений, а затем опирается на полученные схемы в ходе решения задачи. Схемы позволяют формировать общие умения решать задачи. |
| Даблаев | Задача это условия и вопрос. В условиях ищется то, что необходимо для ответа. |
| Рубинштейн | Новые данные ведут к выходу за исходные условия задачи, к новым выводам, новым связям, включение которых фиксируется в новых понятиях, что обеспечивает переформулировку задачи. |
| Давыдов | Поставить учебную задачу – это ввести в ситуацию, требующую ориентации на обобщенный способ решения задачи, моделирования всеобщего в символах, преобразование моделей для изучения в чистом виде, построение частных задач с решением их в общем виде, контроль и оценка усвоения способа решения. Это связано с движением от содержания к содержанию, от схемы к схеме, рефлексией способа решения и происхождения понятия, управлением действиями, отношением к нему. |
| Выготский | При появлении затруднений решение задачи замедливается в пределах готового автоматизма действий. Это требует анализа затруднений, их выявления, поиска и введения внешних средств для решения задачи. |
Данные идеи и то, что рассмотрено выше при характеристике мышления, позволяет подчеркнуть общие особенности задачной формы мышления.
Решения задач наиболее отчетливо оформляется тогда, когда оно включает в себя в тексте выраженное "напряжение" между "исходными данными" (условиями) и "вопросом". Если условия задачи даны как смысловое выражение некоторого фрагмента "мира", которое не может быть дано в тексте условий исчерпывающим образом, то вопрос всегда предполагает обращение к значениям, к оформленности представлений, абстрактности и структурной определенности, так как вопрос опирается на вполне определенную теорию, мировоззрение, введенное языком. Вопрос является средством выработки отношения к ситуации, в которой пребывает мыслящий. Вопрос появляется из жизнедеятельности, деятельности, общения, коммуникации и т.п. в виде соответствующего напряжения в "действии", а затем в "рефлексии". Но он приобретает оформление на счет использования языковых средств. Вопрос или овнешнение внутреннего интеллектуального напряжения и его осредствление является необходимой предпосылкой задачи. Однако только после фиксации того материала, из которого можно искать ответ на него (вопрос), появляется достаточная предпосылка задачи. Когда эти "условия" (материал смыслов или иной материал представлений) не фиксированы мышление остается в предзадачной форме.
Условия тоже выражаются в языковых средствах. Но способ их фиксации всегда является смысловым. Даже в том случае, когда они даются в значениевом виде, вопрос формулируется на более высоком уровне абстрактности, что превращает эти значения в "смыслы", но только в соотнесении со значениями (вопроса). Иначе говоря, задача изначально строится на различии уровней абстрактности условий и вопроса. Если сознание мыслящего и его самосознание не выделяет уровни и не соотносит их в процессе решения задач, применительно к содержанию вопроса и условий, то мыслящий не может оформить свое мышление как процесс решения задачи, сводит его к "некоторому течению" содержаний различного типа. Поэтому так и важна рефлексия, ее сопровождение в ходе поиска ответа на вопрос.
Отсюда же понятно, почему задачная форма появляется из ситуации вопроса на "допонимание" в мыслекоммуникации. Именно так возникает вопрос с фиксированными условиями (версией понятого), разделяется конкретное содержание (версия) и абстрактное (вопрос). Как только эта ситуация выделяется из мыслекоммуникации и лишь сохраняет форму и средства мыслекоммуникации как сервис выделенности оппозиции "вопрос – условия", так она и становится задачей. Мыслительный процесс, вызванный содержанием и напряжением вопроса и обращающийся к условиям для поиска ответа, становится процессом решения задачи.
Если поиск ответа осознается бесперспективным из-за ограниченности фиксированных условий, то он продолжается за счет "расширения" объема условий со стороны самого мылящего, решающего задачу. Он не подвергает сомнению саму необходимость ответа на вопрос, само содержание вопроса. Этот запрет является сущностной характеристикой решения задачи. Вопрос ("неизвестное") является для мыслителя консервативным, абсолютно ценным, подчиняющим мыслительное бытие.
Сам процесс решения задачи заключается в параллельном сопоставлении двух типов содержаний (условий и вопроса). При этом содержание вопроса предполагает переход к целостности "конструктивного мира" (идеального объекта) и опознание места в нем того, на что указывает вопрос. Следовательно, решение задачи, предстает как соотнесение двух миров (смыслового и значениевого) и двух средственных конструкций их выражающих. Смысловое выражение условий дает "содержательность" мира, а значениевое выражение – "формное" мира. Два типа текста, имея свои содержания, но различающиеся по уровню абстрактности в соотнесении друг с другом начинают реализовывать разные функции в едином мышлении – сопоставлении для опознания в смыслах аналога ("искомого") того, что дано в значении (части идеального объекта, соответствующего "неизвестному" или вопросу). Взаимозависимость в этом соотнесении является неравной, односторонней, подчиненной "неизвестному", но все же это и есть целостность мышления как решения задачи. В этом мышлении "неизвестное" и активизирует, и направляет поиск "искомого".
Поскольку соотнесение является и "формальным" (двух рядов знаковых конструкций (текстов)), и "содержательным" (двух миров), то возникает вопрос о способе пребывания в одной части целостности, в другой и в переходах от одной к другой. Рефлексия должна эти пребывания фиксировать и контролировать, а если нужно – конкретизировать, в соответствие с особенностями всех "пунктов" пребывания. Пребывание в мирах означает для мышления, что мыслитель отождествляется с "миром" и подчиняется его объектности. Тем самым, мыслитель должен уметь проходить путь в объектно-каузальной логике, в соответствии с тем, как устроен этот мир. Так как мира здесь два, то и пребывание по критерию объектной каузальности становится различным – в "смысловом" и "значениевом" вариантах. Именно из-за этого различия и стимулируется развитие культуры мышления и интеллектуальное совершенствование.
Смысл, будучи индивидуальным и стихийным, подчиненным внутренним условиям мышления всегда легко нарушает объектную логику и объектную каузальность. Мыслитель, опирающийся на смысл и его динамику, не может выйти в отчужденное самоотношение, преодоление эгоцентричности и потому всегда "отодвигается" от существенного, истинного, а если и к нему приближается, то легко меняет траекторию и проходит мимо сущности, требуемого. Критичность смыслового мыслителя всегда нестабильна и случайна или просто отсутствует. Поэтому поиск ответа на вопрос легко нарушается и вопрос перестает быть предельно значимым и диктующим. Процесс решения задачи разрушается и превращается просто в "течение ассоциаций".
Значение, в силу его конструктивности, структурной определенности, деперсонифицированности, дает возможность преодолевать эгоцентрическое самовыражение мыслителя. Но чтобы значение (синтетическое, фокусно-целостное и т.п.) было максимально соответствующим задачности, оно должно быть объектным по содержанию и конструкции значения становятся идеальным объектом, диктующим какие переходы в нем возможны, как и что с чем связано. Мыслитель, отождествляясь с этим объектом, может проходить объектно возможные пути, а в рефлексии – "видеть это хождение" и более осознанно и точно отождествляться вторично.
Именно это подчинение объектной логике (идеального объекта, основы для выделения "неизвестного") дает огромные возможности в вариативности вопросов, что необходимо для выявления ответов, а вариативность остается в целостности объектного мышления и объектной идентификации мыслителя. Только такое (объектное) мышление является источником объектной организации поиска решения задачи. Сопоставления тогда ведут к опознаванию как значимого для ответов на вопросы, так и случайного, незначимого, отсутствия необходимого и т.п.
Следовательно, применение значений, понятий, категорий заставляет осознавать потребность в объектно-каузальной логике, соответствующей форме организации мышления, осознавать всю культурную особенность идеальных миров и абстрактных средств их выражения, осознавать необходимость преодоления смыслового самовыражения там, где требуется "чистое мышление", "сущностное видение", надиндивидуальность отношения к требованиям задачи.
Подобное осознание ускоряется, когда решающий задачу пользуется знаковыми средствами, а особенно – символическими средствами (схемы), так как в них удается вывести вовне, в контролируемый извне и изнутри план сам процесс сопоставления миров и прийти к осознанному самоотношению, самокоррекциям. Тем самым, процесс решения задачи, выражаемый в схемах и проводимый с их помощью, рефлектируемый, корректируемый исходя из сущностного понимания задачной формы мышления является важным стимулом к интеллектуального саморазвития и приобретения качеств интеллектуальной культуры. Процесс решения задачи, являющийся рефлектируемым и осознаваемым как целое, превращается в механизм мышления, могущий расслаиваться и выделять в себе "фундаментальный", обобщенный слой. В нем предполагается и коррекции самих исходных оснований задачи, оснований вопроса, что подготавливает появление проблемной формы мышления.
2.8 Решение проблем и мышление
Источником мыслительного поиска выступает фиксированное напряжение, интеллектуальная потребность. Однако определенность поиска зависит от определенности содержания напряжения, от определенности "внешней" предпосылки напряжения, от формы фиксации заказа на мыслительный поиск. При задачной форме организации мышления определенность "заказа" заранее вводится. В проблемных же ситуациях эта определенность становится еще только целевой установкой. Принципиальную роль играет новизна ситуации и неясность, неопределенность требований к реагированию на ситуацию.
Введем ряд идей, касающихся проблемных ситуаций, проблематизации и сущности проблем.
Таблица 8
Проблемы и мышление
| Автор | Высказывание |
| Рубинштейн | Проблемность выражает не только субъективные состояния, но и вытекает из объективного отношения познания к бытию. |
| Поппер | Организм не ждет повторения событий, создает догадку, без предпосылок отбрасываемую мышление идет путем догадок и их опровержений. |
| Лернер | Проблемная ситуация – явно или смутно осознаваемое затруднение, требующее поиска, новых знаний, способов. |
| Рубинштейн | Проблемная ситуация включает звенья, которые неопределены. Нераскрытое порождает вопросы, побуждает к анализу. |
| Махмутов | Проблемная ситуация – состояние затруднения, когда нельзя объяснить новый факт при помощи новых знаний. |
| Фридман | Проблемная ситуация – не просто затруднение, а осознанное затруднение, ведущее к поиску способа решения. |
| Жариков | Проблема – это вопрос, ответ на который не содержится в знании и не получается путем преобразования известными методами. |
| Пушкин | Проблемная ситуация возникает тогда, когда конфликт требований деятельности и условий возник, а арсенал прошлого опыта не дает готовой схемы и требует новую схему, стратегию деятельности. Информационные модели проблемных ситуаций возникают в ходе ориентировки в условиях задачи, что требует установление новых связей. |
| Пономарев | Проблемная ситуация включает осознавание проблемы, подчеркивание в ситуации, подведение под теоретические схемы, ведущие к возможности решения. Разрешение проблемы связано с введением гипотезы, переходом к тому, что отсутствует, привлечение теоретического как средств появления новых знаний, появление догадок, их развитие, нахождение принципа решения, проверка его эффективности, привлечение интуиции и неосознанного опыта, вербализацию, формализацию знания. Выделенные принцип обобщается, а решение предшествующих задач может использоваться как способ решения новой задачи. |
| Гарунов | Для разрешения проблемной ситуации нужна критичность, альтернативность, самостоятельность, выделение подпроблем, нахождение частичных решений. |
| Менчинская | Проблемные задачи вызывают самостоятельный поиск и нахождение способов решения; создание системы проблемных ситуаций, зависимых от трудностей и возможностей субъекта. |
| Пидкасистый | Проблемная ситуация не равна затруднению, так как вмешивается объективное содержание. |
| Матюшкин | Главное в проблемной ситуации – психическое состояние из-за затруднения, а также формулирование вопросов, перестройка способов решения при неадекватности условий. |
| Брушлинский | В проблемной ситуации возникают смутные впечатления, ощущение, что "что-то не так". |
| Заботин | Задача не равна проблеме, требует перевода от задачи к проблеме. |
| Мингазов | Проблема – это крупная, незавершенная задача. |
| Фридман | Проблемная ситуация – не просто затруднение, преграда, а осознание его и способ устранения, сначала желаемых, а затем необходимых. |
| Хабулашвили | Проблемная ситуация ведет к мобилизации субъекта, при наличии проблемы, достаточности знакомства с ней, познавательной потребностью, значительностью задания. |
| Сохор | Проблемная ситуация включает использование понятий и их связи. |
| Доблаев | Проблемная ситуация включает скрытый вопрос, требующий ответа. По ходу поиска ответа выявляется новизна, ставятся вопросы. |
| Гарунов | Проблемная ситуация ведет к усмотрениям, созданиям, формулировкам проблемы, а также анализу, определению круга недостающих заданий и путей их выполнения, гипотезам решения, доказательствам и опровержению, формулированию решения проблем с помощью имеющихся знаний, формулировке и выбору решения. |
| Уикк | Проблема – результат познания, указывающий на пустые места, выявляет противоречие, а затем преодолевает. |
| Давыдов | Основная функция мышления – не подведение под известное, а обеспечение открытия новых свойств через опровержение. В проблемной ситуации выявляются условия, формулируются и переформулируются связи известного с неизвестным. Новые качества фиксируются в новых понятиях, новые содержания вычерпываются. |
Тем самым, акцент при анализе "решения проблем" и "постановки проблем" ставится на непосредственной несоотносимости "субъекта" и "предиката" мысли, на нераскрытости ситуации, в которой возникло затруднение, на неопределенности вопроса, на который следует отвечать и т.п. Прежние средства раскрытия ситуации уже не являются эффективными. Все это вызывает мобилизацию и непредсказуемость в действиях.
В самоорганизации в этих случаях важную роль играет выявление того, что требуется искать. Переход от напряжения и дисбаланса в мышлении, вызванных отсутствием структурной определенности формы и содержания мысли, ведет к поиску этой определенности. Иначе говоря, если в решении задач есть твердая опора на вопрос, его определенность, наличие способности, поняв вопрос понимать и тот "объект", который сопоставляется с материалом условий и извлекается ответ на готовый, введенный автором вопрос, то в проблемной ситуации наличие "объекта" (идеального) не позволяет приступить к поиску ответа на прежние вопросы. Этот объект как бы "про другое". Появляется поиск возможности возращения к стабильной ситуации. Фактически это возврат к соотносимости конкретного и абстрактного через поиск абстрактного и консервации конкретного смысла. Субъективное напряжение создает не наличие представлений о ситуации, не наличие материала смыслов и даже их недостаточной определенности. Оно создается тем, что нет условий соотнесения смысла и значения, материала и средства мышления при реализации функций мышления. Лишь вторично значимо и иное напряжение – в "действии", которое рефлексивно осмысливается и порождает мыслительное напряжение. Неясность и неполнота смыслов вызывает напряжение лишь при оценке этих смыслов и, следовательно, в сопоставлении со средствами оценки или установкой на определенность.
Так как выявляется "неполнота", "неструктурность", "неясность" и т.п. того, о чем ведется речь, то резко возрастает вовлечение всего того, что могло бы увеличить степень ясности, полноты, структурности и т.п. Если подобный поиск осуществляется в познании объекта, то активизируются ресурсы усматривания, фиксации всего того, что характеризует объект, оперирования им для нахождения новых свойств и т.п.
Гораздо меньше характеризуется качественная характеристика процессов "постановки проблем" и их решения. Само понимание проблемы сдвинуто в плоскость субъективных состояний. Однако для мышления более объективизированного, социокультурно значимого, предполагается доказательство и неслучайность, открепленность просто от переживаний и т.п. важнее именно определенность того, что ищется. А она и ведет к появлению проблемы. Рыхлые смыслы и смысловое понимание того, что ищется, безответственное и неорганизованное мышление является лишь начальным этапом, предпосылкой прихода к определенности. Главное в проблемной ситуации – это отсутствие устойчивого и строго содержания вопроса, требующего ответа. Поэтому поиск "вопроса" и составляет путь и результат процесса и, следовательно, возврата к "задачной ситуации". Но тогда появляется именно тот вопрос, та опорная точка поиска, опираясь на который преодолевается неопределенность и "объективное" напряжение. Это – проблемный вопрос. Ответом на него служит задачный вопрос. В самоорганизации мыслителя появление проблемного вопроса соответствует появлению проблемы или содержательности "пустого места", нового неизвестного.
Формальный вопрос – "что искать?" превращается в содержательный и он уже дает точку опоры во всем мыслительном процессе. Но этот вопрос предполагает выход на еще более абстрактный уровень содержаний, предполагает оперирование абстракциями более высокого уровня, более высокой и сложной формой культуры мышления. От смысла происходит переход не к значению, а к его более абстрактному основанию. Кроме того, само это основание еще не имеет прототипа основанного, т.е. прежнего значения, так как смысл вызывает к значениевому выражению не прежнее значение, а иное, которого еще нет и оно находится "где-то в другом месте охватываемого мира".
Следовательно, проблема не сводима к затруднению, к психическому состоянию и т.п., так как она выражается средствами высокого уровня абстрактности и без этих средств не фиксируется. Проблематизация опирается, поэтому на оперирование значениями, понятиями, на мыслительную культуру. Проблематизация состоит в обнаружении той части абстракции "второго уровня", которой соответствует материал "неясного" смысла.
Если иметь в виду, что постановка задач и проблем, разрешение проблем происходит в рефлексии или в ее иных аналогах, то материалам смыслов соответствует эмпирическая реконструкция ситуации, а значению – концептуальный заместитель. Поэтому при переходе от концепта к норме (способу действия) проблематизация продолжается уже в нормативной плоскости. Прежняя норма корректируется (стирающим или дополняющим образом) и возникают вопросы о том, что должно быть подвергнуто коррекции, что должно быть "стерто", а что – "добавлено".
Проблема является средством организации мышления на фазе перехода от проблемы к задаче, а "формулировка проблемы" – результатом понятийного оформления узла смыслов, ставшего значимым для всего хода мышления. Если эта зона смыслов еще не локализована, то осуществляется ее поиск или построение.
Различие между "проблемной ситуацией" и "проблемой", между стихией активизации ресурсов мышления и организованной процедурой локализации и оформления смыслов, оформления хода поиска и т.п. показывает, что мыслитель только тогда может прийти к проблеме и разрешению проблемы, когда он уже трансформировал механизм мышления, развил рефлексию, обеспечил ее критериями, придал форму всем процессам и самой способности оформления поисков. Это неизбежно опирается на сознание, самосознание, самоопределение, самокоррекцию, волю и др. высшие механизмы психики. В интеллектуальном саморазвитии осуществляется путь приобретения этих способностей. Но для того чтобы это было успешно без внешней организации требуется опора на специальные факторы.
2.9 Логика "восхождения" и мышление
Логические формы мышления выявлялись прежде всего в анализе языкового мышления, хода рассуждения, материализуемого в развертывании текста. Поэтому единицей мыслительной цепи выступало суждение, соотнесение субъекта и предиката с опорой на предикат. В умозаключении фиксировались различные варианты изменения предиката и переопределение первоначальных утверждений. Важно было следить за поводами и действием их на "переделки" предиката. Так как сам предикат либо рекрутировался из парадигматического набора, "словаря", либо строился с участием парадигматических элементов, то важную роль играло соотношение между парадигматическим набором (постоянным корпусом средств) и синтагматическим конструированием (переменные результаты). Вместе с построенностью предикативной структуры приобретало определенность и содержание структуры, а также содержательное "чтение" структуры.
Приведем ряд идей той организации конструирования синтагмы и ее содержательного прочтения, которая имела названия "восхождения" от абстрактного к конкретному или "диалектического движения мысли".
Таблица 9
Логика "восхождения"
| Автор | Высказывание |
| Платон | Ум в диалектике делает предположения и идет до непредположенного, начала всего. Он держится связанного с ним и так идет до конца, не трогая чувственного. Идеи определяются через идеи и для идей, оканчиваются на идеях. Надо принять положение за верное, двигаться вперед, условившись, что даже если покажется что-то иначе, решать все, исходя из этого положения. |
| Декарт | Руководить за ходом мыслей, начиная с предметов простейших, легко познаваемых, восходить по ступеням до наиболее сложного, допуская порядок даже среди тех, которые в естественном порядке не предшествуют друг другу, не пропуская ничего. |
| Фихте | Научное изложение исходит из самого неопределенного и определяет на глазах у читателя. Объектам приписываются другие предикаты, чем вначале. Это развивает положение, которое затем опровергает и таким образом посредством антитезиса движет вперед к синтезу, оканчивающемуся в конце. |
| Гегель | Наука должна начинать с абсолютно простого, всеобщего, пустого, развивая то, что в зародыше, давая свободу, произвол мышлению. Всеобщее определяет себя из самого себя. Цель научного устремления – возвысить эмпирически известное до понятия, истинного. Метод в науке – объясняющее себя понятие, принцип и душа предмета. Диалектическое в мышлении – всеобщее определяет себя из самого себя как другое по отношению к себе. Мысли в логике понимаются как не имеющие другого содержания, кроме порождаемого им, входящим в состав мышления. Мысль идет поступательно от одного содержания к другому, от простых дефиниций к более богатым. Всеобщее, как основа, сохраняется в обособлении, обогащается новой определенностью. Результат содержит свое начало. На каждой ступени всеобщее поднимает выше массу предшествующего содержания, не оставляя ничего позади, уплотняя его внутри себя. На каждой ступени образ абсолютного ограничен и гонит себя дальше. |
| Энгельс | Диалектическая логика, в противовес формальной логике, не перечисляет формы движения мысли без связи, ставя их рядом друг с другом, а выводит эти формы, субординирует, более высокие выводит из более низких. |
| Ильенков | Конкретное в мышлении синоним объекта, является целью, а абстрактное – средством. Оно синтезируется в конкретное. Восхождение от абстрактного к конкретному – способ усвоения объект, способ его анализа. |
| Агуров | Восхождение от абстрактного к конкретному – это способ познания развивающихся, целостных объектов. Он состоит в вычленении исходного противоречия в объекте ("клеточка"), слежение внутри него, анализе главного противоречия на этапе движения мысли, построение первого шага в разрешении противоречия, спуски на конкретное решение задач, индуктивное обобщение (эмпирическое), второй шаг в решении задачи, поднятие до теоретического, выводы из решения, вычленение следующей проблемы. |
| Кумпф | Конкретное – не чувственные данные, а логическое воспроизведение объекта, единство определений, конкретное понятие. Оно предполагает выделение моментов, абстракции как начала, содержащей противоречие, ведущее к самодви жению. Из абстрактного необходимо вытекает остальное. Начало – имеет минимум дефиниций. |
| Швырев | Теоретическое мышление стремится к построению особого "теоретического мира", который имеет свою "онтологию", представляющую некоторое многообразие в единстве, единое в многообразии. Построение такое целостности, внутренне дифференцированной картины теоретического мира является целью теоретического мышления. Первичные концептуализированные образования неизбежно несут в себе тенденцию к внутренней дифференциации, конкретизации. |
| Карнап | Построение языка науки включает использование элементарных терминов и на их основе – более абстрактных терминов. С вершины, где выбраны несколько абстрактных аксиом, движение идет вниз, ко все менее абстрактным терминам, определениям. |
| Щедровицкий | Главное в методе восхождения – зависимость последующей операции от характера и результатов предшествующей операции, обратная зависимость от всех последующих операций. Это ведет к методологическому планированию последовательности операций и управлению каждой. Надо выделить в объекте не произвольную сторону, независимую от ранее выявленной, а ту, которая снимает исходную, содержит свойства, не существующие в предшествующем, а операции будут другими, чем при построении односторонних знаний. Новая сторона не равна сумме прежних. |
Нас интересует не широкий контекст познания, его теоретической формы, прихода к истине и т.п., а способ мышления, способ перехода от одного предиката к другому.
Во всех вариантах идеи, которая обсуждалась в указанном ряду, различались два этапа работы мысли. На первом этапе осуществляется отход от созерцательного многообразия материала смыслов, имеющих конкретный уровень, в оппозиции "конкретное – абстрактное", и переход к абстракциям высшего типа, когда уже не остается ничего конкретного. В этом случае любое утверждение по содержанию перестает опираться на иное, на наблюдаемое, на внешнее самому мышлению, мыслительному механизму. Путем построения ряда замещений мыслитель доходит до предельного заместителя (заместителя заместителей) и "избавляется" в нем от первичного материала смыслов, упрощает содержание, дает ему абстрактный статус. Однако само "упрощение" не должно быть формальным устранением частей смыслов. Упрощение состоит в конструировании такого целостного, структурного заместителя, в котором опознавалась бы целостность объекта. Соединение технологических признаков упрощения и сохранения структуры объекта и соответствует введению представлений о наименее развитом этапе бытия объекта. В конструктивном заместителе вводятся минимально необходимое количество признаков объекта, которые максимально значимы для характеристики этапа и уровня развития объекта.
Таким образом, за счет введения абстракций высшего уровня как "изображений" начального уровня развития объекта, достигается возможность организованно усложнять, конкретизировать абстракции, внося в них то, что отзывается на противоречие и ведет к более развитому состоянию. В этом контролируемом усложнении при сохранении усложненного как принадлежащего одному и тому же и состоит техническая сторона этой формы мышления. А содержательная сторона состоит в реконструкции развития, последовательного ряда возникновения и разрешения структурных, бытийных противоречий. Подобное мышление предельно связывает динамику содержания, порядок его усложнения с мыслительным конструированием, а не привлечением самих изначальных смыслов, эмпирических фиксаций. Поэтому если конструирующий мыслитель желает придавать конструкциям содержательность и предопределить чтение конструкций "логикой объекта", а не произволом интерпретации, то мыслитель сам должен подчинить ход конструирования логике объекта, отказаться от конструкторского произвола. Его свобода должна быть содержательно необходимой. Мыслитель тогда вынужден как бы спрашивать у содержания соизволения проявить конструкторскую активность, найти доказательство, что следующий конструкторский ход подчинен новому "возникшему" противоречию и возможности его снятия.
Формная сторона мышления состоит в том, что последующий предикат является синтезом предшествующего как уточняемого и особого, вводимого как бы извне предиката как уточняющего. Уточняемое содержание либо приемлет уточняющее и тогда синтез не ведет к кризису, дестабилизации движения мысли, либо производится отторжение уточняющего содержания и нейтрализуется формализм мыслительского конструирования. Мыслитель должен уметь находить, строить исходный уточняемый предикат ("клеточка") и выявлять, строить ряд уточняющих предикатов, использование которых позволяет пройти путь к самой конкретной абстракции (синтетическому предикату). Сама же содержательность имеет своим прототипом сумму начальных смыслов. Именно на них и ориентируется мыслитель. Он строит чистомыслительный аналог сумме смыслов. Этим он и воздает сущностный дубликат "знания" об объекте.
Для самоорганизующегося мыслителя и имеющего на "входе" массу смыслов, результатов наблюдений, описаний, мнений очевидцев, заготовок концепций и т.п. основной задачей является "очищение" материала от его несущественности. Это возможно лишь на пути построения абстрактного заместителя. Если он владеет указанной техникой мышления, то любые трудности ему не будут преградой. Он в последовательности попыток находит лучший вариант заместителя и сущностно раскрывает материал, а затем использует конструкцию в целом, ее этапы, исходный и уточняющие предикаты для решения любых возникающих задач и проблем. Если же он не владеет, но знает общие требования к конструированию заместителя, то он проходит самостоятельно путь приобретения способности. На этом пути он преодолевает все случайности проявлений мышления, сознания, самосознания, самоотношения и т.п. Он приобретает способность действовать в логике не своих настроений и стремлений, а выхода на объективное, на логику объекта, "внутриобъектное" движения мысли, без чего невозможно перейти к решению всех типовых задач и проблем в мышлении и рефлексии. У мыслителя создаются абстрактные аналоги всех содержаний, синтез абстракций, вплоть до мировоззрения. К нему можно устанавливать и соответствующее его уровню отношения, что ведет к возвышению потребностей до уровня ценностей. Появляются высшие качества интеллектуального духа, включая и "духа вообще".
Именно оперирование схемами позволяет перенести весь этот путь развития мысли во внешне замечаемый и контролируемый план, что предельно важно для саморазвития. Целостность работы включает и внешнее (схемотехника), и внутреннее (самоотношение).
2.10 Моделирование и мышление
Вышеуказанные особенности переходов от смысла к значению, понятию, категории, от конкретного к абстрактному и наоборот, от проблемы к задаче и от задачи к проблеме, от знания к прогнозу, от прогноза к проекту, от задачи к тактике, а затем к стратегии, от мнения к критериям мысли и т.п. с помощью схем могут быть созданы, сформированы достаточно контролируемым и самоконтролируемым образом. Особую роль играют процедуры, которые получили название "моделирования". Рассмотрим ряд идей, характеризующих модели и моделирование.
Таблица 10
Модели и мышление
| Автор | Высказывание |
| Штофф | Модель способна замещать объект, отображая или воспроизводя его, так, что ее изучение дает новую информацию об объекте. В модели отображается объект как единство чувственно-наглядного и логического. |
| Максвелл | Это физическая абстракция, используемая для физической интерпретации и которую не надо терять из виду и объяснять. |
| Селларс | Модели позволяют вводить развитие фундаментальных допущений и описание объектов таким способом, чтобы видеть как возникают явления, если они от объектов того же рода. |
| Герц | Модели опираются на представления из опыта и построение тех представлений, которые соответствуют требованиям быстрейшим путем выводить следствия, для регистрации которых потребовалось бы много времени или наше вмешательство. |
| Вайхингер | В схемах, моделях сохраняется остов комплекса. Мысленное решение проводится на этом голом образе, с которого совлечены одеяния действительности. В модели все субъективно, содержится абстрактная структура представителей очень сложного объекта. |
| Умов | Моделирование нужно для познания ненаблюдаемых явлений, для связи с необходимыми и достаточными признаками явления. Мировоззрение – это сумма моделей, соответствующих и не соответствующих объектам. |
| Ревзин | Модель – это гипотеза объекта из которой выводятся следствия, сопоставляемые с фактами. |
| Седов | Моделирование – это замена изучения явления объекта изучением аналогичного явления на модели иного масштаба в лабораторный условиях. Результаты позволяют дать ответы об объектах в их натуральных условиях. |
| Лурия | Восприятие модели дает наглядный анализ. Изучение модели включает восприятие геометрических отношений, их мыслительное перемещение, мыслительные комбинации. |
| Леонтьев | Модель – это сумма элементов, находящихся в отношениях, подобных отношениям элементов в другой системе. |
| Фролов | Моделирование состоит в имитировании систем путем специального конструирования, воспроизводящего принципы организации и функционирования этой части. |
| Новик | Моделирование – это использование вспомогательных объектов, находящихся в некотором объективном соответствии с объектом, способных замещать его в определенном отношении и при его исследовании появляется информация об объекте. |
| Натель | Модель – средство установления фундаментальных положений теории. |
| Эйгерсон | Прежде чем приступить к моделированию необходимо описать явление в образе. |
| Мейер | Предсказание в науке относится не к объектам, а к моделям объектов. Это относится и к научным знаниям. |
| Дессауэр | Модельное воспроизведение никогда полностью не может передать объект. |
| Вистнек | Модель – система используемая, создаваемая, выбираемая в качестве заместителя, представителя сложного оригинала на основе общности в существенном для определенных задач. Она облегчает понимание и овладение оригиналом. |
| Маслов | Модели строятся под круг и строй идей. |
| Венда Гамезо Забродин Рубахин | Модель – материальна, извлекает систему отношений, исключает несущественное, представляет в доступной форме для восприятия и осмысливания. |
| Давыдов | Знаковые модели нужны для изучения в чистом виде, для формирования абстрактных понятий. |
| Елисеева | Модель как схема помогает решать трудные задачи, видеть все мгновенно и восстанавливать суть, дает путь усвоения нового и выступает средством контроля. |
| Жедек Левина | Модель – целостное представление, демонстративна, объясняюща, вооружающая методом выявления. |
| Хинде | Слишком хорошая модель бесплодна, слишком отдаленная – дает заблуждения. |
| Карнап | В науке строят модели как мост между объектом и постулатом, для построения постулатов и предполагая интерпретации для исчисления. |
| Бохенски | Модель – наблюдаемое образование, которое одинаково по форме с представленным в научном высказывании положением вещей. |
| Франц | Модель – это эвристическое средство сведения непривычного к привычному. |
| Гейзинберг | Модель проста, иллюстрирует основные черты будущей теории. |
| Салмина | Моделирование есть воспроизведение существенных свойств, создание заместителя для работы с ним, для фиксации свойств, для бытия в качестве средства анализа. Она выступает как чувственная опора в абстрагировании и обобщении и включает в себя программу анализа новых свойств. |
| Розин | Действие с моделями замещают действия с объектами модели, обеспечивают обобщение и абстрагирование. |
Мы видим, что моделирование связано с преодолением вполне определенных трудностей. Это касается, прежде всего трудностей в познании, когда объект слишком сложен для организации познавательных процедур, или его невозможно сделать предметом прямого наблюдения, или он неудобен в обращении при осуществлении познавательной деятельности, или в объекте скрыто существенное и т.п.
Модели строятся как "подобия" объекта изучения и эта подобность должна быть достаточно доказательна. Будучи удобной для исследования модель подвергается всем типовым исследовательским процедурам. Но результаты познания распространимы как знание о том, чему модели аналогичны. Поэтому они всегда носят гипотетический характер и требуют дополнительных подтверждений. Полезность переноса обеспечивается тем, что знания эти появляются "быстрее" и они становятся "легко" возрастающими в объеме и качестве именно за счет модельного замещения.
Модели строятся целенаправленно с осознанием того, что подчеркивается в типе объектов и что является наиболее значимым в раскрытии непознанного. Поэтому модель появляется и в подборе аналога под критерий, и за счет трансформации образца и создания предпосылок увеличения вероятности "доступа" к тому, что требуется изучить. Особым вариантом моделирования выступает такое трансформирование образца, чтобы сделать доступным и возможным демонстративный "показ" всех существенных качеств объекта. Тем самым, подчеркивание и способствование акцентированному показу явлений подчинено показу тех проявлений сущности, которые наиболее "прямо" зависимы от сущности и создают иллюзию показа сущности как таковой.
Поскольку модели становятся особым приемом и средством преодоления трудностей в познании, то затем они превращаемы в средства преодоления трудностей в реализации и иных рефлексивных трудностей – в критике, проблематизации, нормировании, прогнозировании и др.
Таким образом, возникает моделирование в системах деятельности, игромоделирование. Так как в модели подчеркнуто то, что значимо для рефлексивного анализа, то путь рефлексивного поиска становится изощреннее, богаче, а, с другой стороны, он может резко сокращаться. Тем более что при создании знаковых моделей и схематических изображений осуществляется "сжатие" информации при "наглядном" способе рассмотрения качеств "объекта" изучения. Все преимущества схематизации превращаются в преимущества моделирования в структуре рефлексивно-мыслительного поиска.
В интеллектуальной самоорганизации и саморазвитии переходы от схематизации к моделированию означают переход от интеллектуальной обработки, переработки содержаний и текстов в решении задач и проблем к дополнительному познанию, переводу познания в замещенный знаково-символический план и возможности воспроизведения подобных процедур в оперировании с объектами в той мере, в какой это возможно по критерию подобия. Но для того чтобы использовать преимущества схематизации в моделировании, нужно особое внимание уделить объектной идентификации и "объектной логике" движения мысли.
Совмещение достоинств схематизации и моделирования особенно эффективно в процессе понимания наиболее сложных текстов, при поиске возможностей совершенствования точек зрения и выхода в новые и "стратегически" значимые линии развития содержания, при выявлении проблем в ходе рефлексивного анализа кризисных явлений, конфликтов и т.п. В игромоделировании совмещаются самые разные плоскости совместной деятельности и мышления. Рефлексивные звенья игрового механизма позволяют осуществлять такое "чистое мышление", результаты которого можно проверить в постановке модельных действий.
2.11 Метод и методология
В связи с реализацией деятельностного подхода, а также раскрытием мира и типологии норм особое место занимает раскрытие "метода" и перехода к "методологии". Очевидно, что любые "нормы" появляются в рефлексивных надстройках над действиями, в рефлексивных пространствах.
Но с "методом" связано не только само завершение специфического типа рефлексивного процесса, но и множество философских предметодологических смыслов, которые не оформлены в достаточной степени до сих пор.
В данном материале мы берем в качестве ключевого слова именно "метод" и подвергаем его специальному семантическому рассмотрению в многообразии трактовок, как философских, так и научных культурных, часто связанных с рефлексией процессов обучения, где термин имеет особую популярность. Приведем определения, характеристики "метода", опираясь на минимально достаточную рядоположенность мнений.
Таблица 11
Метод
| Автор | Мнения |
| Гобсс | Продвижение вперед от элементов к суждениям, соединению имен, к силлогизмам до знания всех связей имен по теме; это и составляет научное знание; в науке метод отчасти аналитичен и отчасти синтетичен. |
| Декарт | Лучше не помышлять об истинах, чем делать без всякого метода. Метод это точные и простые правила, строгое соблюдение которых препятствует принятию ложного за истинное, без лишней траты умственных сил, но постепенно и непрерывно увеличивая знания способствует умом истинного познания всего, что ему доступно. В неустанном искании самого абсолютного и заключается секрет метода. Некоторые вещи кажутся более абсолютными с одной точки зрения, чем другие, а рассмотренные иначе, оказываются более относительными. Надо избегать поспешность, предубежденность, включать то, что уму представляется ясным, делить трудности, чтобы лучше их рассмотреть, начиная с предметов простейших, легко познаваемых и восходить по ступеням допуская существование порядка и среди тех, которые в естественном порядке не предшествуют друг ругу, ничего не пропуская. |
| Беркли | Из методов вытекают правила, а метод выводится из принципов. |
| Милль | Метод – это правило. |
| Конт | Метод преобразования интеллектуальной системы состоит в том, чтобы составляющие науки представлялись как ветви из одного ствола, сведенными к тому, что составляет их сущность, т.е. к главным методам и результатам. Метод не может быть изучен отдельно от исследований, к которым он применятся. |
| Гегель | Согласно всеобщей идее метод в такой же мере способ познания, субъективно знающего себя познания, в какой он объективный способ, субстанциональность вещей, т.е. понятий. Метод – абсолютная сила разума, единственное его побуждение обрести и познать самого себя через самого себя. Метод есть само знание, для которого понятие дано и как предмет и как собственное субъективное действование, как орудие и средство познающей деятельности, как ее существенность. В ищущем познании метод есть орудие и средство познающей деятельности, как ее существенность. В ищущем познании метод есть орудие, находящееся на субъективной стороне и со стороны объекта. Форма метода – троичность, есть чистое понятие, относящееся лишь к самому себе, соотносящееся с собой, есть бытие. Метод – есть осознание формы внутреннего самодвижения его содержания, составляет предмет самой логики, имеет в себе диалектику движения содержания, движение сути дела. Метод или правило следует рассматривать как истинно всеобщее, не какое-то содержание, а всеобщность его формы. Философский метод столь же аналитичен, что и синтетичен в каждом своем движении. Метод – душа и понятие содержания. Метод должен быть не терпящим ограничения, всеобщим, внутренним и внешним способом, бесконечной силой и никакой объект, поскольку он выступает как нечто внешнее от разума, не может иметь другой природы и не быть проникнут его. Мы постигаем в понятии, знаем по истине, поскольку полностью подчинен методу. Он тогда – метод всякой вещи. Его деятельность есть его понятие. Метод есть само это знание, для которого понятие имеет бытие не только как предмет, но и как его субъективное действование, как средство познающей деятельности, отличное от нас, как ее собственная сущность. Метод на первый взгляд представляется лишь как способ познания и он имеет природу такового. Но способ как метод не только определенная модальность бытия, но и положен как определенный понятием и как форма, душа объективности. Метод, как и логическое вообще, есть, в каком-то определении чистая форма. Метод – движение самого понятия, всеобщая абсолютная деятельность. Нечто постигнуто в истине тогда, когда оно внешностью подчинено методу. Метод в науке – один, как объясняющее себя понятие. |
| Платон | Ум силой диалектики делает предположения и держится с ним связанного нисходит до конца, не трогая чувственного. Предположения делает до непредположенного начала. Идеи через идеи и оканчивает идеями. |
| Энгельс | Логический метод исследования суть не что иное, как исторический метод, освобожденный от исторической формы и мешающих случайностей. |
| Герцен | Естествоиспытатели пренебрегают формой, зная их по схоластическим определениям. Боятся систематики учения. |
Мы видим, что в основном здесь термин метод обращен к мыслительным процессам и их организации. Гоббс говорит о процессе и требования к процессам построения высказываний, рассуждений, умозаключений. Имена, суждения демонстрируют как единицы текста, выражающего "знание" о чем-либо, так и их структурные комплексы, сочетающие части и целое, части в целом, целое, имеющее части. Пишущий или произносящий текст относит имена и комплексы имен к частям и фрагментам того смысла, который первоначально имелся у мыслителя, а части и фрагменты смысла замещаются, с помощью "значений" имен, созидая содержание высказываний, рассуждений и т.п. в науке ученый должен придавать своим высказываниям ту или иную меру неслучайности, опираясь, прежде всего, на знаковые средства, их синтагматические конструкции. Их легче организовать, способствуя организации и содержания текста. В максимальной степени организация процесса построения текста и созидания его содержания нужна теоретику.
Декарт связывает организацию текстов и содержания текстов с необходимостью порождения "истинных" воззрений на реальность, изложением истин, что естественно для научного познания. Поэтому требования к изложению увеличиваются, благодаря чему он выделяет, подчеркивает организационное условие, появление предписаний для мыслителя-ученого, "правил для руководства ума" – "методов". Правила предполагают отход от единичности образца хода мысли и построения текста, обобщение описаний образцов и приход к "ясным" и "точным" нормативным утверждениям:
· Образцы рассуждения в ходе описания явлений;
· Описание хода рассуждений;
· Обобщение содержаний описаний;
· Оформление обобщенных описаний в "правила";
· Придание содержанию правил простоты и точности.
Но эти правила должны предполагать разделение описаний на фрагменты, которым можно доверять как выражающим "истинное", и на фрагменты, которым нельзя доверять как выражающим "ложное".при этом разделение должно быть достаточно надежным и легким, без лишней "траты сил". Тем самым, при обобщении образцов описания и разделения на "истинное" и "ложное" особо выделяются те "стереотипы", которые повторяются и ведут к очевидной успешности. В то же время, Декарт вводит организующее утверждение о том, что настойчивость в разделении накапливает все более надежное, очевидно более "истинное" в исходном материале описаний, потенциально "ведет" к "истине", т.е. неоспоримому, очевидному содержанию.
"Метод" для Декарта состоит в "неустанном искании абсолютного", разложении трудностей, постепенном их преодолении, ориентируясь на обработку сначала легкого материала, а затем и все более сложного, ничего не пропуская без анализа. Кроме того, предполагается наличие "порядка" во всем познаваемом, что требует порядка и в описаниях "истинного":
· Описание объектов изучения;
· Оценка описаний по критерию простоты и ясности содержания, легкости выражения "истинного", несомненного;
· Предпочтение процессов описания и выделение в них фрагментов, оценка которых на истинность объектного содержания сводится к максимальной легкости обнаружения "истинного";
· Оформление правил, "простых" и "точных" для работы с "легким" материалом;
· Выделение в описаниях процессов описания фрагментов "все более сложных" и их выстраивание в порядке увеличения уровня сложности;
· Введение рефлексивных рекомендаций по организации работы с материалом результатов описаний и по организации самих описаний, исходящих из критерия постепенности усложнения;
· Обобщение рекомендаций и оформление их в принципах;
· Связывание содержания принципов с приходом к "абсолютной истине";
· Использование критерия "порядка" при организации знаний и их выражения в текстах.
Тем самым, Декарт вводит ряд моментов в рефлексивную самоорганизацию процессов фиксации и обработки первичных знаний, в пошажное "оискусствление" исходных процессов. Он удерживает значимость "истины", отражаемости, связывая организацию процессов с результативностью познавательных усилий. У Декарта начинается разделение процесса и формы процесса, формы процесса и ее обобщения до абстрактных принципов:
· Исходные познавательные процессы;
· Описание процессов;
· Конструктивное оформление процессов;
· Введение форм процессов;
· Обобщение форм процессов.
На этом пути появляются "правила", о которых говорит и Милль, и "принципы". Вторично можно было бы из принципов выводить и правила, о чем говорит Беркли. Но едва ли стоит считать, что "метод" состоит в "неустанном искании". Точнее это искание с его неустанностью составляет содержание требования метода, а не сам процесс искания, который может осуществляться и по методу и без него. Можно предположить, что "метод" у Декарта ближе к принципу с его обобщенностью, чем типизированная форма или жесткое правило. Все эти нюансы будут обсуждаться подробнее позднее. Так же как требуется разъяснение к положению Беркли о том, что "правила" вытекают из "метода". На уровне обобщенного принципа остается и утверждение Конта о науках как "ветвях одного ствола".
Для обоснования требуется интегральный взгляд на научные усилия и интегральность объекта познания, связать "ствол" с "сущностью бытия". Однако нельзя согласиться с Контом, что метод нельзя изучать отдельно от процессов исследований, хотя и применяющегося к ним.
"Метод" возникает в ходе обработки и оформления описаний процессов исследования, как и иных деятельностей, т.е. после и вне исследования. А когда "метод" уже создан, то в приложении он совмещается с базисным процессом, придавая ему форму и неслучайность:
· Процесс (исследования);
· Описание процесса;
· Оформлений описаний;
· Фиксация описаний;
· Фиксация "метода";
· Использование "метода".
Платон рассматривает метод как оформление практик мыслительного конструирования, "предполагания", отстраненного от чувственного созерцания. Вместо следования внешнему воздействию на органы чувств он вводит "силу диалектики", вовлекая умопостижение, что предполагает, что ум конструируя рассматривает результаты конструирования в качестве "объектов", существующих сами по себе:
· Чувственное созерцание;
· Отстранение от чувственных образов и чувствования;
· Вовлечение "диалектических сил";
· Конструирование гипотез;
· Придание гипотезам статуса "самих объектов";
· Рассмотрение "объектов", их бытия.
Платон подчеркивает, что вводя "объекты", построенные "силой диалектики" ума, мыслитель держится его "до конца", не меняя тип представлений. При этом он как бы проникает "вглубь" объекта, делая предположения об основаниях его бытия, доходя до "непредположенного", до сущности самой по себе, до первопричины объекта. Тем самым, в своем мышлении мыслящий остается в мире идей, но в них находит первоосновные идеи:
· Введение предположения об объекте силой ума;
· Придание предположению статуса "реальности" в мысли;
· "выявление" в содержании объектного представления его "причины", основания в ходе причинного предполагания;
· Повторное предполагание в содержании причины более "глубинной" причины;
· Введение гипотезы о "первопричине" объекта"
Все эти характеристики процесса могут превращаться в содержание требований к теоретическому мышлению и составлять "способов" теоретического мышления. Придание ему обобщенности, "абстрактности" превращает способ в "метод". Его результативным" содержанием предстает гипотеза "знание" о первопричине или сущности, а процессуальным содержанием – гипотезы и "знания" о пути к "сущности".
Однако именно Гегель дал развернутую характеристику "метода", совместив рассказ о форме процесса теоретического мышления с рассказом о форме любого организованного процесса.
Гегель говорит о "способе" познания, который "знает себя" в рефлексии познающего и который, одновременно, является способом бытия "вещей". Иначе говоря, познающий осуществляет познавательные действия, рефлектирует их, вводит форму процессов в действиях – "способ", "зная" его за счет рефлексии уже самого процесса рефлексии, хода созидания способа.
С другой стороны, у познания есть результат, который фиксируется либо субъективно в образе познанного, либо еще и в тексте, выражающем содержание познанного, либо еще и в тексте, выражающем содержание познанного, "объект".
Если способ познания предопределяет приходимость к знанию, то он не связан непосредственно с процессом показа результата, изложения результата. Именно в показе результата способ либо не соотнесен с тем, как процессуально "вносится" бытие объекта", либо способ уподобляется ему, старается полностью зависеть от динамики бытия. Тогда он становится "способом бытия" объекта:
· Познавательный процесс;
· Результат познания;
· Рефлексия процесса;
· Фиксация способа познавания;
· Фиксация результата познания;
· Изложение результата познания;
· Переход от случайного изложения к подчинению "видения" динамики бытия познанного объекта или динамики бытия как содержания фиксированного результата познания;
· Введение "принципа" зависимости изложения результата от динамики бытия "объекта";
· Рефлексия процесса изложения;
· Фиксация способа изложения, реализующего прямую зависимость изложения от динамики бытия "объекта".
Гегель говорит об этих способах, познавания и изложения, совмещено, как моменты единого, в их "одновременности". Это означает, что организованное в рамках принципа изложение и является ведущим в "методе", которому подчиняется и сам способ познавания. Тот, кто воспринимает изложение, "понимает" теоретика, двигающегося в мышлении в рамках принципа, предстает как "познающий", строящий представление о динамике бытия "объекта". Если ему удается адекватно понимать, то это и означает, что он познает неслучайно, следуя за организованной, в мысли излагающего, динамикой бытии "объекта".
Именно это характерно для теоретического мышления, так как теоретик подчиняет изложение результатов познания "логике объекта", а объект в теоретическом тексте, как это пояснял Платон, является "идеальным" конструктом, предположением ума, в том числе предположением о "сути", первопричине бытия объекта, проявляющейся в определенном порядке. Теоретик вводит объективный порядок изложения того, что смог сконструировать:
· Познавание;
· Фаза теоретического конструирования;
· Фиксация результата конструирования;
· Изложение результата;
· Понимание изложения;
· Понимание изложения, построенного в "объектной логике";
· "познание" объекта в ходе понимания изложения, построенного в "объектной логике";
· Совмещение "способов" бытия объекта и "познания" объекта.
Постигающий в процессе понимания зависим и от "способа" бытия объекта, сконструированного автором теории, и от "способа" самого конструирования, т.е. от "способов" внутренней для объекта динамики и внешней для объекта динамики.
Внутренний момент, "форма самодвижения объекта" подчиняет внешний момент, "форму" конструирующего мышления" и построения текста. Вот почему логическая форма у Гегеля становится "содержательной формой и логика является содержательной, "объектной".
Гегель подчеркивает, что в таком мышлении теоретика проявляется "сила разума". Способ его использования трактуется как "абсолютный" и сила разума – как "абсолютная сила". Гегель раскрывает то, что имеет в виду. Если разум демонстрирует себя в теоретическом мышлении и вне подчиненности чувственному материалу знаний и познания, если он рефлектирует свое проявление, выявляет способ проявления, и результаты трактуются как "суть дела", то разум в рефлексии не только выявляет форму своего проявления, но и познает себя как проявляющегося определенным образом. Знанием становится не то, что касается чувственного, а то, как осуществляется бытие самого разума, "познающего себя и через самого себя":
· Конструирование "знания о чем-либо;
· Рефлексия конструирования;
· Рефлексивное познание конструирования чего-либо как самопроявление себя;
· Рефлексивное осознавание знания о чем-то как знания о себе;
· Рефлексивное осознавание знания о себе как подчиненное знанию о чем-то;
· Знание о конструировании как проявлении себя, отчуждаемого от себя, как знание о сущности чего-либо;
· Знание об отчуждении как полагании сущности чего-либо;
· Рефлексия способа бытия сущности как результата самопроявления себя в конструировании чего-либо;
· Рефлексия способа конструирования как способа бытия сущности;
· Рефлексия совмещения способов бытия сущности чего-либо и способа конструирующего самопроявления.
Если теоретик действительно может конструировать способ бытия сущности чего-либо, то разум проявляет свою абсолютную мощь. Однако это возможно лишь для познающего разума, а не "практического разума", зависящего от практической динамики бытия реального человека.
Для того чтобы уйти от практицизма требуется длительное, многоэтапное развитие, очищенное от принципа практицизма. Этот путь и показан Гегелем в "Философии духа" и близких сочинениях. То, что Гегель называет "методом" суть высшая точка в этом очищении, в демонстрации способа строения сущностного знания о всем. Методом является воплощение истинного знания о разуме, достигшем способности порождать истинные воззрения о бытии. Знание становится основанием "способа", в рамках которого разум строит истинное знание:
· Познание "разума";
· Фиксация истинного знания о разуме;
· Рефлексивное придание знанию статуса "способа";
· Самопроявления разума в создании истинных знаний;
· Реализация способа как построения разумом истинных знаний.
Метод у Гегеля рассматривается как "орудие" познавательной деятельности, ее "существенность". То есть, если функцией познавательной деятельности является истинное знание, то сущностной основой выступает процесс построения истинного знания, что обеспечивается наличием и реализацией способа построения, применением способа и в этом и состоит "орудийность" способа. Он предопределяет неслучайность использования познавательного потенциала познающего:
· Рефлексия процессов построения истинного знания;
· Фиксация способа организации познавательных процессов, ведущих к истинному знанию;
· Использование способа для организации познавательных сил в ходе построения истинных знаний.
"Метод" организует и субъективный процесс, и "показ" истинного знания, в котором произвол субъективности полностью преодолен. В ходе реализации метода Гегель выделяет три момента: 1) сам метод как орудие; 2) его организующее бытие; 3) результат организации – "знание", в котором "метод" стал стороной знания, его формой, формой движения содержания знания.
Гегель говорит, что "метод" есть осознанность формы внутреннего самодвижения ее содержания, что и является предметом "логики". Движимость здесь "диалектическая", движимость "сути дела". Так как это "форма" движения и именно "всеобщая", то и содержание, подчиняющееся форме, "душе" содержания, тоже обладает всеобщностью. Тем более что все материалы, берущиеся из эмпирии или предтеорий, замещаются в этом движении содержания, подчиняясь форме и не заставляют форму адаптироваться к случайности материала. "Объект" становится полностью "проникнутым" методом и теряет самостоятельность. Но этим он и теряет свою случайность, неистинность. Гегель подчеркивает, что "метод" его – суть метод "всякой вещи", "душа" объективности.
Интересно то, что если Аристотель говорил о форме нечто, то Гегель говорит о форме процесса истинного бытия содержания.
Отсюда говорится о двойственности "метода". Он и чистая форма, как логическое, и "всеобщая деятельность". Логическое касатся аспекта оперирования языковыми средствами, тогда как "всеобщая деятельность" суть показ динамики бытия объекта как содержания мысли, выраженного текстом.
Таблица 12
Метод
| Автор | Мнения |
| Философская энцикликлопедия | Фиксированный стандарт деятельности, не осуществляемый полностью, не просто отобранный, не осуществляемый прием, система приемов в деятельности |
| Словарь | · Способ познания, подход к изучению явлений · Порядок расположения частей чего-либо и в действиях · Методика совокупность приемов, приемов для последовательного выполнения чего-либо |
| С.И. Ожегов Словарь | · Способ теоретического исследования или практического осуществления чего-либо · Методика совокупность методов · Прием способ осуществления чего-либо |
| Словарь | · (прием) совокупность приемов труда, путь, способ достижения цели, решения задачи · (методика) совокупность приемов |
| А.Г. Спиркин | Совокупность приемов, операций в деятельности |
| В.П. Копнин | Стандартные, однозначные правила действия, фиксирующие как человек должен поступать в деятельности |
| В.Даль Словарь | Способ, порядок, снования, путь для хода в виде общих правил |
| Кондаков | Система правил, приемов, подход к изучению, путь, способ, прием |
| Борисов В.Н. | Форма движения познания, а не объекта |
| Михайловский Н.К. | Совокупность приемов нахождения истины |
| Розин В.М. | (методика) совокупность наиболее эффективных приемов |
| Андреев И.Д. | Путь, способ, прием решения задачи |
| Пассов Е.И. | Система функционально связанных принципов, направленных на достижение цели |
| Купалова А.Ю. | Обобщенная модель деятельности, реализуемая в определенных формах работы |
| Бим И.Л. | Совокупность приемов, наиболее устойчивых, всеобщих, стандартизированных, повторяющихся действий |
| Решетова З.А., Тарлова С.П. | (способ) нормативное выражение теории, средство познания |
| Махмутов М.И. | Система правил, регулятивных принципов |
| Щедровицкий Г.П. | (норма) состав деятельности, обеспечивающей решение задач, независимо от человека |
Сведем воедино характеристики метода:
· стандарт деятельности;
· прием, система приемов;
· способ действия;
· подход к деятельности;
· порядок действия, мыследействия;
· путь достижения цели;
· совокупность операций;
· правила, стандартные и однозначные;
· основания действия;
· общие правила;
· форма движения;
· система принципов;
· обобщенная модель деятельности;
· совокупность действий, всеобщих, устойчивых, стандартизированных, повторяющихся;
· нормативное выражение теории;
· состав деятельности, обеспечивающий решение задач.
Прежде всего, "метод" относится к типологии норм, а не самих "действий". Поэтому к "методу" не относятся действия, стандарты деятельности, операции, модели действий.
Когда говорится о "способе" действия, то не имеют в виду не только модификацию действий и даже модели, стереотипизированные действия, сколько нормативную версию, исходя из жесткого замысла и целевого представления, результатов критики ранее осуществленного неудачного действия.
Но это норма для реально осуществления действия, и она является "конкретной". В содержании "способа" может быть и указание на "порядок" операций, действий, а также "путь, "ход" процесса действования.
В отличии от "способа" при выделении и построении "правил" действования, они носят "общий" или даже "всеобщий" характер. Они являются нормативными "абстракциями". Однако они являются дифференциальными, частичными для построения действий. Кроме того, они жесткие по содержанию и становятся основаниями "типовых операций", либо нормативно предопределяемых правилом, либо ситуационно созидаемых в "донормировании".
Абстрактным является и нормативное содержание "подхода", выражающего общие требования к "началу" цикла деятельности. Подход предполагает ситуационные нормативные конкретизации, а сама конкретизация достаточно свободна, вариативна.
Когда говорится об "основаниях" действия, то в функции основания могут выступать любые нормы, так как только поняв и приняв норму деятель, действующий уже придерживается ее в ходе либо построения действия, либо в конкретизации нормы. Поэтому различные нормы являются различными основаниями.
Основаниями могут служить и теории, концепции, понятия, т.е. организованные представления о деятельности, действиях, процессах, среде и т.п. необходимо только включить эти представления в качестве средств и факторов нормативного конструирования действий.
Если речь ведется о форме действий, либо реконструктивной по предшествующему опыту, либо конструктивной без прототипа или через модификацию прототипа, то формы "процесса" либо касаются процессуальной стороны действования, либо действий как организованностей.
Все нормы предстают в ходе их реализации "формными" основаниями действий. Однако нужно еще выявить специфику именно "метода", как отличающегося от других типов норм. При введении и использовании "принципов" имеют в виду абстрактные ориентиры в действиях и деятельности, более гибкий и абстрактный, чем подход. Он также предполагает конкретизацию содержаний подхода, нормативную работу в конкретной ситуации.
Для придания определенности содержанию "метода" мы рассмотрим различия между "целью", "планом", "технологией" – с одной стороны и "методом", с другой стороны.
Цель нормирует представления о результате действия, а план – представления о цепи целей, когда достижение одной цели открывает возможность достигать "следующую" цель вплоть до "конечной" цели.
В "технологии" конкретно предписывается ход процесса с фиксированной целью, планом, факторами предопределяющего воздействия на изменяемое в действии, поведении, гарантирующими достижение целей. В числе факторов выделяется "средство", "инструмент" и т.п. Технология относится к конкретной норме всего хода достижения цели. А "метод" является через обобщение или действий, циклов действий, деятельности, введение полноценных абстракций-норм или конкретных технологий.
Содержательное понимание технологий опирается на построение представлений о причинно-следственных цепочках, дающих возможность вводить вопросы, типа: "Что должно происходить дальше фиксированного этапа?", "Что было перед этим этапом?"
Такие же вопросы и соответствующие ответы можно задать и получить в случае метода, но на более абстрактном уровне.
"Метод" предполагает конкретизацию, как полную, до технологий и методик, так и до планов, целей.
"Методы" могут быть и реконструктивными, и конструктивными, включающими в ходе их создания опору на "подход" и "принципы".
Если применятся теория деятельностного типа или касающаяся социокультурных систем, то можно построить метод и на базе этих теоретических содержаний. Итак, путь к "методу" включает:
· реконструкцию процесса деятельности (действия, поведения);
· конструирование процесса деятельности (действия, поведения);
· плановое нормирование;
· обобщение технологии одного типа (I);
· "вычленение" в теории нормативны единиц (II).
Тем самым, между "технологиями" и "методами" существует соответствие, но исходя из разных уровней абстрактности.
"Технология" конкретна, а "метод" – абстрактен".
Обладая способностью к движению мысли по принципу "уточнения" ("восхождения", можно технологично оформлять на уровне метода, а метод конкретизировать до технологии.
Технологии обычно тесно зависят от исторических обстоятельств, влияние которых отражается внесением в содержание соответствующей случайности. Обобщение и переход к уровню "метода" также сохраняет относительную случайность. В то же время использование логики "восхождения" ("нисхождения") резко уменьшает объем случайности в ходе абстрагирования. Поэтому "возвращение" к конкретному уровню содержания нормы на основе "метода" сохраняет достигнутую неслучайность.
Именно в этом состоит переход от "метода" к "методике", содержание которой уменьшает ситуационную адекватность и этим – технологичность нормы.
Оформление опыта нормирования и перенормирования в меняющихся условиях, создание блока методов порождает эффект стабильности в нормативном обеспечении социокультурных, деятельностных отношений и др., упрощает корректирование и трансформирование технологий, рутинизирует этот процесс. Если обобщение норм конкретного уровня дополнятся введением хорошо построенной теории, то выгоды методов в организации нормирования увеличиваются, увеличивается и неслучайность содержания методов. На материале методов можно достаточно успешно организовывать процесс разработки подходов и принципов.
Таблица 13
Методология
| Автор | Мнения |
| Непомнящая Н.И. | Анализ способов решения задач может осуществляться в средствах теоретической системы. |
| Феофанов В.П. | Теорию методов нельзя строить вне теории деятельности. |
| Лернер И.Я. | Метод обучения это модель деятельности, обобщенная схема взаимодействия ученика и педагога. Это система последовательных действий педагога, организующих деятельность ученика на основе обобщенного проекта деятельности. Метод дает знание о цели, способе, средстве деятельности, которые у педагога предназначены для управления деятельностью ученика. |
| Никандров Н.Д. | Метод обучения – способ управления деятельностью ученика. |
| Махмутов М.И. | Там, где принцип, там и теория. Методы обучения отражают теорию организации обучения, отражают противоречия в деятельности учителя и ученика. |
| Словарь | Методология – учение о методе научного исследования, совокупность приемов исследования. |
| Ожегов С.И. | Методология – учение о методе познания, совокупность методов в науке. |
| Борисов В.М. | Методологическое знание – знание о теоретической системе, о средствах и способах ее построения. |
| словарь | Методология – учение о методе, совокупность приемов исследования. |
| Щедровицкий Г.П. | "Методологические положения" ничего не описывают, лишь включают деятельность, являются "предписаниями". Они получаются как обобщения практики, рекомендации. Они не могут быть продуктом научных исследований. Нужна связка между предписаниями и знаниями. Знания вырабатываются для подтверждения и опровержения созданных предписаний, а предписания опираются на знания, находят в них свое содержание и оправдание. Два разнородных элемента образуют "метод". Методология – научная разработка положений метода. Она основывается на многих научных теориях сразу, так как по разному выделяется предмет изучения. Методологические положения выступают в деятельности ученого как регулирующие, направляющие выбор средств и построения процедур решения задач. Методологическая работа обслуживает оргуправленческую деятельность в плане мышления. Методологическая деятельность включает постоянную рефлексию. Нужно работать как нормировщики, конструкторы, историки, проектировщики и как исследователи. Методология – не наука. Методология отличатся от методики тем, что должна относиться к новым задачам и проблемам, указывать путь и систему шагов в их решении. Методология – это программа получения нужного продукта в условиях, когда плохо представляется продукт. Методология – рефлексия по поводу собственной деятельности, которая еще предстоит, должна создать проект, план, программу. Это сфера деятельности, в ходе которой осуществляется рефлексия и разрабатываются проекты и т.п. будущей деятельности. Как рефлексия, методология направлена только на саму себя. Одновременно производится и замыкание и расширение методологической деятельности. Она взаимоотождествляется с деятельностью. |
Мы видим, что рассуждения о методе включают в себя реконструктивный и конструктивный, в том числе прогностический и нормативный анализ процессов.
Это, прежде всего, процессы мышления и деятельности. Если процессы мышления подвергаются фиксации, а затем и предопределению, то над базисным процессом строится рефлексивно-мыслительный процесс, завершение которого предполагает самоопределение рефлектирующего. Оно направлено на выработку отношения к результату рефлексии, появление или непоявление установки на реализацию, на следование содержанию результата – нормы мыслительного процесса. При выборе установки на реализацию рефлектирующий превращается в осуществляющего "прошлый" мыслительный процесс, но в рамках "нового" предписания к процессу, в рамках "способа мышления":
· Первичный мыслительный процесс;
· Затруднения и иные поводы;
· Рефлексия мыслительного процесса;
· Самоопределение к возможности реализации результата рефлексии;
· Вторичный мыслительный процесс, в рамках "нового" способа.
Однако внутри рефлексивной фазы различаются "подфазы", реконструкции первичной попытки, ее критического анализа и конструирования нового способа мышления Н.И.Непомнящая выделяет анализ попытки "решения задачи", включающий анализ способа решения задачи. Критика "способа" включает в себя этапы ответов на вопросы о том, что должно быть сохранено, что оспорено, чем замещено, чем дополнено и т.п.
И поиск ответов сам может быть стихийным или организованным:
· Переход к критическому анализу предшествующей попытки;
· Выделение реализованного "способа" решения задачи;
· Соотнесение способа и его реализации с выявлением моментов соответствия и несоответствия процесса реализации способа его содержанию;
· Выявление приемлемого и неприемлемого в динамике "соответствия" процесса мышления его способу;
· Выявление приемлемого и сохраняемого в содержании способа мышления;
· Выявление неприемлемого в содержании способа мышления применительно к переходу к последующему повторению или продолжению процесса мышления;
· Выявление необходимости "замены" неприемлемой части способа мышления иным вариантом в тех же объемах или в измененных объемах;
· Разработка альтернативных вариантов замены;
· Выбор наилучшего варианта;
· Выявление необходимости "приращений" к прежнему способу мышления с учетом замен;
· Разработка альтернативных вариантов приращений;
· Выбор наилучшего варианта приращения.
Кроме того, Н.И.Непомнящая рассматривает анализ способов решения задач с применением средств соответствующей теории или теорий. Это означает либо введение теорий, соответствующих содержанию задач, что характерно для культуры решения задач, оснований введения "вопросов" и их роли в поиске "искомого" для "неизвестного", либо введения теорий соответствующих механизму мышления как "решения задач", в том числе "морфологии" и "форм" механизма мышления и его проявлений.
Во втором случае теория становится мыслительным средством выявления дефектов в процессе и форме процесса мышления, каким бы ни было содержание задач:
· Первичный анализ способа мышления;
· Привлечение теоретических средств для раскрытия "неизвестного", искомого, вопроса, ответа по содержанию задачи;
· Раскрытие процесса мышления в рамках соотнесения "эмпирического" субъекта мысли и теоретического предиката мысли слоев процесса в контексте содержания задачи;
· Привлечение теоретических средств для раскрытия механизма мышления, его "формы", "морфологии", отношений между тем и другим, динамики отношений;
· Проблематизация динамики механизма мышления;
· Выделение слоя "формы" динамики и его проблематизация на базе применения средств теории мышления.
Мы видим, что переакцентировка с содержания мышления на ее форму и применение средств теории резко усложняет анализ. В случае анализа формы процессов мышления, что неизбежно для анализа "методов", особенно при переходе к анализу "механизма" мышления и его проявлений, в том числе в слоях "в-себе", "для-иного" "для-себя", "для-в-себе" бытия, при влечение теории мышления становится неизбежной предпосылкой внесения определенности, результативности, неслучайности анализа во всех рефлексивных функциях – реконструкции, критики, прогностического и нормативного конструирования.
Начиная со смены фокусировки в анализе с результата к процессу перефокусировка идет в направлении от "процесса" к "форме процесса", от "формы процесса" к "механизму":
· Фокусировка на "результат" и "содержание" мысли;
· Фокусировка на "процесс":
· Фокусировка на "форму процесса";
· Фокусировка на "механизм";
· Учет слоев бытия ("в-себе", "для-иного", "для-себя", "для-в-себе").
При анализе "метода" главным является обращение внимания на "форму" процесса. Однако вместе с формой в зоне внимания выявляются "механизм", его объектный, системный и даже метасистемный анализы, придающие определенность надежность аналитике. Именно в связи с этим и выделился гегелевский вариант анализа и полученные им результаты стали следствием осознанных переакцентировок.
В то же время, мышление и "методы мышления" занимают свое место в более широко пространстве нормативно организуемого бытия, социокультурных, деятельностных и т.п. взаимодействий. В конце XIX в. и особенно в ХХ в. Произошла эволюция рефлексивного анализа в его приложении от мышления к деятельности. Это очевидно, если прослеживать использование термина"метод" в образовании, а затем и в иных сферах, в организации систем, больших систем, управленческих систем и т.п.
Так И.Я. Лернер говорит о взаимодействии педагога и ученика, создании обобщенных схем взаимодействия и моделей деятельности на их основе. При этом участие педагога состоит в "последовательности действий", а сами действия – "организационные", на основе "обобщенного проекта" деятельности. Метод дает "нормативное знание" о целях, способах, средствах деятельности, предназначенных для управления учебной деятельностью ученика.
Тем самым, если учесть характер взаимодействий исходного материала, "средства деятельности", "субъекта деятельности" и т.п., их участие в механизме деятельности, то процессуальная нормативная схема механизма, имеющая обобщенность и является основой "метода".
Механизмической формой деятельности в данном случае в функции преобразуемого материала выступает учебная деятельность ученика:
· Описание деятельности "учителя", организующего и управляющего деятельностью ученика, "учеников";
· Усмотрение моментов и частей механизма деятельности учителя и учеников;
· Создание процессуальной схемы деятельности;
· Придание схеме характер выражающей механизм деятельности;
· Обобщение процессуально-механизмической схемы деятельности;
· Придание обобщенной (процессуально-механизмической схеме нормативного статуса;
· Фиксация "метода".
В содержании "метода обучения" И.Я. Лернер включает взаимодействие учителя и ученика, а Н.Д. Никандров – лишь деятельность учителя, а точнее – способ управления деятельностью ученика. Если обобщить и перейти к любой деятельности, то "метод" может быть создан либо "непосредственно" на уровне "здравого разума", либо "опосредованно" с применение теоретических оснований. В.П. Феофанов считает, что теория деятельности должна быть использована при создании "теории методов", а точнее – теории той мыследеятельности, которая характерна для создания и перестройки методов, да и иных типов норм.
Для создания теории методов нужна рефлексия мыследеятельности, реконструктивный акцент, теоретическое обобщение, процедуры подтверждения и опровержения и т.п.
При анализе деятельности выделяются "формы" действий, деятельности, кооперативных структур деятельности, социокультурных взаимодействий и т.п., их появление, переструктурирование, их бытие в нормативной и иной модальности. Но по "механизму", "организованности" деятельности "методологическая" деятельность является лишь типом деятельности, сохраняющей всеобщие свойства деятельности. Поэтому в ней есть слои "действий", просто "процессов", "рефлексии", "мышления" и т.п.
Тем самым, если мы вводим "над" деятельностью рефлексивную надстройку и выделяем позицию исследователя, его теоретическое звено, то теорией, которой должен пользоваться в рефлексии "методической деятельности" ученый может быть лишь "теория деятельности". Вместе с введением такой теории рефлексия получает сущностно-критериальное обеспечение:
· Созидание "методов";
· Рефлексия создания методов;
· Введение теоретического звена в позицию исследователя;
· Построение "теории" созидания "методов";
· Использование "теории" в качестве критериального средства в конструировании, коррекции, реконструировании "методов";
· Введение необходимости обоснования "теории";
· Выделение "всеобщего" основания теории создания и совершенствования методов;
· Введение метатеоретического основания теории, в качестве "общей теории деятельности";
· Использование метатеории в совершенствовании теории;
· Использование метатеории в совершенствовании методической рефлексии.
По сравнению с "методом" принцип является более общим типом содержания и имеющим иную, чем "метод", функцию в рефлексивном пространстве. Он дает лишь самый общий ориентир в рефлексивном анализе, в нормировании и прогнозировании и не предполагает конкретизацию своего содержания для создания "конкретной нормы". Но для создания "принципа" требуется высокое абстрагирование опыта деятельности и, как утверждает М.И. Махмутов, "высокая теория", теория деятельности.
"Учение о методе" часто рассматривают как "методологию". Это учение является результатом исследовательской, научной и философской деятельности. Мы обсуждали эту деятельность выше. Часто также к учению добавляют "совокупность приемов", методов. Однако тогда следует включать в методологию и саму нормативную практику, ее результаты, особенно – "методы", и рефлексию практики, и акцентированность рефлексии на цикле бытия норм, особенно – "методов", на исследовании цикла бытия норм.
Нормотворение становится как бы "сферой деятельности". При акцентировке именно на "методах" конкретный слой содержания норм и усилия по из созданию, коррекции отходят на задний план.
Г.П. Щедровицкий обсуждает "методические положения" как предписания, опирающиеся на обобщение практики деятельности, но могущие быть и рекомендациями. Так как "практическая" рефлексия ситуационно-исторична и обладает соответствующей случайностью, она не имеет установки на "истинность", на "внеисторичность сущности" "в-себе", все время проявляясь "для-иного" и "для-себя", то научные усилия могут появиться лишь выделившись из рефлексии и лишь "потребительски", ради "истины", относясь к рефлексивным материалам:
· Практические действия и их порождение;
· Рефлексия действий в условиях исторической и локализованной динамики;
· Введение нормативной фокусировки в рефлексии;
· Акцентировка на "методе" как типе норм;
· "методная" рефлексия;
· Соотнесение исследовательской и нормативной установок;
· Введение ценности "истины";
· Осуществление "научных" исследований деятельности;
· Использование научных знаний о деятельности и противоречия в рефлексивном процессе по критериям "результативности" и "истинности".
Г.П. Щедровицкий отмечает необходимость связки между знаниями и предписаниями и возможность использования знаний для подтверждения или опровержения предписаний, их реализуемости, осмысленности и для внесения в предписания "объектной" содержательности. Но это не меняет "практичности" метода, зависимости от множества случайных факторов. Часто сам Г.П. Щедровицкий рассматривает связи между знаниями и предписаниями вне контекста подчиненности идее соответствия "сущности", которая предполагает зависимость именно от знаний о "сущности", в том числе сущности деятельности. Его представление о "методе" остается недостаточно определенным, совмещающим свойства способов, метода, методики и т.п., хотя и усложненным.
С другой стороны, методология им трактуется также неоднозначно. Методология состоит и с "научной разработке" положений метода, основывая метод на многих научных теориях, и в обращенности к новым проблемам и задачам, к прокладыванию пути в их решении, и в разработке программ получения продукта в условиях неопределенности представлений о нем, и в рефлексии по поводу собственной деятельности, которая еще предстоит, построения ее проекта, программы.
Если подчеркивается разработка "метода", то при наличии рефлексивного материала остается вовлечь в качестве критериев научные, теоретические знания потом фрагментам и акцентам, которые наиболее значимы для получения качества метода. При этом учитывается и контекст конкретной практической ситуации. Однако методы нужны не для конкретной ситуации в практике, а для их множества и достижения устойчивости в прохождении цикла нормирования и деятельности в целом.
Опираясь на метод можно резко сократить объем усилий в переходе от одной успешной практической ситуации к другим, имеющих одну и ту же глубинную основу. Метод позволяет устранять неопределенность в нормировании в "принципе", а лишь затем и конкретно.
Более сложным основанием методологии выступает обращенность к новым проблемам и задачам, в которых механизм деятельности еще не налажен. Это предполагает заказ на создание механизма деятельности, на отрыв от прежнего механизма, построение "плана" перехода:
· Фиксация "разрывов" в деятельности;
· Оценка разрыва на совместимость с готовым механизмом деятельности;
· Проблематизация механизма и введение требований к "устройству" механизма в новых условиях;
· Создание плана построения иного механизма;
· Реализация плана;
· Разработка "методов", соответствующих новому механизму деятельности.
При разработке программ получения "продукта" при неопределенности представлений о нем изменение механизма не является обязательным. Поскольку в деятельности имеется звено рефлексивного сопровождения, о само доопределение продуктных представлений, а затем проектных, технологических представлений, в соответствии с непределенно выраженным заказом является модификацией базисных контуров деятельностного механизма. Но тогда базис должен быть построен на достаточно абстрактной форме механизма деятельности, в том числе на фиксированных "методах", подходах, принципах, концептуальных основаниях и т.п., допускаемых множество конкретизаций с учетом меняющихся условий.
В "рефлексию" будущей модификации входит процесс многовариантного проектирования модификаций, а затем мыслительного моделирования бытия модификации с введением разнообразных сюжетов, исходящих из содержания заказа или "проблемной ситуации". Аналогичные пути построения действий представимы и в случае, когда рефлектируется собственная деятельность, которой еще нет, но потребность в которой уже зафиксирована.
Иначе говоря, предполагается, что готовые методы перестают быть достаточными, эффективными при возникновении или возможности возникновения новых условий, обесценивающих применение прежних методов. Реагирование на новые условия, требования, заказы и т.п., внесение значимости и ценности новизны и развития систем и сфер деятельности делают косвенными заботы о "методах", которые сопровождают инноватику и развитие, но уже не являются центральными в ней.
При ценности пребывания в ситуации неопределенности и рефлексивной самоорганизации как ведущем условии выхода к механизмам и формам процессов искусность в "депроблематизации" также отводит блок единого механизма.
Игропрактика показала, что "образ жизни" методолога и методологических команд держал в центре внимания именно изменяемость, развиваемость, инновационное порождение, рефлексивную самоорганизацию. "Методы" отошли на задний план.
Однако "обоснованность", идея "неслучайности", "формности" в процедурах, а также рефлексивного совершенства еще в доигровой период ММК (Московского методологического кружка, с 1952 г.) привел к ритуалам введения и совершенствования средств, критериев мышления и мыследействия. Они неизбежно вели с собой вопросы языкового сопровождения разработок, дискутирования, проблематизации и т.п., введения языковой парадигмы и мыслительных форм, "логичности" построения мысли. Поэтому создавалась как общая онтологическая и понятийно-категориальная база языка "теории деятельности", так дифференциальные языковые парадигмы, в зависимости от фокусировки в рефлексии и в онтологических конструктах:
· инновационная ориентация в деятельности;
· акцентировка на рефлексии в деятельности;
· акцентировка на критической фазе рефлексии, проблематизации;
· особое внимание "критической" рефлексивной коммуникации;
· внесение акцентов на организационную и арбитражную позиции в коммуникации проблематизационной направленности;
· разработка "принципиальных" проектов и программ;
· внесение ценности "обоснованности" и "критериальной обеспеченности" проблематизации и депроблематизации;
· разработка языковых парадигм, интегрального и дифференциального типов;
· внесение ценности целостной, "системной" соорганизации всех звньев разработок;
· введение моментов стратегической рефлексивной самоорганизации относительно команд, участвующих в разработках;
· интегральное самоназвание и самоидентификация как "методологи" и "методологическая сфера" в универсуме деятельности
В то же время оставалось непреодоленным различие между инноватикой, развитием, проблематизирующей инициацией, в которых могут участвовать специалисты любых типов в зависимости от уровня устремленности к самовыражению инновационного типа, внутренней креативности, и особой специализацией, выделяющей "методологов", "методологию" из интеллектуального сообщества в целом, создающей свой тип бытия, свое самообеспечение, свои средства, методы, идеалы, ценности, свое функциональное место в функциональном пространстве "общества".
Чаще всего методологи относили себя к культурному подпространству в интеллектуальном блоке, выделяя культуру рефлексии, мыслекоммуникации и мышления. Тем более что языковые парадигмы, логические формы, онтологические, организационно-мыслительные и организационно-деятельностные схемы сближали с логикой, философией, семиотикой, культурологией и т.п.
Предельность критериев как функциональная характеристика "культуры", ее продуктов и самодемонстрацией, особенно в искусстве, литературе и т.п. всегда становилась конечной точкой в поиске "самого главного" в методологии и "самого сложного". Ее профессионализация требовала "самоопределении". Поэтому в рамках "Московского методолого-педагогического кружка" – ММПК с 1978 г. (нами) были введены критерии самоопределения методологии.
А гегелевский "метод" стал основным механизмом опознавания исходных начал и получения ответов на все указанные вопросы, после оформления "метода" в середине 70-х гг. ХХ века.
Мы ввели функцией методологии и ее бытием "в-себе" разработку и трансляцию, сохранение и применение предельных критериев рефлексии любого типа и масштабов.
Для вхождения в кооперативные зависимости реализуется бытие методологии "для-иного" и "для-себя", прежде всего, в ситуациях инновации, развития и кризисов. Использование этих ситуаций порождает бытие саморазвития или "для-в-себе" бытия. В свою очередь бытие "в-себе" обладает системными и метасистемными особенностями. В рамках своей "формы" методология обладает местами и для "моделей", и для "методов", и для языковых единиц и др.
Тем самым, связь "метода" и "методологии" состоит в следующем. "Методология" является языковой и, следовательно, онтологической, парадигматической (понятийно-категориальной) и логико-технологической базой любых рефлексивных процессов.
Именно в рефлексии созидаются все типы норм, в том числе "методы". Поэтому в ходе рефлексии, при подготовке к иной, более совершенной деятельности неслучайное представление о ней как механизме, представление "в принципе", как "метод" дается на базе указанного языка. Язык становится всеобщим основанием порождения всех методов либо с учетом внешнего практического повода, либо без повода, в "чистом мышлении" конструктора деятельностных норм.
Методология тогда выступает как "инкубатор" методов. Для совмещения с условиями конкретной историей требуются конкретизация метода в технологии, плане, цели и т.п. "метод" является априорным проявлением "методологии". Подход, принцип, стратегия и др. являются специфическими следствиями, трансформациями и т.п. методов, обслуживающим работу по созданию методов.
2.12 Рефлексия и самосознание
Сначала сделаем обзор концептуальных версий рефлексии.
Таблица 14
Рефлексия
| Автор | Высказывание |
| Гераклит | Всем людям свойственно познавать себя. |
| Прокл | Ум мыслит себя, предмет собственного действия, знает, что мыслит, мыслит все сразу в единстве. |
| Лейбниц | Два источника знания – чувство и рефлексия. Рефлексия – внимание направленное на то, что заключено в нас. |
| Локк | Рефлексия – наблюдение, которое ум подвергает свою деятельность и способ ее проявления, вследствие чего в разуме возникает идея этой деятельности. |
| Кант | Рефлексия – сравнение познания с познавательной способностью, из которой оно возникает. Она не имеет дела с предметами, т.к. это состояние души, в котором мы приспосабливаемся к нахождению субъективных условий образования понятий. Она предполагает рассмотрение того, как различные представления могут охватываться в одном сознании, как возникают представления общие нескольким объектам. |
| Фихте | В рефлексии свобода построения (представлений) поднимает знание над связями, но может и не создавать образа. |
| Шеллинг | Абсолютное "Я" тождеством рефлексии направлено на себя и оно становится объектом благодаря собственной деятельности. |
| Гегель | Рефлексия – средство выхода за пределы природного побуждения. Она сравнивает побуждение со средствами его удовлетворения, средства со средствами, побуждения с побуждениями, с целями существования. Она означает сокращение непосредственного. Благодаря духу, проходящему за непосредственное, выявляется переход от события к следствию, к похожему и его причине. Она предшествует принятию решения, в которой принимаются какие-то из многих определенностей, какие-то нет. Решение прекращает рефлексию, устанавливающую определенность, делая ее своей. Основным условием принятия решения является абсолютная неопределенность "Я". Бесконечная рефлексия – соотношение с собой, не имеющим природного содержания. Рефлексия поднимает над непосредственностью удовольствия, не меняя цели или принципа. Она различает в деятельности однородность и неоднородность, соединяет их в одной деятельности, позволяет одной просвечивать сквозь другую и рефлектирует одно в другое. |
| Мид Брюмер | Рефлексия – это диалог с собой, который конституирует поведение и предполагает человека, противостоящего ситуации. |
| Успенский | Углубляясь в себя, человек может найти все и достигнуть всего. Что он достигнет – зависит от того, что и как он будет искать. В обычной жизни человек представляется живущим как бы на поверхности, не сознавая того, что именно находится в его глубине. |
| Тульвисте | Рефлексия – мышление о мышлении, позволяющее находить отношения между понятиями и объединять их. Рефлексия ведет к проверке логической правильности вывода. |
| Конт | Внутреннее наблюдение ведет к противоречивым мнениям. |
| Баранов | Рефлексия – сознание, обращенное на себя, способ организации умственной деятельности, представлений внутреннего мира в ходе принятия решений. |
| Семенов Степанов | Рефлексия – переосмысливание в проблемно-конфликтной ситуации целостным "Я" содержаний своего сознания. Включает этапы: репродукции стереотипов, регрессия переживаний, кульминация вдохновения, прогрессия самосознания, продукция инноваций. Виды рефлексии: интеллектуальная (экстенсивная, интенсивная, конструктивная), личностная (ретроспективная, ситуационная, перспективна), коммуникативная, кооперативная, синтетическая (экзистенциальная и культурная). |
| Ильенков | Рефлексия – это осознание формы структуры духа, отчет о том, что и как делает дух, схемы, правила. |
| Лекторский Швырев | Рефлексия – момент развития деятельности, связанный с осознанием, исследованием средств и результатов. |
| Алексеев Семенов Зарецкий | Рефлексия – изучает как личность осознает свое "Я" в мышлении, рефлексии, речь с воображаемым партнером. Используется в организации решения задач, в осознании средств и оснований решения задач, в регулировании мыслительного процесса. |
| Райнери | Рефлексия бывает психологическая и онтологическая. |
| Щеровицкий | Рефлексия имеет своим результатом план, проект на основе анализа ранее выполненных действий, продуктов деятельности. Предполагает выход из практической позиции во внешнее отношение к осуществленной и будущей деятельности. Прошлая деятельность выступает материалом для анализа, а будущая – как проектируемый объект. Рефлексия предполагает кооперативные отношения в деятельности. Рефлексивная позиция сама может развиваться как кооперативная структура. Рефлектирующая деятельность имеет свои объекты, средства, знания, при отсутствии своих средств и методов – это смысловая рефлексия. Рефлексивная коммуникация включает в себя ситуационный анализ, целеполагание, проблематизацию, уяснение специального и культурного смысла, точек зрения и позиции. Это ведет к выявлению и фиксации причин, противоречий, конфликтов. |
| Семенов | Методологическая рефлексия – выявление причин не эффективности применения средств и конкретно-предметных знаний, заимствуемых в рефлексии. Это ведет к переработке концептуального аппарата, научных традиций или нормы организации исследований, использованию уже не как знание, а как эталон, метрика, установка в методологической функции. Если и это не эффективно, то критическая рефлексия. Рефлексия – переосмысливание своего опыта, отражение, проблематизация. Двойное отношение "Я" к конфликтному опыту. Это свойство психики, механизм обратной связи в нервной системе, осознавание оснований деятельности и средств, выход во внешнюю позицию одного человека к другому, установление отношений между деятельностью и ее компонентами, механизм абстрагирования от личной обусловленности за пределы содеянного с целью поставить точку опоры для дальнейшего осуществления деятельности (метаплан), апелляция к парадигмальным представлениям, категориям, реконструкции процессуальности, критическому контролю, рефлексивному восстановлению целостности деятельности, устранение разрывов, восстановление деятельности. Рефлексия – общее условие протекания мыслительной деятельности и центральный момент творческого процесса. |
Мы видим, что рефлексия начинается с перехода к познавательному отношению человека к самому себе как безотносительно к жизнедеятельности, деятельности, общению и т.п., в чем протекает бытие человека, так и относительно включенности в них. Поскольку при включенности человека в эти процессы и типы бытия "сущность" человека становится определяемой требованиями к человеку со стороны этих типов бытия, то рефлексия расширяет свой предмет сначала до "отчужденного" бытия человека, а затем и до охвата самих этих "бытий" (деятельности, общения, мыслекоммуникации, конфликтов, жизнедеятельности и т.п.). Так меняется и содержание рефлексии (от субъективных качеств, "Я" до деятельностных коопераций и социокультурных систем), и характер протекания рефлексии, и функциональные структуры рефлексии (см. сх. 7).
 бытие человека тип бытия деятельностное бытие
бытие человека тип бытия деятельностное бытие
 | 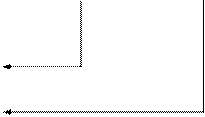 | ||
анализ себя кооперативные
 системы
системы
 анализ себя в
анализ себя в
типе бытия рефлексивная
 позиция
позиция
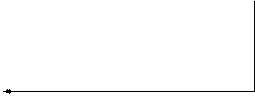 анализ себя в
анализ себя в
деятельности

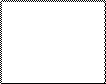 анализ
анализ
деятельности
 |
анализ системы
деятельности
(включая анализ
человека в деятельности)
Схема 7
Рефлексивное отношение как отражающее и проектирующее интеллектуальное отношение, а затем и критико-проблематизирующее отношение, обращенное вначале к себе непосредственно, выявляют особенности бытия человека как "строителя" мышления, деятельности, общения и т.п. форм социокультурного бытия, как конечный источник своих проявлений и социокультурных систем. Специфика такого источника вначале скрыта детерминированностью проявлений человека внешними условиями и воздействиями. Но по мере развития человека и его вхождения в социокультурные системы он оформляет в себе индетерминистическую сущность, способность проектировать свои проявления не от естественности себя, а от социокультурности себя, при которой содержанием проекта ("идеи") становится, прежде всего целостность социокультурная (например, система деятельности), и лишь затем и место в ней самого человека. Человек превращается в подобие "абсолютного проектировщика". Это обстоятельство осознавалось вначале в проектировочном отношении к мышлению (немецкая классическая философия), а затем – к деятельности (московский методологический кружок и его прототипы по кооперативно-деятельностному содержанию – экономическая теория К.Маркса).
Именно обращенность рефлексии к субъективности человека вела к познанию и проектированию "Я", к воплощению проектов "Я", к выявлению сущности "Я" и его порождающей основе. Рефлексия и самосознание сплелись друг с другом в содержании анализа данного типа.
Рефлексия в ее подлинном виде может опираться лишь на соответствующий уровень самосознания как механизма, а не знания, на его порождающее бытие и свободность от содержательности. Человек "раздваивается" на живущего и рефлектирующего и в рефлексии – самосознавательно полагающего проекты и обеспечивающего их реализацию, управляющего собой по результатам рефлексии (см. сх. 8).
 жизнедеятельность потребность
жизнедеятельность потребность
 самосознание
самосознание




 рефлексия проекты бытия управленческое
рефлексия проекты бытия управленческое

 (для себя) самоотношение
(для себя) самоотношение


 знание
знание
о  себе деятельность
себе деятельность
 |

 рефлексия проекты управление
рефлексия проекты управление
 деятельности
деятельности
(для других)
 |
 деятельность
деятельность
Схема 8
"Интеллектуальное Я" реализует управленческое самоотношение применительно к мышлению и тогда осуществляется фиксация, выделение представлений, сопоставление, построение обобщенных заместителей, создание сопоставительных комплектов (суждение, умозаключения) и т.п. Самосознание, опирающееся на механизмы рефлексии и самоотношения, выделяется в инстанцию психики, обладающую свободой, "волей", исходным началом всех внешних проявлений психики. Основным явлением бытия самосознания предстает рефлексивная самоорганизация.
Свобода, получаемая за счет развития рефлексии и самосознания, опирается на преодоленность "естественной логики" бытия субъекта, его рефлексии, самосознания, но это связано уже с ролью абстракций как средств мышления и инструментализацией всей субъективной активности, включая "ядро" активности – активность "Я". Но возникает вопрос о пути, ведущем к такому эффекту. Он обсуждается в генетической психологии и психологии развития, а также генетической культурологии, языкознании и т.п. Мы остановимся на этом более конкретно в другом разделе (гегелевская версия пути духа).
Рефлексия как специфическое "самоотношение" принимает различные формы в зависимости от выделения рефлексивной функции в деятельностной кооперации и "подборе" конкретного механизма для реализации функции. Поэтому при введении механизма мыслекоммуникации появляется диалоговая форма рефлексии, сначала внешняя (обсуждение партнеров), а затем ее внутренний аналог (обсуждение с самим собой или с воображаемым партнером).
При реализации рефлексивной функции в деятельности поводом для запуска рефлексии выступает затруднение, "разрыв" в деятельности, и результатом использования рефлексии становится преодоление затруднения, устранение разрыва. Выделение рефлексивной позиции в тип мышления и затем в тип деятельности приводит к типичным усложнениям – обеспечению средствами, способами, методами, своими сервисами и сервисными деятельностями (например, обучение рефлектирующих как субъектов деятельности). В качестве средств выступают и те специальные понятийно-категориальные системы, которые предназначены для рефлексии (деятельности, общения, мышления и т.п.). На этом пути появляется методологическая рефлексия и методология.
Однако вернемся к самосознанию и дадим обзор концептуальных и понятийных различий.
Таблица 15
Сознание и самосознание
| Автор | Высказывание |
| Гартман | Знания, сознательные соображения мешают влиянию страстей, ведущих к заблуждению. Сознание возбуждает противоположное. |
| Кант | Душа нам дана в самосознании, так как чистое созерцание находится в душе априорно, без примеси предмета, чистая форма чувственности. Самосознание – это чистая апперцепция, порождающая представление "Я мыслью", сопровождает все представления. Оно одно и то же во всяком сознании. Единство апперцепции – сознание себя – не созерцание, а лишь интеллектуальное представление о самодеятельности мыслящего субъекта. Интеллектуальное созерцание – вне нашей познавательной способности. |
| Фихте | Сознание не зеркало, а обладает жизнью и силой, бытие свободы, существующее само по себе. Свобода ограничена в знании, соединяя свободу вообще и ограничение определенностью познаваемого. Рефлексия мышления поднимает знание над связностью и получает свободу от мышления. Рефлексия состоит из мышления и созерцания своей способности и состояния. Сознание может возвращаться в первичное состояние, самоограничивая воображение и сопровождается осознанием своей самостоятельности, освобожденности от непосредственной причинности за счет задержки таких причин. Сознание имеет форму внешнего созерцания, внутреннего созерцания и чистого мышления. При созерцании себя во время выполнения акта возникает "Я" или непосредственное сознание того, что я действую и что за действие я совершаю, того, чем я познаю нечто, производя его. Это созерцание чистой деятельности. |
| Шеллинг | "Я" – монада, замкнутый в себе мир, единство объекта и субъекта, обнаруживаемое в интеллектуальном созерцании. Изменчивое "Я" стремится найти тождество посредством "не-Я", приводя в единство множество представлений. В этом стремлении совершается акт самосознания. В самосознании объектом становится тождество мышления и материи. "Я" абсолютно полагает себя и как "Я" и как "не-Я". Это три акта деятельности "Я". Абсолютное тождество не доходит до сознания. Акт самосознания – абсолютно свободное действие. Все знания, кроме знания о "Я", являются несвободными. Самосознающее "Я" борется с собой и в нем состоит самосознание, порождающее тождество в потоке изменений. Оно полагает себя, содержит все бытие. |
| Гегель | Истинное в чувственной достоверности выражает язык и "Я" здесь не исчезает в качестве всеобщего. Оно состоит в восприятии, в соотнесении себя с собой. Сознание участвует, вмешивается, снимает неистинность, уничтожает самостоятельность предмета и вводит себя как истинную достоверность и достигает этого, когда предмет негативно относится к себе, в силу того, что он и есть сознание. Самосознание есть единство в-себя и для-себя бытие, возвращается из своего инобытия.. Сущностью является в ней чистота "Я", которое сообщает себе различие. Сознание несамостоятельно, так как существенность его – бытие, а самостоятельность – в чистом самосознании. |
| Гегель | В сознании совмещается переменное и неизменное, а неизменное принимает облик переменного, когда в своей единичности оно есть абсолютное в себе, сама реальность, инобытие исчезает, так как только для самосознания оно бытие. Самосознание сообщает себе предметность. Всеобщее самосознание принадлежит обществу как чистая духовность, как всеобщая воля. В разуме осуществляется высшее единство сознания и самосознания. |
| Фихте | Деятельность "Я" созерцается без принуждения извне в рефлексии – свобода построения. В сознании соединяется свобода связанная (в построении) и освобождающая от бытия. "Я" не в состоянии одновременно созерцать, направляться на объект (теряет себя) и действие (не дает отчета). Нельзя мыслить, не примешивая своего "Я". Бытие свободы – знание своей сущности, не смешивая "Я" как объект и как субъект. |
| Абульханова | Сознание – существующее "во мне", представленное "мне" соотнесение с другим, способность объективирования, выделить объективный ход событий, отделить его от своего "Я". Самосознание – осознание своих психических особенностей, выявление возможностей в соотнесении с задачами, управление психическими механизмами и единство самосознания и самоуправления. |
| Леонтьев | Сознание не рождает, а опосредствует соотношение мотивов. Мотивы открываются сознанию анализом деятельности, на высшем уровне, или метятся эмоцией предметы (низший уровень), побуждают деятельность, дают личностный смысл. |
| Рубинштейн | Сознательный субъект, обладающий самосознанием, возникает в ходе развития сознания по мере становления самостоятельности – способности ставить задачи перед собой, критически мыслить. Личность сознательно преломляет свое отношение к реальности как единая совокупность внутренних условий, ведет к общественно значимому поведению. "Я" – ядро сознательных и несознательных тенденций. Мое от ношение к себе опосредствуется моим отношением к другим и отношением других ко мне. |
| Ананьев | Самосознание "Я" – ядро личности, система сознательных отношений к себе. |
| Кон | Самосознание – интегрированный, устойчивый образ "Я". Его уровень тесно связан с развитием интеллекта. |
| Столин | Самосознание порождается социальными оценками, что ведет к отделению себя от других участников совместной деятельности, связям в обществе, отказу от чего-либо ради чего-либо более значимого, интегрированию общественной ценности применительно к его жизни. |
| Мерлин | Самосознание – сознание тождественности "Я" как активного начала, социально-нравственная самооценка психических качеств. Неосознанность чего-либо определяется незначимостью, привычностью, противоречием образу "Я". |
| Симонов Ершов | Уровни психики: подсознание, тренируемое подражанием, сознание, тренируемое обучением, сверхсознание, тренируемое игрой. |
| Юнг | Сознательная установка подавляет потребности, теряется личный характер эмоций. Бессознательные тенденции, если их не признавать и нет компенсаций, имеют разрушительный характер. |
| Божович | Зрелая личность не зависит от обстоятельств и может поступать вопреки им по сознательно поставленной цели. |
Мы видим, что сознание и самосознание являются следствиями рефлексивного самоотношения, сначала познания себя как объектно-внешнее, а затем – собственно познание себя как источника, порождающего и образы, и оценки, и активацию поведения, и организацию поведения. Знание о себе сначала является "бессознательным", сливающим содержание знания с механизмом познания, содержание оценки с механизмом оценки, активацию с механизмом активации, организацию с механизмом организации. Лишь за счет оперирования "внешним" средством (знаком) или взаимодействия с "другим" и распределения "ролей" в прежде едином процессе (познания, оценивания, активации, организации), отхода от "слитости" функций (и ролей) в одном носителе, прихода к кооперативности функций (и ролей), за счет рефлексии внешне-внутреннего комплекса появляется разделение функций ("расщепление") и внутри и их вторичное и уже конструктивно организуемое совмещение. Оно осознается, так как познается как объект, часть которого и составляет сам познающий. Тем самым, "расщепление" функций конструктивно воссоздается, познается, а знание – используется для соучастия в конструировании и придании целостности создаваемому комплексу. Естественно, что подобные переходы могут создаваться лишь под управлением извне, "агентом" развития человека, выполняющему поручение общества – педагог или иной организатор подобных отношений (см. сх. 9).
Современное игромоделирование имеет большой опыт построения отношений между людьми, где легко отслеживаются переходы от действия, первичной рефлексии к кооперационным деятельностным взаимодействиям и кооперативному рефлексивному сопровождению и управлению. Моделируется то "Я", о котором говорится в концепциях самосознания, а также моделируется процесс присвоения структуры "Я", роста уровня обобщенности "Я" с тенденцией на "абсолютные" формы "Я" – универсальный конструктор всех форм поведения через соответствующее рефлексивное мышление (см. "организационно-деятельностные игры", историю их создания и практики совершенствования). Эта практика показала, что игротехник (команда игротехников) имеет своей особенностью то, что она "бессодержательна" до встречи с заказом на игру и, в то же время, готова и способна ввести любое содержание (проект игры), последующую "материализацию" содержания рефлексивной мысли. Эта бессодержательность, "пустота" предстает только для заказчика. Сам же игротехник – вполне содержателен. Но его содержанием являются используемые им средства проектирования игромодели (рефлексии – в целом). Это – парадигма теорий деятельности, "оживающая" в рефлексивном мышлении благодаря личности игротехника, его сознанию и самосознанию. Существенным выступает конечная (изначальная) инстанция – культурная способность и парадигма средств культуры (понятий и категорий теории деятельности). Она предстает как "чистая деятельность", "абстрактная активность", конкретизирующаяся после понимания и принятия заказа и строящая тот или иной "мир" (игромодель).
взаимодействие
жизнедеятельность с другими
 |  |


 рефлексия знание рефлексия
рефлексия знание рефлексия
оценка
активация совместная деятельность

 организация
организация
 себя рефлексия
себя рефлексия
себя и других
"моделирование"

 знание рефлексивных
знание рефлексивных
 оценка коопераций
оценка коопераций
 активация
активация
 усвоение организация моделирование
усвоение организация моделирование
 и управления
и управления
овладение сознание и рефлексией
самосознание
<внешних>
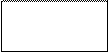 индивидуальное
индивидуальное
сознание и
самосознание
Схема 9
2.13 Развитие психики
Классическая" и "социотехническая" версии сущности развития совместимы друг с другом. Тем более что в конце XX в. благодаря именно социотехническому, "инженерному" подходу возникла особая практика игрового моделирования. Она, в виде "организационно-деятельностных" и "организационно-мыслительных" игр, обеспечила постановку и путь ответа на любые вопросы, касающиеся развития в современном социуме. Особое место в обеспечении успешного ответа на эти сложные вопросы занимает анализ рефлексии и механизма принятия решений, прежде всего — управленческих как субъектно задающих организацию процесса развития.
С достижением эффекта развития тесно связаны процедуры проблематизации и использования понятийных и онтологических схем. Когда говорится о развитии, то имеется в виду качественная трансформация внутреннего основания бытия развиваемого "нечто" и контекст "прогрессирующего" усложнения содержания основания при "соблюдении" критерия раскрытия первооснования, "идеи" нечто. Это входит в рамку онтологического обсуждения развития.
Поскольку пребывание в содержании онтологических рассуждений требует особой подготовленности, но не ведет непосредственно к трансляции способностей к реконструкции, критике и проектированию развития, не показывает путь и не обеспечивает доказательности прохождения пути, предполагает специфическое доверие к вводящему суждению о ходе развития, постольку и философско-онтологический подход должен быть сопровожден демонстративно-мыслительным. Он гарантирует пошаговую и магистральную проверку образца онтологического мышления и возможность критики образца. Но и этот вариант слежения и критики ограничен лишь мыслительными соотнесениями. Поэтому важна еще действенно-мыслительная демонстративность, которая лучше всего и осуществляется в игровом моделировании развития.
Между созданием развития и его мыслительным и рефлексивно-мыслительным обеспечением должны установиться кооперативные совмещения. Вместе оба слоя, действенный и рефлексивный, дают понимание механизма развития в социокультурных и деятельностных средах. Более того, проводя аналогию моделирования развития с "естественным" созреванием и развитием, мы можем глубже понять механизм и стадии развития в мире природы, в универсуме в целом.
В отличие от философско-онтологического размышления, не обладающего возможностями прямой проверки утверждений, при переходе к уровню научно-предметных размышлений имеется возможность перехода от теоретических конструкций к реальным моделям, от трансформации реальных образцов акцентированных явлений и действий в модели по критериям, вытекающим из хода теоретической или теоретико-практической проблематизации.
Поскольку, говоря о развитии, мы предполагаем развитие реальных объектов, систем, то достаточно быстро становится понятной необходимость синтезирования возможностей отдельных научных предметов. Подобный синтез должен оставаться на том уровне, который сохраняет возможность моделирования, а не только философско-онтологическое замещение, остающееся в стихии чистой мысли. Если же синтезирование подчинено идее прихода к высшим из возможных уровней развитости и высшей самореализации человека, то исследования и разработки принимают акмеологический характер.
Тем самым для изучения и раскрытия сущности развития и развития реальных людей, коллективов, систем необходимо совместить слои философско-онтологического, научно-предметного, акмеологического анализов, подчиненного им моделирования в практической и научной ориентациях. Монопредметный и полупредметный анализы позволяют совместить эмпирические и опытно-экспериментальные материалы с предметизированными теоретическими схемами. Именно соотнесение эмпирических и теоретических схем обеспечивает общелогические сопровождение утверждений о чем-либо, включая и утверждения о развитии. Для этого необходимы те теоретические схемы, которые своей содержательностью имеют развитие.
Как правило, соотнесение в реальной опытно-инновационной и даже научно-экспериментальной деятельности осуществляется вне логических и логико-онтологических требований. Поэтому утверждения часто носят непроверяемый характер, остаются приблизительными, базирующимися на графиках, таблицах, математических подсчетах. Регулярность и привычность таких процедур вытесняют саму необходимость строгого анализа, доказательного соотнесения хода событий в "реальности" и "теории". Поскольку теории для того и необходимы, чтобы преодолевать эмпиричность и обнаруживать существенность содержаний, которая возможна, как утверждали еще древние, лишь за счет умопостижения, то все подготовительные схематизации эмпирического и экспериментального материала нужны лишь для удобства основной процедуры — параллельного слежения за ходом процесса в субъекте и предикате мысли аналитика, в эмпирической и теоретической схеме.
Если изменение можно установить в эмпирических реконструкциях и в ходе соотнесения таких реконструкций с понятием "изменение", то развитие устанавливается лишь в указанных соотнесениях и с понятием "развитие". Поэтому от содержательно-понятийного различения, выявления зависит возможность осмысленного изучения развития. Однако научно-предметные теоретические схемы сами должны быть неслучайными, должны быть не только плодом умственного напряжения теоретика, но и результатом критериального соответствия версий.
Сами критерии должны быть более неслучайными, обладающими арбитражными качествами, возможностью опознания в конкурирующих версиях того, что соответствует "сути", и того, что выходит за пределы соответствия.
Понятие "развитие" не может появиться в эмпирической схематизации и даже в обычной теоретической конструирующей схематизации. Оно появляется в переходе к многоуровневому типу абстракций, к конструированию высших абстракций, которые могут проходить путь конкретизации. Кроме того, эти абстракции должны выражать, в ходе конкретизации, логически оформленный путь от одного этапа развития к другому, путь раскрытия потенциала через последовательные переходы ко все более сложным формам объекта, являющимся основанием функционирования на фиксированном этапе развития. Гегель не случайно следовал прототипам хода развития "реальных" объектов, искал "клеточку" и принципы ее трансформации.
Именно клеточка должна проходить путь саморазвертывания помимо и в рамках возникающих внешних условий. Также и Маркс искал "клеточку" как простейшее состояние развертывающегося целого, экономического объекта. Гегель специально подчеркивал, что "клеточка" должна в себе находить импульс трансформаций и не зависеть от случайных обстоятельств, создающих условия для трансформации.
Но тогда важным становится выявление механизма трансформации, самодвижения от "клеточки" к полноценному объекту. Задача теоретика, как указывал Гегель, состоит именно в преодолении субъективного произвола конструктора и достижении движимости содержания псевдогенетической мысли "самой по себе", в "раскрытии идеи объекта".
Следует подчеркнуть, что именно подчиненное "самодвижению" объекта продвижение теоретической мысли оставалось слабо разработанной часть логики. Реконструируя учение Гегеля и создавая специальный "метод работ с текстами", опирающийся на логико-семиотические условия надежного решения задач на понимание, критику, развитие авторской мысли и т. п. мы ввели общую схему формы движения мысли в этом стиле. С середины 70-х гг. мы совместили "техники" схематизации текста, построения схематических изображений, следования логическим идеям дополнительности и уточняемости, "восхождения" в указанном методе работы с текстом, получив идеальную "машину" саморазвития.
Она, безусловно, опиралась на сопровождающую рефлексию, построение рефлексивных текстов "для себя", их обработку по тем же требования. Именно тогда принципиальный характер стало приобретать соотнесения субъекта и предиката мысли, соотнесение предикатов в функциях субъекта предиката мысли, типологическое разделение переходов от предиката к предикату в рамках идеи дополнительности и идеи уточняемости.
Псевдогенетическая форма мысли непосредственно предполагала реализацию логической идеи "уточнения", введения уточняемого, уточняющего уточненного. В этих соотнесениях разделились формы "решение задач" и "постановка проблем" и сама проблематизация совместилась с раскрытием качественных переходов в объекте. Тем более что в рамках методологической кружка Г.П. Щедровицкого детально обсуждались вопросы проблематизации в контексте построения кооперативных структур в деятельности, реагирования на появляющиеся разрывы в деятельности. Мы замечали, что процедура проблематизации оставалась достаточно рыхлой, логически не оформленной введенной во многие контексты программирования и теряющейся в них.
Нужно было преодолеть частичность обобщений в ходе преодоления трудностей в мышлении, мыслекоммуникации, рефлексии, поэтому мы и обращались к логическим формам и онтологическим конструкциям как условиям придания жесткой определенности всем утверждениям.
В то же время обращение к онтологическим обобщениям требовало и содержательных, и процессуально-процедурных усложнений. В процессуальном плане следовало отрабатывать сначала самые простые соотнесения фиксированных субъекта и предиката. Поскольку наиболее актуальной для нас в конце 70-х и начале 80-х гг. была задача усвоения парадигмы языка теории деятельности, то мы вводили тренинги соотнесения фиксированной схемы из парадигмы с соответствующим ей материалом из первичной рефлексии деятельности.
Содержательная, "объектная" ориентация позволяла сопоставлять траектории процессов по принципу параллельности, опознавать тождественно значимые части и тождественно незначимые, в том числе нетождественные по сути. Эта процедура затем осознавалась как ведущая к задачной форме, привычной в практике мышления. Более сложная ситуация начиналась тогда, когда нужно было учесть содержание субъекта мысли. Это предполагало, в случае опознавания нетождественности, усложнение предиката. Сначала усложнение касалось частей предиката, привлечения фрагментов других предикатов с соблюдением критериев объектной каузальности, процессуальной непрерывности.
Затем усложнение захватывало иные предикаты в целом и создание синтетических предикатов. Это уже начинало походить на проблематизацию, т. к. следовало ответить на вопросы об усложнении предикатов, оправданности усложнения по содержательным критериям. В рамках обычных, всеми осуществляемых процессов мы считали мыслительную форму усложнения предикативных содержаний под "давлением" содержания субъекта мысли проблематизацией. Она могла носить и априорный характер, если вопросы о возможных изменениях ставились вне соотнесения с субъектом мысли, в жанре "чистого мышления".
В то же время сама практика таких процедур, варьирование предикативных комплексов, исчерпание возможностей "Азбуки" приводили к вопросам о разграничении изменения и развития. Самым непосредственным образом подобные вопросы возникали при следовании логической идее "систематического уточнения". Идея подхватывалась в истории философии и логики, была популярной в марксизме, отвечала на вопросы о высшем уровне культуры теоретического мышления, вела к высшим абстракциям, онтологиям. Но операционно она почти не отслеживалась, не оформлялась, т. к. в марксистской мысли в центре внимания оставались содержание, диалектика реальности и т. п. Промежуточные формы освоения операций были характерны и для методологов. Поэтому мы экспериментировали в пределах своих целей и задач, в частности, в связи с переходом от реконструкции авторской мысли к предельно неслучайному ее "повторению" и помещению в массив версий авторов по одной теме. Однако сначала на версиях, обсуждающих развитие, а затем и на любых версиях возникала необходимость идти от исходного предиката к уточняемым предикатам за счет введения уточняемых предикатов. По содержанию это как раз соответствовало прохождению пути развития по любой теме.
В ходе рефлексии формы движения и наших процедур мы замечали, что постоянно воспроизводится цикл операций отхода от самозначимости предшествующего предиката, поиска уточняющего предиката, введения уточняющего предиката "внутрь" уточняемого предиката, проверки помещаемости, "согласия" уточняемого содержания на помещаемость в него уточняющего содержания и совмещения обоих содержаний. Этим осуществлялась специфическая развивающая проблематизация. Предшествующий, уточняемый предикат становился формой и ориентиром для последующего предиката, а уточняющий предикат должен был уподобляться уточняемому, сохраняя свою содержательность. Более того, сам подбор уточняющего предиката зависел от уточняемого предиката и предопределялся им, как бы извлекался из него. Вся процедура походила по своей содержательности на актуализацию того, что было заложено в уточняемом предикате.
Соотнесение тактик формального внесения уточняющего предиката в уточняемый, внесения "со стороны" и внутреннего усмотрения, "извлечения" уточняющего из уточняемого предиката привело к более строгому пониманию условий развития и псевдоразвития. Позднее, при анализе педагогических ситуаций и ситуаций учебного совершенствования человека, мы поняли, что несоблюдение внутреннего, "имманентного" подхода создает искусственные дестабилизации, неоправданные усложнения, перегрузки в развитии. Еще более очевидным это стало в игропрактике в связи с реализацией принципа "выращивания". Более того, слежение за реформенными процессами в обществе в целом и преодолением деструкции, реализацией установок на развитие, интенсификацию развития показало, что и в процессе принятия решений переход к более развитому состоянию должен мыслиться как квазиимманентный, по принципам псевдогенеза.
Проблематизация и депроблематизация в такой операционализации совпадали, с содержательной стороны, с прохождением диалектического цикла развития, первого и второго отрицания. Не случайно многие попытки игромодельного обеспечения развития практики и преодоления кризиса были неудачными, нереалистичными, формалистичными из-за неоперациональное проблематизации и депроблематизации, устремленности на первое отрицание и слабое осуществление второго отрицания. В то же время эта процедура в чистом мышлении и в рефлексивном пространстве приводила к потребности в "чистом" ориентире объектных переходов от одного состояния к другому, от менее развитого состояния к более развитому состоянию. В этом случае в функции объекта выступает единица универсума.
В результате появилась система различений в цикле "нечто в универсуме". Еще большую роль они стали играть в новом уровне осознания механизма онтологической и объектно-онтологической работы в рамках системного подхода в последнее время. Иначе говоря, наряду с научно-теоретическим однопредметным уровнем анализа и комплексно-предметным его вариантом мы имели метанаучный уровень анализа, на котором можно ставить вопросы, возникающие на научно-теоретическом уровне или даже на уровне рефлексивного анализа практических действий, и отвечать на них в "принципе":
· рефлексивные анализ и проблематизация;
· научно-предметный анализ и проблематизация;
· комплексно-предметные анализ и проблематизация;
· онтологический анализ на метауровне;
· использование онтологического анализа на комплексно-предметном уровне;
· использование онтологического анализа на монопредметном уровне;
· использование онтологического анализа на рефлексивно-практическом уровне.
Тем самым высший уровень анализа на онтологическом основании становится опорой для всех остальных. Так, в "Книге Перемен" в связи с этим мы выделили четыре типа проявлений "нечто": бытие "в-себе", "для-иного", "для-себя", "для-в-себе". Именно четвертый тип (для-в-себе) специфичен для развития.
В нем воздействия извне и изнутри вызывают такую внутреннюю реакцию, при которой открывается новый уровень развитости, происходит первое и второе отрицание, внутреннее основание уточняется, актуализируется потенциальная возможность нового уровня. Внутреннее основание становится иным, и поверхностные модификации, адаптирование в форме "нечто" под меняющиеся условия становятся временными, зависимыми, сменяемыми при новых модификациях. Но сохраняется внутреннее основание, базис всех формных модификаций с последующими их натурализациями.
Подводя итог, мы можем спросить: какова формулировка понятия "развитие", учитывая сложный характер явления и механизма?
Понятно, что общий ориентир на "качественные изменения объекта" является лишь началом рассказа. Лишь построив нужную совокупность изобразительных схем, мы можем "показать" сущность развития. Следует раскрыть бытие "в-себе", "для-иного", "для-себя", чтобы приступить к бытию "для-в-себе". Легче идти по линии аналогий, иллюстраций, что позволяет без подробного раскрытия сущности заметить развитие. Приведем иллюстрацию из мыслекоммуникации. Достаточно хорошо известно из практик коммуникации, что все начинается с авторского самовыражения. Сложнее осуществить понимание. Еще сложнее осуществлять критику авторской версии.
Менее знакомо, но может быть опознано еще более сложное действие — арбитрирование. Именно этим занимался Сократ, совмещая арбитрирование с критикой и порождая традицию анализа понятий. Еще сложнее осуществлять соорганизацию действий спорящих и арбитрирующего. Именно отсюда начинается путь к логическим оформлениям. Отметим, что преодоление самовыраженческого начала с характерными для него субъективной случайностью, персонифицированностью начинается с осознания функции понимающего. Еще сложнее быть совершенствующим версию в критике, а не осуществлять замену авторского самовыражения своим.
Деперсонификация доходит до высокого уровня в арбитраже, т. к. содержание автора как "материя" мысли обретает "форму" мысли, превращается в обладающее существенностью. Также и относительно мысли критика. Усилиями организатора дискуссии, особенно при его критериальном обеспечении, сам процесс мышления в дискутировании обретает не только "материю", но и "форму". Именно это стало моделироваться в методологии, удерживающей логические результаты и давшей простор в соединении "материи" и "формы" в практике мышления.
Мы видим, что акцент на самовыражении автора является лишь предпосылкой мыслекоммуникации. Введение понимающего означает становление мыслекоммуникации. Критика и появление арбитра ведет к первому и второму этапам развития мыслекоммуникации, а введение "организатора" – к третьему этапу развития. Более сложные явления возникают при развитии уже арбитража и организации. Тем более что первичную авторскую позицию по инициации коммуникации можно превратить последовательно в понимающую, критикующую, арбитражную и организационную. Подобным образом можно рассмотреть согласование в конфликте, самоопределение в нормативных рамках и т. п.
Рассмотрим понимание развития в контексте специально организуемого изменения человека, прежде всего ребенка, в ходе его развивающего обучения и воспитания. Обычно не выделяется "исходная клеточка" организованного воздействия. В обычных анализах теряется базисная акцентировка на естественное самоизменение человека в подходящих для этого условиях или на самостоятельное реагирование человека в определенных обстоятельствах по типу "для-в-себе".
Обращенность на коррекцию себя как условие дальнейшего успеха в действии выступает "материей" и необходимым условием саморазвития. Но только придание "формы" этим усилиям, что возможно лишь со стороны, ведет к появлению развития. Если оформление происходит случайно, например, в семье, на улице, на производстве, то базисный процесс может быть не замечен, а оформление — свестись к самовыражению оформляющего. Часто так происходит и в образовательном пространстве.
"Педагог" возникает лишь тогда, когда его оформление регулируется на базе основного критерия — сущности развития, в отличие от изменения. Поэтому любому педагогу следует не только иметь неслучайное представление о развитии, но и корректно его использовать в построении корректирующих воздействий на учеников по следующей процессуальной схеме:
· затруднение в действиях;
· рефлексивный анализ затруднений;
· введение установки на самоизменение как условия успешного действия в
· будущем;
· попытка самоизменения;
· затруднения в попытках самоизменения;
· обращенность к педагогу;
· разработка проекта оформления попыток ученика в его устремленности к
· самоизменению;
· реализация проекта с удержанием базисного процесса самоизменения;
· осознание учеником адекватности оформительских усилий педагога и признание их.
То обстоятельство, что педагог не является "насильником" для учеников, было известно Платону, утверждавшему, что ненасильственное воспитание дольше остается в душе. Неформальность воздействия педагога на ученика в рамках формирования у ученика способностей к самостоятельному решению учебных и жизненных задач выражена у Плутарха необходимостью задавать ученику вопросы, требующие соображения, поиска причины, доказательств, опоры на суть дела.
Учет возможностей ученика при организации его учебных действий подчеркивал Квинтиллиан, говоривший о необходимости соизмерения действий (без принуждения) педагога с умственными силами учащихся, свойствами ума, характера. Иначе говоря, педагог способствует самоизменению ученика, внося в него неслучайность. Гегель утверждал, что развитие духа — это самоосвобождение от форм существования, не соответствующих его понятию, его сущности, это свобода, отношение к себе независимо ни от чего, власть над всем, изменяющимся в нем. Но это освобождение от случайности означает переход к неслучайному бытию.
Подобные идеи, часто фиксируемые в хрестоматиях по педагогике, плохо осознаются. Педагог лишь вовлекает ученика в неслучайное бытие и, прежде всего, очищает от случайности его попытки самоизменений. Поэтому он должен придать неслучайность как первому отрицанию — отходу от имеющегося уровня развитости, от отождествленности с ним в операциональном и мотивационном планах, в плане знаний и оперировании ими, в самоотношениях и отношениях к внешнему, так и второму отрицанию — приходу к новому уровню.
На этом фоне коррекции в рамках имеющегося уровня развитости являются периферическими, не основными для ученика, хотя они часто бывают полезными, а иногда рассматриваются как главные для быстрого перехода от не владения к владению практическим действием. Однако такое "обучение" уже не связано с развитием.
Психические новообразования являются, по мысли Л.С. Выготского, следствиями интериоризации его деятельности, формы деятельности. И особую роль в интериоризации играют знаковые средства языка. Для него психические функции — внутренние движения и "психику" — следует понимать, как особо сложные формы структуры поведения. Более точно: психика предварительно организует поведение, "внутренние реакции мысли сперва подготовили и приспособили организм, а затем внешние реакции осуществили то, что было наперед организовано и подготовлено в мысли".
Мы видим здесь сохранение той же идеи, что была выражена Аристотелем в его сочинении "О душе". Психика имеет рефлексивную функцию в целостности поведения. Поэтому "человек строит новые формы действия, работает над мыслительными моделями, что связано с уподоблением искусственных средств мышления, с уподоблением знаков". Тем самым человек проходит путь освоения исторически развивающейся культуры, воплощаемой в знаковых системах. При этом "высшие функции мышления ребенка сначала проявляются в коллективной жизни, и только затем приводят к развитию размышления в поведении самого ребенка".
Л.С. Выготский подчеркивал роль знаков в психическом развитии ребенка, выделяя стадии "внешнего" и "внутреннего" знака. Для него "всякий знак есть средство связи, связи известных психических функций социального характера. Перенесенный на себя, он является тем же средством соединения функций в самом себе". Оперирование знаками суть выполнение действий планирования при организации целостного поведения. Но языковые средства несут в себе обобщение, переход к неслучайным представлениям и последующему неслучайному поведению, выходу к общественно необходимому в поведении. [Ребенок лишь постепенно усваивает обобщенное и общественно необходимое. Но педагог должен, учитывая особенность ученика, подчинять учет необходимости, видеть возможности ближайших изменений, связывать свои усилия с ними. Педагог должен прогнозировать возможные варианты изменений и развития ученика, чтобы выбрать из них соответствующий внешнему, общественному заказу и общим критериям преобразовательного отношения со стороны общества.
Не прогнозируя и не подчиняясь критериям, сущности педагогической организации самоизменений, педагог действует вслепую и случайно. Этим обеспечивается не только актуализация потенциального, но и совмещение с заказом общества на приобретение способностей к адекватной, вписанной форме бытия и самовыражения в обществе.
Однако механизм работы с тем, что подготавливается первым отрицанием в самоизменениях ученика, само проектирование первого и второго отрицания, особенности техники работы в реализации проектов у него еще не описаны. Более того, он говорит о психических функциях, не разделяя или слабо различая функции и механизмы психики, складывание и трансформации психических механизмов в пределах психических функций. Для слежения за трансформациями и развитием механизмов важна линия помещений человека в те среды, в которых человек вынужден действовать, применяя способности, испытывая неудачи из-за недостаточности способностей, подготавливая коррекции способностей.
Эта сторона обсуждалась А.Н. Леонтьевым, который показал, что должны быть социокультурные и деятельностные условия, вынуждающие ученика заниматься самоизменением, адаптация способностей к объективно необходимым требованиям через собственные, собственно "удобные" действия и их организацию. Поэтому присвоение — "это процесс, который имеет своим результатом воспроизведение индивидуумом исторически сложившихся человеческих свойств, способностей и способов поведения". Ученик трансформирует свои способности в стремлении, попытках придать оперированию предметом нормативную адекватность. Педагог способствует и оформляет эти попытки, придает им неслучайность в мотивационном, интеллектуальном и иных планах.
А.Н. Леонтьев подчеркивает, что "взрослый строит у ребенка новую функциональную двигательную систему". При этом сначала педагог добивается "правильности" в плане действия, а затем обеспечивает интериоризацию действия. Мы видим уже черты механизма взаимодействия педагога с учеником. Упование происходит благодаря акценту на силе объективной логики "культурно-организованного действия". Несколько оттесняется роль самодвижения и усилий по самоизменению. Следовательно, отодвигается необходимость и прогнозировать возможные изменения способностей, и выявлять факторы их изменений в ту сторону, которая нужна для педагога. В то же время говорится, что "у человека биологически унаследованные свойства не определяют его психических способностей, мозг включает в себя лишь способность к формированию этих способностей".
А.Н. Леонтьеву удавалось совместить отсутствие действий по "выращиванию", требующих тон кой работы по организации самодвижения ученика, с высказываниями о роли активности ученика в учебном процессе. Тем самым даже создание внешних условий для адаптации внутренних способностей к ним, объективно необходимым для адекватного бытия в социокультурной и деятельностной среде, не обязательно предполагает педагогически корректное прохождение пути внутреннего развития, имеющего стадии первого и второго отрицания, вне неоправданных уподоблений внешней необходимости без внутренней вовлеченности и прохождения пути "без себя".
На каждом этапе жизни существует ведущая деятельность, имеющая мотивационную и операционную стороны и определяющая возникновение основных новообразований в психике. На этой основе Д.Б. Эльконин определил ряд возрастных периодов. В одном возрасте по преимуществу развивается мотивационная сторона, а в другом возрасте — операционная. Происходит чередование преимущественно развивающихся механизмов. Описаны были периоды до 17 лет. Мы видим, что педагог не только учитывает сложный комплекс психических механизмов, их роль в действиях и рефлексии действий, в самоорганизации, опирается на мотивационную, интеллектуальную и операционную составляющие поведения, следит за совмещением механизмов в действиях и рефлексии, за опознаванием роли механизмов в неудачах при решении практических и учебных задач, за соответствующими попытками корректирования механизмов и поведения в целом, но и выявляет иерархичность ролей механизмов в связи с возрастным этапом, склонностью к преобладанию самовыражения одного из механизмов в соотнесенности с типом среды, типом социотехнических и деятельностных отношений. Во взрослом периоде жизни иерархизация механизмов более унифицирована, но при сохранении зависимости от индивидуальных особенностей человека.
При раскрытии динамики развития в различных возрастах общим остается акцент внимания на связи неудач в действиях, имеющих надындивидуальную значимость, как в "естественных", так и в "искусственных" учебных действиях, с прохождением двойного отрицания в единице развития. При этом развивающийся может благополучно проходить этот путь лишь "сам", имея свою потребность, притязания на соответствие объективной логике действия, обладая нужными мотивами, знаниями, самоорганизацией, взаимодействием с партнерами. Так, в условиях обучения ученик должен иметь желание научиться самоизменяться, "учиться учению".
При всей правильности активизации учебных действий при создании типовых учебных задач в рамках введения учеников в "объективную" логику неслучайного, "диалектического" мышления вытесняется механизм организации самостоятельных усилий учеников, внесения в самоорганизацию неслучайной формы, учитывающей и мотивационный, и интеллектуальный, и операционный акценты. Прямая организация неслучайного действия также вытесняет прохождение пути придания самоорганизации ученика неслучайной формы.
2.14 Культура и развитие психики
Рассмотрим ряд характеристик культуры, важных для понимания того влияния, которое оказывает культура на развитие психики.
Таблица 16
Культура
| Автор | Высказывание |
| Цицерон | Культура – уважение к традициям, очеловечивание мира. |
| Гердер | Культура – усвоение, применение переданного предшествующими поколениями. |
| Лейбниц | Во всей вселенной совершается непрерывный и свободный прогресс, который все больше продвигает культуру. Цивилизация (культура) с каждым днем охватывает все большую часть земли. |
| Лейбниц | Универсум не может быть совершенным, если при сохранении общей гармонии в нем не соблюдаются частные интересы. Нельзя установить лучшего привала, чем закон, согласно которому каждый должен участвовать в совершенстве универсума. Разрушения и падения способствуют достижению более высокой цели. В бесконечной глубине вещей всегда остаются части, которые пробуждаются, развиваются, поднимаются на более высокую ступень совершенства и культуры. Нет предела для прогресса. |
| Кант | Разум способен создавать желания не только при отсутствии естественной наклонности, но даже вопреки ей. Человек обнаруживает в себе способность избирать образ жизни по своему усмотрению. Это состояние своей свободы, от которого ему уже невозможно вновь возвратиться к зависимости. Воспитание дало склонность хорошим поведением внушать другим уважение к себе как необходимое основание общения. Это все завоевания культуры. Рассудочное ожидание будущего является решающим признаком преимущества человека, подготавливающего к отдаленным целям, а также источником новых забот и огорчений. Рассмотрение животных как орудий достижения ему угодных целей и развитие права в разделении благ перед другими людьми. Неугомонный разум побуждает к развитию его способностей, к терпению в труде. Пороки, наклонности, ведущие к ним, уродуются прогрессирующей культурой, оказывают вредное влияние на нравы, пока совершенное искусство не отождествляется с природой, что является конечной целью нравственного назначения человеческого рода. |
| Кант | Тесная связь государств для взаимного содействия достижения благосостояния каждым – культура. Но люди могут иметь мнимые потребности, привитые им культурой. Культура разума идет по верному пути науки вообще вместо бесцельного блуждания ощупью, без критики. Дисциплину нужно отличать от культуры, которая должна доставлять навыки, не устраняя существующие. Культура имеет положительное значение. |
| Шеллинг | Поступательное движение происходит не от малого к великому, а наоборот – великое всегда составляет начало, а сжатое, стесненное лишь следует за ним. Времена различаются не большей или меньшей степенью культуры, их различия – внутренние, сущностные, качественно различенных принципов, которые наступают друг после друга и из которых каждый может достигать величайшего развития в свое время. |
| Кант | Культура – это приобретение способности ставить новые цели и цели вообще, это общественные ценности (чувство долга и др.). |
| Гегель | Культура – поднятие человека, его знания, воления до всеобщего освобождения, до формального. Язык выступает как средство быстрых перемен. Культура ведет к стремлению обладать бесконечным, ценным, абсолютным, к дисциплине, привычке к общезначимому (умениям, абстракциям). Мировой дух обладает в каждом образе (культуры в данный период) более смутным или более развитым, но всегда абсолютным ощущением себя, и в каждом народе, целостности народов и законов он наслаждается своей сущностью и самим собой. Рефлексия, обращенная на влечения, представляя, оценивая, сопоставляя их друг с другом, а затем их средствами, следствиями и с целостным их удовлетворением – со счастьем, вносит в этот материал формальную всеобщность и очищает |
| Гегель | от грубости и варварства. В этом выявлении всеобщности мышления и состоит абсолютная ценность культуры. В идеале счастья мысль уже обладает властью над природной силой влечений. Это постольку связано с культурой, поскольку она требует всеобщего. Нравственная и умственная культура духовно уравновешивает элемент механического, содержащегося в изучении наук, в привычке к ведению дел. Теоретическая культура развивается не только на основе многообразия определений и предметов, но и подвижности и быстроте перехода от одного представления к другому, постижения сложных и всеобщих отношений, формирование рассудка, а вместе с тем и языка. Практическая культура состоит в потребности и привычке к знаниям вообще, в ограничении своей деятельности, сообразуясь с природой материала, с произволом других, к объективной деятельности и общезначимым умениям, приобретенным благодаря дисциплине привычки. Человек – господин своей деятельности, производит предмет таковым, каковым он должен быть и не обнаруживает в своей субъективной деятельности противодействия цели. |
| Трубецкой | Область, в которой прогресс несомненен, разум и познание. Здесь человечество идет к ясной и достойной цели – к истине, власти над природой, оно просвещает, возвышает, освобождает массы, объединяет человечество единой культурой. Человек не может мылить свою судьбу независимо от судьбы человечества, в котором ему раскрывается смысл жизни. Индивидуальные разум раскрывается и овладевает собою лишь в общении с другими. |
| Криппнер | Культура ведет к стереотипизации мышления. |
| Щепаньский | Культура – все созданное. |
| Дешаль | Культура – стремление к развертыванию способностей и силы души. |
| Швейцер | Культура – достижения, способы духовного совершенствования личности. |
| Маркарян | Культура – система небиологических средств, мотивирующих и направляющих деятельность. |
| Межуев | Духовная культура – производство, потребление, распределение духовных ценностей. |
| Брунер | Культура – дает умственным способностям систему средств, усиливающих чувства, мышление, действия |
| Моль | Культура – совокупность предметов, идей, текстов. |
| Оппенгеймер | Культура – способствует выявлению неизменного, повторяющегося в человеческой жизни. |
| Скрибнер | Культура – пронизанность общезначимыми эмоциями и значениями. |
| Тейлор | Культура – приобретение человеком комплекса знаний, верований, морали, искусства, привычек как членом общества. |
| Полищук | Культура – живет верой человека в свое высшее предназначение, на чувстве причастности к высшим ценностям бытия. |
| Бекет | Культура – прочные верования, ценности и нормы поведения, которые организуют социальные связи и делают возможной общую интерпретацию жизненного опыта. |
| Юнг | Культура – общий и принятый способ мышления. |
| Радклифф-Браун | Культура – язык верования, эстетические вкусы, знания, профессиональное мастерство и всякого рода обычаи. |
| Степин | Тип культуры определяет, как будет воспроизводится деятельность человека. |
| Давыдов | В культуре как целом, органе самоконституирования человечества имеется высшее начало, в котором природа и социум оказались бы соразмерными изобрести универсальную меру, не нарушающую внутреннюю меру каждой из конфликтующих сторон. |
| Флоренский | В основе культуры лежит природное явление, возделываемое культурой. Человек лишь преобразует стихийное как носитель культуры. |
| Бенуа | Культура – специфика человеческой деятельности, то, что характеризует его как вид, как часть определения человека. |
| Злобин | Культура – социально значимая творческая деятельность во взаимосвязи ее результативности, определенной в нормах, ценностях, традициях, знаковых и символических системах и т.п. и процессуальности, предполагающей освоение результатов творчества, т.е. превращение богатства истории во внутреннее богатство индивидов, воплощающих содержание в своей деятельности. |
| Чавчавадзе | Культура – реализация идейно-ценностных целей, переселение ценностей из мира должного в мир сущий, как осуществление идеала. |
| Левинас | Отличительные признаки описания культурных фактов – общение посредством знаков, следование правилам, связанными с социальным давлением и ценностным престижем, передача принципов, изменение языка, поведения и обрядов и т.д. |
| Фрейд | Культура – все, чем человеческая жизнь возвышается над своими животными условиями и чем отличается от жизни животных. Она охватывает все приобретенные умения, знания, дающие возможность овладеть силами природы, все установления, упорядочивающие взаимоотношения между собой. |
| Риккерт | Культура – то, что создано человеком, действующим сообразно оцененным им целям, сознательно взлелеяно им ради связанной с ним ценности. |
| Бердяев | Все творчество культуры есть лишь объективация, мировое обобщение субъективно-интимного, совершающегося в скрытой таинственной глубине. |
Мы видим, что "культура" рассматривается как особый механизм в целостности социума, который фиксирует, порождает, совершенствует, обобщает те проявления людей и общностей, которые преодолевают стихийное самовыражение и самопроявление, превращают их в надситуативные. Для того чтобы реализовать эти функции, возникающие во взаимодействиях и в согласованиях с направленностью на преодоление конфликтности и разрушительности, культура приобретает созидаемый в стихии общения (или в акте космической трансляции) язык, его средства и способы их применения в познании, оценке, нормировании. Она приобретает в качестве своих "средств" и процедуры, например культовые и игромодельные. Она также подхватывает художественные самовыражения для вовлечения их в общий ход возвышения человека и общностей над первоначальной "стихийностью" или изолированностью бытия.
В отличие от жизнедеятельности, деятельности, общения, духовного и эстетического самовыражения и т.п. культура выделяет ту сторону в них, которая связана с качественным ростом, развитием, обеспечивая совершенствование качества этих процессов за счет выделения и внесения критериального аналога всех процессов. Иначе говоря, культура – это механизм создания критериального сервиса всех "надприродных" проявлений человека и социума в целом. Сами критерии несут в себе стороны содержательности (сохранности типа процесса) и формности (внесения надслучайного, всеобщего, сущностного и т.п.). Вторая сторона является специфичной, но предполагающей наличие первой (см. сх. 10).
 социальное бытие разделение
социальное бытие разделение


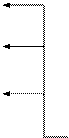 стабилизирующих
стабилизирующих
преодоление факторов
 изолированности
изолированности
 бытия концентрация
бытия концентрация
 и оформление язык
и оформление язык
 согласование содержаний
согласование содержаний

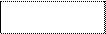 конфликтное критериальный
конфликтное критериальный
 бытие сервис
бытие сервис
культура
изолированность
бытия
Схема 10
Культура как сервис подобного рода опирается на познание, выявление сущности, с одной стороны, и на специфичной оценочности – оценке уровня и "надприродности" в рамках устремленности и ценности роста уровня. Чувственные проявления человека, его взлета и демонстрации сущности, своего духа, происходят благодаря особой зависимости от целостности бытия, от универсума (космоса и т.п.). Человек становится как бы средством показа качеств универсума. Подобные проявления могут быть и в интеллекте, в мышлении и рефлексии. Но вовлеченность в языковые системы и способствуют этому, и ограничивают их, так как язык зависит в его применении, в стереотипах применения от истории социального бытия. Это касается именно интеллектуальной стороны семантики и техники языка, более стереотипизируемой, в сравнении с духовной стороной языка. Поведенческие проявления, деятельностное бытие зависимо и от чувств, потребностно-мотивационной динамики, и от рефлектирующего мышления, оформляющего способы действия и вносящего в них свои содержания. Поэтому рост уровня качества "надприродности" обнаруживаем и в поведении, в деятельности, превращая их в культурно значимые явления. Но сама культура остается лишь источником ускорения качественного роста, закрепления новых достижений в этом росте, подготовки к новому росту.
Так как человек в своей самоорганизации имеет источник любых модификаций своих действенных и интеллектуальных проявлений, а косвенно-чувственных проявлений, то вместе с присвоением языка, ритуалов, идентификационных эталонов, ценностных установок и т.п. он становится и "носителем культуры". Культура, в той или иной мере и в зависимости от создания "внутри" своего "Я" сервиса качественных усовершенствований всех типов проявлений, присутствует в этом носителе. Однако она скреплена с морфологией человека, его источником случайных проявлений и потому легко деформируется, временно или постоянно, теряет свои качества как сервис социума, а не отдельного человека. Лишь подчиняясь этой функции, приобретая способность соответствия функции культуры и предназначенный (универсумом, "мировой душой" и т.п.) к выражению "требований" универсума человек становится конструктором, преобразователем, совершенствователем культуры.
В деятельности и социальном бытии культура привлекается прежде всего в критериальное звено рефлексивной самоорганизации. Только в нем и абстракции, и ценности, как содержания критериального типа, в познании и оценке, нормировании действий и поведения человека, общностей, реализуют свое культурное бытие. Вместе с этим культурный характер обретает и само поведение, деятельность, общение и т.п. Развитие самосознания и его "теоретическое" и "практическое" применение выступает как исходное условие привлечения культурной базы в самоорганизации. В таком применении рождаются механизмы "совести" и иные высшие механизмы как сервисы надситуативного и подлинно человеческого поведения в социокультурных средах. Благодаря "окультурированию" человек приобретает исходные основания своего поведения и бытия в целом, выходящие за рамки быстро меняющихся нормативных рамок в конкретном социуме. Разнообразие культур является результатом исторических морфологизаций функции культуры. Приобщение к культуре определенного типа, обуславливаемое бытием в социокультурной среде, ограничивает реализацию функции культуры. В зависимости от потенциала соответствия этой функции и его предназначения в универсуме человек может проходить свой путь в освоении культур и порождении новаций в ней.
Тем самым, человек пребывает во всех частях функционального пространства. Они и испытывает воздействие культуры, и усваивает ее, и применяет ее "следы" внутри себя для практики, и становится создателем новых содержаний, единиц культуры.
Развитие человека и общностей, будучи связанным с изменением внутренней базы поведения и деятельности, с изменением качества внутренних структур, качественных особенностей механизмов психики, их интегрированности, в большей степени чувствительно именно к воздействию культуры, в основе которой лежат "ключи" к качеству поведения, деятельности, самоорганизации самоотношения и отношения к внешнему. Социальная динамики, привлечение меняющихся конкретных нормативных полей в ней создает предпосылку развития и его возможность. Однако вероятность реализации потенциала развития зависит именно от уровня развитости самой культуры и степени ее непосредственного воздействия. Причина культурного воздействия лежит в концентрированности "первооснов" в ее содержаниях, ее продуктах. Само развитие состоит в приближении развивающегося к этим первоосновам в своем бытии.
3 Метод работы с текстами
3.1 Работа с текстами и мышление
Для того чтобы придать организованность в работе по интеллектуальному саморазвитию, требуется сочетание самостоятельности в мыслительном поиске и системы тех условий, которые могли бы помогать преодолевать случайность мыслительного процесса, случайность рефлексивных процессов, могли бы создавать "внешние" препятствия и превращать оперирование с содержанием и средствами мысли во встречу с диктующими обстоятельствами, нейтрализующими индивидуальное самовыражение. Тем самым, в этом варианте развития, как и в любом ином, должны появляться противоречия, снятие которых могло бы опираться лишь на самокоррекцию, на самоизменение. В зависимости от глубины противоречий, сначала внешних, а затем – внутренних, изменения должны становиться принципиальными, качественными, ведущими к развитию.
Присмотримся к ряду особенностей в работе с текстами, так как она является неизбежно мыслительной и быстро создающей малые и большие затруднения, стимулирующие и коррекции в мышлении, и рост рефлексивной самоорганизации.
Таблица 17
Работа с текстами
| Автор | Высказывание |
| Дридзе | Выделение смысловых узлов, создание цепочек с логическими и смысловыми звеньями и связью с предшествующим порождают схемы текста. |
| Фейербах | Диалектика – это диалог "Я" и "Ты", в котором может быть осуществлено доказательство. Человек раздваивается в ходе доказательства, противоречит самому себе. Если удается преодолеть противоречие, то появляется доказательство. |
| Бахтин | Диалогические отношения выражаются в слове в позиции разных субъектов. Они не сводимы к логическому и предметно-смысловому, сами по себе не содержат диалогические моменты. Диалог всегда связан с персонификацией высказываний. Понять текст означает понять сознание автора. Понимание и оценка составляют целое. Понимание чревато ответом, а также домысливанием отдельных предложений. |
| Гегель | При истолковании текстов осуществляется интерпретация, введение своих мыслей, содержаний, определений, принципов, предпосылок. Понимание зависит от интерпретирующего человека и влияет на развитие мысли. |
| Левитов | Понимание есть результат мышления, использования знаний, применения той работы, которая требовалась при овладении знаниями. |
| Леонтьев | Общение это не просто передача информации, сколько взаимодействие людей. Человек ориентируется на нормы речи и контролирует понимаемость, выразительность. |
| Смирнов | Смысловая группировка является особым действием. Выделение опорных смыслов ведет к тому, что смысл автора замечается. |
| Шехтер | Поднимание достигается в случае соответствия смысловому эталону. Смысл автора замечается при проверке на соответствие информационному эталону. |
| Сохер | Непонимание зависит от особенностей мыслительной работы, объема и качества опыта, от искажения смысла во взаимодействии, неумения восстанавливать структуру сообщения. |
| Доблаев | Понимание, осмысливание текста опирается на вопросы к себе и введение ответов, предвосхищение плана изложения, содержания, на возвраты к прочитанному, критический анализ, оценку прочитанного. Анализ текста ведет к выявлению проблемной ситуации, содержащей скрытый вопрос, нахождение главного вопроса и обобщенного ответа на него, а затем переход к критическому отношению к тексту. Главное в анализе – новизна текста, его субъекта, необходимость в его предикации, уточнении объяснения. Понимание предстает как решение задач, выбор альтернатив, нахождение проблем. К выявленному предикату присоединяется раскрывающий предикат. Текст всегда суть ответ на вопрос. |
| Доблаев | Проблемная ситуация возникает тогда, когда субъект и предикат раскрываются постепенно, излагаются неполно, ограничены или расширены, если субъекты мысли противоположны. Понимание включает реконструкцию содержания субъекта и предиката, отношений между субъектами, субъектом и предикатом. |
| Кучинский | Диалог, внешний и внутренний, может быть предметным, процедурным, личностным. Тексты всегда многофункциональны. В речевом общении осуществляется сообщение информации, ставится вопрос, проводится побуждение к действию, содействие, противодействие. |
| Мальцева | План текста составляется членением материала, группировкой частей по смыслу. |
| Чистякова | Анализ текста предполагает выделение темы, в которой имплицитно даны все денотаты, выявление смысла текста, раскрытие темы, подтем. Нераскрытие является фиксацией отсутствия связи подтем, "скважины". Смысловые опорные пункты являются носителями обобщенного смысла, закладываемого во внутренней речи. Денотатная структура используется для сравнивания текстов, установления тождественности и оценки правильности понимания. |
| Бункин | Слова лучше дополнять зарисованием образов, позволяющих вводить подробное определение и концепты. |
| Якобсон | В процессе общения узнаются взгляды и мнения партнера. Но отношение к явлениям и социальным ценностям, осваиваются нормы поведения и правила общения. |
| Каган Ламм Труфакова | Следует обучать логической аргументации изложения, сжатию информации, приложению теории к решению практических задач. |
| Хазина | Сжатие и наглядное выражение информации позволяет вспомнить нужное сразу. Поняв нужно записать и улучшать запись. Критично относясь к этому. Находить мысли, которые можно объединить по нескольким абзацам, пересказывать и анализировать содержание. Фиксировать о чем идет речь, что и чем доказывается. |
| Матвеева Репкин Скотаренко | Чтение состоит в работе с информационными моделями. |
| Шапиро | Нужно учитывать иерархию текстовых суждений, крупных, а затем и мелких. |
| Шпаковский | Надо выбрать тему, составить план текста, конспект, соединить части своими словами, сделать выводы, использовать научный аппарат. |
| Дубровис- Арановская | Для составления плана текста следует анализировать структуру текста, членить текст, обобщать существенные моменты, систематизировать, формулировать в заголовках, уяснять содержание хода изложения, ставить вопросы, что и о чем говорится. |
| Кузьменко | Сущность чтения заключается в смысловом анализе, синтезе знакового материала для осмысливания, расчленении на части, выборе ключевых фактов, анализе содержания одного отрывка для ответа на вопрос, возникший в понимании другого, связывании содержания, результатов анализа. |
| Мобицина | В чтение входит знакомство с текстом, сбор дополнительного материала, разыскивание понятий, подбор доказательств теоретических установок, поиск источников для решения задач и проблем. Критерии, применяемые в чтении – понимание, усвоение, осознанность, твердость. |
| Матис | Схема текста появляется на основе видения строения текста, выявления связности частей. |
| Желковский Щеглов | Текст воспринимается по разному в зависимости от семантического кода читателя. Тема высказывается на метаязыке, обладающего однозначностью. Такого метаязыка еще нет. Тема создает установку, которой подчиняются все элементы текста, интенцию. Она предполагает краткую запись, соответствие между элементами текста. Тема – это исходная формула для преобразования ее в текст, наиболее общая формулировка смысловой доминанты, дающая сюжет, а затем и сам текст. |
| Лошкарева | Следует знать операции, с помощью которых раскрывается содержание, последовательность разделов. Применять схемы в анализе знаковых явлений. |
| Маркова Бурштина | Нужно использовать средства для смысловой реконструкции, смысловой структуры, контекста. Выделять субъекты и предикаты текста, известные и новые, находить системы отношений между ними, вводить условную грамматическую запись смысловой структуры, уметь составлять текст по графу. В работу с текстом включены операции отбрасывания субъекта, предиката, преобразования субъекта в предикат и предиката в субъект, использование конспекта, его свертывание и развертывание, сопоставление смысловых структур. |
| Асеев Майстренко | Следует формулировать общую идею, детализированную идею, дополнительную идею, конкретизированную идею, фоновое содержание. К недостаткам в чтении ведут искажение смысла суждения автора, нарушение последовательности, привнесение информации, неправильное увязывание теоретического и конкретного, несоответствие пересказа содержанию текста. |
| Перминова | Структурно-логические схемы это знания о структуре объекта и способе действия, алгоритмическое предписание. Они охватывают объект в целом, раскрывают его структуру, являются опорой получения знания отбора информации, организации самостоятельной работы книгой и ведут к системности знания. |
| Гуревич Таращанская | Следует выявлять и осмысливать ключевые слова, понятия, устанавливать связи между ними. Схему можно развертывать различным образом на разных этапах, что позволяет более глубоко понять отношения между понятиями. |
| Юрьев | Структурные схемы строятся в выявлении денотатов высказывания и установлении связей между ними. Они позволяют сжать структурные компоненты. |
| Шешнев | Логический анализ содержания и перевод на язык – посредник позволяет выделить мысль в "чистом виде". |
Эти идеи, касающиеся работы с текстами, в той или иной степени акцентируют внимание и на средственно-знаковой стороне мышления понимающего, и на содержательно-смысловой стороне его мышления. Предполагается и переход от понимания к критике, к активному отношению и творческому вкладу работающего с текстами. Количество отдельных высказываний и идей в этом направлении можно увеличить неограниченно. Нам важно выделить сущностное их выражение, заметить их роль в интеллектуальном совершенствовании и развитии.
Первое, что очевидно и отмечено в высказываниям, это то, что понимающий не сводит свою работу к более или менее напряженному восприятию текста и ожиданию образов, в которых "отражается" высказанное автором. Понимающий активно оперирует текстом автора, выделяет фрагменты, наиболее значимые по какому-то из критериев, отбирает те из них, которые максимально значимы для целостности мысли, определяет логическую функцию фрагмента в цепи выделенных фрагментов, перефразирует фрагменты и т.п. Само манипулирование текстом, конструкторское к нему отношение становится условием понимания, а затем и выработки альтернативной версии и даже критики, участия в совершенствовании мысли и текста. Иначе говоря, основная масса работы с текстом заключена в его схематизации, построения "структурно-логических" схем как средств и понимания, и критики.
В то же время, само понимание неотделимо от содержания текста, от того образа "объекта", который строится в сознании понимающего и оценивается с точки зрения близости к аналогичному образу автора. В отличие от обычного использования и восприятия текста при усилении ответственности за конечный результат неосознаваемое построение образа понимания превращается в предмет специальной организации, где ход строительства образа становится зависящим от приемов, критериев, устремлений понимающего, результатом его особой работы. Поскольку прямое манипулирование образами, смысловыми единицами сознания невозможно, то манипулирование текстом, текстуальными единицами, схемами текста подчиняется самой динамике смыслового "манипулирования". Между смысловой динамикой, содержанием сознания и конструктивными процедурами в знаковом слое устанавливается зависимость, акцентированное взаимовоздействие. Знак, фрагмент текста, схема текста, текст начинают реализовывать функции средств трансформации содержания сознания.
В свою очередь трансформации содержания сознания важны в понимании не сами по себе, а как условие достижения целей понимания, а затем и критики. Так как понимание в мыслекоммуникации означает "восстановление" образа объекта, введенного автором, в сознании читателя, понимающего, то все манипуляции с текстом и их влияние на внутренние процессы, на смыслы в сознании понимающего предстает в качестве посредствующих условий изменения результатов первичного восприятия текста с установкой на реализацию именно функции понимания, не искажения "мысли автора". В таких самоотношении и самокоррекции, обращенных на изменение первоначального "впечатления", на преодоление ошибок и случайности этого результата происходит разделение на самоотношение по содержанию и самоотношение, обращенное к целостности внутренней жизни понимающего, его субъективности в целом, от которой зависит и динамика смыслов, и достижимость результата понимания.
Во всех звеньях самоотношения по ходу понимания, манипулирования во внешнем знаковом и внутреннем смысловом планах восстанавливается целостность самой работы по созданию какого-либо мнения для последующего его выражения для других. Выделение внутреннего процесса порождения смысла "для других" и даже "для себя" из общего потока сознания, цепи и трансформаций смыслов является важнейшей предпосылкой для мыслкоммуникативного, включенного в этот тип социокультурных отношений бытия. Лишь оформлением подобной выделенности способствует созданию особого варианта идентификации, идентификации с позиционерами в структуре мыслекоммуникативных позиций – с автором, с критиком, с понимающим и т.п. И тогда возможен диалог с собой, исходя из заимствованной позиции, или диалог с иным партнером "внутри себя".
Подобное самоотношение с акцентировкой на смыслы и смысловую динамику больше соответствует работе со своим самоотношением и лишь вторично со всем остальным. Если же самоотношение акцентируется на содержании как таковом и субъективное сопровождение нейтрализуется "отчужденным" оперированием смыслами, то оно соответствует работе с сознанием и его содержанием, включая крайний вариант отчуждения, когда происходит идентификация с "объектным содержанием". Для достижения целей понимания такая идентификация нужна как условие сопоставления и контроля достижения соответствия вводимой гипотезы "реальному" содержанию текста автора. Но объектная идентификация выступает как крайняя точка в линии форм бытия в мыслекоммуникации. Иной крайней точкой предстает самовыражение, которое полностью отрывает человека от обязанностей в той или иной коммуникативной позиции. Манипулирование текстом и опосредованно – со смыслами выступает как средняя точка этой линии. Он уже перестает быть самовыражением, так как подчиненно отчуждаемым требованиям, установке на внешнее взаимодействие, принятие результата порождения (текста, содержания).
Тем самым, понимающий, заботящийся о неслучайности своего процесса и результата, переходит к особой работе с текстом, к манипуляциям и потому его результат может предстать как текст, вторичный, выражающий то, что понимающий считает как "точка зрения" автора. Он замещает авторский текст своим, который легко становится иным, неидентичным с авторским, так как подчеркивает, выделяет, обобщает, подчиняет теме, проблемному интересу, рамкам задачи и т.п. Понимание всегда включено в какую-то деятельность, какие-то отношения, взаимодействия и откуда появляется заказ на понимание. Полное понимание означает заимствование позиции и заказа, вызывающего построение авторской точки зрения. Но это всегда является относительным по критерию адекватности. Тем самым, понимание, тем более – критика, предполагают установление отношений не только коммуникативных, но и деятельностных, жизнедеятельностных, общения, борьбы и т.п. Лишь подчиненность и автора, и понимающего, и всех иных позиционеров в мыслекоммуникации единой функции приближения к "истине" или подчиненность исследовательскому типу деятельности в звене теоретического конструирования нейтрализует действие деформирующих факторов или порождает соответствующие усилия по преодолению субъективного характера мнения автора или результатов понимания. Сущностная установка внутри коммуникации представлена позицией арбитра.
Однако сущностная установка, стимулирующая обращение к высоким абстракциям, к оперированию ими, установлению отношений между ними и т.п. отрывает содержание от уникальности точки зрения автора, замещает воззрениями деперсонифицированного типа. Появляется противоречие между надежностью и неслучайностью результата понимания, с одной стороны, и невозможностью достижения надежности и неслучайности обращаясь лишь к прямым формам понимания, к непосредственному пониманию текста, не вводя манипуляции знаковым материалом, смыслами и не вводя замещения первичных смыслов культурными значениями. Тем более что и автор пользуется деперсонифицированными средствами выражения содержания предикатов, строит предикативные цепи. Однако он сохраняет уникальность своих воззрений персонифицированным манипулированием этими средствами.
Внесение арбитражного звена в процесс понимания и критики усложняет указанное выше противоречие, запутывает характер его проявления. Первоначальные формы понимания, ориентированные на реконструкцию и повторение уникальности точки зрения автора, заменяется более сложным, но преодолевающим субъективизм в решении задач на понимание, способом достижения цели. Сама цель уже перестает обслуживать реконструкцию версии автора и предстает как обслуживающая конструирование точки зрения автора с введением в ней неслучайности и надежности за счет интеграции техники арбитражной работы. Автор включается в линию движения деперсонифицированной мысли и понимающий занимается обнаружением места в этой линии, которое занимает автор. Но для этого эта линия движения мысли еще должна быть создана.
Вместе с элементами арбитражной техники и более принципиальным и точным оперированием содержательными средствами арбитража (абстракциями разного уровня, аналитическими и синтетическими) в ткань понимания и критики внедряются все формы организации мышления (постановка и решение задач и проблем, прогнозирование, планирование, тактическое и стратегическое планирование и т.п.).
Вносятся специфические требования логической организации мышления. Особую роль начинают играть и схемы, позволяющие перенести внутреннее и косвенное манипулирование смыслами во внешний план и использовать все преимущества манипуляции знаково-символическими средствами в решении задач на понимание и критику, арбитраж и самоорганизацию.
С другой стороны, именно обращение к установке на "истину", "сущность" содержания, выявляемую у автора в процессе понимания и вводимую в ходе критики и арбитрирования, введение логических форм и абстрактных средств мышления создают инструментально-технологическую базу "прорыва" в существенное, высшее в том содержании, овладение которыми и корректное использование которыми подчиняет все позиционные формы участия в коммуникации. Выявление, построение, овладение этими средствами мышления создает основную предпосылку развития мышления, а затем и рефлексии, интеллектуальной культуры в целом. Этому развитию подчиняются все сопровождающие мышление рефлексивные процессы и рефлексивная самоорганизация.
3.2 "Метод работы с текстами" (МРТ)
В той линии исследований и разработок, совершенствования и развития мыслительной культуры, которая была ведущей в нашей работе системообразующим звеном выступил "метод работы с текстом" (МРТ), созданный нами сначала для ускорения усвоения самых сложных содержаний (с 1959 по 1975 гг.), а затем для организации саморазвития, прежде всего – интеллектуального (с 1975 г.). При осмысливании практики конспектирования и внесении схематических изображений как наиболее эффективных средств овнешнения содержаний сознания (с 1973 г.) мы достаточно быстро осознали роль конструктивных знаковых (текстовых) манипуляций и необходимость явного введения логических требований в соотнесение знаков, фрагментов. Самым большим открытием выступило осознание роли того логического метода, который назывался "восхождением от абстрактного к конкретному". Тем более что вначале 70-х годов мы систематически осваивали идеи Гегеля и стремились их сделать приложимыми к практике конспектирования и работы с текстом в целом. По пути приходилось корректировать операциональное понимание близких логических разработок (прежде всего в Московском методологическом кружке).
В своей работе мы были склонны любые содержания текстов замещать высшими абстракциями и лишь с их помощью возвращаться к оригинальным содержаниям автора или к анализируемым смыслам, фиксированным в своем сознании. Эти высшие абстракции, заимствуемые или создаваемые самостоятельно, представали как "сущностные лучи", освещающие первоначальный материал смыслов, помогающие заметить сущностную основу уникальных смыслов. И конспект-схемы, и схематические изображения представали как предметы манипулирования замещениями смыслов, "извлечениями" их из глубин сознания. Логика "восхождения" осознавалась как вместилище всех типовых мыслительных операций и всех форм организаций мышления в построении текстов.
Применение МРТ при реконструкции сложнейших мыслительных систем, концепций, дискуссий стимулировало огромный объем рефлексивной самоорганизации и самокоррекции, а также самопознания и самосознавания. В связи с этим он легко и превратился в основу "метода интеллектуального саморазвития" (МИС).
Однако вернемся к общим проблемам работы с текстами. Сама работа с текстами легко помещаема в самые разные ситуации интеллектуальной работы. Так при вхождении в новую область знания она обеспечивает усвоение новых знаний, а в условиях достижения компетентности в области знания она превращается в звено решения профессиональных задач и при постановке проблем. Наиболее значима ситуация рефлексивной самоорганизации, в которой исходными текстами выступают тексты описания своей работы, включая различные затруднения в достижении целей.
В общем поле подходов к работе с текстами в решении мыслекоммуникативных и иных (научных, управленческих, рефлексивно-самоорганизационных, учебных, методических, педагогических, культурных и т.п.) задач сложились противоположные традиции. Одна из них устремлена на быстроту прочтения и получение общего, обзорного или детально регистрационного образа по содержанию текста. Другая же акцентирует внимание на неслучайность выявления авторских содержаний, надежность реконструкции структуры содержания, иерархии его слоев. Поэтому во втором случае быстрота как технологическая ценность уступает ценности надежности и однозначности содержания получаемого результата.
В своих поисках в начале 70-х годов мы принадлежали к числу немногих приверженцев второго направления построения МРТ. По полученному в 60-х годах опыту конспектирования мы убедились, что установка на быстроту чтения не ведет к общей культуре работы с текстами, ставит ход и результат в прямую зависимость от индивидуальных особенностей читателя, ведет к многовариантности и ситуационности в получении результата. При этом есть часть задач, которые решаются на данном пути. Это, как правило, задачи предварительной подготовки к "основной" работе. Чем более строгая и ответственная задача стоит перед читателем, чем больше он реализует ценность отхода от случайности результата и пути к результату, ценность деперсонификации результата и возможности включиться в "отчужденный" профессиональный и культурный процессы, тем менее значимы приемы сенсомоторной изощренности в ускорении чтения, в получении интегральных субъективных смыслов.
Иначе говоря, такой подход не приводит к появлению понятий, категорий, однозначности, структурной определенности результата понимания. Даже в том случае, если автор реально не имел той же определенности и строгости содержания мысли возможность понимания и выявления общезначимых оснований его точки зрения, его строгой и точной базы и т.п., зависит от понятийного типа реконструкции. Вместо автора читатель должен построить или подобрать понятия, объясняющие и обосновывающие его смыслы и, может быть, нестрогие представления. Лишь на этом пути появляется возможность и самого автора, его точку зрения размещать в исторической линии воззрений в науке, культуре, практике, образовании.
В рамках альтернативного подхода оформляется и другая перспектива: переход от реконструкции, понимания точки зрения к ее критике и построении более совершенной точки зрения. Опора на понятия и категории позволяет иметь нейтральные, "арбитражные" основания как новой точки зрения, так и возможных перспектив развития любой версии. Кроме того, опора на понятия и их соотнесение с допонятийными представлениями облегчает переход к постановке задач на формирование культуры мышления, культуры рефлексивной самоорганизации и механизмов саморазвития читателя.
Исходя их этого мы разработали свой МРТ. Его ориентация состоит в постепенном приобретении общей мыслительной и рефлексивной культуры, построении "предельно" общих (по функции) понятий как средств понимания, критики и совершенствования точки зрения автора, перехода от реконструкции точки зрения к использованию результата для постановки и решения задач и проблем.
Механизм МРТ включает в себя все типовые мыслительные, мыслекоммуникативные и рефлексивные процедуры, встречающиеся в работе с устными и письменными текстами и в коммуникативной практике в целом. При этом все процедуры "помещаются" в позиционное пространство мыслекоммуникации (см. сх. 3).
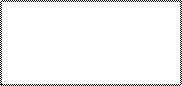
 позиции – автора
позиции – автора

 процедуры понимающего
процедуры понимающего
критика
арбитра
организатора
Схема 3
Читатель сначала пребывает в позиции понимающего, который должен реконструировать точку зрения, выраженную в тексте. Точка зрения "существует" и в субъективном плане представлений, и в тексте. Если учитывать, что читатель, также как и автор, зависим от внутреннего субъективного мира, его состояний, реагирования на внешние и внутренние факторы, то его первичный результат в восприятии и понимании текста является неизбежно случайным. Для того чтобы отойти от случайности понимания текста, ему необходимо осуществить поправки первичного результата (см. сх. 4).




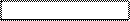 внутренняя состояния читателя текст динамика
внутренняя состояния читателя текст динамика

 жизнь состояний
жизнь состояний
реагирование автора
условия на текст
 |
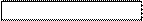 первичное понимание
первичное понимание

поправки в понимании
Схема 4
Для организации процесса фиксации результатов первичного понимания и внесения поправок предварительно необходимы либо повторное изложение мысли автора, либо построение схемы-конспекта, либо построение схематического изображения, либо совмещение всех форм внешнего выражения, что удобно для внутренней и внешней организации процесса корректирования (см. сх. 5).
бытие содержаний
 |
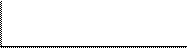 внешнее повторное изложение
внешнее повторное изложение
бытие содержаний схема-конспект
схематическое изображение
 |
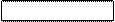 корректирование
корректирование
 |  | ||||
 | |||||

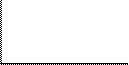 изменение измененные повторные тексты
изменение измененные повторные тексты
внутренних схемы-конспекты
содержаний схематические
изображения
Схема 5
Так как внешнее выражение внутренних смыслов не может быть идентичным внутреннему смыслу и его динамике, зависящему от внутренних состояний и внешних условий их изменения, то все предварительные, первичные результаты понимания рассматриваются лишь как гипотезы. Процесс подтверждения и опровержение гипотез является первым главным слоем процедур. Для того чтобы осуществить проверку гипотез необходимо опираться либо на мнения автора, контролирующего понимание (или его приверженца, "адепта", внутреннее находящегося в курсе дела, адекватно понявшего текст автора), либо использовать иной фрагмент текста по той же теме как условие проверки, заставляющего сравнивать представления, возникшие при понимании "первого" и "второго" отрывка, фрагмента текста автора (см. сх. 6).
текст автора



 фрагменты
фрагменты
по теме
первый фрагмент второй фрагмент
 | |||||
 |  | ||||
 читатель понимание понимание
читатель понимание понимание
 (результат – гипотеза)
(результат – гипотеза)
 |  | ||
 сравнение
сравнение
содержаний
 |  | ||
подтверждение

 опровержение коррекция
опровержение коррекция
Схема 6
Построение конспекта и схемы-конспекта, а также схематического изображения как выражения результатов понимания позволяет придать указанным в сх. 6 процедурам оперативно-манипулятивный характер, удобный для сознаваемой самоорганизации в мышлении, а также для внешней организации.
Однако коррекции несут на себе стихийность и случайность самовыражения читателя, если они подчинены лишь субъективным состояниям. Поэтому от читателя требуется формирование способности к "надсубъективному" чтению схем различного типа и вхождение в "логику объектного содержания", выраженного схемами. Если понимание и первого, и второго (любого числа) отрывков по теме выражено в схемах, то читатель может упростить соотнесение содержаний, сведя к сравнению "содержаний" схем и обращаясь к более богатым содержаниям смыслов во внутреннем плане лишь при необходимости (см. сх. 7).
текст


 внутреннее внутренние фрагменты
внутреннее внутренние фрагменты
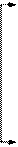
 содержание фрагменты текста
содержание фрагменты текста
смысла смысла
 тема
тема
внешнее
соотнесение выражение

схемы

 сравнение
сравнение
схем
Схема 7
Сравнение схем как сравнение "объектов" является основой культурного обеспечения процессов реконструкции точек зрения авторов. На этом пути рождается трансформация случайных схем в неслучайные и субъективных смыслов в субъектно представленные значения или социально-культурные аналоги смыслов, прототипы понятий.
Первым ведущим фактором превращения "естественных" (субъективных, индивидуальных) и т.п. смыслов в "культурные" (надсубъективные) значения выступает действие внешнего организатора (педагога), владеющего подлинным, "эталонным" представлением об объекте понимания. Его схема лишена случайности и нужно лишь опознать это самому читателю (ученику), использовать для коррекции.
Для того чтобы соотнесение и сопоставление схем (первичной и эталонной) было эффективным, ведущим к коррекции, внешнему организатору необходимо не только использовать, но и корректировать способ чтения схем, приход, с их помощью, к осознанию различий в объектном содержании схем (см. сх. 8).
текст

фрагменты
 по теме
по теме
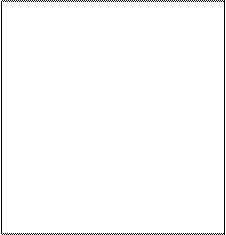
 читатель первичная эталонная
читатель первичная эталонная


 схема схема корректор
схема схема корректор
 |  |
объектное первичное
прочтение объектное
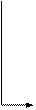 прочтение
прочтение

вторичное коррекция
объектное
прочтение

сопоставление

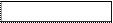
коррекция схемы
Схема 8
Играло введение с 1972 – 1973 гг. логических принципов реконструкции развивающихся объектов. Они в своей идейно основе были раскрыты еще Гегелем, а также Платоном, Фихте и др. В объектной акцентировке (не логической) их содержание излагалось в учении о диалектике и диалектическом методе. Более технологический характер изложения дал (Г.П. Щедровицкий, а также Б. Грушин, А. Зиновьев, М. Мамардиашвили и др.).
В нашем варианте технологизации идеи логической формы построения организованной мысли, опирающемся на оперирование со схемами, мы выделяем предпосылку логической организации изложения мысли (для понимающего – вторичное изложение) и саму логическую организацию. Предпосылка состоит в том, чтобы различить: знаковое средство; его содержание; субъективное "прочтение" содержания; соотнесение содержания с тем, о чем ведет речь; подтверждение относимости содержания знака (знаковой структуры) с содержательностью того, о чем ведется речь; опровержение относимости; возврат знаковой структуры (знака) к статусу быть средством мышления. Так как при понимании строятся схемы и схематические изображения, то все моменты легко опознаются в оперировании со схемами (см. сх. 9).
"объект" мысли в сознании отнесение содержательное

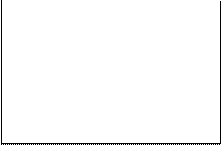 <о чем ведется речь> содержание прочтение
<о чем ведется речь> содержание прочтение

 объект мысли схемы схемы
объект мысли схемы схемы



 вне сознания
вне сознания
подтверждение
опровержение устранение схема как
 отнесенности символическое
отнесенности символическое
содержания средство

 схемы
схемы
схема вне
мышления
Схема 9
Следовательно, когда содержание "сознания" в процессе понимания как результат понимания выражается в схеме, то схема и ее содержательное "прочтение" соотносится не только с тем, что ею выражалось, но и тем, о чем ведется речь, вне самого познающего (объект познавания, анализа). Когда данное применение схемы (см. сх. 9) происходит в коммуникации, вне "контакта" с объектом, остается лишь его субъективная представленность в виде образа.
Логическая организация мышления состоит в постановке вопроса, получении ответа и действия в соответствии с типом вопроса – "какова должна быть последующая схема при следовании некоторому принципу?". Логически противоположными принципами выступают – "дополнительность" и "уточняемость". В рамках первого принципа последующая схема присоединяет новое содержание к прежнему меняя "границу" объектности, а в рамках второго – она не меняет границу и лишь конкретизирует, детализирует содержание (см. сх. 10).
меняет границы
объектного содержания

 введение дополняет прежнее содержание
введение дополняет прежнее содержание
новой
 схемы уточняет прежнее содержание
схемы уточняет прежнее содержание
 |
не меняет границы
объектного содержания
Схема 10
Если предпосылки логической организации мышления существуют и выполняются, то понимающий может организованно контролировать переход к более сложному содержанию, так как у него, пользующегося принципом уточнения, есть целостное понимание мысли автора и он следит лишь за введением уточнений в их последовательном прядке. Каждый шаг в уточнении ведет к новому, более конкретному и целостному пониманию. На каждом шаге может оказаться, что автор "покинул" свой объект, если его содержания перестают уточнять и начинают либо дополнять, либо создавать иное целостное представление, иное начало организованной таким образом мысли (см. сх. 11).
текст автора
 сохранение
сохранение
 отрывки по теме "объекта"
отрывки по теме "объекта"
 | |||
 | |||
выбор отрывка введение подтверждение


 в функции отрывка статуса уточняющего
в функции отрывка статуса уточняющего
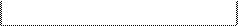 исходного в функции
исходного в функции
уточняющего опровержение
|
статуса уточняющего

смена "объекта"
Схема 11
Тем самым, логический принцип "уточнения" дает следующие типовые возможности:
· найти тип объекта;
· построить исходное, абстрактное его "выражение";
· организовать переход к более конкретному выражению;
· проконтролировать фазы конкретизации;
· избавиться от "случайных" содержаний;
· выявить фазы "развития объекта";
· проконтролировать переход автора к иному объекту мысли;
· более строго изложить версию автора;
· перейти от авторского выражения к своему и проконтролировать "начало" совершенствования мысли;
· перейти к своему объекту мысли и проконтролировать момент и причину перехода;
· выявить возможность построения "еще более" абстрактного начала мысли.








