Введение в искусство Арабских народов
Б. В. Веймарн.
В Эпоху феодализма народы арабских стран сделали крупный вклад в развитие мировой цивилизации. Средневековая культура Аравии, Сирии, Ирака, Египта, Туниса, Алжира, Марокко и мавританской Испании была важным прогрессивным шагом в развитии человечества. Кроме того, арабы сохранили (особенно в области науки) и передали последующим поколениям многие ценные достижения античности. Культура народов, населявших Аравийский полуостров, известна с глубокой древности. Античные географы называли южную, земледельческую, Аравию «счастливой». Здесь еще в первом тысячелетии до нашей эры существовали богатые рабовладельческие государства.
Несмотря на важную роль прибрежных областей, основную массу населения Аравии с древних времен составляли кочевники, занимавшиеся скотоводством в степях и полупустынях полуострова. К началу 7 в. н. э. глубокий и сложный процесс классового расслоения внутри арабского общества и политическая обстановка, связанная с борьбой между Ираном и Византией, создали условия для возникновения средневекового Арабского государства. Политическое объединение арабов в начале 7 в. происходило под знаменем новой, ставшей вскоре мировой религии — ислама. Первоначальным местом пребывания основателя ислама и главы Арабского государства Мухаммеда и его преемников — первых халифов — был аравийский город Медина, а затем Мекка1(Переселение (хиджра) Мухаммеда в Медину, происшедшее 16 июля 622 г., принято мусульманами за начало летоисчисления, в основу которого положен лунный год. Для перевода дат с хиджры на европейское летоисчисление применяются особые таблицы.).
В 7 в. арабы завоевали Палестину, Сирию, Месопотамию, Египет и Иран. В 661 г. Муавия — арабский наместник в Сирии,— захватив власть и положив начало халифату Омейядов, перенес столицу в Дамаск. В конце 7 и начале 8 в. к халифату были присоединены гигантские территории, включавшие Пиренейский полуостров и всю Северную Африку на западе, Закавказье и Среднюю Азию до границ Индии — на востоке. Арабский халифат стал большим раннефеодальным государством, хотя в некоторых его областях долгое время сохранялись рабовладение и даже первобытно-общинные отношения. В 750 г. династия Омейядов была свергнута, и власть захватили Аббасиды, основавшие на реке Тигре новую столицу — Багдад. Владычество халифата вызвало освободительную борьбу завоеванных народов и восстания эксплуатируемых масс трудящихся. В 9—10 вв. халифат распался на ряд фактически самостоятельных государств; из-под его власти вышли Средняя Азия, Закавказье, Египет и Магриб.
Уже в середине 10 в. власть в Багдаде захватили Бунды — иранцы по происхождению. Халифы остались только мусульманскими первосвященниками, своим религиозным авторитетом укреплявшими власть феодальных правителей
Глубокие социально-исторические процессы, происходившие на Ближнем Востоке, в частности, привели к сложению новых арабских народностей в странах Передней Азии и Северной Африки. В каждой из арабских стран в эпоху феодализма особенности развития общественной жизни, а также местные древние культурно-художественные традиции наложили отпечаток на характер искусства. Черты неповторимого своеобразия отличают средневековые художественные памятники Сирии, Ирака, Египта, Туниса, Алжира, Марокко(Употребление до сих пор распространенного в зарубежном искусствознании термина «мусульманское искусство» неправомерно. Искусство каждого из народов Ближнего и Среднего Востока в эпоху феодализма имеет свои художественные особенности, которые нельзя объяснить религией. Если же относить этот термин только к памятникам культового искусства, то его значение становится узкоспециальным и несущественным для истории искусства. Также неверно называть арабским средневековое искусство всех стран, входивших в состав халифата.).
Вместе с тем культура арабских стран в средние века имела и определенные общие черты, обусловленные сходством путей и форм развития феодализма и связанной с этим общностью идеологии и других надстроечных явлений. Весь сложный комплекс социально-исторических причин, включая также процесс сложения арабских народностей (а не только религия, как принято считать в традиционной буржуазной литературе), определил относительное художественно-стилистическое единство средневекового искусства арабских стран на Ближнем Востоке.
Для развития средневековой арабской культуры важную роль играло также ее взаимодействие с Ираном, Средней Азией и Закавказьем. Арабский язык был не только языком священной книги мусульман — Корана, но им, как латынью в Западной Европе, пользовались очень многие ученые, писатели и поэты во всех частях многоязычного халифата. Яркие примеры творческого взаимодействия сохранила история литературы народов Востока. А. М. Горький высоко ценил и называл великолепными «Сказки Шахразады» («Книга тысячи и одной ночи») именно за то, что они «выражают буйную силу цветистой фантазии народов Востока—арабов, персов, индусов». Художественное творчество многих народов воплотилось и в знаменитой поэме «Лейла и Маджнун». Романтические образы умирающего от любви Маджнуна и его возлюбленной Лейлы — Ромео и Джульетты Востока,— родившись еще на заре феодализма в арабской среде, воодушевили на создание замечательных произведений лучших поэтов средневекового Азербайджана, Ирана и Средней Азии. Тесные взаимосвязи были и в области науки. Поразительно быстро для тех времен распространялись среди ученых халифата достижения математиков Средней Азии, медиков Египта, философов арабской Испании.
Важна, однако, не только известная общность, но и общий высокий для того кремени уровень культуры народов Ближнего и Среднего Востока. Пробужденные освободительной и классовой борьбой творческие силы народов, входивших в Арабский халифат, привели к большому подъему средневековой культуры, расцвет которой продолжался и тогда, когда халифата как единого государства фактически уже не существовало. В 9—13 вв. арабские, иранские и среднеазиатские города — Дамаск, Багдад, Каир, Кордова, Бухара, Исфахан и др.— были крупнейшими центрами учености, славились своими университетами, школами, библиотеками.
Определенное влияние на развитие средневекового искусства народов, исповедовавших ислам, оказала религия. Распространение ислама означало утверждение монотеизма — веры в единого бога. Мусульманское представление о мире как о созданном богом целом имело значение для формирования характерной в средневековую эпоху эстетической идеи о некоем, хотя и отвлеченном, единстве вселенной.
Ислам, как и все средневековые религии, оправдывал феодальную эксплуатацию и призывал к покорности правителю государства — халифу. Однако взгляды на мир, а также эстетическое отношение людей средневекового Востока к действительности нельзя свести только к религиозным представлениям. В сознании человека средневековья и в его художественных взглядах противоречиво сочетались религиозно-схоластические тенденции и реальное представление о мире. Один из величайших ученых и философов средневекового Востока Абу Али ибн Сина (Авиценна) признавал божественное происхождение вселенной и вместе с тем утверждал, что научно-философское знание существует независимо от религиозной веры. Ибн Сина, Ибн Рушд (Аверроэс), Фирдоуси, Навои и многие другие выдающиеся мыслители средневекового Востока, в чьих трудах и поэтических произведениях особенно ярко проявились прогрессивные черты мировоззрения эпохи, утверждали силу человеческой воли и разума, ценность и богатство реального мира, хотя, как правило, не выступали открыто с атеистических позиций.
Для судеб изобразительного искусства в арабских странах, как и в странах Среднего Востока, имела значение иконоборческая тенденция ислама. Ислам отрицал возможность изображения божества. В Коране кумиры (вероятно, изображения древних племенных богов) названы наваждением сатаны. В культовых зданиях не разрешалось пометать изображения людей. Коран и другие богословские книги украшались только орнаментом. Но первоначально в исламе не было запрещения изображать живые существа, сформулированного в качестве религиозного закона. Только позднее, вероятно в 9—10 вв., иконоборческая тенденция ислама была использована для запрещения определенной категории изображений под страхом наказания в загробном мире. История показала, что эти ограничения, наложившие отпечаток на развитие отдельных видов искусства, соблюдались далеко не всегда и не всюду. Они имели значение и строго выполнялись лишь в периоды особенного усиления религиозной реакции.
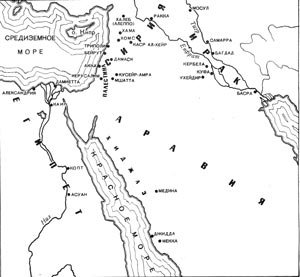
Карта. Аравия, Сирия, Ирак, Египет.
Все это в известной мере воздействовало на искусство, но, конечно, не только влияние религии определяло специфику художественного творчества народов, исповедовавших ислам в средние века. Его главные, основные особенности были обусловлены новыми идейно-эстетическими задачами, которые выдвинул поступательный ход развития общества, вступившего в эпоху феодализма. Новаторство средневековой литературы народов Арабского, а также всего Ближнего и Среднего Востока и вместе с тем ее жизненную основу ярко характеризует обращение к духовному миру человека, создание нравственных идеалов, имевших общечеловеческое значение. Большой образной силой проникнуты также зодчество и изобразительное искусство арабских стран. В народной жилой архитектуре в наибольшей мере сохранялись древние местные традиции, которые перерабатывались в соответствии с требованиями феодальной эпохи. Арабские зодчие возводили также многочисленные караван-сараи и крытые рынки, отвечавшие размаху торговой деятельности городов, дворцы правителей и знати, укрепленные цитадели, городские стены с башнями и воротами, величественные мосты и многие другие сооружения светского характера.
Основным культовым зданием стала мечеть — место для молитвы. Считается, что прототипом мечети явился дом Мухаммеда в Медине, огороженный двор которого имел с южной стороны навес, укрепленный на пальмовых стволах. Классический тип арабской мечети, которую называют колонной или дворовой, представляет прямоугольный участок, огороженный высокой стеной. Основным элементом композиции является двор, окруженный аркадой на колоннах или столбах. Колонны чаще всего расположены в несколько рядов; в сторону киблы (Кибла — направление на главную мусульманскую святыню: первоначально — Иерусалим, а позднее — Мекку.) они образуют обычно глубокий колонный зал. Киблу отмечает также специальная украшенная надписями и орнаментом ниша — михраб. Для зодчих, возводивших мусульманские культовые здания, образцом, естественно, являлись большие столичные мечети. Однако в различных областях халифата строители широко использовали местные, привычные для народа традиционные приемы и архитектурные формы. Поэтому тип колонной мечети в каждой из арабских стран получил своеобразную интерпретацию. Наряду с колонными в арабских странах в некоторые периоды сооружались четырехайванные, центральнокупольные и другие мечети.
Своеобразное композиционное решение получили здания медресе — духовных училищ, имевшие помещения для занятий, мечеть и комнаты, в которых жили преподаватели и учащиеся. Известны здания библиотек, а также больниц, так называемых маристанов. Сохранилось много мавзолеев, построенных над могилами особо почитаемых лиц и увенчанных чаще всего куполом.
Памятники монументального зодчества в арабских странах отличаются особыми художественными качествами: четкостью архитектурных форм, специфическим абрисом подковообразных и стрельчатых арок и куполов, богатством резного орнамента и надписей, а с определенного времени также узорной кладкой из разноцветного камня.
Изобразительное искусство, в большей мере чем архитектура, было ограничено религиозным запретом. Однако изображения людей и животных заполняют миниатюры в рукописях, встречаются в декоративных рельефах и в самых разнообразных видах прикладного искусства. Средневековое изобразительное художественное творчество в арабских странах далеко не всегда выражало вкусы, совпадавшие с эстетическими нормами господствовавших классов и ортодоксального мусульманского богословия. Специфика арабского изобразительного искусства очень сложна. Оно отражало живое содержание действительности, но, как и вся средневековая культура, глубоко проникнутое религиозно-мистическим мировоззрением, отражало действительность в условной, часто символической форме, выработав для художественных произведений свой особый поэтический образный язык.
Средневековому искусству арабов свойственна ярко выраженная декоративность. Она является основой образного строя живописи и породила замечательное искусство узора. Орнамент — «музыка для глаз» — играл очень важную роль в средневековом искусстве всех пародов Ближнего и Среднего Востока. Однако, по-видимому, арабам принадлежит первенство в создании арабески — нового типа узора, состоящего из пересечения и переплетения стилизованных растительных мотивов и различных геометрических фигур. В арабеске сложность общего построения дополняется прихотливым богатством изощренно и тонко разработанных деталей. Нередко в узор включены надписи арабскими буквами, похожие на орнамент. Арабеска обычно имеет «открытую», создающую возможность бесконечного развития композицию, позволяющую художнику сплошным ковром узора покрывать поверхность большого протяжения и любого очертания. В разработке орнамента арабские мастера достигли изумляющей виртуозности, создав бесчисленное множество композиций, основанных на точном математическом расчете и вместе с тем одухотворенных огромной силой художественной фантазии.
Декоративному образному строю в средневековом арабском искусстве подчинено и изображение человека. В прикладном искусстве фигурки людей чаще всего включены в орнамент, являются неотъемлемой частью композиции узора. Но даже трактуя фигуру человека плоскостно, условно, арабский художник наделяет изображение выразительными жизненными чертами.
Народы арабских стран в эпоху средневековья создали произведения искусства, отмеченные своеобразным и тонким пониманием прекрасного. В тесных рамках средневекового мировоззрения художники нашли свой путь воплощения богатства окружавшей их жизни. Ритмом сложного узора, тонкой пластикой декоративных форм выражали они большое эстетическое содержание.
Искусство Аравии, Сирии, Ирака и Палестины 7 —13 столетий занимает важное место в истории художественной культуры Ближнего Востока. Создание Арабского халифата двояко воздействовало на культуру народов, вошедших в его состав. С одной стороны, введение ислама и связанных с ним юридических и бытовых норм во многих случаях сопровождалось разрушением старых домусульманских традиций и некоторым ограничением форм и видов, в которых могло дальше развиваться искусство. С другой стороны, объединение в одном, хотя и слабо централизованном государстве обширных областей и многих народов с развитой культурой создало возможности интенсивного экономического, культурного и художественного обмена между ними.
С первых лет возникновения халифата большой размах получило гражданское и культовое строительство. Возводились укрепленные пограничные лагери — рабаты. быстро разраставшиеся в поселения; в захваченных старых городах устраивали обособленные кварталы, где размещались арабские гарнизоны и селились представители власти; был основан ряд новых городов — Басра и Куфа в Месопотамии, Фустат в Египте и многие другие. В каждом даже незначительном населенном пункте строили мечеть.
В Аравии самым крупным памятником культовой архитектуры является большая мечеть в Мекке. Для мусульман-суннитов она служила всегда главной святыней и местом паломничества — хаджжа. В центре огромного двора, обнесенного галле-реями, возвышается кубической формы постройка — Кааба, в которой хранится священный «Черный камень». Современный вид мечети—результат многократных перестроек, крупнейшие из которых относятся к 15 и 17 столетиям. Однако письменные источники содержат ценные сведения о первоначальном виде Каабы, которая была храмом Мекки еще до появления ислама.
Арабский историк ал-Азраки сообщает, что при перестройке Каабы в 608 г. внутри здания были исполнены картины, изображавшие библейских пророков, ангелов и деревья. Стены здания были сложены из чередующихся рядов камня и дерева. Этот прием, по мнению исследователей, имеет своим истоком зодчество древней Эфиопии, причем возможно, что архитектор, производивший строительные работы, был эфиоп(Новейшие исследования говорят о тесных культурных связях древних государств южной Аравии с Эфиопией.).
В мусульманское время Кааба была впервые перестроена после пожара в 684 г. Здание возвели целиком из камня и украсили мозаикой. Это был первый случай применения мозаики в исламских культовых постройках. При Омейядах главную роль в развитии культуры и искусства стала играть Сирия. Еще в 4—7 вв., когда Сирия входила в состав Византии (см. том II, кн. 1), здесь шло оживленное строительство светских и культовых зданий: христианских церквей, обширных монастырей, странноприимных домов. Архитектура, мозаика, миниатюра и различные отрасли прикладного искусства уже в период раннего средневековья достигли в Сирии высокого художественного уровня.
В 7—8 вв. зодчие, решая новые архитектурные задачи, еще непосредственно исходили из строительных и художественных ' приемов предшествующего периода. Это можно наглядно проследить на примере выдающегося памятника ранней мусульманской культовой архитектуры в Сирии — мечети Омейядов в Дамаске, сооруженной по приказу халифа Валида I в 705—715 гг. путем перестройки большой христианской церкви Иоанна Крестителя, в свое время воздвигнутой на месте античного храма.
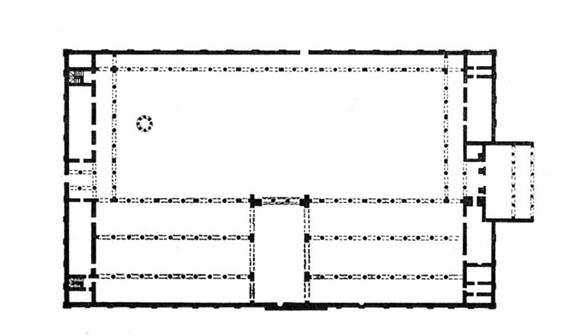
Мечеть Омейядов в Дамаске. План. Реконструкция.
При строительстве большой дамасской мечети были использованы архитектурные детали (в частности, коринфские капители колонн) от зданий ранневизантий-ского, а, возможно, даже римского времени. Однако в мечети Валида план и внутреннее пространство византийской базилики получили совершенно новую трактовку. Михраб, устроенный в южной продольной стене, и ведущий к нему вновь сооруженный широкий и высокий трансепт, разрезавший все нефы посередине, совершенно изменили ориентировку здания. Продольные колоннады, превратившиеся в колоннады молитвенного зала, оказались расположенными поперек движения к михрабу. Нефы базилики путем перестановки колонн уравнялись по ширине, а северную продольную стену прорезала широкая открытая аркада, в результате чего пространство двора (до последующих перестроек) как бы свободно перетекало в пространство молитвенного зала. Базилика перевоплотилась в колонную мечеть, тип которой к тому времени фактически уже стал каноном мусульманских зданий, предназначенных для молитвы.
Особенность архитектуры дамасской мечети заключается в том, что огромный (длиной около 140 м ) зал сохранил пространственную цельность (илл. 3), Благодаря значительному (около 5 м) расстоянию между колоннами пространство зала лишь слегка расчленено и свободно просматривается во всех направлениях. Вместе с тем двухъярусные аркады подчеркивают большую высоту зала, покрытого кровлей на деревянных стропилах и куполом. Своеобразны также двухъярусные аркады, окружающие двор. Первоначально в нижнем ярусе аркады в качестве опор ритмично чередовались массивные прямоугольные столбы и легкие круглые колонны. Над широкими арками нижней части расположен второй ярус двойных, разделенных колонками арочек. Этот мотив напоминает детали более ранних по времени христианских базилик Сирии.
Интерьер мечети имел богатое убранство: стены были покрыты инкрустацией из мрамора, полы застланы дорогими коврами. Но самым драгоценным украшением мечети были мозаики, частично сохранившиеся и сейчас на стенах и сводах (илл. 5 а). Они изображают группы деревьев и пейзажи с разнообразными архитектурными постройками. Мозаики созданы сирийскими мастерами, опиравшимися в своем искусстве на старые местные традиции. Особенно интересны мозаики входного портика мечети. На золотом фоне в зеленых и коричневых тонах изображены среди больших деревьев причудливые здания с полукруглыми и двухэтажными колоннадами, с башнями и коническими слегка изогнутыми куполами. Некоторые мотивы имеют прямую связь с эллинистическими прототипами и помпеянскими фресками. Обращает внимание отсутствие в дамасских мозаиках изображений человека, в чем можно видеть воздействие иконоборческих тенденций ислама. По своим архитектурным масштабам и дорогому убранству мечеть Валида явилась своеобразным памятником торжества ислама и должна была затмить блеск находившейся на ее месте христианской церкви. Другой пример перестройки большой христианской базилики в мусульманское культовое здание представляет мечеть ал-Акса в Иерусалиме.
От 7 столетия до пас дошел и замечательный образец центральнокупольной композиции — знаменитая мечеть Скалы, или, как ее часто называют, Куббат ас-Сахра (купол Скалы) (илл. 2), построенная в Иерусалиме в 687—691 гг. Воздвигнутое на горе Мория, там, где, по преданию, находился первый храм Соломона, которому отведено столь значительное место в религиозных преданиях евреев, христиан и мусульман, здание мечети увенчало священную скалу. С этим связаны особенности ее планировки: два концентрических восьмигранника опоясывают центральный круг с расположенной в его середине священной скалой .
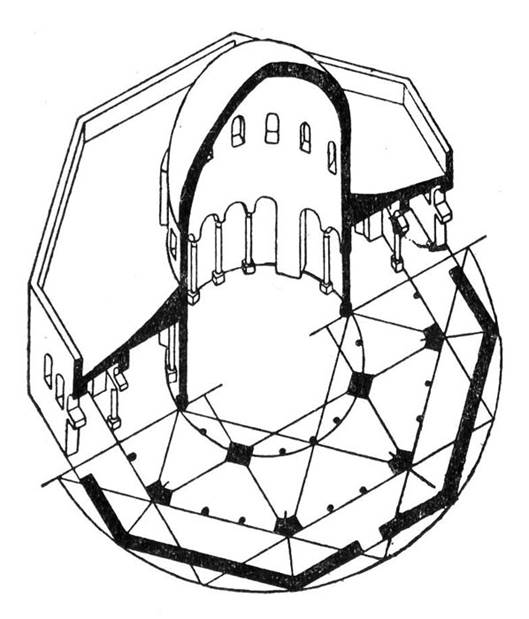
Мечеть Скалы в Иерусалиме. Аксонометрия.
Мечеть стоит в центре обширной, вымощенной каменными плитами, высоко поднятой террасы в середине площади Харам аш-Шариф. С разных сторон к мечети ведет несколько широких отлогих лестниц. Здание мечети Скалы пережило многочисленные ремонты и реставрации. Изменились облицовка стен снаружи и отдельные детали, но план, конструкция и основные архитектурные формы сохранились от 7 в. В ансамбле площади мечеть Скалы выделяется своими размерами, ясностью, величием и спокойствием архитектурных пропорций. Большой, плавный по силуэту, слегка ребристый полусферический купол (диаметром около 20 м) четко выделяется на безоблачном бирюзово-голубом небе. Купол отделен барабаном от широкого (50 м в диаметре), несколько приземистого восьмигранного массива здания. Во внешнем облике мечети царит гармония и строгая симметрия простых архитектурных форм. Богаче и динамичнее решен интерьер. Мечеть внутри разделена двумя рядами арок. Внутреннее кольцо полуциркульных арок, перекинутых между поддерживающими барабан и купол колоннами и устоями, окружает священную скалу и выделяет центральную часть мечети с ее обширным устремленным вверх подку-польным пространством. Второй ряд арок и колоны, повторяя в плане восьмигранник наружных стен, делит все остальное пространство мечети на две неодинаковые по ширине обходные галлереи. Христианские сирийские центрические постройки С в. в ЭсРе и Босре указывают на местные истоки архитектурных приемов мечети Скалы. В известной мере ее архитектура созвучна таким классическим ранневизантийским центральнокупольным постройкам, как церковь св. Сергия и Вакха в Константинополе и церковь Сан Витале в Равенне, но отличается от них иной трактовкой массы здания. Снаружи множество одинаковых стрельчатых арок с окнами, забранными узорными каменными решетками, вносит орнаментальный ритм в оформление стен мечети и этим подчеркивает монолитность массы купола, как бы парящего над всем сооружением(Под изразцовым фризом, украсившим верх здания в 16 в., сохранилась первоначальная декоративная аркатура, обогащавшая поверхность стен снаружи.).
Внутри мечети — обилие мрамора, золота и ярких красок, выдержанных в локальных тонах. Высокий барабан, тимпаны и софиты (Софит — обращенная книзу поверхность арки.) арок украшены цветной мозаикой: на золотом фоне расположены зеленые, голубые и красные изображения стилизованных растений, симметрично и плавно вьющихся по сторонам вазонов, покрытых, словно драгоценными камнями, многоцветным орнаментом.
О монументальной светской архитектуре первой половины 8 в. можно судить по руинам загородных резиденций халифов: Мшатты, Куссйр-Амры, Каср ал-Хайра, Каср ал-Харани и других.
Выдающимся памятником, относящимся, по-видимому, к первой половине 8 в.. является Мшатта — загородный замок, сохранившийся на территории Иордании. Для архитектуры этого комплекса характерно сочетание кладки из камня и кирпича — строительный прием, свойственный Сирии и Месопотамии. Планировка Мшатты повторяет традиционную планировку военных ставок доисламских арабских царьков южной Сирии — так называемую хира, восходящую к римским канонам. Сложенные из камня массивные, снабженные полукруглыми башенками стены замка образуют квадрат со стороной около 150 м. Внутри замка помещения расположены строго симметрично и композиционно объединены обширным двором. В глубине двора по главной оси здания находился большой открытый зал, разделенный столбами на три нефа и заканчивавшийся квадратным помещением с полукруглыми абсидами. Столбы, сложенные из хорошо отесанных каменных плит, гармоничны по пропорциям и украшены карнизом с тонко исполненным резным орнаментом.
В число выдающихся художественных памятников Мшатта вошла благодаря замечательному орнаментальному фризу, вырезанному в камне в нижней части южной фасадной степы. Помещенный над цоколем в виде длинной полосы шириной 5 м фриз был расположен по обе стороны главного входа, пересекая две многогранные башни. Неглубокий рельефный узор заполняет большие треугольники, образованные зигзагообразно ломающимся выпуклым валиком (илл. 1). В центре каждого треугольника помещена крупная богато орнаментированная растительная розетка. Ювелирно тонкие, кажущиеся ажурными узоры состоят из разнообразных мотивов, среди которых преобладают виноградные лозы, своими изгибами образующие круги и сложные спирали. Аканфовые листья и пальметты покрывают выпуклые валики и карнизы. На плоскостях треугольников развернуты целые картины: реальные и фантастические звери и птицы симметрично размещены среди пышных зарослей.
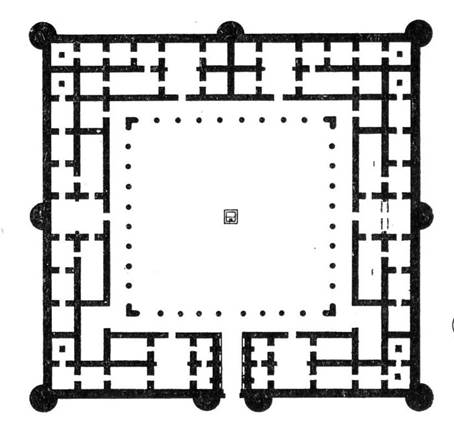
Замок Каср ал-Хайр (западный). План. Реконструкция.
Как в архитектуре Мшатты, так и в ее орнаментике ясно проступают местные традиции. Они видны в мотивах орнамента и особенно в реалистической трактовке животных и растений. Однако традиции, идущие от позднеантичного и ранневизантийского времени, подчинены новым декоративным задачам. Если сравнить рельефы Мшатты с орнаментами Баальбека или Пальмиры, то очень ясно видно, что за пять с лишним столетий из орнамента исчезла пластичность, трактовка стала плоскостной, более ковровой, декоративной. Однако фриз Мшатты — только начало сложения ближневосточного арабескового орнамента. В отличие от Мшатты стены замка Каср ал-Хайра (западного) были украшены не только скульптурным орнаментом, вырезанным по стуку, но и статуарными изображениями, обломки которых найдены при раскопках. Среди них есть фигуры, выполненные в очень высоком рельефе, близком по трактовке к поздне-античной скульптуре. Особенно интересен фрагмент двухфигурной композиции, отличающейся объемной трактовкой задрапированного человеческого тела и живо переданной пластикой рук. Наряду с этим встречаются изображения, характерные условно-декоративным решением формы. Такова часть фриза с женскими фигурами, помешенными строго фронтально в статичных, но не лишенных выразительности позах. Сохранились также фрагменты плоскостно исполненной мужской фигуры в одежде, складки которой обозначены линиями.
Сопоставляя сведения исторических хроник с дошедшими до нас памятниками декоративного искусства, следует отметить, что в рассматриваемое время в искусстве центральных областей халифата сюжетно-изобразительное начало было еще достаточно сильно и живуче. Эта черта искусства раннего халифата находилась в непосредственной связи с воздействием местных художественных традиций, а также традиций сасанидского Ирана и Византии. Влияние последних распространялось в это время на многие стороны жизни халифата, феодальная верхушка которого еще только вырабатывала свои собственные формы управления, правовых отношений, духовной и материальной культуры.
Исторические источники говорят о значительном развитии живописи в ранние периоды халифата, но подлинных памятников до нас дошло очень мало. В Каср ал-Хайре обнаружены остатки орнаментов, выполненных белой, желтой и красной краской; сохранились также изображения человеческих фигур и сенмурва — фантастической собаки-птицы. Особенный интерес представляют росписи Кусейр-Амры, одной из загородных резиденций омейядских халифов в Иордании. От Этого сооружения остались только повышения бани, имевшие на своих стенах и сводах многочисленные разнообразные по сюжетам росписи. Они отличаются светским характером: изображены сцены труда, охота на антилоп, купающиеся женщины, оплакивание покойника, различные аллегорические фигуры. Расположение росписей подчинено архитектуре интерьера. Плоскость стены обычно разделена на две части: внизу идущая вдоль всего помещения своеобразная панель, а выше, до основания сводов,—живописные композиции, заключенные в орнаментальные обрамления. В роспись введены архитектурные мотивы: стройные колонны, арки, на которые как бы опирается плафон, живописные имитации кес-сонированного потолка, кариатиды, поддерживающие главные арки.
Преобладающее место в росписях Кусейр-Амры занимает изображение человека. В некоторых композициях художественный образ уже подчинен средневековым условным канонам. Таково, например, изображение халифа на троне. Здесь, как в византийском или позднесасанидском официальном искусстве, образный строй произведения проникнут торжественностью. Халиф восседает на троне в неподвижной фронтальной позе; за обрамляющими колоннами помещены симметрично расположенные фигуры людей. Вся композиция построена на строгом и спокойном ритме. Однако в целом живопись в Кусейр-Амре отличается свободой и живостью передачи поз и движений человека, пластическим восприятием натуры. Этому впечатлению соответствует и светлый колорит росписей, который, очевидно, был построен на сочетаниях охряно-розовых, голубых, белых, светло-зеленых и красно-коричневых тонов. Отголоски античного мировосприятия с его спокойным и философски ясным отношением к жизни чувствуются в росписи потолка одного из помещений, имитирующей кессонированный плафон (илл. 6 6). В центре композиции — крупные полуфигуры, олицетворяющие три человеческих возраста: юность, зрелость и старость; по сторонам от них — изображения музыкантов и танцовщиц, а также зверей и птиц. С большим умением художник вписывает их в ромбовидную форму живописных «кессонов». Фигуры обведены свободным красно-коричневым контуром, но не лишены некоторых элементов моделировки. Роспись выполнена на светлом желтоватом фоне, в ней преобладают зеленоватые и коричнево-красные тона.
О характере прикладного искусства 7 — 8 вв. в Сирии и Ираке можно составить представление по художественной бронзе. Немногочисленные дошедшие до нас произведения отличаются простотой и изяществом форм и пропорций; их декоративная отделка очень лаконична и строга. Примером может служить бронзовый кувшин, изготовленный в Басре (688/689 г., Тбилиси, Гос. музей Грузии), ручка которого украшена великолепной скульптурной пальметтой. Традиции древней домусульманской пластики сохранились в группе бронзовых сосудов — курильниц и водолеев, сделанных в виде птиц и животных. Ранним памятником этой группы является датированный 723 — 724 гг. бронзовый водолей в виде орла (Ленинград, Гос. Эрмитаж). С большой выразительностью и меткостью переданы характерные черты облика пернатого хищника, чувствуется развитое пластическое понимание формы. В тонкой орнаментации этого сосуда появляются уже и чисто декоративные элементы — большой медальон с восьмилучевой розеткой на груди птицы, пояса с надписью вокруг ее шеи.
* * *
В середине 8 в., когда власть в халифате перешла к Аббасидам, центр не только политической, но и культурной жизни передвинулся в Ирак. В 762 г. был основан Багдад, официально названный Мадинат ас-Салам — город мира. Благодаря выгодному экономическому положению Багдад вскоре превратился в громадный по тому времени торговый город, раскинувшийся по обе стороны Тигра. Треть города занимали дворцы, службы и сады: двор багдадского халифа долго считался образцом пышности и роскоши.
8 —10 вв.— время большого подъема и расцвета средневековой арабской культуры. В философии развивались прогрессивные для феодальной эпохи течения, воспринявшие из античного наследия материалистические элементы. Значительны достижения арабской науки: астрономии, географии, математики, медицины, философии, истории. В Багдаде работали многие ученые, приехавшие из различных областей халифата. При Аббасидах расцвела придворная поэзия и музыка, проникнутые гедонистическим настроением, однако в художественном творчестве находили место и демократические тенденции. С большой силой они проявились в произведениях одного из крупных поэтов 11 и. Абу-л-Ала ал-Маарри. Яркий пример прозаической литературы — короткие рассказы — «Макамы».
Изобразительное искусство при Аббасидах было призвано украшать новые роскошные и огромные дворцы халифа и знати, утверждать блеск еще сильной державы ислама. В первую очередь надо указать на продолжавшееся светское и культовое строительство, получившее при Аббасидах особенный размах. Багдад был построен как город оригинального круглого плана с двойным кольцом стен и обширной площадью в центре. На площади размещались дворец халифа, главная мечеть, государственные учреждения — диваны, оружейные мастерские и казармы для войск. Из городских жилых кварталов, расположенных между стен, непосредственного доступа на площадь не было: четверо ворот охранялись сильной стражей. Продолжалось строительство и загородных замков, примером чего является воздвигнутый в 8 в. Ухейдир, окруженный двойной оградой с полубашнями. Памятники аббасидского времени сохранились на месте города Ракка, в частности так называемые Багдадские ворота (772), украшенные декоративной аркатурой на колонках. Но особенно показателен для архитектуры того времени город Самарра, созданный в 9 в. в качестве временной столицы халифа Мутасима недалеко от Багдада. За период кратковременного (836 — 883), но бурного расцвета Самарра выросла в огромный город, растянувшийся более чем на 10 км вдоль берега реки. Население города составляли придворные, обслуживавшие их ремесленники и гвардия. Когда через 50 лет другой халиф вновь перенес столицу в Багдад, Самарра совершенно опустела и стала разрушаться. Археологические раскопки открыли развалины мечетей, дворцов и домов знати.
Большая мечеть халифа Мутаваккиля в Самарре представляла иракский вариант ставшей характерной для всего Ближнего Востока колонной мечети. Ее обширный прямоугольный двор был окружен галлереями с множеством колонн, расположенных в несколько рядов с каждой стороны. По своим размерам большая мечеть в Самарре превышала дамасскую мечеть Омейядов; ее галлереи заполняли около 450 колонн. Мечеть была обнесена толстой, похожей на крепостную кирпичной стеной с полукруглыми башнями.
К северу от развалин мечети, отдельно от нее, возвышается грандиозный кирпичный минарет очень своеобразной формы, так называемый Мальвия (илл. 4), напоминающий древние месопотамские зиккураты (см. т. I, стр. 51). Минарет представляет собой стоящий на квадратном цоколе усеченный конус высотой 50 м., вокруг которого идет спиральный пандус.
Особенностью большой самаррской мечети является также плоское перекрытие галлереи, лежащее не на арках, а непосредственно на капителях колонн. Исследователи считают этот конструктивный прием характерной чертой иракских мечетей и связывают его происхождение с традицией ахеменидских дворцовых залов — ападана (см. т. I, стр. 384). Однако в той же Самарре есть пример конструкции, близкой сирийским памятникам: в мечети Абу Дулаф, построенной лет на пятнадцать позднее мечети Мутаваккиля, перекрытие лежало на арках, переброшенных между столбами галлереи.
Еще более грандиозен, чем большая мечеть в Самарре, дворец халифа — комплекс Балкувара. По строгой геометричности плана он восходит к принципам омейядских замков, но превышает по плошади, например, Мшатту более чем в 15 раз и отличается композицией, вытянутой по главной оси. Комплекс состоит из расположенных один за другим трех обширных прямоугольных парадных дворов. За третьим двором находились главные залы, а по обеим сторонам двора симметрично — жилые помещения и службы. Снаружи дворец имел ограду, укрепленную полубашнями.
Нижние части стен многих помещений дворца и домов знати в Самарре были облицованы панелями из стука с рельефным орнаментом (илл. 5 6), а выше панелей стены были расписаны красками или заполнены нишами. В рельефах Самарры есть мотивы, происхождение которых связано с древним месопотамским или иранским искусством. По характеру исполнения в орнаментах Самарры различают три стиля: узор, в котором преобладает мотив виноградной лозы, узор из сильно стилизованных растительных мотивов, плотно заполняющих поверхность панели, и узор, построенный на переплетении и ритмичном повторении волнообразных, изогнутых спиралью линий. Орнамент первых двух стилей выполнен в технике резьбы. Узор последнего типа (возможно, наиболее поздний по времени) сделан при помощи матрицы оттиском по сырой штукатурке. Эта техника, не требовавшая большого времени, вероятно, была вызвана условиями строительства, производившегося в больших масштабах в относительно короткие сроки.
В стуковых панелях Самарры уже ясно видно новое понимание декоративных задач, плотное «ковровое» заполнение поверхности орнаментом, слегка моделированным светотенью. 3одчие и художники, украшая здания арабской знати в Самарре, умели гармонично связывать единым ритмом архитектурные детали и рисунок покрывающего их узора.
Росписями украшали главным образом жилые помещения. По сохранившимся в Самарре остаткам некогда богатой живописи можно предполагать, что она имела декоративный характер. В росписях бани при дворцовом гареме мы видим изображения танцовщиц, всадников, охотников, обрамленные полосами геометрического и растительного узора, а также орнаментальные фризы, составленные из фигур зверей и птиц. Схематично трактованные изображения людей помешены фронтально или в три четверти. Лица написаны по одному условному канону. Хотя художники цветными линиями передавали складки одежды, но фигуры людей воспринимаются плоскостно, а яркие цвета — сине-голубой, оранжево-желтый, красный, зеленый, черный — выглядят декоративными пятнами на общем светлом фоне.
Самарра была покинута Аббасидами в годы, когда силы халифата неудержимо слабели. Однако Багдад вплоть до разрушения его монголами в 1258 г. сохранял значение крупнейшего культурного центра. Наряду с ним развивались и другие города, особенно Дамаск, Алеппо, Триполи.
Архитектура Ирака и Сирии 10—13 вв. развивалась, обогащая строительные приемы предшествовавшего времени. Здания больших мечетей строились по типу мечети Омейядов в Дамаске, с колонным залом и аркадой вокруг внутреннего двора. Такова, например, большая мечеть в Алеппо, основанная еще в 8 в., но капитально перестроенная в начале 13 в. Интересный памятник зодчества представляет минарет мечети, датированный 1090—1091 гг. В архитектуру четырехгранной призматической башни тонко введен изящный донор. Рельефные арки, опирающиеся на полуколонки, обогащают каменную поверхность стены, не нарушая ее монолитности.
Для монументального арабского зодчества 11—13 вв. характерны поиски объемно-пространственных композиций, особенно применение куполов на тромпах. В Дамаске в этот период получили распространение купольные сооружения, состоящие из массивной, часто кубической нижней части, двухъярусного многогранного барабана, и поднятой им вверх полусферы купола. Художественная выразительность этих зданий основана на контрасте верхних ярусов, облегченных множеством стрельчатых окон и декоративных ниш, и монолитного тяжелого нижнего блока.
Оригинальный вариант этого типа представляют мавзолей Нураддина (1167) в Дамаске и мавзолей Зубайды около Багдада. Верх зданий решен в виде своеобразной пирамиды из уменьшающихся ярусов, члененных множеством нишек. Такое покрытие напоминает выраженную во внешних формах здания структуру сталактитового свода. Для фасадов мечетей и медресе 12 и 13 столетий характерно выделение на глади монолитной каменной стены портала с высокой и узкой стрельчатой нишей, увенчанной тонко разработанным сталактитовым сводом. Верх портала, возвышаясь над стеной, как бы фланкирован двумя строго симметрично помещенными ребристыми куполами, поднятыми на многогранные барабаны.
Художественной выразительностью обладают и многие крепостные сооружения Сирии и Ирака, сохранившиеся от 11 —13 столетий. Среди них особенно выделяется цитадель в Алеппо, архитектура которой свидетельствует не только о высоте инженерного искусства строителей, но и об их художественной одаренности. Стены, башни и выдвинутые вперед ворота с мостом через ров образуют живописное целое. Своеобразное украшение башен представляют ряды машикулей, а также арки и ниши, иногда орнаментированные. Все это смягчает суровый облик цитадели, придает ее архитектуре торжественность, нарядность.
Несколько иной характер имеют так называемые Ворота Талисмана, построенные в Багдаде в 1221 г. Монументальное башнеобразное сооружение украшено изящными скульптурными деталями. Над аркой помешены изображения драконов. Их змеевидные тела, исполненные высоким рельефом, причудливо извиваясь, заполняют тимпаны, а над вершиной арки между голов чудовищ находится фигурка сидящего человека. Этот интересный и редкий по сюжету памятник свидетельствует о сохранении скульптурных традиций в искусстве Ирака.
В период Аббасидского халифата высокого развития достигло искусство каллиграфии, чему, несомненно, способствовал расцвет научной и художественной литературы на арабском языке. Наиболее ранним и широко распространенным уже в 7—8 вв. был так называемый куфический шрифт, отличавшийся прямолинейностью и подчеркнутой угловатостью начертания. Разновидностью его является цветущий куфи, в котором основное начертание букв сопровождалось сложными переплетениями стилизованных растительных мотивов.
В 9—10 вв. выработалось также шесть других канонических почерков арабского шрифта.
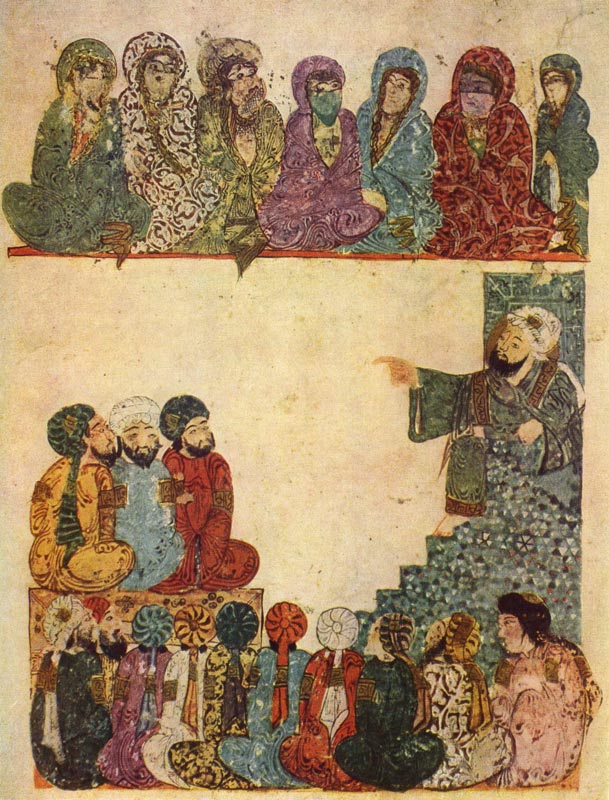
Яхья ибн Махмуд. Сцена в мечети. Миниатюра из рукописи «Макамы» ал.Харири.1237 г.Париж. Национальная библиотека.
Нам пока мало известны памятники иракской и сирийской живописи 11 —12 вв. Тем больший интерес представляют произведения миниатюры первой половины 13 в., дошедшие до нас в виде книжных иллюстраций, исполненных мастерами так называемой багдадской, или арабо-месопотамской, школы. Круг произведений, охватываемых этим названием, сравнительно невелик. Сюда относятся миниатюры, украшающие одну из популярных книг того времени — «Маками» ал-Харири, а также иллюстрации к научным трактатам.
Среди рукописей естественнонаучного содержания в качестве примера можно назвать «Фармакологию» Диоскорида, иллюстрированную в 1222 г. художником Абдаллах ибн Фадлем. Миниатюры «Фармакологии» представляют обычно двух-фигурные композиции. Все фигуры и предметы расположены в одном плане, параллельно плоскости листа. Фон чаще всего гладкий, по существу, это желтоватая плотная, гладко отполированная хрустальным яйцом бумага манускрипта. Красочная гамма в пять-шесть цветов не отличается богатством, преобладают оранжево-красные, тускло-зеленые, голубые, песочно-желтые тона, часто применяется золото. Несмотря на то, что художник достоверно передает внешний облик и одежды людей, созданные им образы несут в себе черты условно-символического характера. Так, в одной из миниатюр Ибн Фадля по сторонам лекарственного дерева помещены две крупные фигуры: богато одетого воина с копьем в руках и закутанного в плащ врача, который как бы сообщает о целебных свойствах растения. Между фигурами нет живого взаимодействия; напротив, мастер помещает между ними условно распластанное дерево, отчего композиция приобретает почти геральдическую симметрию. Конечно, между фигурами есть связь смысловая — воин может быть ранен, а врач излечит его при помощи растения, но эта связь выходит за пределы изобразительности и приобретает своего рода символический характер.
Особенный интерес в художественном отношении представляют иллюстрации к «Макамам» ал-Харири, сюжетом которых послужили рассказы о путешествиях и приключениях Абу Зайда из Саруджа, авантюриста и поэта; один из героев новелл называет его «отцом лжи, лукавства, всяких хитростей и изысканных рифм». Обилие сюжетных коллизий, живая передача сценок народного быта, характерные для произведения ал-Харири, открывали перед художниками широкие возможности иллюстрирования. Миниатюры изображают парадный прием у халифа и сцену в цирюльне, собрание ученых и отдых каравана в пути (илл. 6 а), праздничную процессию и корабль в море. Рукописей «Макам» существует несколько. Прекрасным экземпляром обладает Институт востоковедения в Ленинграде. Высоким художественным качеством отличается также парижский манускрипт 1237 г., иллюстрированный мастером Яхья ибн Махмудом.
По сравнению с иллюстрациями, исполненными Ибн Фадлем в «Фармакологии» Диоскорида, в миниатюрах «Макам» само восприятие реального мира и образное решение сложнее и богаче. Художники стремятся раскрыть сюжет, выявить ситуацию в изображенной сцене, более реально передать взаимоотношения людей. Показателен их интерес к бытовым сюжетам. В миниатюрах появляются первоначальные элементы повествовательности, но конкретная среда, в которой происходит действие, либо отсутствует, либо передана лишь намеком — введением некоторых деталей архитектурного обрамления или узкой полоски цветущего луга под ногами людей. Попытка изобразить множество человеческих фигур не всегда удавалась — иногда группа людей воспринимается как простое нагромождение, как аморфная масса. Но в некоторых миниатюрах мастера все же достигают большого успеха, умело связывая фигуры в единое целое, проявляя при этом тонкое понимание декоративности. Интересна миниатюра, изображающая праздничную процессию (илл. 8): компактная группа всадников со знаменами и штандартами возвещает барабанным боем и звуками золотых труб — карнаев — о ее приближении. Крепко и уверенно объединяет живописец все части этой композиции; на гладком желтоватом фоне листа из очертаний фигур людей и животных, развевающихся флагов и знамен, взметнувшихся к небу труб возникает своеобразный узор, как бы развертывающийся из единого центра. При этом движения грубоватых и приземистых фигур сохраняют естественность и лишены чрезмерной условности. Темно-коричневые, кирпичные, песочно-желтые лошади и верблюды, блекло-синие и оранжево-красные одежды, сочетание темных, граничащих с черным красок с обилием золота в украшениях, чалмах и в конской сбруе подчеркивают строгий и в то же время нарядный колорит этого произведения. Мастер отходит здесь от тех принципов элементарной тектоники, которые свойственны иллюстрациям «Фармакологии», и обращается к построению, отличающемуся значительно большей свободой и декоративной фантазией. В то же время миниатюры строятся не столько на основе ритмического сопоставления цветовых пятен, характерного для более поздних восточных школ миниатюры, сколько на объединении всех компонентов в сжатый композиционный узел. Художнику удалось создать целостный образ, исполненный силы и свежести.
Хотя иллюстрации всех рукописей «Макам» носят плоскостной характер, в некоторых из них появляется попытка условно передать пространство. Так, в одной из миниатюр ленинградского манускрипта, изображающей сцену в цирюльне, главные действующие лица расположены в центре, их окружает кольцо Зрителей. Художник решает задачу чрезвычайно упрощенно, однако уже сам факт обращения к ней — свидетельство творческих поисков багдадских мастеров. Это проявляется также в колорите, особенно в произведениях Яхья ибн Махмуда, который стремится обогатить и разнообразить красочную гамму, в целом еще довольно строгую и ограниченную. В миниатюре парижского собрания, где изображена проповедь Абу Заида в мечети (илл. между стр. 24 и 25), в одежде сидящих женщин мастер создает изысканнейшее сочетание мягких блеклых тонов: травянисто-зеленых, желтовато-золотистых, сиреневых, голубоватых, нежно-оранжевых. Цветовая изощренность и острота красочного видения в этой группе предвосхищает те крупнейшие достижения в области колорита, которые характеризуют дальнейшее развитие восточной живописи. Арабо-месопотамские миниатюры отличаются подлинной самобытностью. Византийские традиции оказались переработанными; их воздействие сведено к незначительным деталям — изображению нимбов или складок одежд, уже подчиненных орнаментальному принципу. Всем произведениям багдадских мастеров присущи общие качества: известная упрощенность художественного языка, отсутствие мелочной детализации, стремление к декоративной целостности образа, хотя бы в пределах ограниченной колористической гаммы. При некоторой примитивности они рождают впечатление внутренней силы, пусть во многом грубоватой, но яркой и притягательной, которая отличает это искусство.
На протяжении всего рассматриваемого времени и позднее Сирия и Ирак оставались крупными центрами развития художественного ремесла. Высокими качествами отличаются драгоценные шелковые и парчовые ткани, глиняные и фаянсовые расписанные люстром (Люстр — характерный металлический золотистый отблеск различных — чисто золотых, зеленоватых, красноватых, коричневатых и ли.юватых — оттенков, являющийся результатом вторичного восстановительного обжига специального красочного состава, наносившегося поверх уже обожженной оловянной глазури. Важной частью этого состава, от которой зависят цвет и оттенок люстра, являются соли меди, серебра, золотари, видимо, других металлов.) чаши и блюда, резьба по дереву и слоновой кости. Особенным совершенством обладают изделия из металла (бронза, железо), изготовлявшиеся главным образом в Мосуле, и стеклянная расписная посуда из Сирии (основные центры производства — Дамаск и Алеппо).
С развитием средневекового искусства изменились приемы обработки художественных изделий из металла; постепенно возросла роль орнамента и декоративной обработки поверхности изделий. В 12—13 вв. богато орнаментированная домашняя посуда — тазы, подсвечники, чаши, кувшины, блюда — имела чрезвычайно широкое распространение. Их поверхность целиком покрывали тонким кружевом орнамента, чеканного или гравированного. Наряду с многообразными растительными и геометрическими мотивами весьма большую роль играл эпиграфический орнамент. В переплетения узора и в пояса декоративных надписей нередко вкомпонованы медальоны с сюжетными изображениями.
Выдающимся образцом этого вида прикладного искусства является богато инкрустированный серебром бронзовый таз, изготовленный в Мосуле по приказу султана Бадраддина Лулу (первая половина 13 в.). Вся поверхность большого таза (диаметром 62 см) разделена на ряд концентрических поясов. В центральном круге изображены четыре сфинкса с переплетенными крыльями, вокруг которых шествуют крылатые грифоны. В остальных поясах на фоне мелкого меандрового орнамента помещен ряд фигурных медальонов со сценами охоты, единоборства, пирушек и танцев, а также изображения, олицетворяющие Солнце, Луну, планеты Юпитер и Венеру. Средний орнаментальный пояс образован исполненной цветущим куфи надписью с благопожеланиями.
Подобными чертами орнаментальной композиции отличается и так называемое Кашгарское блюдо, хранящееся в Гос. Эрмитаже (13 в.). Своеобразие его заключается в том, что в узор введены христианские мотивы. Главную роль в декоре играет широкий круговой пояс, в двенадцати фигурных медальонах которого изображены христианские святые. По борту блюда идет арабская надпись « обрамлении узких полос растительного орнамента.
Сирийское художественное стекло пользовалось широкой известностью и высоко ценилось не только в странах халифата, но и в средневековой Европе.
Наиболее распространенными видами изделий были большие лампады для мечетей (илл. 9), бокалы и кубки, вазы и бутыли (илл. 7), сделанные из белого или цветного (главным образом зеленого или синего) стекла и покрытые росписями золотом и цветными эмалями. В украшении лампад большое место часто занимал Эпиграфический орнамент: но основному фону, на который нанесен был тонкими линиями мелкий растительный узор, шли крупные белые буквы надписей с благо-пожеланиями.
Рассмотренные памятники архитектуры и искусства Аравии, Сирии и Ирака характеризуют высокие художественные традиции создавших их народов.
Значение художественной культуры народов Передней Азии прослеживается на протяжении всего средневековья. Однако после разрушительного монгольского нашествия (13 в.), а позднее завоевания Ближнего Востока турками (16 в.) зодчество и искусство Сирии и Ирака уже не играли былой крупной роли. Тем не менее самобытные арабские художественные традиции сохранялись и в это время, особенно в творчестве замечательных мастеров народных ремесел.

Искусство Средней Азии. Иран.
Б.Веймарн, Т.Каптерева
Сложившееся на основе древних традиций иранское средневековое искусство прошло более чем тысячелетний путь развития. Эпоха феодализма в Иране, начавшаяся еще в 5 — 6 вв. н. э., распадается на три основных периода: раннефеодальный, охватывающий время по 9 столетие, время господства развитых феодальных отношений с 10 по 15 в. и начиная с 1C столетия — поздний период, завершившийся кризисом и упадком феодального строя. Искусство э — 7 вв. еще тесно связано с художественной культурой рабовладельческой эпохи (см. том I, стр. 393—398). Однако в архитектуре и искусстве уже на первом этапе развития феодализма появилось новое качество: в образном строе художественных произведений возникли черты декоративности, получившие дальнейшее развитие в средневековом искусстве Ирана.
Завоевание Ирана в 7 в. н. э. арабами, стоявшими на более низком уровне социально-экономического развития, на время затормозило рост феодальной художественной культуры. В первые века ислама, пока сохранялась терпимость к другим религиям, существовали старые и, возможно, даже строились новые, зороастрийские и христианские храмы. Однако среди дошедших до нас памятников 8 — 9 вв. преобладают мечети. Фундаменты колонной мечети арабского типа открыты раскопками в Рее. На севере Ирана в Дамгане сохранилась небольшая мечеть Тарикхане (конец 8 в.), прямоугольный двор которой окружен со всех сторон колоннадой. Планировка связывает эту постройку с арабским прототипом, но форма круглых приземистых колонн, напоминающих опоры сводов сасанидского дворца в Сервистане, а также характер арок говорят о местных строительных традициях.
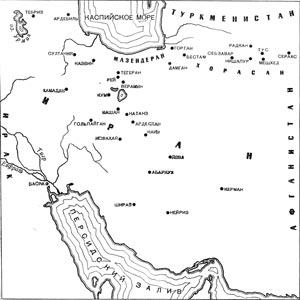
Карта. Иран.
К арабскому типу восходит и мечеть в Наине, построенная в 960 г. В богатом орнаменте, покрывающем михраб, своды и круглые колонны постройки, в приемах резьбы по стуку и во многих мотивах узора — видна преемственная связь с искусством сасанидского времени. Вместе с тем по своему декоративному строю резьба в мечети Наина представляет уже произведение довольно зрелого средневекового искусства. В орнаменте преобладают стилизованные растительные мотивы — листья, цветы, розетки (илл. 40). В их трактовке еще ощущается живая пластическая форма, но композиция в целом производит впечатление ковра, сплошь покрывшего своим узором поверхность стены или свода. Характерно появление геометрического орнамента с его строгим ритмом прямых линий; в обрамление михраба включен мотив соприкасающихся углами восьмиконечных звезд, в дальнейшем очень распространенный в иранской архитектуре.
Ислам отрицая возможность изображения бога, а затем и правомерность образа человека в искусстве, нарушил сложившиеся веками художественные традиции. Некоторые виды, в частности монументальная скульптура, перестали существовать почти полностью. Однако в средневековом Иране никогда не исчезало изобразительное начало в различных видах прикладного искусства, развивалась миниатюра, украшавшая рукописи, в дворцовых покоях иногда исполнялись сюжетные стенные росписи.
Переход от раннего к зрелому феодализму в истории Ирана связан с освобождением страны из-под власти Арабского халифата. В 9 в. возникли фактически самостоятельные государства Тахиридов, а затем Саффаридов.
Эпоха зрелого феодализма, несмотря на то, что Иран за это время дважды подвергся разрушительному нашествию завоевателей: тюрок-сельджуков в 11 в. я особенно жестокому и страшному вторжению монголов в 13 в.— была периодом высокого подъема иранской средневековой культуры. Развитие культуры происходило в условиях ожесточенной идеологической борьбы, которая косвенно, а иногда и прямо отражала народные движения, направленные против феодального гнета. Господствовавшие классы были заинтересованы в укреплении ислама как орудия духовного закабаления трудящихся масс. Еще в 10 в. арабский богослов Ашари создал систему «правоверного богословия» (калам), развитую на рубеже 11 —12 вв. иранцем имамом Газали. С 11 в. в Иране широкое распространение получил суфизм — мистическое течение в исламе. Правда, иногда под видом суфизма высказывались вольнодумные и еретические мысли; проповеди некоторых суфийских сект, содержавшие призыв отказаться от стяжательства и быть воздержанными, привлекали угнетенных, но в целом суфизм служил интересам класса феодалов. Зато подлинно народными истоками питалась замечательная поэзия Ирана, которая по своим жизнеутверждающим тенденциям противостояла религиозной мистике и иной раз вступала в открытый конфликт с официальным религиозным вероучением. Первым в плеяде поэтов стоит классик таджикской и иранской литературы Фирдоуси (934—1020)— автор величественной эпической поэмы «Шax-наме». На рубеже 11 —12 вв. творил Омар Хайям (ум. 1123), поэт-философ, создавший необыкновенные для той эпохи по вольномыслию и глубине содержания четверостишия (рубай). 13 и 14 столетия украшены проникнутыми любовью к людям, протестующими против насилия и тирании нравоучительными поэтическими произведениями Сзади (1184 —1291), образно названными им «Голистан» («Розовый сад») и «Бустан» («Плодовый сад»), а также «ианизанной как жемчуг» тончайшей лирикой Хафиза (ум. 1389).
В 14 столетии, когда после монгольского завоевания усилилась эксплуатация трудящихся масс, по Ирану прокатилась волна народного протеста; особенно значительным было так называемое сербедарское движение, длившееся более сорока лет и окончательно сломленное лишь мощной армией Тимура.
Центрами развития культуры были крупные средневековые города, экономическое и политическое значение которых стало расти еще в 9 —10 столетиях. В это время начал изменяться и архитектурный облик городов, в 11 —12 вв. получивший ярко выраженный феодальный характер. В начале феодальной эпохи для Ирана были типичны так называемые шахристаны — небольшие поселения, возникавшие вокруг или рядом с укрепленными усадьбами владетелей округи. К 10 в. центр хозяйственной жизни был перенесен в рабады — торгово-ремесленные предместья, которые стали окружать крепостными стенами. В рабадах сосредоточивались базары, около базарных площадей строились мечети и другие культовые и общественные здания. Самыми крупными городами 10—11 вв. были Рей, Исфахан, Шираз, Нишапур, сохранявшие свое значение и позднее.
От второй половины 10 в. дошли мечети, при возведении которых зодчие отказались от арабской планировки. Так, например, главная часть здания мечети в Нейризе имеет вид глубокого сводчатого айвана. В дальнейшем основу композиции средневековой иранской мечети составляет открытое в прилегающий двор сводчатое или купольное помещение. В этом помещении, своего рода «святилище», обращенном к Мекке, помещался михраб. Происхождение такого сооружения связывают с архитектурной традицией древнеиранских зороастрийских храмов.
В 11—12 вв. во многих городах Ирана стали строить большие четырехайванные мечети, также возродившие старую иранскую архитектурную традицию. «Святилище» располагалось за айваном, обращенным в сторону Мекки.
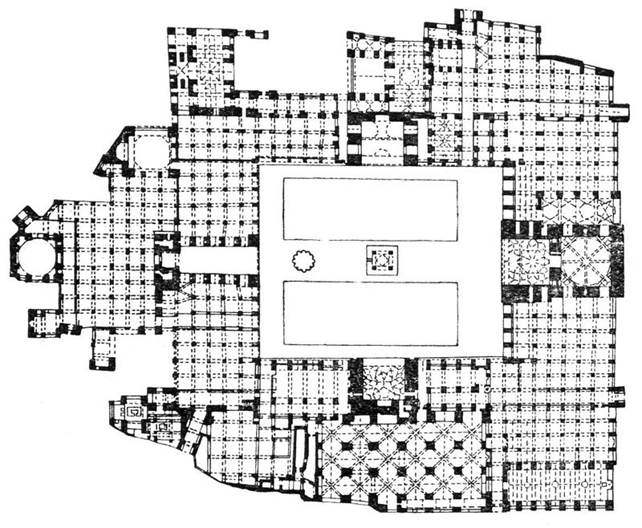
Соборная мечеть в Исфахане. План.
Самым значительным памятником нового типа является соборная мечеть в Исфахане. Построена она была еще в 9 в., но неоднократно перестраивалась. Об архитектуре мечети 11 столетия, когда здание получило характер четырехай-ванной постройки, можно судить по плану основных частей сооружения и по сохранившим свой первоначальный вид интерьерам колонных залов и нескольких купольных помещений. В большой прямоугольный двор мечети выходят четыре айвана, украшенные огромными пештаками (переделаны в 14—16 вв.). За юго-западным пешта-ком сохранилось без изменений купольное «святилище» с михрабом; вторая купольная постройка 11 в. находится в северной части ансамбля. За аркадой двора размещены большие молитвенные залы с квадратными столбами, несущими арки и кирпичные своды. В исфаханской соборной мечети сохранилось более 470 различных сводчатых перекрытий. В колонных залах мечети над лесом столбов и арок раскинулись разнообразные по форме и декоративной отделке своды и купола, часто снабженные световым отверстием в центре. Линии кладки арок, а также крупные геометрические фигуры и нервюры сводов, образуя динамичный узор, обогащают архитектуру колонного зала. В громадном купольном помещении «святилища» превосходно разработана конструкция яруса тромпов с применением стрельчатой арки. Арки яруса тромпов и фриз с надписью, отграничивая свод купола от стен помещения, четко членят объем и пространство интерьера по вертикали на три части. Большая угловая ниша включает в себя многоярусную систему арочек и сводов, при помощи которых тяжесть купола передается на стены. Ярус тромпов, обогащенный дробной аркатурой, контрастирует с гладкой поверхностью стен и купола.
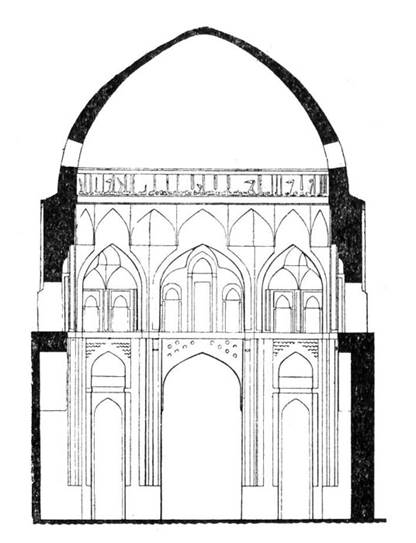
«Святилище» соборной мечети в Исфахане. Разрез
Большие четырехайванные мечети, построенные в 11—12 веках, сохранились в Ардестане (илл. 42), Гольпайгане, Казвине и других городах. «Святилище» соборной мечети в Гольпайгане имеет ярус тромпов, угловые арки которого заполнены ячейками сталактитов. В «святилище» соборной мечети в Казвине на стене ниже яруса тромпов плавно изгибающаяся лента надписи образует узор, подчеркивающий монументальный характер архитектуры интерьера.
Рядом с мечетями возвышались минареты. Иранский минарет 11 — 13 вв. представляет высокую и тонкую, круглую в сечении башню с балкончиком, помещенным в своеобразный фонарь, увенчивающий постройку. Муэззин поднимался наверх по винтовой лестнице, заключенной внутри башни. Конструктивная связь кладки лестницы и стен башни придает иранским кирпичным минаретам удивительную антисейсмическую устойчивость. По высоте минарет иногда делится на два яруса, из которых нижний имеет граненую форму. Стройные по пропорциям изящно орнаментированные кладкой из кирпича минареты 11 и 12 вв. до сих пор возвышаются в Дамгане, Бестаме, Исфахане и многих других городах. В 14 в. возводились парные минареты, фланкирующие небольшой портал.
В Иране сохранилось большое количество мавзолеев — архитектурных сооружений воздвигнутых над могилами особо почитаемых лиц. Характерно, что иранский парод, бережно храня память о крупных национальных поэтах, часто связывает с их именами лучшие из мемориальных и надгробных сооружений далекого прошлого.

Башня Kaбуca близ Горгана. План.
Различаются мавзолеи нескольких типов: башнеобразные постройки, увенчанные шатром кубические или многогранные в плане купольные сооружения, пор-талыш-купольные здания и другие. Особенно интересен первый тип, получивший широкое распространение в Хорасане, Мазендерапе и на территории современного центрального астана (области) Ирана. В этих районах страны в 11 — 12 вв., по-видимому, уже сложились местные школы зодчества, связанные единством творческого метода, но отличавшиеся строительными и художественными приемами. О происхождении башенного типа мавзолеев с шатровым покрытием имеются различные теории. В последние годы советскими исследователями высказана мысль о связи шатровых мавзолеев с древними погребальными сооружениями северных (по преимуществу тюркских) народов Средней Азии. Самый старый точно датированный башенный мавзолей сохранился в Хорасане. Это башня Кабуса близ Горгана, построенная в 1006—1007 гг. (илл. 41). Для облика этого мавзолея характерны строгость почти не украшенных архитектурных форм, стройность пропорций, подчеркнутый вертикализм линий. Круглая столпообразная, слегка сужающаяся кверху башня снабжена во всю пятидесятиметровую высоту десятью двугранными выступами, расположенными на равных расстояниях один от другого. Эти своеобразные контрфорсы острыми гранями разрезают два узких фриза рельефных надписей, помещенных внизу и вверху башни. Коническое слегка нависающее над всем сооружением шатровое покрытие завершает стройную композицию. Башня Кабуса стоит на высоком, вероятно, искусственном земляном холме. Она хорошо обозрима, и ее архитектурная форма воспринимается монолитной, как своего рода обелиск. В надписи на стене башня поэтично названа «высоким замком». Интересные варианты башенного типа представляют мавзолеи 12—начала 13 в. в Рее и Верамине, а также в ряде пунктов Мазендерапа.
Строгость, свойственная иранской архитектуре 11 —12 вв., не исключала, однако, применения орнаментальной декорации, тенденции развития которой были показаны уже на примере мечети в Наине. В 11 —12 вв. господствует монохромная архитектурная декорация: резьба по стуку, кладка из фигурных кирпичей или покрытых резным узором терракотовых плиток. Узорная кирпичная кладка получила большое развитие в Хорасане и, по-видимому, являлась одной из особенностей местной архитектурной школы. В 12 в. начали применяться для украшения зданий цветные изразцы. Об изобразительных тенденциях в архитектурном декоре свидетельствуют происходящие, вероятно, из дворцовых построек стуковые рельефы 12 в. с фигурами всадников и различными сценами придворного быта, изящно вкомпонованными в орнамент.
Таким образом, в 11 — 12 вв. в Иране сложились основные типы монументальных построек средневековой эпохи и получило развитие архитектурно-декоративное искусство.
Монгольское нашествие нанесло тяжелый удар культуре Ирана и на время приостановило строительную деятельность. Однако уже в середине 13 столетия в разных областях страны стали возводиться крупные постройки, определившие следующий этап в истории средневекового иранского зодчества.
Архитектура 13 —14 вв. продолжает и развивает традиции предшествующего периода. Памятников гражданского зодчества известно мало. Сохранились руины нескольких караван-сараев, имевших толстые стены, хорошо защищенные ворота и помещения, расположенные вокруг прямоугольного двора. В большом числе дошли до нас воздвигнутые в это время культовые здания — мечети, медресе и мавзолеи. В этот период были созданы различные архитектурные типы мечети. Наряду с постройками, которые имеют двор, окруженный аркадами и двумя или четырьмя айванами, помещенными на главных осях, получил распространение тип здания мечети, состоящей из большого перекрытого куполом квадратного помещения и портала со стороны входа. Крупнейшие мечети этого периода были построены в Верамине (первая четверть 14 в.), в Натапзе (начало 14 в.), в Кермане (1349) я в ряде других городов.
Обилие сохранившихся в Иране мавзолеев объясняется культом святых, характерным для шиитского толка ислама. Особенно многочисленны могилы «имамзаде» (сыновей имама), служившие местом поклонения. Среди портально-купольных мавзолеев выделяются величественностью форм постройки 14 в. в Тусе и в Иранском Серахсе — близкие мемориальным сооружениям южного Туркменистана.
Башнеобразные мавзолеи во множестве сохранились в северных и центральных областях Ирана. Большая группа многогранных с шатровым покрытием мавзолеев 13 —14 вв. находится в Куме. В архитектуре башнеобразных построек особенно заметны характерные для этого времени тенденции к вытянутым вверх пропорциям, к тонкой изящной моделировке архитектурных форм. При сравнении мавзолеев начала 14 в. с башней Кабуса видно, что вертикальные членения приобрели повое значение. Мавзолей в Бестаме (илл. 44О, так же как и башня Кабуса, имеет двугранные «контрфорсы», но теперь они примыкают один к другому, в результате чего поверхность постройки стала как бы гофрированной. Стены мавзолея в Радкане снаружи кажутся составленными из полуколонн, покрытых узорной кладкой из кирпича. Переход к венчающему постройку фризу решен при помощи фестончатых узорных арок. Новые формы с их более сложным ритмом обогащают архитектуру, лишают ее былой суровости, но не нарушают ясности композиции.
Для развития монументальной архитектуры 13 —14 вв. характерно нарастание декоративного начала. Это не следует, однако, понимать упрощенно и представлять процесс как простое изменение в соотношении конструктивных и декоративных особенностей архитектуры.
На протяжении всей эпохи зрелого феодализма иранские зодчие в соответствии с встававшими перед ними идейно-образными задачами решали проблему синтеза архитектуры и декоративного искусства, гармонично сочетая в лучших своих произведениях конструктивно-строительное и художественное начала.
Мастера архитектурного орнамента продолжали использовать технику резьбы по стуку, обогащая узор сюжетно и пластически. Замечательный памятник декоративного искусства представляет убранство интерьера мавзолея в Хамадане, который большинство исследователей относит к началу 14 столетия. В интерьере мавзолея сохранились большие стуковые панно, покрытые рельефным резным узором. Симметрично изогнутые и переплетенные между собой ветви и стебли как бы обросли крупными цветами и листьями. Вся эта масса растительных форм, «уложенная» на плоскости стены, не превращена в плоскостную орнаментику: стебли изгибаются, далеко выдаются упругие закругленные края крупных листьев. Поэтому поверхность стены напоминает «живую изгородь» из растений, расположенных, однако, по законам декоративного орнамента, проникнутого строгим и сложным ритмом. Можно думать, что в орнаментальном уборе мавзолея поэтически образно воплощено представление о райском саде, который мусульмане считали уделом праведных в загробном мире.
В мечетях 13—14 вв. резьбой по алебастру богато украшены михрабы. В композиции орнамента и надписей, окружающих михраб, господствуют определенный канон и строгий ритм. Согласно твердо установившемуся правилу, михрабная ниша трактована в виде одной или нескольких расположенных одна в другой стрельчатых арок, опирающихся на полуколонны. Надписи из Корана, широкой П-образно изогнутой лентой с трех сторон охватывая михраб и обрамляя арки, воспринимаются как часть орнамента. Их вязь сливается с мелким цветочным узором, а вертикальные линии алисров и ламов переплетаются с изгибами растительных стеблей.
Превосходно декорированные резным стуком михрабы 14 в. сохранились в соборных мечетях Исфахана, Абаркуха, Бестама и других.
Рост декоративных тенденций вызвал развитие и широкое применение в архитектуре цветной декорации. Особенно известны иранские люстровые изразцы 12 —14 вв. Ими украшали михрабы. Замечательный люстровый михраб, датированный 1226 г., происходит из Катана.
Самыми богатыми по рисунку и краскам были звездообразные и крестообразные по форме изразцы, из которых по определенной системе выкладывались в интерьерах зданий большие панели. На изразцах, служивших украшением светских построек, часто изображены различные сцены с фигурами людей и животных (илл. 43). Люстровые краски как бы светятся из-под глазури, что придает им особую мягкую тональность. Мерцание золотистых красок, иногда усиленное рельефом надписей и орнамента, сообщает узору своеобразную подвижность и почти сказочную красоту.
В 14 в. цветное убранство стало применяться и на стенах снаружи зданий. Появились новые технические и художественные приемы: узорная кладка из глазурованных и неглазурованных кирпичей, резная керамическая мозаика, украшение стены плитками расписной майолики и др.
Новые качества архитектуры 13 —14 вв. ярко проявились в одном из лучших памятников иранского средневекового зодчества — мавзолее хана Олджейту в Сул-тании (илл. 45). Это здание, возведенное между 1307 —1313 гг. мастером Ходжи Алишаком из Тебриза, представляет большую восьмиугольную трехъярусную постройку, увенчанную высоким вытянутым вверх и заостренным куполом, вершина которого расположена на высоте 52 м.от уровня земли(Здание в основном было закончено в 1309 г., когда Олджейту стал шиитом и решил перенести в мавзолей останки крупнейших шиитских святых. В связи с этим в узор на стенах мавзолея было включено имя Али. В дальнейшем Олджейту отказался от своего намерения и велел внести в декор интерьера некоторые изменения.). Огромный мавзолей, возвышаясь над крышами города, до сих пор определяет архитектурный силуэт Султании. Величественность художественного образа постройки достигнута гармонией пропорций и тонко найденным соотношением архитектурно-пластических и декоративных приемов.
Восьмигранный объем мавзолея трактован очень монументально. На гранях нижних двух ярусов прорезаны лишь невысокие стрельчатые входы и расположенные над ними узкие окна. Третий, верхний ярус облегчен аркатурой, выходящей в галлерею, устроенную в толще стены по всему периметру восьмигранника. Для подъема на галлерею служат лестницы, помещенные в треугольных в плане пристройках, примыкающих к двум граням здания. Громадный купол (составляющий две пятых общей высоты сооружения) был окружен восемью минаретообразными башнями, установленными над аркатурой третьего яруса на каждом углу постройки. Арки и минареты пластически обогащают архитектуру здания и связывают ее с окружающим пространством. При общей уравновешенности и статичности композиции сопоставление стрельчатых контуров купола, ниш и арок вносит в архитектуру мавзолея момент динамики. Абрис огромного купола повторяется в мерном ритме арок, расположенных по три на каждой грани — широкая посередине и две более узкие по сторонам. На нижней массивной части здания стрельчатый абрис дробит поверхность стены, возникая не только в контуре дверных и оконных проемов, но и в целой сети плоских декоративных нишек. Важной новой чертой архитектуры мавзолея Олд-жейту является цвет на поверхности стен и купола мавзолея снаружи. Декоративность в архитектуре мавзолея Олджейту основана на контрасте ярких и блестящих цветных изразцов с охристой матовой поверхностью кирпичной кладки стен. Нижняя часть постройки и столбы галлереи украшены сравнительно скромно бирюзовыми плитками; в тимпанах арок галлереи узор выложен изразцовой мозаикой синего и бирюзового цветов. Верх весьмерика опоясывает широкий голубой сталактитовый карниз. Динамичный спиралевидный геометрический узор размещен на стволах минаретов и по низу купола. Нарастая кверху, цветовой аккорд завершался яркой, блестевшей в лучах солнца интенсивно голубой шапкой купола. Колористическая насыщенность, не нарушая монументального характера композиции, придала архитектурному образу большую эмоциональную выразительность и подчеркнуто декоративный характер.
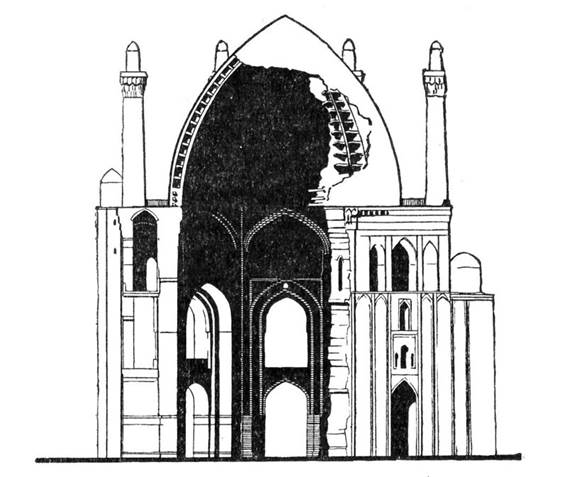
Мавзолей хана Олджейту в Султании. Разрез.
В интерьере зодчий решает в основном пространственную задачу . Здесь менее четко выражено членение на ярусы. Каждая из восьми граней помещения имеет высокую устремленную вверх стрельчатую нишу, внутри которой размещены вход и окна. Ярус тромпов заменен широким сталактитовым карнизом, который образует мягкий переход к глубокой полусфере купола. Как и снаружи, стены интерьера, своды и купол покрыты диетным узором и надписями, исполненными росписью по штукатурке, а также изразцами. Цветным узором украшены также своды галлереи, расположенной в верхней части постройки.
В 13 и особенно в 14 столетии монументальная архитектура Ирана достигла большого совершенства. Единая по строительным и художественным принципам, она вместе с тем отличалась своеобразием в различных областях и крупных городах страны. Наиболее ярко местные черты сказались в это время на юге в архитектуре Иезда и других городов. Здссь встречаются особой формы сильно вытянутые вверх порталы, оригинальной системы своды, много своеобразия проявляется в архитектурной орнаментике.
В конце 14 и в 15 в. зодчество Ирана развивалось под сильным воздействием Замечательных достижений архитектуры Самарканда и других городов Средней Азии. Из построек этого времени заслуживает особого внимания архитектурный комплекс в Мешхеде у могилы особо почитаемого имама Резы. Сооруженные Здесь культовые здания имеют огромные дворы, рассчитанные на тысячи богомольцев. Громадные айваны и стены этих построек покрыты богатейшим красочным узором. Среди других особенно выделяется мечеть Гаухар-Шад (илл. 46), построенная в 1405—1417 гг. Кавамаддином Ширази, одним из крупнейших зодчих 15 в., который работал в Мешхеде, а затем в Герате.
С 8 по 15 столетие средневековое иранское зодчество прошло большой путь развития, включавший периоды как высокого подъема, так и временного ослабления, особенно в годы разрушительного вторжения кочевников. Сохранившиеся памятники показывают крупные достижения иранских зодчих в разработке конструкций, в выработке пластически ясных архитектурных форм, в своеобразном решении синтеза монументальной архитектуры и декоративного орнамента. На протяжении средних веков в Иране существовала монументальная живопись. Письменные источники свидетельствуют о создании еще в 8—10 вв. стенных росписей, изображавших сцены из эпоса и жизни феодалов. Интересные фрагменты стенных росписей 8—9 вв. с изображением фигур людей и орнаментов открыты в Нишапуре раскопками 1930-х гг. Памятников более позднего времени исследователям известно очень мало. Не дошли до нас и иранские миниатюры, датированные временем раньше 14 века; вероятно, эти произведения погибли при завоевании страны монголами.
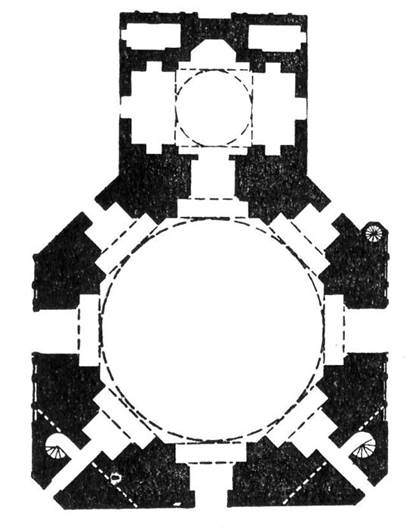
Мавзолей хана Олджейту в Судтании. План.
Однако роспись люстром и особенно цветными эмалями на произведениях керамики 11—12 и особенно 13 столетий позволяет судить о характере иранской живописи этого периода. Особенности, присущие росписям на керамических изделиях, обнаруживают близость `к миниатюрам арабо-месопотамской школы.
В конце 14 в. выдвинулась ширазская школа иранской миниатюры. Главный город южноиранской провинции Фарс, родина великих персидских поэтов Саади и Хафиза, один из древних культурных очагов — Шираз — в период монгольского владычества и позднее сохранял значение видного художественного центра. При дворе местных династий процветали поэзия и живопись. К первым известным образцам ширазской миниатюры относятся иллюстрации к «Шах-наме» 1370 г. (Стамбул, музей Топкапу), а также более поздние, но близкие к ним по стилю миниатюры «Шах-наме» 1393 г. (Каир, Египетская национальная библиотека). Произведения эти, представляющие ранний этап в развитии ширазской школы, еще достаточно примитивны. У них упрощенная композиция, неразвитые пейзаж-вые фоны, довольно тусклая гамма красок. На плоскости листа размещены коротконогие и большеголовые фигуры людей со своеобразным «ширазским» — широким и округлым — типом лица. Но уже и этим миниатюрам присуща та лаконичная и выразительная простота, которая характеризует ширазскую школу конца 14 — начала 15 столетия.
Прекрасным образцом ширазской миниатюры второй половины 14 в. могут служить иллюстрации «Хамсе» Хосрова Дсхлеви (Ташкент, Институт востоковедения). Некоторая их незавершенность, вероятно, объясняется каким-то чрезвычайным событием, возможно завоеванием Тимура, когда манускрипт в качестве добычи попал в Самарканд. Среди иллюстраций преобладают лирические сюжеты, часто встречаются изображения влюбленных. Сходные с упомянутыми иллюстрациями «Шах-наме», эти миниатюры обнаруживают большую зрелость стиля. Немногофигурные, очень ясные по композиции, красивые по цвету, уравновешенные по ритму, они сочетают простоту с изяществом, обобщенность с изысканностью. Преобладают светлые фоны, на которых особенно четко выступают плавные очертания несколько приземистых фигур. Нарядно сочетание красных, оранжевых, кремово-розовых, желтых тонов.
Присущий иллюстрациям «Хамсе» оттенок чувственности, мастерство их исполнения, отражая утонченный характер ширазской культуры того времени, находят своеобразный отклик в поэтическом творчестве их великого современника — Хафиза.
В указанных миниатюрах 14 в. образ природы только намечен. Обычно это плоский традиционный холм со скудной растительностью, горные скалы, одинокие деревья. Однако повышенный интерес к пейзажу, первые попытки его развернутого изображения составляют особенность раннеширазской школы. Если не в самом Ширазе, то, во всяком случае, как считают некоторые исследователи, в какой-то провинциальной школе Фарса были созданы двенадцать пейзажей, украшающие стамбульскую «Антологию персидской поэзии» 1398 г.
Большинство из них занимает всю страницу рукописи, другие, меньшего размера, помещены внизу текста в виде своеобразных концовок. За исключением одной, все миниатюры изображают фантастический горный пейзаж, лишенный каких-либо живых существ, только на первой помещены сидящие на деревьях птицы и купающиеся в источнике дикие утки. Хотя в композиционном и цветовом построении пейзажа очевидны две несколько отличающиеся друг от друга группы, в целом серия обнаруживает стилистическое единство. Изображена как бы большая горная страна, где высокие вздымающиеся к голубому или светло-фиолетовому небу вершины занимают почти всю плоскость листа (илл. 47). Среди желтых, охряных, зеленых, розовых, лиловых и пурпурных гор, очерченных золотыми, коричневыми и темно-красными контурами, извивается показанная без всякого перспективного сокращения большая серебряная или светло-лиловая река, впадающая в овальное озеро. Горы покрыты богатой тропической растительностью: здесь стройные темные кипарисы с золотыми стволами, различные сорта пальм, вьющиеся золотые лианы, цветущие плодовые деревья; почва усеяна цветами. На темно-зеленом фоне крон некоторых деревьев эффектно выделяются отдельные листья, уподобленные золотому звездчатому узору. Изображение совершенно пло-скостно, условно и по композиции и по цвету. Наряду с близкой к природе передачей реальных форм встречаются элементы стилизации, поиски чисто орнаментальной выразительности.
Миниатюры манускрипта 1398 г. принадлежат к очень редким изображениям чистого пейзажа без живых существ, в духе того своеобразного восприятия природы, которое складывалось в период феодализма в живописи стран Среднего Востока. Может быть, на представлении средневековых художников о мире в некоторой степени отразился образ мусульманского рая как сказочного сада. Но если в основе даже самого условного жеста персонажа миниатюры лежит, в конечном счете, реальная выразительность движений человеческого тела, то и канонизированный рай мусульманской религии воплощает поэтический образ благодатной и благоуханной природы Востока. II в данном случае не столь важно, руководствовался ли художник ширазской школы представлениями ислама или, как считают некоторые исследователи, изобразил сказочную страну зороастризма — древней религии Ирана, пережитки которой сохранились и в мусульманское время. Несомненно, его вдохновляла прежде всего красота и жизнь самой реальной природы, хотя и воплощенная им в столь отвлеченном и идеальном аспекте.
В первой половине 15 в. в Ширазе искусство книги стояло на большой высоте. Художественный язык миниатюры становился богаче и совершеннее. Изображение пейзажной и архитектурной среды, человеческих фигур, передача движения, система цветовых отношений приобрели более сложный характер. Среди произведений начала 15 в. наиболее интересны манускрипты «Антологии персидской поэзии» 1410 и 1420 гг. и «Шах-наме» первой четверти столетия. В миниатюрах «Антологии» 1410 г., которые были выполнены для правителя Шираза Искандера Султана, привлекают внимание два листа, посвященные поэме Низами «Хосров и Ширин». На одной миниатюре изображен на троне царь Хосров в окружении свиты, на другой — единоборство Хосрова со львом. Запечатлены те эпизоды поэмы, в которых проявляются как бы два аспекта столь сложного, сотканного у Низами из противоречий образа Хосрова — могучего богатыря и отважного героя и вместе с тем надменного властелина, видевшего цель жизни в наслаждениях и праздных забавах. Однако миниатюрист далек от такого многогранного раскрытия образа Хосрова. Обе иллюстрации воспринимаются прежде всего как красочное зрелище, изображающее эпизод придворной жизни и эффектную сцену борьбы юноши со львом. Все же достаточно развитый художественный строй этих произведений своей эмоциональной приподнятостью и торжественностью в известной мере созвучен поэме.
Единоборство Хосрова со львом происходит в саду, на фоне покрытого драгоценными тканями шатра (илл. 48). Характерно, что в этой драматичной по содержанию, действенной сцене наиболее ярко выступает условность изобразительного языка миниатюры. Фигуры Хосрова и льва подчеркнуто статичны и декоративно распластаны на плоскости. В остальных персонажах чувства ужаса и восхищения мужеством царя переданы главным образом традиционным жестом изумления. II в то же время в некоторых фигурах, особенно женщин, выглядывающих из шатра, мастер сумел передать реальную выразительность движений человеческого тела и даже в условных жестах уловил ощущение смятенности и беспокойства.
Произведения начала 15 в. при несомненном усложнении образного строя сохраняют общие черты, свойственные ширазской школе,— немногословность, величавую простоту, своеобразную «монументальность» стиля. Мастера тяготеют к изображению немногочисленных довольно крупных фигур, скупому показу деталей. Характерные особенности ширазской школы с большой яркостью воплотились в иллюстрациях «Шах-наме», вероятно, 1425 г. (Оксфорд, Бодлеянская библиотека). Миниатюры этого манускрипта по сравнению с предыдущими создают впечатление большей силы и строгости. Лаконизм их изобразительных средств далек от упрощенности раннего периода, он основывается на большом опыте художественного мастерства. Четкий и энергичный рисунок прекрасно передает выразительность разнообразных движений людей и животных. Одна из миниатюр изображает Бахрам Гура и его наложницу Азаде на охоте (илл. 49). Большой верблюд, па котором они сидят,— основное темное пятно на светлом фоне листа. Внизу в углу изображена третья, согласно сюжету поэмы, газель, которую по желанию Азаде настигла меткая стрела Бахрам Гура. Высокий, уходящий под прямоугольник надписи холм и два стройных темных кипариса на его правом склоне создают предельно обобщенный образ природы. В отличие от произведений 14 в., где отдельные элементы пейзажа имели смысл своеобразного символа, здесь художник стремится передать окружающую человека среду. Своими очертаниями, ритмом, цветовыми соотношениями пейзаж неразрывно связан с общей композицией, с общим «настроением» миниатюры, рождающей ощущение ясности, покоя и безмятежности, которые не предвещают грядущей трагической развязки. В создании этого ощущения главную, если не решающую роль играет передача движения, плавного, пластического и гибкого. Наиболее традиционна фигура Бахрам Гура с его риторичным жестом. Но в изображении других фигур чувствуется уверенная pjKa настоящего мастера: изящно и ритмично касается Азаде струн арфы, мягко, широко раскидывая длинные ноги, бежит верблюд, упруго, словно тетива лука, изогнулось тело раненой газели.
К середине 15 в. ширазская школа стала заметно отставать в своем развитии по сравнению с другими центрами миниатюры, особенно Гератом. Процесс этот еще усилился со второй половины столетия, когда Иран был вовлечен в борьбу между захватившими большую часть страны тюркскими кочевыми племенами. Своеобразная архаизация, возврат к старым примитивным формам отличают ширазскую миниатюру этого времени. Композиция ее упрощается, палитра становится пестрой и малогармоничной, движение теряет гибкость и живость, угловатые фигуры людей напоминают марионеток.
В сложении миниатюры как особого жанра средневековой восточной живописи каждый из художественных центров, будь то Тебриз в Азербайджане или Шираз в Иране, явился своего рода необходимым звеном в общей цепи развития. Немалую роль сыграла здесь и багдадская школа миниатюры 14 в., представленная творчеством замечательного мастера Джунаида Султана.
В этот период Ирак, входивший в состав государства Джелаиридов, был в культурном отношении тесно связан с Ираном и Азербайджаном. Столица находилась в Багдаде, где при дворе Джелаиридов и работал художник Джунаид Сул-тани. Его кисти принадлежат миниатюры 1396 г. к «Хамсе» Хаджу Кермани (Лондон, Британский музей). Из них шесть иллюстрируют одну из поэм Кермани, повествующую о любви персидского принца Хумаи и китайской царевны Хумаюн. В произведениях Султани прослеживаются черты влияния китайского искусства, которые сказываются в трактовке архитектуры, некоторых элементов пейзажа, в деталях одежды и т. п. Вместе с тем Султани принадлежит к тем художникам, искусство которых опережает время. Мастер конца 14 столетия, в своем творчестве он во многом предвосхитил достижения, которыми отмечено дальнейшее развитие миниатюры. В своих произведениях Султани расширил сферу изображения реального мира. В его миниатюрах наметилась тенденция к созданию в пределах «ковровой» композиции своеобразного впечатления пространственности. Это достигалось, однако, не средствами линейной и цветовой перспективы. Миниатюра развертывается как бы ввысь по всей плоскости листа, включая в себя многофигурные сцены, пейзаж, нарядные сооружения архитектуры. Пространство здесь воспринимается словно с птичьего полета, причем и более близкие и более отдаленные фигуры, часто заслоняющие друг друга, изображены фронтально. Этот новый прием, впервые разработанный Султани, в дальнейшем стал характерной чертой миниатюры Среднего Востока.
В произведениях Султани диагональные, асимметричные композиционные построения («Хумаи перед дворцом Хумаюн») соседствуют с более строгими, как бы развивающимися из одного центра («Хумаи и Хумаюн в саду, окруженные свитой»), В последней миниатюре фигуры придворных, девушек и слуг образуют вокруг главных героев словно распластанный на плоскости красочный венок. Композиция оживлена мягким ритмом округлых очертаний почвы, стройных стволов деревьев, поз и жестов персонажей, наклонов и поворотов их голов. Фигуры — тонкие, вытянутые, с маленькими головами и схожими лицами —- воплощают общий идеал красоты. Земля нежных оттенков обильно покрыта ковром цветов. Ощущение праздничности в миниатюрах Султани усиливает радостная, также предвосхищагощая колорит 15 столетия многокрасочная палитра. Мастер смело использует богатство оттенков синего, красного, зеленого, коричневого и других цветов, на фоне которых ярко выделяются пятна белого, золота и серебра.
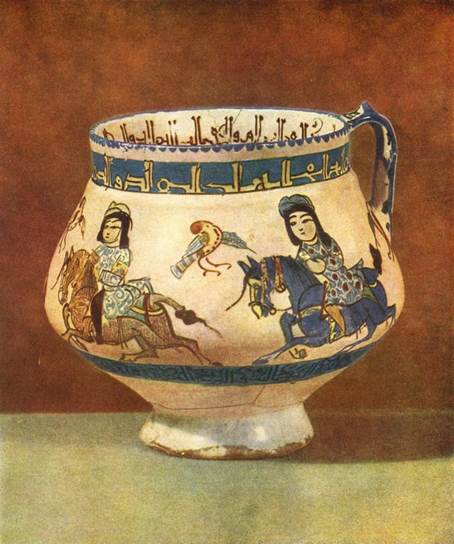
Фаянсовый кувшин из Рея с изображением всадников. 13 в. Нью-Йорк, частное собрание.
Сравнение произведений Султани с почти современными им пейзажами «Антологии персидской поэзии» 1398 г. свидетельствует о том, насколько более живо, непосредственно и лирично выражено чувство природы в творчестве багдадского мастера. В этом отношении особенно выделяется миниатюра, которая изображает единоборство двух рыцарей на глухой лесной цветущей лужайке, окруженной кольцом заросших деревьями причудливых скал (илл. 50). В передаче поединка нет драматизма, движение фигур довольно скованно. Лишь вставшие на дыбы боевые кони и отброшенные в сторону луки призваны подчеркнуть состояние напряжения и возбужденности битвы. Однако при всей условности миниатюра удивительно естественна и гармонична. Центр композиции остается свободным. Все изображение строится по замкнутому плавному овалу. Оси симметрии тонко и прихотливо смещены, что сразу лишает миниатюру впечатления статичности. Она вся пронизана богатой ритмикой линий. В пейзаж входит действенное начало, он оживает, становится одухотворенным. И эта нежная весенняя поросль, и стройные деревца с хрупкими стволами и острыми вершинами, над которыми в небе летает словно вспугнутая шумом сражения птичья стая, создают глубоко лирический образ природы, окружающей человека.
Падение государства Джелаиридов и захват Багдада на рубеже 14 и 15 вв. Тимуром сопровождались уводом ремесленников и мастеров в Среднюю Азию. Возможно, что вместе с ними были переселены на Восток и художники багдадской школы 14 в.
Прикладное искусство средневекового Ирана занимает видное место в истории мировой художественной культуры. Исключительно велико его значение и в самом средневековом Иране. Расцвет прикладного искусства, как и в других странах, был связан с высоким развитием ремесла. Хотя ряд ремесел иногда становился царской монополией, большая часть продукции создавалась ремесленниками, объединенными в цехи. Цеховая организация содействовала традиционности производства и в значительной степени обусловила узкую ремесленную специализацию некоторых иранских городов. Так, в области керамики долгое время центрами производства являлись города Рей, Кашан, Саве.
Производство художественной керамики в Иране получило развитие в 8—9 вв. Уже в это время появилась надглазурная люстровая роспись. В широком распространении люстра обычно усматривают влияние ислама, запрещавшего употреблять посуду из золота и серебра, что и вызвало появление этой отливающей металлическим блеском керамики, словно призванной заменить изделия из драгоценных металлов. Однако лучшие произведения люстровой керамики далеки от какой-либо имитации, они прекрасно сочетают в себе особенности, навеянные металлическим производством, — технику рисунка резервом (От латинского reservare (сберегать, сохранять) — способ украшения, при котором часть поверхности керамического изделия остается неокрашенной.), густое орнаментальное заполнение фона, некоторые приемы композиции, близкие еще к сасанидским традициям, — с теми задачами, которые продиктованы особенностями керамики.
12—14 вв. — время высшего расцвета керамического искусства средневекового Ирана. Его основные области развития — разнообразная великолепная посуда, обслуживавшая быт богатых феодалов, и архитектурный декор.
Произведения иранской керамики этого времени отличаются высоким чувством пластической формы, которое основывается на максимальном использовании свойств глины, строгой и ясной архитектоникой целого, нарядной и жизнерадостной красочностью росписи. Одной из самых существенных особенностей иранской керамики является ее ярко выраженная изобразительность. Характер фигурных росписей при некоторой упрощенности художественного языка и неизбежной декоративной условности рождает то ощущение наивной непосредственности и удивительной свежести, которое придает произведениям керамики огромное эстетическое обаяние. Сама керамическая масса, динамическая, текучая, податливая, обусловливает мягкую пластичность форм иранской посуды 12 —14 столетий. Эти блюда и чаши, кувшины и вазы, бокалы для вина, небольшие графины отличаются простотой очертаний; в основном господствуют ясные объемы, округлые линии.
В 12 —14 вв. ведущее значение приобретают изделия с люстровой росписью. Золотисто-желтые и коричневые тона люстра, которые стали преобладать с 12 столетия, полны легкой радужности, как бы светятся из-под глазури цвета слоновой кости. Поверхность сосудов покрыта росписями, изображающими сцены придворной жизни, эпизоды из эпоса «Шах-наме», фольклорные образы, всадников, музыкантов, фантастических и реальных животных, звериный гон. Характерное для средневековых восточных мастеров стремление к декоративному заполнению любой плоскости сказывается в том, что в росписи не остается ни одного места свободным: одежды персонажей и даже деревья и тела зверей густо орнаментированы. Вместе с тем росписи словно обегают мягко круглящиеся простые и пластичные формы иранской средневековой посуды.
Декоративное убранство образует четкую систему, подчеркивающую главные, так сказать, архитектурные членения изделия. Фигурные сюжеты на кувшинах обычно располагаются горизонтальными полосами вокруг тулова, на блюдах — концентрическими кругами вокруг центрального изображения. Стремление к уравновешенности и симметрии проявляется в ритмическом повторении основного мотива в различных сочетаниях и комбинациях. Так, в великолепном массивном кувшине 13 столетия из Кашана (илл. 51) повторение основного мотива в виде чередующихся изображений животных и сидящих человеческих фигурок в шестигранном обрамлении образует тонкую необычайно эффектную золотистую сетку, которая покрывает коричневое тулово сосуда.
Вместе с тем в люстровой керамике появляются и сюжетные композиции более «картинного» характера, которые рассчитаны на одну вполне определенную точку зрения. Таково благородное по тонам золотисто-коричневого люстра рей-ское блюдо 13 столетия (илл. 52 а). На нем изображен Хосров, поглощенный созерцанием красоты купающейся Ширин. Наивный рассказ прост и безыскусствен, легко читается с первого взгляда.
В иранской люстровой керамике лунноликие персонажи с непомерно большими головами, в узорчатых мешковатых одеждах не отличаются разнообразием и живостью поз и жестов. Их округлые лица лишены всякого выражения, воплощая определенный, канонизированный тип красоты: длинные миндалевидные глаза, тонкие дуги бровей, сходящихся к переносице, крошечный рот. Значительно большей свободой отличаются изображения животных. Пропорции зверей часто далеки от реальных, очертания их фигур подобны узору, тела орнаментированы. II вместе с тем мастерам удалось с большой непосредственностью передать веками складывающиеся народные, фольклорные представления о повадках того или иного зверя и птицы. В небольшом кувшинчике 14 в. характер динамичного изображения, включающего только фигуру бегущего зайца, неразрывно связан с пластически объемной, круглой формой сосуда (илл. 53). Рисунок яркий, крупный, обобщенный. Композиция росписи, в которую так органично включена надпись стремительным, как будто летящим почерком насх, обладает и удивительной свободой и в то же время строгой архитектоникой.
Изобразительность, столь присущая иранской керамике 12—14 вв., нашла непосредственное и яркое выражение и в другом виде художественной росписи легкоплавкими эмалевыми красками — полихромией посуде «минаи»(«Минаи» означает — стеклянный. Название это было вызвано известной сходностью иранской полихромией посуды с сирийскими и египетскими изделиями из стекла, пестро раскрашенными эмалями.). Техника этой надглазурной росписи состояла в нанесении быстрым мазком кисти прозрачных цветных эмалей на поверхность сосуда, затем подвергавшегося легкому обжигу. Сосуды типа «минаи» меньше люстровых, они более камерны, всегда тонкостенны и легки, их пропорции изысканнее. Иранские мастера, не знавшие секрета производства фарфора, сумели создать из глины изделия удивительной тонкости и изящества.
Поверхность чаш, небольших блюд, прямостенных бокалов покрыта сияющими радостными красками изображениями маленьких, похожих на куколок человечков, то скачущих на конях, то играющих на музыкальных инструментах, то пьющих вино или просто беседующих друг с другом, разнообразных зверей и птиц, а иногда, хотя и очень редко, целыми связными повествованиями. В отличие от люстровой росписи в посуде «минаи» ярче выражены живописные тенденции декора. Орнаментальное заполнение фона здесь не играет существенной роли. Система росписи строится на основе красочных пятен, которые приобретают особую звучность благодаря тому, что многоцветные фигурные изображения помещены на гладком светлом фоне глазури, голубой, розовой, а чаще всего кремово-белой. В росписи участвуют почти все цвета спектра, но вместе с тем они не обладают равной интенсивностью; преобладают синие и охряно-желтые тона, в то время как красные потушены. В .результате сочетания разных цветов образуется общий, единый по тону красочный аккорд, сильный и вместе с тем мягкий, многоцветный, но лишенный всякой пестроты. Одна из характерных особенностей «минаи» — органичное сочетание яркости колорита и четкости линейного рисунка. Это достигается тем, что звучные красочные пятна на плоскости сосуда очерчены неплавкой черной краской — темным контуром, который называют «мертвым краем».
Изображения отличаются свободой, динамикой, непринужденностью. Те же, что и в люстровой керамике, лунноликие персонажи с короткими округлыми телами, кажется, написаны стремительным и легким движением кисти.
В композиции росписей, покрывающих полихромную иранскую посуду, проявляются различные тенденции. В одних преобладают ритмическое повторение одного ведущего мотива и строгая симметрия.
В других росписях, где на первый взгляд нет четкой композиционной системы, за кажущейся произвольностью и случайностью расположения фигур ощущаются ритмически четкие повторы, напоминающие приемы украшения тканей. Большой выразительностью образа отличается невысокий приземистый кувшинчик 13 в. (илл. между стр. 88 и 89). На звучном кремово-белом фоне глазури ярко и празднично сияют синие, охряно-желтые, серо-голубые, вишневые, лилово-розовые красочные пятна росписи. Широкое мягко круглящееся тулово украшено фигурами скачущих всадников. Они уверенно сидят на небольших крепких конях, которые изображены в упругом, стремительном беге. Очертания сосуда, его подчеркнуто объемная форма находят прямое созвучие во всех элементах росписи, в которой преобладают плавные, округлые, кривые линии; характерно, что даже подвязанные хвосты коней изогнуты дугой. Лишь черно-голубая узкая полоска надписи почерком куфи у невысокого горлышка и под туловом, а также помещенные между фигурами своеобразные «цезуры» в виде падающих, словно подстреленных охотниками разноцветных нежных птичек несколько сдерживают, организуют полную динамики керамическую поверхность. Форма сосуда, его цветовое решение, характер фигурных изображений слиты здесь в удивительном художественном единстве.
Высокоразвитое пластическое чувство обусловило появление в Иране сосудов в виде небольших скульптурных фигурок сокола, коня, верблюда и т. д. Иногда эти керамические изделия приобретали самостоятельное значение.
Наряду с керамикой в средневековом Иране получили распространение изделия из металла, и в том числе, вопреки предписаниям Корана, из серебра и золота. Эти произведения, упоминаемые в средневековых письменных источниках, почти полностью погибли. В основном сохранились лишь бронзовые изделия. В более ранних произведениях 8—10 вв. сильны традиции сасанндского искусства, и только с 11 столетия складывается новый облик иранской металлической посуды — кувшинов, блюд, котелков для воды, приземистых чаш округлого профиля. Их формы просты и довольно массивны. Вместе с тем очевидно стремление мастеров обогатить и облегчить поверхность предметов тончайшей сеткой мелкого гравированного узора. Большое значение приобрела и широко развитая в 12 —13 вв. техника инкрустации серебром, золотом и красной медью по бронзе.
Инкрустированные драгоценными металлами плоскостные изображения человеческих фигур и животных, надписи и тонкое плетение растительного орнамента выделяются на более темном фоне бронзы прихотливой игрой светлых, искрящихся, холодных бликов. Характерно, что и в металле, так же как в керамическом материале, появляются самостоятельные произведения мелкой пластики — бронзовые сосуды в виде птиц и зверей.
Иран издревле славился замечательными художественными тканями. Еще при Сасанидах шелковые ткани представляли одну из важных областей иранского Экспорта. И в последующее время искусство оформления тканей продолжало развиваться, во многом опираясь на древние традиции. Дошедшие до нас фрагменты тканей 10—11 вв. сохранили чрезвычайно близкий к древнему характер декора в виде ритмически повторяющихся медальонов с изображениями сцен охоты, животных и птиц (илл. 52 6). Их стилизованный узор отличается четкой графич-ностью. В композиции каждого мотива господствует геральдическая симметрия. Обычно применяется контрастное сочетание звучных двух или трех цветов: темно-синего и красного; темно-сииего и желтого; лилового, красного и серого; желтого, красного и синего.
С первых веков господства ислама в узоре тканей появляются также горизонтальные полосы надписей с воинственными религиозными призывами. В подобных тканях содержание текстов, написанных прямым почерком куфи, находится в тесном созвучии с их лаконичным и даже несколько суровым композиционным и цветовым решением. В целом ранним иранским тканям присуща строгая торжественность.
* * *
16 —17 столетия занимают особое место в истории Ирана. Укрепление относительно централизованного государства Сефевидов и некоторые экономические успехи, особенно при Аббасе I (1586—1628), подняли, правда ненадолго, феодальную экономику Ирана. В пору политического могущества Сефевидского государства преуспевали торговля и ремесленная промышленность. Но уже к концу 17 в. под мощными ударами народных движений усилился кризис феодальной системы и государство Сефевидов стало быстро слабеть.
В 16 —17 вв. средневековая художественная культура Ирана пережила свой последний подъем, коснувшийся, однако, далеко не всех видов архитектуры и изобразительного искусства.
Культура Ирана в этот период носила ярко выраженный придворный характер. Религия с ее фанатизмом укрепила свои позиции. Вольнодумие, даже в условной поэтической форме, жестоко преследовалось. Изобразительное искусство в сильной степени зависело от придворных вкусов; не только создание миниатюр для рукописей, но и изготовление произведений художественного ремесла было сосредоточено по преимуществу в шахских мастерских.
Широкие экономические связи способствовали установлению культурных взаимоотношений Ирана со странами Ближнего, Среднего Востока и с государствами Европы. Некоторое ослабление многовековых экономических культурных связей наблюдалось лишь в отношении Средней Азии. Эта тенденция ясно проступает в иранской литературе, которая в этот период более тяготеет к придворной культуре Великих Моголов в Индии.
В иранской архитектуре 16 — 17 столетий господствуют ранее выработанные, но еще жизненные каноны четырехайванной и купольной построек. Большое количество дошедших до нас архитектурных памятников этой эпохи дает возможность представить не только культовые, но и различные типы светских зданий — торговые постройки, бани, жилую народную архитектуру, а также планировку больших позднесредневековых городов. Многие старые города Ирана, вероятно, сохранили основные черты плана от 13—15 вв., а в отдельных случаях и от более раннего времени. К сожалению, для реконструкции досефевидских городов собрано еще мало археологических данных, а рассказы современников, даже таких наблюдательных, как Марко Поло, содержат восторженные, но недостаточно конкретные описания.
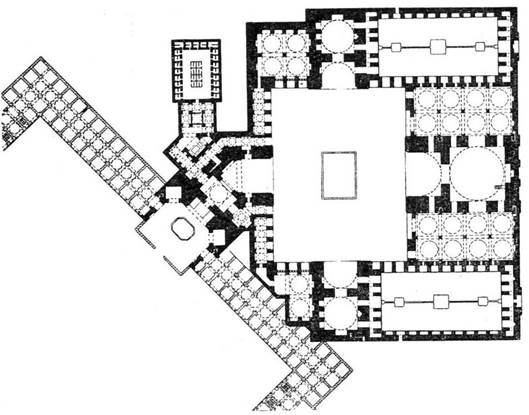
Шахская мечеть в Исфахане. План.
При Сефевидах крупные планировочные и градостроительные работы были произведены в Исфахане, превращенном в столицу при Аббасе I и ставшем в начале 17 в. огромным городом с полумиллионным населением. В центре Исфахана была создана большая прямоугольной формы площадь Майдан-и шах длиной около 500 м. По четырем сторонам площади расположены: большая Шахская мечеть, мечеть Лутфаллы, дворец Аликапу и базары. Близ дворца начинается широкая, прямая как стрела, обсаженная еще в 1595 г. платанами аллея Чар-Баг. Она тянется на три километра, пересекает по мосту реку Зайендеруд и уводит в заречную часть города, к огромным шахским садам. Сефе-видская планировка города, вероятно, сильно изменила прежний план Исфахана, но и жилых кварталах сохранилась типичная для средневековья запутанная сеть кривых узких улиц, переулков и тупиков.
Для культовых сооружений 17 в. характерны большие купольные святилища. Купола подняты на мощные цилиндрические барабаны и имеют специфическую для этого периода форму, заостренную кверху и несколько приплюснутую, как бы набухшую в нижней части. Купола и барабаны высятся над пештаками, хотя последние в этот период тоже отличаются крупными размерами и вытянутыми вверх пропорциями. Архитектурные композиции больших мечетей и медресе дополняет множество декоративных минаретов, расположенных по углам здания и по бокам пештаков. На минаретах, подчеркивая их устремленность вверх, возвышаются над балкончиками-фонарями тонкие башенки, увенчанные маленькими куполками. Исключительной яркостью отличается облицовка расписными плитками и керамической мозаикой, которая многоцветным ковром покрывает стены, своды и купола построек. Преобладавший в керамических облицовках 15 в. синий тон сменяется более пестрой, хотя и сгармо-нированной гаммой красок, включающей темно-синий и белый, зеленый и желтый, голубой и черно-фиолетовый цвета. Обновляется частично перестроенная в 14 в. соборная мечеть в Исфахане (илл. 55). Айваны ее двора при Сефевидах получили особенно грандиозные формы и пышный декоративный убор. Крупнейшие новые ансамбли культовых построек — Шахская мечеть (илл. 56 и 57) и мечеть Лутфаллы (илл. 04), воздвигнутые в начале 17 в. около площади Маидан-и шах, и медресе Мадар-и шах (начало 18 в.) — представляют чрезвычайно живописное зрелище. Красочные купола и айваны высятся среди леса минаретов и своим пестрым узором то контрастируют, то сливаются с зеленью окружающих садов.
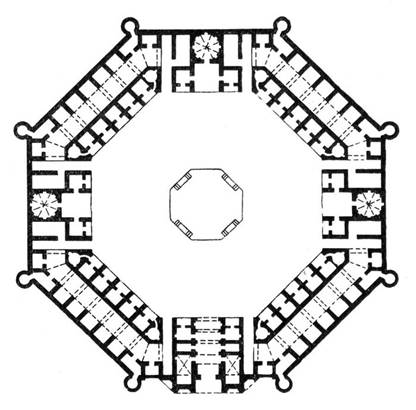
Караван-сарай Амин-Абад. План.
Декоративна и архитектура сефевидских дворцов, которые трактованы как отдельные павильоны, обычно расположенные среди парка. Даже при больших размерах они кажутся стройными и легкими. На фасад, как правило, выходит большая терраса, плоская крыша которой опирается на множество высоких деревянных колонн. В огромном шестиэтажном дворце Аликапу (начало 17 в.) (илл. 58) колоннада украшает верхнюю половину постройки. Во дворце Чехель-сотун (1590), расположенном рядом с Аликапу в большом хорошо распланированном парке, колонны террасы имеют 16 м высоты. Восемнадцать колонн по три в ряд несут деревянный кессонированный, богато расписанный потолок. Прямоугольный бассейн перед террасой отражает фасад здания. Залы дворца пышно украшены.
В большом числе дошли до нас светские постройки 16—18 вв. — караван-сараи, базары, бани, мосты и жилые дома. В их планировке и композиции вскрываются народные истоки иранской монументальной архитектуры. Караван-сараи, как правило, представляют четырехайванный тип сооружений с квадратным или многоугольным планом. Крытые базары старых иранских городов имеют своды и купола, показывающие не только богатство строительных приемов, но и стремление придать этим сооружениям эстетическую выразительность.
Жилые дома строились в разных районах страны согласно местным традициям и в соответствии с климатическими условиями. Особенно отличался своеобразием жилой дом северного Ирана, обычно деревянный, с высокой двускатной, а иногда четырехскатной кровлей. В других районах господствующим был тип жилой усадьбы, которая представляла замкнутый двор с глухими глинобитными стенами и помещениями, расположенными вокруг двора. Обязательный компонент жилой усадьбы — терраса, плоский потолок которой поддерживают резные деревянные колонны.
Из прочих архитектурных памятников следует отметить многоарочные мосты, построенные при Сефевидах в Исфахане. Громадный мост Аллаверди-хана через реку Зайендеруд имеет двухъярусную аркаду, расчлененную башнеобразными выступами. Интересны также глинобитные городские стены, ленты которых, снабженные башнями и укрепленными воротами, опоясывают каждый из старых городов Ирана. В Иезде сохранились остатки мощных башен 12 —14 вв. В Баме была сооружена целая система замкнутых крепостных стен, над которыми возвышалась цитадель города. Средневековые укрепления много раз перестраивались. Однако всегда вновь возводились массивные увенчанные зубцами стены, которые не только соответствовали задачам обороны, но входили неотъемлемой выразительной частью в художественный ансамбль города.
Иранская миниатюра продолжала развиваться и в 16 столетии. Ширазская школа в значительной мере восприняла ту подчеркнутую изысканность стиля миниатюры, которая культивировалась в это время, особенно в Тебризе. Произведения, созданные в Ширазе, сложны по композиции, богаты по краскам, насыщены деталями, обладают утонченной декоративностью. Вместе с тем Ширазу был присущ и некоторый оттенок провинциальности.
Ширазские мастера оказались в плену традиционных приемов. Особенно сказалось это в композиции. От листа к листу, иногда несколько варьируя, повторяется один и тот же «ширазский» принцип построения, который основывался на определенном взаимоотношении текста и изображения.
Для того чтобы уяснить себе дальнейшую эволюцию искусства миниатюры в 17 в., следует еще раз вспомнить некоторые особенности его изобразительного метода.
Как уже указывалось, в период расцвета свойственные миниатюре тенденции к изображению реальной жизни и вместе с тем к повышенной декоративности не противодействуют друг другу. Они сложно и тесно связаны между собой не только в различных живописных школах, но и в творчестве отдельных мастеров. Их взаимодействие сохраняется до тех пор, пока поиски нового, более реального изображения не выходят из рамок условной выразительности, которая присуща всему образному строю миниатюры. Когда же художник вносит в старую образную систему такие новые элементы, как портретность персонажей, подчеркнутый бытовизм трактовки, пространственность, свойственную уже станковой живописи, отказывается от декоративности цвета, миниатюра — это яркое и неповторимое явление средневековой культуры — перестает существовать. Сам факт стремления мастеров к более широкому освещению действительности был прогрессивен, он отражал поступательное развитие искусства. Но полноценные художественные результаты могли быть достигнуты лишь на путях полного разрушения старой образной системы и подлинно творческого осмысления действительности. В противном случае искусство становилось все более эклектичным, безжизненным и приходило в упадок.
Исторически закономерные особенности этого процесса очевидны в иранской живописи 17 столетия. Когда Исфахан в конце 17 в. приобрел значение ведущего цептра художественной культуры, при дворе шаха Аббаса 1 возникла исфаханская школа живописи. С одной'стороны, в ней сохранялись традиционные формы миниатюры, которые, однако, не шли уже дальше повторения канонических сюжетов, образов и приемов. Вместе с тем сказывалось стремление мастеров к новым формам, поиски ими новых художественных средств. В развитии последней тенденции определенную роль играло возросшее воздействие европейского искусства, так-как в начале 17 столетия в Иран проникают произведения главным образом европейской гравюры. Влияние это носило по существу своему поверхностный характер и сводилось лишь к принятию некоторых изобразительных моментов, а также к распространению новых сюжетов, например, христианской мифологии. Все это в целом обусловило большую противоречивость обшей картины развития исфа-ханской школы живописи.
Одной из ее характерных особенностей является то, что органическая связь миниатюры с книгой нарушилась. Художники, вводя в книжную иллюстрацию новые, чуждые ей черты, постепенно отказались от тех принципов красочной декоративности н подчеркнутой плоскостности, которые обусловливали столь характерную для прошлого периода глубокую слитность всех элементов образного строя миниатюры н книги в целом. Стремление к станковым изображениям сказалось в том, что господствующую роль начала играть миниатюра на отдельных листах. И здесь художников привлекала не столько декоративность красочных пятен, сколько изысканность линейного контура, создание тонкого рисунка тушью — пером или кистью, иногда с легкой подцветкой.
На отдельных листах редко встречаются сюжетные композиции, чаще всего это своеобразные портреты, которые кажутся увеличенными в масштабе персонажами миниатюр. Появление подобных произведений объясняется несомненно возросшим интересом художников к человеку. Но изображение человека не выходит из рамок традиционности. Преобладают получившие развитие уже в тебризской школе 16 в. образы изнеженных и женоподобных юношей, изображенных то с книгой, то с цветком, то лежащими в томных позах под цветущим деревом. Мягкие, плавные линии рисунка прекрасно передают грациозность их движений и жестов; округлые миловидные лица лишены индивидуальности.
Выдающимся представителем исфахаиской школы на рубеже 16— 17 вв. был придворный шахский художник Реза Аббаси, творчество которого несомненно отмечено печатью большой одаренности. Как и большинство современных ему исфаханских мастеров, Реза Аббаси создавал миниатюры на отдельных листах и обращался к тем же традиционным образам. Однако — ив этом проявилась известная противоречивость творческих исканий мастера — он стремился воплотить в миниатюре новые, более демократические жанровые сюжеты. По-видимому, работа с натуры была для Реза Аббаси важным художественным принципом.
Так, сохранились его наброски и эскизы, в которых особенно очевидна наблюдательность мастера в передаче движений человеческого тела, точности жеста. Художник стремился к большой индивидуализации лиц. В этом отношении заслуживает внимания датированное 1614 г. небольшое сделанное тушью изображение старика (илл. 59, Москва, Музей восточных культур). Четкими, простыми и в то же время изысканными и легкими линиями переданы длинное благородных очертаний лицо, задумчивый взгляд, ткань большого тюрбана, ложащаяся мелкими мягкими складками. Поиски характерной выразительности человеческого лица не пошли, однако, у мастера дальше создания нескольких определенных мужских типов.
Один из них встречается на интересной миниатюре Реза Аббаси, изображающей пастуха (Ленинград, Гос. Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина). Мастер ставит своей целью передать определенное душевное состояние пастуха, зорко всматривающегося в даль и словно ожидающего нападения врага на пасущиеся стада. Очертания тяжеловатой фигуры, опирающейся на палку, создают во многом наивную, но выразительную устремленность вперед, усиливаемую, в свою очередь, напряженностью взгляда. Красноречива и фигура маленькой собаки, припавшей на передние лапы и готовой по приказу хозяина броситься на защиту. В то же время контрастно подчеркнуто спокойствие других животных, не замечающих опасности. В образе пастуха, в передаче повадок животных обнаруживается непосредственное наблюдение натуры. II вместе с тем в этом произведении проявляются противоречивость и исторически закономерная ограниченность творческого метода Реза Аббаси. Мастер вносит элементы нового в старую образную систему восточной миниатюры, что рождает ощущение компромисса и известной художественной неполноценности. Так, подчеркнутый жанровый характер сцены противоречит традиционной трактовке плоскостного пейзажа; условность композиции в целом — более правдоподобной фигуре пастуха, в которой при всей ее убедительности все же сплошь и рядом сказываются реминисценции прошлого. Реза Аббаси стремится к более естественному цветовому решению. Однако и здесь сказалось непреодоленное противоречие: утеряв самое могучее оружие миниатюры — ее яркую красочность, мастер сохранил присущий ей принцип декоративности. Невозможность сочетать проявления нового художественного видения, часто навеянного образцами европейского искусства, со старой системой живописи приводит Реза Аббаси к удивительной неровности творчества, в котором наряду с произведениями, обнаруживающими руку крупного мастера, появляются работы примитивные и беспомощные. Все Это — свидетельство того, что даже у такого талантливого художника, как Реза Аббаси, миниатюра изживает себя, а в условиях застойного феодального общества ей не приходит на смену искусство новых форм.
Иранские мастера 17 в. создали и стенные росписи, образцы которых сохранились в исфаханских дворцах Аликапу и Чехель-сотун. Орнаментальный декор, украшающий некоторые залы, в других сменяется фресками, изображающими нежно обнявшихся влюбленных, женщин, отдыхающих на лоне природы, сцены охоты и придворных развлечений. Подобные стенные росписи, фоном которых служат садовые пейзажи и где действуют томные изнеженные юноши, девушки с миндалевидными глазами и одинаковым выражением округлого лица, передают характер праздной и беззаботной жизни, протекавшей в роскошных загородных дворцах Исфахана.
Несомненно, эти произведения создавались теми же мастерами, которые работали и в области миниатюры; исследователи считают даже, что Реза Аббаси принимал здесь непосредственное участие. Из дворцов шаха и знати происходят своеобразные картины, составленные из специально расписанных глазурованных изразцов. В стиле придворной миниатюры изображены сцены отдыха знатных юношей и женщин в саду. Условные по трактовке, эти композиции, по цвету гармонирующие с несколько пестрой гаммой сефевидского архитектурного орнамента, носят чисто декоративный характер.
В исполнении фресок и изразцов для исфаханских дворцов иранские мастера 17 столетия далеки от понимания своеобразия и задач монументальной стенной живописи. Их произведения в значительной степени отмечены печатью эклектизма.
Из всех видов художественного творчества Ирана прикладное искусство в 16—17 вв. переживает наибольший и притом высокий подъем. В царских мастерских концентрируются лучшие художественные силы страны. Безвестные народные мастера создали произведения исключительного художественного совершенства. В них находит свое яркое воплощение великолепие иранской придворной культуры этого времени с ее тягой к особой роскоши, торжественной праздничности и утонченной красочности. Самому духу этой культуры, как бы призванной окружить ореолом сказочной пышности трон Сефевидов, отвечает развитие тех видов прикладного искусства, которые более зрелищны, масштабны, связаны с украшением богатых жилищ, а также способны поразить воображение нарядностью и тонким вкусом парадных одежд. В Иране 16—17 вв. производство тканей и ковров переживает небывалый расцвет.
Узорным шелком славились мастерские Исфахана, Кашана, Иезда. Парча выделывалась в Исфахане, Иезде; бархат — в Кашане. Для многих иранских тканей характерно применение в утке нитей пряденого золота и серебра. Ткани шли на занавеси, покрывала, одежды, пояса, подушки, конские чепраки. Согласно прагшлам придворного этикета, драгоценными кусками парчи, атласа, бархата одаривались приближенные, отмеченные особой царской милостью.
Иранские ткани 16—17 вв. пользовались мировой известностью(Большое количество иранских тканей ввозилось в Россию, где они бытовали под названием «кызыдбашских»; из них шили богатые одежды и церковные облачения.). Исследователи обычно выделяют в них по характеру украшений несколько групп.
К самой многочисленной группе принадлежат ткани с растительным орнаментом (илл. 60). Их декоративные мотивы чрезвычайно богаты. Ткани обычно украшены цветами. Это нежные гиацинты, нарциссы, тюльпаны, ирисы, анемоны, гвоздики, склоняющие на тонких гибких стеблях свои грациозные головки. Цветы располагаются иногда отдельно, иногда во всевозможных комбинациях и переплетениях, образуя сложный единый, слитный узор. Изображение цветов близко к природе, но в то же время обладает необходимой долен условности как рисунка — всегда плоскостного, так и колорита, который не столько подражает реальной окраске растения, сколько подчинен общей красочной гармонии ткани. Благодаря этому изображения одновременно кажутся и правдоподобными и совершенно сказочными, фантастически прекрасными.
Образный строй иранских тканей 16-—17 вв. обусловлен необычайной тонкостью, мягкостью как бы полных живого упругого движения форм растительного орнамента и особенно — как и в миниатюре — характером их колорита. Ощущение свежести и нарядности достигнуто благодаря тому, что узор чаще всего изображен на светлом фоне: белом, бледно-желтом, нежно-зеленом, палевом, иногда затканном золотыми и серебряными нитями. Красочные сочетания тканей отличаются смелостью, изысканным вкусом.
Созданные в этот период ткани, украшенные надписями, претерпели заметные изменения. В них преобладают зигзагообразные или волнистые плавные линии. Чаще всего надписи исполнены круглящимся, гибким почерком насх. Иными стали и тексты, которые содержат разнообразные пожелания, иногда лирические стихи великих поэтов Ирана.
Одной из самых своеобразных групп являются иранские ткани, украшенные фигурными изображениями. ~>TO целые композиции, иллюстрирующие знаменитые на Востоке литературные произведения, изображающие сцены придворной жизни, охоты, людей, зверей и птиц в природе, а иногда просто отдельные человеческие фигуры. Подобные ткани обладают особой изощренностью художественного образа. Они необычайно красочны и нарядны. Вполне понятно то чувство восхищения, которое они вызывали у посещавших Иран европейцев, и тот широкий спрос на них в различных странах, где из этих тканей шились самые дорогие, самые роскошные царские одежды.
Зрителя, рассматривающего иранские ткани вблизи, поражают тонкость исполнения и совершенство цветового и композиционного решения каждого мотива, создающего законченный художественный образ- Характер этого образа близок к современной миниатюре; несомненно, в создании рисунков тканей участвовали крупнейшие художники. На тканях возникают изображения Мадж-нуна, сидящего в пустыне в окружении зверей, стройного юноши в саду, где среди скал обитают львы и барсы, в озере плавают рыбки, а вокруг кипарисов и цветущего миндаля летают сказочные нтицы, всадника, влекущего на аркане пленника монгольского типа. Вместе с тем каждый мотив, что вполне естественно для техники ткани, повторяется на ее поверхности множество раз-Расположение рапортов — обычно в шахматном порядке, реже по вертикальным линиям. При рассмотрении ткани с более далекого расстояния все изображения сливаются в единый красочный узор.

Шелковая ткань с изображением Искандера, поражающего дракона. Фрагмент. 16 в. Москва, Государственная Оружейная палата.
При этом часто характер узора, весь цветовой строй ткани как бы созвучен Эмоциональному содержанию, положенному в основу сюжетного мотива. Ощущением динамики, торжественной мажорности проникнут узор великолепной парчовой ткани 16 в. с мотивом происходящего среди скал единоборства Искандера с драконом. Искандер, который стоит на широко расставленных ногах и подпил над головое камень, готов поразить охряно-золо-того, пестрого дракона с когтистыми лапами и разинутой пастью. Фигуре Искандера вторят линии склоненного дерева, сидящей на нем беспокойно изогнутой фантастической птицы и очертания огромного тела дракона; характерно, таким образом, что весь узор ткани производит впечатление диагонального движения. Изображение отличается удивительным чувством ритма, здесь каждая линия, плавная и гибкая, находит созвучие. Светло-голубой фон ткани — это тон чистого, арного бирюзового неба, но которому словно раскиданы ветром хрупкие ветки платана с желтыми листьями. Красочное решение ткани основано на сочетании этого голубого фона и богатых оттенками золотистых и коричневых тонов узора. В основную гамму кое-где введены пятна темно-зеленого и малинового.
Иран — один из самых крупных и древних центров ковроделия. Иранские ковры известны с 1.6 в. С этого времени образ «персидского ковра» стал наиболее своеобразным и ярким выражением самой декоративной специфики средневекового искусства Ирана.
Для производства ковров, представлявших собой настоящее чудо художественного и технического мастерства, требовался тщательный и искусный труд большой группы людей в течение долгих месяцев. К созданию эскизов привлекались прославленные художники-миниатюристы. Шерсть, шелк, золото и серебряные нити, растительные красители применялись лучшего качества. Естественно, что такое ковровое производство могло быть осуществлено только в придворных царских мастерских, произведения которых и отличаются наибольшим совершенством.
Образный строй ковров, включавших сложные композиции, пейзажи, фигуры людей и животных, своеобразная передача явлений действительности в формах плоскостных и декоративно-условных — все это свидетельствует о глубокой общности художественного видения иранских мастеров, работавших как в области миниатюры, так и прикладного искусства. В то же время ковры обладают той масштабностью, значительностью и зрелищностью образа, которые выдвигали на первый план особые декоративные задачи.
Средневековые ковры Ирана славятся удивительной красотой цвета. И действительно, невозможно передать словами их красочное великолепие. Специфика коврового производства разрешала более богатое, чем в других областях прикладного искусства, применение разнообразных цветовых тонов, число которых доходило до двенадцати. Мастерам, создававшим ковры, удалось избежать пестроты, добиться удивительной гармонии цветов, сильных, ярких, насыщенных и в то же время мягких, ласкающих глаз изысканностью сочетаний. Это необычайно эффектное красочное впечатление возникает также благодаря ворсу, который не только придает плотность и массивность фактуре, но и сообщает поверхности особый бархатистый, нежный отлив. В основу колористического решения ковров положен принцип тонального единства, выделения главной, ведущей цветовой гаммы, подчиняющей себе все живописное многообразие путем тончайших ритмических повторов и взаимопроникающих оттенков. Образ каждого ковра индивидуален, обладает своим совершенно особым тональным звучанием, то солнечно-золотым, то серебристо-зеленым, то сине-малиновым, то желто-красным. В некоторых коврах задача осложняется господством не одного, а двух ведущих тонов. Распределение цветовых пятен в узоре ковра отличается тонким равновесием, точной взаимосвязью самых мельчайших деталей. Этим достигается глубокое живописное единство, причем красочное богатство выступает в нерасторжимой слитности с покрывающей ковер необычайно сложной и артистически изощренной системой линейного узора. Рисунок иранского ковра является выражением внутренней организации его форм, его своеобразной «архитектурой». Ковры покрыты тончайшим и сложнейшим растительным орнаментом с гибкими, мягкими переплетающимися формами. Изысканные арабески то обегают изображения цветов, человеческих фигур и животных, как бы вторя их очертаниям, то сплетаются с ними, то отступают к краям ковра, образуя там великолепное орнаментальное обрамление. Вместе с тем сами цветы и фигурные изображения, возникающие как красочный узор на плоскости, создают сложную, изысканную по ритму игру линий. В противоположность тканям, построенным на количественном накоплении одного и того же мотива, здесь господствует удивительно богатое и прихотливое взаимодействие отличных друг от друга элементов линейного и цветового декора. Однако подобное поражающее воображение многообразие приведено в строгую систему.
Композиция ковров представляет собой обычно широкое прямоугольное центральное поле, обрамленное полосой орнаментированного бордюра, образующего как бы четкую архитектоническую рамку. Распределение узора имеет то характер густой заполняющей всю поверхность поля сетки, то построено по принципу медальонного решения. В последнем случае центр ковра занимает крупный медальон, четвертая часть которого повторена в каждом углу среднего поля. В целом для ковров характерно симметричное построение композиции. Этот принцип симметрии прослеживается четко в основных частях, крупных членениях ковра, в то время как более мелкие элементы его узора, столь богатые и насыщенные, кажутся полными свободного и непроизвольного движения. Однако и здесь при внимательном рассмотрении видна строгая, хотя и очень сложная система соподчинения и ритмической связи форм.
Иранские ковры 16—18 вв. при несомненной стилистической общности и традиционности приемов декора исключительно разнообразны. Классификация их строится по месту изготовления, как по большим географическим районам, так и по отдельным городам — Керману, Кашану, Ширазу, Иезду, Исфахану и т. д., по назначению — светские и молитвенные, наконец, по характеру изображений. Здесь обычно выделяют ковры «охотничьи», «звериные», «садовые», «вазовые». Уже одни эти названия показывают, что главным мотивом украшений иранских ковров эпохи средневековья является жизнь природы, воплощенная так или иначе в образе прекрасного сада. Его непосредствечное изображение создается в «садовых» коврах, в других же — фигуры людей и животных помещены обычно среди элементов пейзажа, иногда в окружении растительного орнамента, который, по существу, служит своеобразной поэтической формулой того же образа. Этот создаваемый в коврах образ природы условен. Характерна, например, своеобразная горизонтальная проекция, в которой средневековые мастера изображают на плоскости ковра землю, деревья, водоемы, фигуры людей и животных. Применяемые краски играют не только декоративную роль, а заключают в себе определенное смысловое значение; так, часто земля обозначается красным цветом, реки — голубым или серебром. Цветы и звери иногда символизируют какие-либо понятия: кипарис — вечную жизнь, цветущее плодовое дерево — любовь и т. д. Вместе с тем здесь, так же как и в миниатюре, в границах этой изобразительной условности раскрыто большое жизненное содержание. Для средневековых мастеров прекрасный сад — это символ цветения, весны, как бы выявление всех животворных внутренних сил природы, состояние ее высшей красоты. Часто сады в узоре ковра населены живыми существами: на деревьях граната качаются обезьяны, в водоемах плавают утки и рыбы, порхают птицы, подстерегают добычу львы и гепарды, пасутся изящные газели. Сад служит и местом придворной охоты. Таким образом, между коврами «садовыми» и коврами «охотничьими», «звериными» нет резкой границы. Последние, однако, более динамичны, в них преобладает изображение борьбы, ожесточенных схваток, погони.
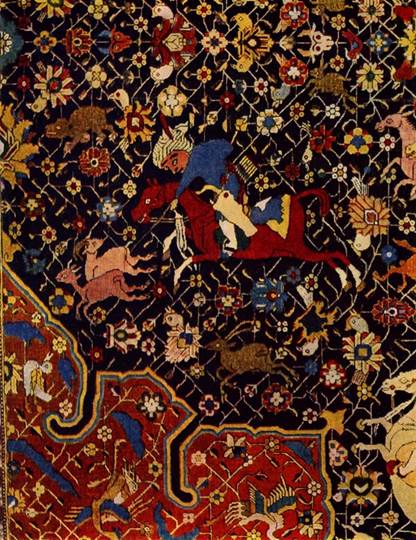
Ковер с изображением охоты. Фрагмент. 1522 г. Милан, Музей Польди Пеццоли.
В великолепном большом «охотничьем» ковре, датированном первой половиной 16 в. (6,92x3,60 м) (илл. 61), глубокого синего тона центральное ноле с шестнадцатилепестковым красным медальоном в середине окружено широким орнаментированным красно-синим бордюром. Поле ковра покрыто тончайшей сеткой растительного орнамента, заполненного изображениями всадников на красных и серых конях и разнообразных, густо населяющих это узорчатое плетение форм, зверей. Их розовые, серые, желтые, коричневые фигуры мелькают то там, то тут, преследуемые охотниками, которые поражают их стрелами из лука или пронзают копьями на скаку. Все полно движения: всадники, вступающие в единоборство со львами, косули, вихрем проносящиеся сквозь цветущие заросли, словно прислушивающиеся к шуму охоты дикие кони, соколы, нападающие на ланей, разбегающиеся в разные стороны зайцы. И вместе с тем все проникнуто здесь единым линейным и цветовым ритмом, все тонко согласовано между собой, сливаясь в удивительно праздничный, красочный узор.
Фигурные изображения характерны в основном для ковров 16 столетия. Позднее в них начинает преобладать растительная орнаментация более стилизованных форм. В 17 в. широкое распространение получают так называемые «вазовые» ковры. Название это довольно условно, поскольку мотив ваз, из которых расходятся ветви с цветами и листьями, встречается далеко не на всех коврах подобного типа. Чаще"— это крупный цветочный узор, заполняющий все поле ковра. Производством «вазовых» ковров славился маленький расположенный в 100 км северо-западнее Исфахана городок Джушкан.
Эстетическое воздействие иранского ковра не исчерпывается только великолепием декоративных качеств. Образ ковра, в котором, словно в симфоническом звучании, сливаются в гармоническом единстве все элементы цветовой и линейной композиции, рождает поэтическое представление о сказочно прекрасном многообразии реального мира.
В 16 —17 вв. керамическое производство в Иране вновь переживает подъем. В этот период изделия различных керамических центров страны отличаются яркими местными особенностями. II в то же время им присуши общие новые черты в развитии керамики. Формы посуды существенно меняются, преобладают глубокие в форме полушария чаши и высокие с узким тонким горлом бутыли. Старые традиции росписи эмалями, .построй и кобальтом возрождаются на совершенно новой основе. Так, люстровый рисунок наносится на поверхность сосудов не резервом, а мазком, что обусловливает более свободный, живописный характер росписей, обычно изображающих садовые мотивы и разнообразные цветы. Красочный эффект люстровых изделий достигается уже не в пределах монохромной гаммы, а основывается на более разнообразных тонах, из которых особенно распространенным становится фиолетово-синий люстр с красноватым металлическим отливом. Иногда в люстровых росписях сочетаются золотисто-желтые и синие, желтые и фиолетово-красные тона. Люстровая керамика этого времени, более виртуозная по рисунку и более яркая в цвете, все же значительно уступает в художественном отношении произведениям 12—13 вв.
Большое значение приобретает роспись кобальтом, в которой преобладают китайские мотивы. Иранские мастера довольно искусно подражали китайской керамике, и их произведения ввозились в Европу под видом китайских. Производством этого типа керамики славились мастерские городов Кермана, Катана и Йезда.
К началу 16 в. изменился также облик металлических изделий. Формы стали более вытянутыми, декор измельченным и дробным, инкрустация сменилась чернью. Постепенно медь вытеснила бронзу, и с 16 в. столовая медная посуда стала покрываться полудой. Широкое распространение в это время получили изделия с лаковой росписью на папье-маше, резьба по дереву, произведения ювелирного искусства.
В 18—19 в. общий экономический упадок страны пагубно сказался и на. состоянии художественных ремесел Ирана.

Искусство Средней Азии.
Б.Веймарн, М.Дьяконов, Т.Каптерева
Исследоиания советских ученых за последние десятилетия открыли много новых памятников, свидетельствующих о высоком уровне искусства Средней Азии в эпоху феодализма и о ее крупной роли как одного из важнейших центров средневековой художественной культуры Востока. Феодальный период в Средней Азии охватывает около полутора тысяч лет, примерно с 6 в. н. э. влоть до присоединения к России во второй половине 19 столетия. Этап раннего феодализма, который характеризуется становлением и победой средневекового уклада общественной жизни, длился до 10 в. В истории дальнейшего тысячелетнего господства феодальных отношений в Средней Азии выделяется период развитого феодализма, охватывающий время до 16—17 столетий. Конец феодальной эпохи характеризуется упадком производительных сил и экономики страны, бесконечными междоусобицами ханств, господством реакции.
Феодальная эпоха — время формирования тех народностей, которые и сейчас, уже в качестве социалистических наций, населяют Среднюю Азию.
Кризис рабовладельческого строя сопровождался политическим ослаблением Средней Азии, которая в 5 в. была захвачена кочевыми племенами эфталитов, а позднее вошла в состав Тюркского каганата. Под властью тюрок продолжали существовать мелкие княжества, возглавляемые представителями местных династий. По своему экономическому и культурному значению в 6—7 вв. ведущее место в Средней Азии занял Согд, в политическом отношении представлявший своеобразный союз небольших царств, во главе которых стояла землевладельческая аристократия. Находившийся на пересечении важных караванных путей, Согд был втянут в возросшую международную торговлю с Ираном, Византией, Индией и странами Дальнего Востока. О развитии культуры раннефеодального Согда свидетельствует широкое распространение письменности на согдийском языке. В религиозном отношении Средняя Азия 6 — 7 вв. не была едина: продолжали существовать буддизм, манихейство и христианство несторианского толка.
Широко распространенной религией был, по-видимому, зороастризм, имевший, однако, по сравнению с зороастризмом сасанидского Ирана ряд существенных особенностей.
Переход от рабовладельческих отношений к феодальным в Средней Азии был связан с упадком многих старых городов. Для этого периода характерно строительство укрепленных замков землевладельческой аристократии, так называемых кёш-ков, не только в городах, но и в сельских местностях. Остатки кёшков 6 — 7 вв. сохранились в различных областях Узбекистана, Туркмении и Таджикистана.
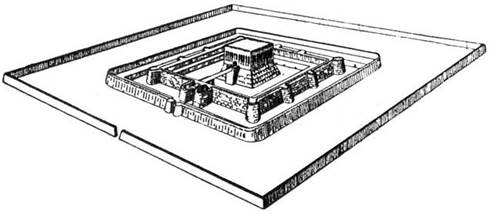
Якке-парсан в Хорезме. Реконструкция.
Образцом раннефеодальной сельской усадьбы может служить Якке-парсан в Хорезме. В центре усадьбы па массивном глиняном стилобате нозвышается укрепленное жилое здание, стены которого оформлены полуколоннами. Вокруг здания возведены стены, образующие три концентрически расположенных квадрата; ближайшая к зданию стена усилена башнями.
С развитием феодальных отношений изменяются старые и возникают города нопого типа. В отличие от городов рабовладельческой эпохи, обычно прямоугольных в плане, с правильным расположением кварталов, раннефеодальный город внутри огороженного оборонительной стеной пространства был застроен беспорядочно разбросанными массивными двух- и трехэтажными зданиями — домами отдельных богатых семей.
Для раннего феодализма характерно строительство из сырцового кирпича, причем во многих районах употреблялся большой прямоугольный кирпич длиной до 0,5 м. Наряду с кирпичом в монументальном строительстве широко использовалась битая глина, так называемая пахса, нарезавшаяся на крупные блоки.
Большой интерес представляют обнаруженные в развалинах согдийского города Пянджикента храмы, принадлежавшие, вероятно, местному культу, связанному со свойственными земледельцам представлениями об умирающей и воскресающей природе. Храм состоял из квадратного зала, открытого с восточной стороны. Плоское балочное перекрытие покоилось на четырех деревянных колоннах, которые опирались на каменные профилированные базы. К залу примыкало помещение, являвшееся, по-видимому, «святая святых» храма. Перед залом возвышался портик па шести деревянных колоннах, выходивший на открытый прямоугольный двор.
В результате систематических раскопок, начатых с 1947 г. экспедицией под руководством А. Ю. Якубовского, в древнем Пяиджикенте были открыты монументальные росписи в храмах и парадных залах домов согдийской знати. Эти памятники древней и самобытной культуры Согда представляют совершенно исключительный интерес. Сохранились лишь фрагменты росписей, но и они пора/кают своим разнообразием. В Пянджикенте расписывались залы и портики храмов, а также различные помещения в жилых домах знати.
В росписях Пянджикента исследователи различают несколько этапов. К более раннему, около середины 7 в., относят большую композицию, которая связана с культом эпического героя Сиявуша, олицетворяющего собой образ умирающих и воскресающих сил природы. Роспись изображает сцену погребения и оплакивания божественного отрока. Живопись выполнена красками на растительном клее прямо по глиняной штукатурке. Теплый колорит построен на сочетании красных тонов спектра. Рисунок достаточно крепкий и уверенный, но линия угловата, лишена плавности и изысканности. Роспись в целом носит плоскостной характер. Однако отсутствие абстрактного фона и сам принцип расположения связанных общим движением фигур на всей поверхности стены, а также чередование насыщенно красных и светло-желтых цветовых пятен создают ощущение своеобразной пространственности.
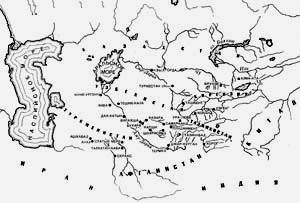
Карта. Средняя Азия.
К позднему этапу — концу 7 и началу 8 в. — относится большая часть живописи, обнаруженной в Пянджикенте. Росписи этого периода найдены и в храмах, но главным образом они украшали залы домов знати. Живопись размещена в несколько ярусов; сложные многофигурные композиции лентами переходят со стены ча стену, составляя последовательные повествования. Пянджикентские росписи отличаются богатством сюжетного содержания. Наряду с религиозными церемониями изображены сцены из эпоса, торжественные пиршества согдийских феодалов, одетых в узорчатые стянутые в талии кафтаны, сражения воинов в боевых доспехах, игра в кости, прекрасная арфистка (илл. между стр. 136 и 137), выезд на конях знатных всадников. Фрагментарность сохранившихся росписей затрудняет их исчерпывающее истолкование. В них тесно переплетаются светские и культово-мифологические сюжеты. В росписи одного из залов исследователи видят изображение легендарных подвигов Рустема, сказание о котором впоследствии вошло в «Шах-наме» Фирдоуси.
Живопись этого времени наиболее совершенна. Росписи сделаны на белом алебастровом грунте, отчего цвета стали богаче, ярче и чище. Усложнились технические приемы письма, появились новые краски, в частности драгоценная ляпис-лазурь. Весь цветовой строй росписей приобрел более сложный характер. Художники стали применять смешение красок, разбеливая их, стремясь создать изысканные и смелые сочетания тонов. По наблюдениям исследователей, в некоторых залах заметно стремление к единству цветовой композиции, которой были подчинены красочные пятна отдельных изображений. Все это свидетельствует о высоком и развитом живописном восприятии пянджикентских мастеров.
В росписях 7—8 вв. фигуры изображены на одноцветном фоне. Художники не стремились создать ощущение пространственности. Здесь противопоставление абстрактного фона красочному богатству нарядных узорчатых тканей, золотой утвари, ковров и украшений создает большой декоративный эффект. Так, стройное светлое полуобнаженное тело арфистки четко выделяется на холодном черном фоне. Этот основной контраст обогащен пятнами зеленоватых и желтовато-серых тонов ее одежды и оранжево-розовых лент. В других росписях силуэты фигур написаны на красном или Оранжево-желтом фоне и обведены красным или черным контуром. Большое значение приобретает линейный рисунок. Точная линия, выявляя очертания человеческого тела и изображенных предметов, подчеркивает их пластическую форму.
Живопись 7—8 вв. отражает эстетические нормы феодального общества с его строгой регламентацией и в значительной степени подчинена канону. Художники следуют общему установившемуся идеалу человеческой красоты: высокая фигура стройных пропорций, длинные ноги, тонкая талия. Продолговатое овальное лицо с маленьким ртом и длинными слегка раскосыми глазами бесстрастно. Но при всей условности эта живопись представляет собой высокий и зрелый Этап. Ее каноничность, еще лишенная безжизненности и схематизма, — результат длительного отбора самых существенных и, в конечном счете, жизненно наблюденных черт пластически целостного художественного образа.
Несмотря на стилистическую близость, поздние росписи Пянджикента отличаются разнообразием манер и приемов, что свидетельствует о наличии в согдийском искусстве, которое достигло своего расцвета, различных художественных направлении.
 Менее широко, чем живопись, была развита в Пянджи-кенте скульптура. Однако в одном из храмов найдены фрагменты выполненной в высоком рельефе глиняной панели. На фоне речных (или морских) волн, переданных спиральными и горизонтальными полосами, расположены человеческие (или человекоподобные) фигуры, фантастические водяные существа и рыбы. Большинство фигур было, вероятно, раскрашено. Глубина рельефа не всюду одинакова; разнообразна также пластическая обработка формы. Все это сообщает фризу живописную игру светотени. Содержанием композиции было, видимо, образное отражение культа реки Зеравшана как божественного источника воды. По сюжету и характеру трактовки пянджи-кснтская панель имеет черты общности со скульптурными произведениями Индии и Афганистана 4 — 5 вв. н. э.
Менее широко, чем живопись, была развита в Пянджи-кенте скульптура. Однако в одном из храмов найдены фрагменты выполненной в высоком рельефе глиняной панели. На фоне речных (или морских) волн, переданных спиральными и горизонтальными полосами, расположены человеческие (или человекоподобные) фигуры, фантастические водяные существа и рыбы. Большинство фигур было, вероятно, раскрашено. Глубина рельефа не всюду одинакова; разнообразна также пластическая обработка формы. Все это сообщает фризу живописную игру светотени. Содержанием композиции было, видимо, образное отражение культа реки Зеравшана как божественного источника воды. По сюжету и характеру трактовки пянджи-кснтская панель имеет черты общности со скульптурными произведениями Индии и Афганистана 4 — 5 вв. н. э.
Фрагмент деревянной скульптуры из Пянджикента.
К 7 — 8 вв. относятся найденные при раскопках памятники резного дерева: архитектурный орнамент, фигурная рельефная резьба и почти круглая скульптура. Все эти предметы сохранились случайно, так как обуглились во время пожаров. Особый интерес представляют три крупных фрагмента однотипных женских фигур, достигающих приблизительно трех четвертей натуральной величины. Об этих статуях, которые изображают танцовщиц, лучше всего можно судить по одной из них, сравнительно менее поврежденной. Обнаженная по пояс фигура стройна и гибка; ее пропорции вытянуты. Угадывается характерная и изящная поза танцовщицы, которая стоит, скрестив ноги и опираясь рукой на изогнутое бедро. Пластическая обработка тела, ткани и украшений отличается мягкостью и тонкостью. Изысканный образ этой статуи близок к живописным росписям, и в первую очередь к «Арфистке».
К памятникам Пянджикента близки замечательные произведения монументальной живописи и скульптуры, открытые раскопками еще *в 1938 г. в Варахше во дворце владетеля бухарского оазиса.
Живопись Варахши, по всей вероятности, относится к концу 7—началу 8 в. В одном из задов дворца стены были заняты композицией, изображающей сцену охоты (илл. 76 а). В центре каждой группы — белый слон, на котором восседает царственный воин; на голове слона иногда помещена маленькая фигурка погонщика. Люди отбиваются от двух хищников, бросающихся на слона — один спереди, другой сзади. Нападающие животные — то льны, то гепарды, то фантастические крылатые грифоны. Выше этого фриза вокруг всего зала шел другой, который состоял из шествующих влево животных значительно меньшего масштаба. К сожалению, верхний фриз почти полностью утрачен. Ниже основного фриза расположена орнаментальная полоса.
Росписи Варахиш, сохранившие до наших дней свежесть своих красок, производят исключительно сильное впечатление. Нарядно, торжественно звучит сопоставление интенсивно красного фона и различных оттенков в телах зверей, от светло-золотистого до оранжевого, розовых фигур охотников и белых слонов. Живопись имеет плоскостной характер, но тонкий линейный рисунок, прочерчивающий контуры — черно-коричневые у зверей и ярко-красные в человеческих фигурах,— выявляет формы. Хотя очертания каждой фигуры неразрывно связаны с общей геральдической композицией и подчинены ее орнаментальному ритму, художник проявляет огромный интерес к передаче сильного и живого движения. Небольшие во многом наивно трактованные слоны в богатых попонах ступают тяжело и степенно; особенно выразительны хищники, то жадно терзающие беззащитного слона, то вступающие в яростный поединок с царственным охотником. Их полные напряжения могучие и гибкие тела показаны в легком стремительном и упругом прыжке. Позы людей, величавые и изысканные, обнаруживают знание мастером пластики человеческого тела. Даже грифоны, самые абстрактные и условно-орнаментальные персонажи росписи, изображены в сложных ракурсах, у них сильные движения реальных зверей. Несомненно, в целом движение фигур в росписях Варахши подчинено определенным канонам. Но художник всячески стремится обогатить и разнообразить его, главным образом путем ритма, который передает движение — то мягкое и вкрадчивое, то исполненное порыва и стремительности.
Другой парадный зал в Варахше украшали стуковые панно, на которых высоким рельефом были изображены сложные и разнообразные орнаменты, а также сцены охоты. Фигуры людей и животных в этих сценах даны в бурном движении и выполнены с большим мастерством. Однако многие панно очень плохо сохранились.
Недавно были открыты интересные стенные росписи вБалалык-тепе, близ города Термеза. Эти росписи, на которых изображены сцены, по-видимому, ритуальной трапезы, созданы в 5 — 6 вв. Стенные росписи представляют особый вариант среднеазиатской монументальной живописи,стилистически наиболее близкий одновременным памятникам Афганистана.
Значительное развитие в раннефеодальное время получило прикладное искусство. Изображение вооруженного всадника, выполненное красками на поверхности щита из кожи, найдено при раскопках согдийского замка на горе Муг; стилистически оно близко росписям Пянджикента. К произведениям хорезмской и согдийской торевтики относятся некоторые из так называемых сасанидских серебряных блюд: Аниковское блюдо (Ленинград, Государственный Эрмитаж) с изображением замка и другие. Своеобразными произведениями мелкой пластики являются асто-даны (оссуарии), предназначавшиеся для погребального культа. Эти глиняные гробики, в которые клали кости умершего, чаще всего воспроизводят форму дома с арками на колоннах и поясками карнизов. В арках иногда размещены фигуры — вероятно, местные божества. Многочисленны терракотовые головки, передающие различные этнические типы, а также фигурки воинов и музыкантов. Изображения людей, животных и узоры, выполненные рельефом, встречаются также на глиняной посуде. До нас дошли подлинные шелковые и хлопчатобумажные согдийские ткани 8 в., свидетельствующие о мастерстве согдийских ткачей. В росписях Пянджикента есть изображения согдийских ковров.
Таким образом, археологические памятники и письменные источники дают яркую картину высокого для своего времени развития изобразительного искусства Средней Азии 6 — 8 вв. н. э.
В 7 в. народы Средней Азии упорным сопротивлением встретили арабское вторжение. Однако в начале 8 столетия войскам Арабского халифата удалось захватить большую часть страны. Арабское нашествие принесло среднеазиатским народам огромные бедствия и затормозило поступательный ход их общественного развития. Как и в других странах Среднего Востока, только после падения владычества арабов вновь наступил подъем хозяйственной жизни и культуры. Средняя Азия, где еще в 8 в. возникли очаги мощных освободительных движений, в 9 столетии стала центром фактически совершенно самостоятельного государства во главе с местной династией Саманидов (819—999). Это было большое относительно централизованное государство, в состав которого в 10 в. входили даже некоторые области восточного Ирана.
Арабское вторжение и распространение ислама сильно поколебало древние культурные традиции среднеазиатских народов. В огне пожаров погибли бесценные согдийские росписи Пянджикента и других городов. Однако в целом культура саманидского периода восприняла и развивала дальше те принципы и традиции, которые стали складываться в раннефеодальной культуре Средней Азии до арабского нашествия. Время существования Саманидского государства совпало с переходом общественной жизни народов Средней Азии к этапу развитого феодализма.
Рост производительных сил и экономики создал почву для высокого подъема культуры. В 9 —10 столетиях Средняя Азия дала миру целую плеяду крупных ученых, среди них — ал-Хорезми, математик, по трудам которого получила наименование наука — алгебра, ал-Фа-раби, философ, последователь Аристотеля, и один из величайших мыслителей средневековья Ибн Сина, известный в Европе под именем Авиценны. В конце 10 в. начал свой творческий путь еще один крупный ученый-энциклопедист ал-Бируни. Труды выдающихся среднеазиатских мыслителей, глубоко проникнутые рационализмом, несли в себе элементы материалистического мировоззрения и, по существу, противостояли официальному мусульманскому богословию. Большинство работ среднеазиатских ученых 9—10 вв. вошло в сокровищницу мировой культуры.
При Саманидах официальное признание получил и местный таджикский язык дари, на котором писали свои стихи замечательные поэты того времени Рудаки и Да-кики, а затем и крупнейший классик таджикской и иранской литературы Фирдоуси.
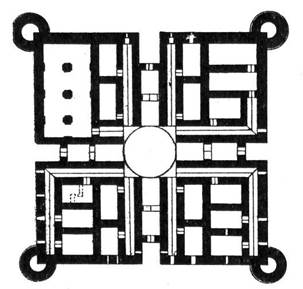
Кырк-кыз в древнем Термезе. План.
От этого периода сохранилось мало памятников архитектуры, но они ярко свидетельствуют о высоком уровне среднеазиатского зодчества 9—10 столетий. Совершенствуется строительная техника, основанная на использовании сырцового кирпича, а в 10 столетии обогащенная применением кирпича обожженного. Наряду с различными приемами кладки сводов получают развитие купольные перекрытия и связанные с ними конструкции арочных тромпов, служащих для перехода от стен квадратного помещения к сфере купола. О развитии строительной техники этого времени свидетельствует архитектура загородного дворца или большого караван-сарая Кырк-кыз в древнем Термезе, построенного в 9, а может быть, еще в 8 в. Большое число расположенных в два этажа помещений по принципу центрической композиции очень умело размещено вокруг купольного зала, в который выходят четыре айвана. В интерьере Кырк-кыза до сих пор сохранились сложенные из сырцового кирпича своды различных конструкций. По некоторым строительным приемам и крепостному облику Кырк-кыз напоминает кёшки (замки) 6—7 вв., но широта и цельность композиционного замысла, а также художественная выразительность простых и четких форм говорят о более высоком этапе развития архитектуры.
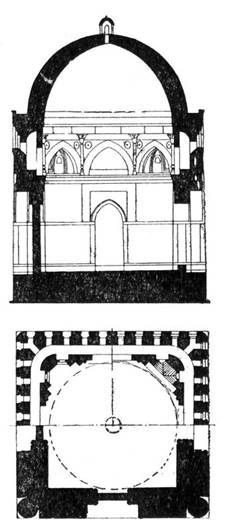
Мавзолей Саманидов в Бухаре. План и разрез.
Исследователи предполаганот, что уже в самые первые века ислама среднеазиатские зодчие создали свой особый тип культовых построек — купольную мечеть. О развитии местных архитектурных традиций свидетельствует и самый замечательный памятник зодчества 9—10 вв.—мавзолей Саманидов (илл. 77), сохранившийся в Бухаре, бывшей тогда столичным городом.
Здание мавзолея поражает простотой и ясностью структуры, изумительной пропорциональностью и тонкой гармонией архитектурных форм и декора. Квадратное помещение (7,20 x 7,20 м.) с каждой из четырех сторон имеет вход, отмеченный на фасаде стрельчатой аркой. Снаружи углы мавзолея закрыты трехчетвертными колоннами, которые поддерживают арочную галлерею, увенчивающую фасад, а над всей кубовидной массой здания возвышается полусфера купола. Фасады украшены узором, выполненным кладкой из обожженного кирпича, положенного плашмя, на ребро или углом, а также из специально изготовленных фигурных кирпичиков, образующих кружки и другие геометрические фигуры. Узор, четко выявленный светотенью, разнообразен по мотивам (особенно в тимпанах входных арок и в ярусе галле-реи), но в основном состоит из двух простых геометрических фигур — квадрата и круга, как бы повторяющих в разных масштабах основные очертания постройки. Ритм Этих форм, пронизывая архитектуру мавзолея, вносит особую ноту в эмоциональную и эстетическую выразительность образа. Вместе с тем пропорциональность частей постройки, а также отдельных элементов декора основана на точном математическом расчете. Ясностью архитектурного решения отличается и интерьер мавзолея. Купол внутри опирается на арочные тромпы особой конструкции: от вершины арки к углу здания переброшена полуарка; пространство между арками использовано для небольших окон, выходящих в верхнюю галлерею. Стены внутри имеют узорную кладку того же характера, что и на фасаде. Наиболее разнообразно декорирован ярус тромпов: между арками помещены колонки, форма которых воспроизводит, вероятно, деревянные прототипы; полуарки украшены поясками алебастрового рельефа. Сфера купола не имеет орнаментальных деталей. Архитектурные формы и декор мавзолея в целом воспринимаются как единый пластический образ.
О значительном уровне художественной культуры Средней Азии 9—10 вв. свидетельствуют также памятники декоративного и прикладного искусства. Среди них особенно выделяются резьба по дереву и керамика. В горных районах Таджикистана сохранились деревянные колонны 9—10 вв., покрытые пластичным, сочным резным узором. Среди стилизованных растительных форм встречаются вплетенные в орнамент зооморфные мотивы, например головки птиц на длинных шейках, виомпонованные в пальметки, украшающие капитель колонны из Оббур-дона. Изображения живых существ, несмотря на распространение ислама, еще долго бытовали в искусстве Средней Азии. Ибн Хаукаль, посетивший Самарканд во второй половине 10 в., видел на его площадях скульптуры животных. «Из кипариса, — пишет он, — вырезаны удивительные изображения лошадей, быков, верблюдов и диких коз; они стоят один против другого, будто осматривая друг друга, и хотят вступить в бой или в состязание».
Среднеазиатская расписная глазурованная керамика 9—10 вв. отличается большим художественным своеобразием, стяжавшим ей мировую известность. Узор ее строг и немногокрасочеп. Чаще всего по белому, слегка кремовому фону черным и красным нанесены геометрические фигуры, растительные побеги и надписи. Иногда блюдо украшает только надпись, исполненная почерком куфи вдоль по борту или пересекающая сосуд по диаметру; надписи обычно содержат благопоже-лания. Нередко в узор включено изображение птицы или фигура зверя, как это имеет место на большом кувшине, найденном в развалинах древнего Самарканда (илл. 76 6). Шаровидное тулово сосуда разделено горизонтальной полосой, ниже которой идет фриз из стилизованных спиралевидно изогнутых стеблей. Верхняя часть кувшина покрыта узором из переплетающихся широких светлых лент, пространство между которыми заполнено точками. В узор включено крупное изображение идущей птицы. Встречаются сосуды, покрытые черной глазурью, на фоне которой контрастно выделяются белые буквы.
Художественная керамика — это лишь один из видов прикладного искусства, получивших развитие в Средней Азии 9—10 вв. Есть сведения, что в это время славились и вывозились далеко за пределы страны шелковые ткани и другие изделия художественного ремесла.
Падение Саманидов привело к созданию в Средней Азии новых больших государств во главе с тюркскими династиями Караханидов и Сельджукидов. Относительная централизация власти сменилась разделением на уделы; появилась характерная для развитого феодализма форма ленного землевладения — икта. Развитие социально-экономических отношений сопровождалось расширением городов, ростом культуры. Большое архитектурное строительство вызвало появление ремесленных цехов, занятых возведением построек и имевших свою систему ученичества. Развитие зодчества в 11 —12 вв. сопровождалось дальнейшим усовершенствованием конструкций сводов и куполов, для кладки которых уже повсеместно применялся обожженный кирпич.
В архитектуре этого времени окончательно складываются ставшие характерными для всех последующих периодов феодализма типы монументальных построек. О распространении четырехайванной композиции свидетельствует архитектура караван-сараев, в частности планировка здания Дая-хатын (Туркменистан). Интересны также руины караван-сарая Рабат-и Малик на древней дороге из Бухары в Самарканд. Фасад постройки, украшенный декоративными полуколоннами, воспроизводящими древний прием «гофрированных» стен, имел посередине высокий прямоугольный портал — пештак со стрельчатой нишей. Есть основание предполагать, что такого типа портал, выделявший главный фасад здания и ставший характерным для зодчества всего Среднего Востока, был создан в Средней Азии очень рано, задолго до сооружения Рабат-и Малика. Во всяком случае, пештак последнего обладает уже достаточно развитой конструкцией и формой.
Большим своеобразием отличаются дошедшие до нас здания среднеазиатских мечетей 11—12 вв. Это по преимуществу купольные постройки, среди которых квадратная в плане мечеть в кишлаке Хазара (Узбекистан) перекрыта пятью куполами, а мечеть Талхатан-баба (Туркменистан) имеет большое купольное помещение, открытое с одной стороны. Высокий подъем среднеазиатской архитектуры 11—12 вв. сопровождался формированием местных школ зодчества.
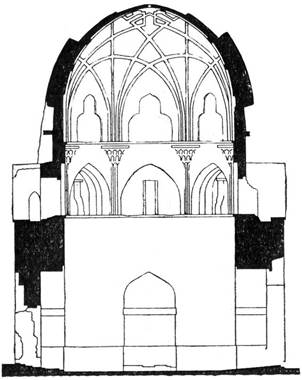 Выдающимся памятником 12 в., сохранившимся в Туркменистане, является мавзолей сельджукского султана Санджара в старом Мерве (илл. 81). Огромная кубическая постройка (в плане 27 X 27 м.) увенчана куполом на цилиндрическом барабане, украшенном арками. Здание было не менее величественно, чем возведенный почти на два века позднее мавзолей Олджейту в Султании, для которого мавзолей Санджара мог послужить прототипом. Монументальный объем сооружения облегчен вверху галлереей, выходящей на фасад чередующимися широкими и узкими арочными проемами. Аркатура галлереи имеет орнаментальный убор из фигурной кирпичной кладки и резьбы по алебастровой штукатурке и своей нарядностью контрастирует с гладью высоких кирпичных стен. Вверху, над восьмигранником и барабаном, возносилась, сияя голубыми изразцами в небесной выси, полусфера купола. Архитектура мавзолея отличается замечательной гармонией форм, четкостью объемов и точно найденными пропорциями. Те же черты присущи интерьеру, гладкие стены которого покрывала роспись, а купол украшала система гуртов, образующих красивую звездообразную фигуру.
Выдающимся памятником 12 в., сохранившимся в Туркменистане, является мавзолей сельджукского султана Санджара в старом Мерве (илл. 81). Огромная кубическая постройка (в плане 27 X 27 м.) увенчана куполом на цилиндрическом барабане, украшенном арками. Здание было не менее величественно, чем возведенный почти на два века позднее мавзолей Олджейту в Султании, для которого мавзолей Санджара мог послужить прототипом. Монументальный объем сооружения облегчен вверху галлереей, выходящей на фасад чередующимися широкими и узкими арочными проемами. Аркатура галлереи имеет орнаментальный убор из фигурной кирпичной кладки и резьбы по алебастровой штукатурке и своей нарядностью контрастирует с гладью высоких кирпичных стен. Вверху, над восьмигранником и барабаном, возносилась, сияя голубыми изразцами в небесной выси, полусфера купола. Архитектура мавзолея отличается замечательной гармонией форм, четкостью объемов и точно найденными пропорциями. Те же черты присущи интерьеру, гладкие стены которого покрывала роспись, а купол украшала система гуртов, образующих красивую звездообразную фигуру.
Мавзолей султана Санджара в старом Мерве. Разрез.
Другой архитектурный тип монументальных зданий представляют мавзолеи в Узгене (Киргизия). Наиболее старый из них — 11 в. — имеет центрическую композицию, но вплотную пристроенные к нему с двух сторон мавзолеи 1152/53 г. (северный) и 1186/87 г. (южный) являются классическими образцами портально-купольиых зданий. У каждого из них три фасада ничем не украшены, а четвертый целиком закрыт большим прямоугольным пештаком с глубокой стрельчатой нишей, в которой расположен вход. Пештаки мавзолеев в Узгене, особенно южного, богато украшены новым видом архитектурной декорации — резными терракотовыми плитками. Резьбу выполняли по сырой глине до обжига, и это позволяло воспроизводить тончайший орнамент. Пештак южного мавзолея в Узгене заполнен узором, вкомпонованным в панно, тимпаны и длинные П-образно изгибающиеся фризы. Узор состоит из сложной геометрической плетенки, многочисленных надписей и стилизованного растительного орнамента.
Здания портально-куполышго типа, а также применение резьбы по терракоте для украшения фасадов монументальных построек получили широкое распространение в Средней Азии. Однако в некоторых областях архитектура имела свои характерные особенности. Так, в Куня-Ургенче (Хорезм) величественные мавзолеи Фахраддин Рази и Текеша (конца 12 — начала 13 в.) увенчаны шатровыми перекрытиями на высоких граненых барабанах. В декоре памятников южной Туркмении преобладает узорная кладка из кирпича при сравнительной строгости стиля.
Выдающиеся памятники 12 в. находятся в Бухаре. Один из них — минарет мечети Калян — был построен в 1127г. Слегка сужающаяся кверху круглая башня Этого самого высокого (почти 50 м) среднеазиатского минарета снизу и доверху украшена рельефным узором из кирпича (илл. 79). Пояса узора, располагаясь кольцами, подчеркивают объем и его устремленность вверх. Вместе с тем разнообразие мотивов узора обогащает простую и ясную архитектурную форму, вносит в нее декоративный ритм. Верх минарета первоначально украшал пояс бирюзовых изразцов с крупными рельефными буквами, снятый при позднейших ремонтах.

Арфистка.Фрагмент стенной росписи из зала жилого дома в Пянджикенте. 7-8 вв. Пянджикент, Историко-краеведческий музей.
По красоте пропорций с бухарским минаретом соперничает лишь минарет в Джар-Кургане, построенный в начале 12 в. мастером Али ибн Мухаммедом из Серахса (илл. 80). Оригинальна архитектура этой постройки, состоящей как бы из пучка полуколонн, перехваченных поясом с надписью.
О расцвете архитектурно-декоративного искусства в 12 в. ярко свидетельствует орнаментальное убранство мечети Магок-и Аттари в Бухаре и дворца в древнем Термезе. Открытый раскопками портал Магок-и Аттари (илл. 78) украшен превосходным узором из геометрических и растительных мотивов, а также надписей, исполненных на терракотовых плитках резьбой по ганчу и кладкой из кирпича. Руины дворца в Термезе — интереснейший памятник светской архитектуры. Дворец представлял ансамбль построек, среди которых выделяется парадный зал, открытый в сторону обширного прямоугольного двора. Стены, своды и большие пилоны зала были украшены декоративной резьбой, исполненной по толстому слою алебастровой слегка желтоватой штукатурки.
Орнаментальный убор членится на фризы, панели и отдельные панно, но в целом производит впечатление сплошного узорного ковра, покрывающего все поверхности стен. В узоре господствует геометрический орнамент — «герих», дающий возможность создавать почти неисчерпаемое разнообразие композиций. От звездообразных центров лучами отходят полосы, переплетение которых образует сложную сеть многоугольных фигур. Разделенный только узкими поясками обрамлений, узор словно перебегает с одной стены на другую, одна система геометрического плетения неожиданно сменяется новой. Растительные мотивы в узорах термезского дворца, как и во всем среднеазиатском орнаменте 11—12 вв., играют второстепенную роль. Зато очень интересны редкие для архитектурной декорации Средней Азии того времени изображения животных — реальных и фантастических. Фигуры животных трактованы орнаментально, плоскостно, в симметричных композициях. Тем не менее в этих изображениях при всей их условности звучат очень древние художественные традиции, идущие от зооморфных мотивов дофеодальной эпохи.
Высокий подъем архитектуры и искусства Средней Азии был* прерван монгольским завоеванием. Однако оно лишь на время остановило поступательное развитие культуры и искусства народов Средней Азии. В 14 в. постепенно ожила экономическая жизнь страны, восстановились сожженные города, вновь стали развиваться ремесла и торговля. В 70-х гг. 14 столетия Средняя Азия стала центром огромной империи Тимура. Самый жестокий завоеватель из всех, которых только Знала до этого история, Тимур в отношении Средней Азии проводил политику, способствовавшую некоторому развитию ее экономики и культуры. В начале 15 в., после распада империи на ряд феодальных государств, Средняя Азия в течение целого столетия находилась под властью Тимуридов.
В сложной социально-политической обстановке 14 и 15 вв. происходит дальнейшее развитие культуры народов Средней Азии, носившее глубоко иротиворечивый характер. В идеологии господствовали реакционные идеи и воззрения. Мусульманское духовенство, владевшее крупными земельными богатствами, обладало большой политической силой; процветал суфизм, призывавший широкие массы к примирению с угнетением, проповедовавший уход от действительности, стремившийся сковать все живые, прогрессивные тенденции.
Но вместе с тем именно в эту эпоху крупные прогрессивные явления характеризуют развитие науки, литературы и искусства Средней Азии. В 15 в., при внуке Тимура Улугбеке (1394—1449), правителе Мавераннахра и одновременно выдающемся ученом, в окрестностях Самарканда строится обсерватория, где были созданы звездные таблицы, занявшие важное место в истории науки о вселенной. Ярким проявлением народности и гуманизма в средневековой культуре Средней Азии явилось творчество родоначальника узбекской литературы Алише-ра Навои (1441 —1501). Он вложил в свои бессмертные поэтические произведения не только великую любовь к человеку, но и требование непримиримой борьбы за справедливость, за уважение подлинно человеческих чувств.
В архитектуре 14—15 вв. также проявились значительные художественные достижения — свидетельство высокого взлета творческой мысли зодчих Средней Азии, которые в этот период зачастую работали рука об руку с мастерами Ирана, Азербайджана и Афганистана, приведенными Тимуром из завоеванных им областей.
Впервые в широком масштабе развернулось строительство крупных и сложных ансамблей, которые стали важнейшими архитектурными центрами городов. Работа зодчих над ансамблем внесла много нового в композиционные замыслы, Заставила переосмыслить традиционные архитектурные формы и приемы.
Огромное художественно-эстетическое значение имело обогащение архитектуры цветным декором. Бирюзовые изразцы на стенах некоторых зданий 12 в. были лишь отдельными красочными пятнами на общем монохромном фоне кирпичной кладки. С 14 в. многоцветный яркий узор стал обязательным для всякой значительной светской или культовой постройки в Средней Азии. Сначала цветной глазурью стали покрывать наружную поверхность кирпича или резной узор терракотовой плитки. Цвет обогатил орнаментальный рельеф, выделил его ярким пятном на поверхности стены. В расцветке преобладали бирюзово-синие тона; количество цветов первоначально было невелико. Почти одновременно появились в архитектурном декоре расписные глазурованные плитки. В некоторых областях южного Туркменистана изготовляли изразцы с тонким живописным узором, типакашанских. Важнейшим новшеством, завершившим переход к много-цветности в архитектуре, было распространение в конце 14 в. так называемой керамической резной мозаики, которая является самым большим достижением архитектурно-декоративного искусства народов Среднего Востока в эпоху феодализма. Техника ее состоит в том, что Элементы узора предварительно вырезаются из разных по цвету глазурованных керамических плиток. Пластические качества особого сорта глины позволяли легко резать эти плитки и исполнять из них элементы орнамента толщиной иногда лишь в несколько миллиметров. Заготовленный этим способом узор монтировался и затем закреплялся гипсом па поверхности стены. Цвет глазури керамической мозаики отличается чистотой тона, яркостью и интенсивностью, чего трудно было достигнуть при обжиге расписных изразцов, на поверхности которых почти неизбежно растекались и смешивались отдельные краски.
В среднеазиатских мозаиках преобладают стилизованные цветочные мотивы, образующие нарядный многоцветный узор, чаще всего на глубоком синем фойе. По тонкости детально разработанного узора керамические резные мозаики можно сравнить с произведениями ювелирного искусства; вместе с тем по размаху композиционных замыслов, выразительности цветового решения и масштабам узора, заполняющего пилоны и тимпаны величественных арок, среднеазиатские мозаики обладают качеством монументальной декоративной живописи. Для среднеазиатского архитектурного орнамента при всем многообразии его форм характерны строгая логичность, математически точный расчет и геометризм, лежащие в основе построения композиции каждого узора. В произведениях монументальной архитектуры, еще на расстоянии поражающих красочностью своего декоративного убранства, ясно выявляется определенная система в расположении узоров, рассчитанная на своего рода «пороги восприятия». Издали видны крупные узоры, покрывающие большие плоскости стен, барабаны и купола. Вблизи раскрывается богатство орнаментов на пилонах и арках порталов и в интерьере здания. Характерно при этом, что каждая орнаментальная композиция, являясь частью сложного общего, вместе с тем сама по себе представляет законченное художественное целое.
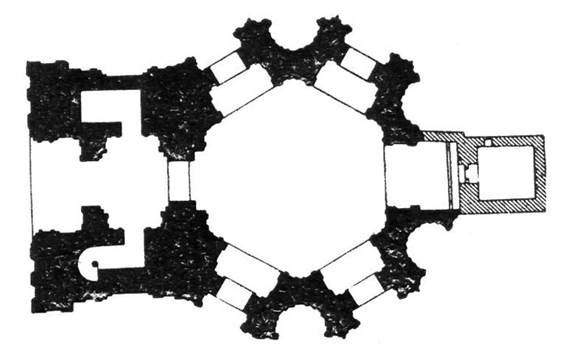
Мавзолей Тюрабек-ханым в Куня-Ургенче. План.
Среди наиболее ранних памятников зодчества, ярко выразивших черты искусства 14—15 вв., особенно выделяется мавзолей Тюрабек-хапым в Куня-Ур-генче. В отличие от портально-купольных мавзолеев предшествующего периода, когда главное внимание строителей было сосредоточено на украшении порталов, здание Тюрабек-ханым решено как композиция из нескольких гармонично связанных между собой архитектурных объемов. Основная часть здания представляет совершенно необычную для Средней Азии двенадцатигранную ротонду, увен чанную барабаном с высоким коническим голубым куполом. С юга примыкает стройных пропорций пештак, с севера — купольная усыпальница. В плане правильный шестиугольник главного помещения с входами, расположенными с каждой стороны, мастерски вписан в двенадцатигранник внешнего контура. Абрис плана разработан тонко и изящно: входы — проемы чередуются с красиво профилированными глубокими пятиугольными нишами, В архитектуре подчеркнуты вертикальные линии: пештак, ниши на наружных гранях ротонды, декоративные панно на барабане имеют вытянутые вверх пропорции. Еще более Это сказывается в интерьере, пространство которого кажется особенно высоким благодаря трем рядам постепенно уменьшающихся стрельчатых арок.
В декорации Тюрабек-ханым впервые в среднеазиатском зодчестве нашла применение керамическая мозаика. Мастера, создавшие этот мавзолей, с необычайным искусством соединили архитектурные формы с богатой декорацией. Снаружи на стенах здания цветные панно и тимпаны контрастно выделяются на фоне кладки из шлифованных неглазурованных кирпичей. Но особенно большое впечатление производят хорошо сохранившиеся мозаики интерьера. Мозаичный узор сплошь покрывает плафон купола (илл. 83).
От пышной, сверкающей красками розетки в центре купола лучами расходятся белые линии геометрического орнамента, образующего сложные плетения, словно сеткой закрывающие всю поверхность плафона; ячейки узора заполнены звездообразными медальонами,состоящими из множества цветочных и геометрических мотивов. В красочной гамме мозаик преобладают синий и белый цвета, обогащенные бирюзовым, черным, зеленым, желтым, красным, коричневым и золотым; некоторые цвета имеют разные оттенки. При всей сложности построения декора узор плафона воспринимается как гармонически целостный образ. Ниже, в световом поясе и ярусе тромпов, отдельные цветные панно и тимпаны разделены широкими обрамлениями из неглазурованного кирпича. Таким образом, красочность в оформлении интерьера нарастает снизу вверх, достигая в узоре купола наибольшего цветового звучания. Отделенный четкой полосой орнамента купол Тюрабек-ханым напоминает бездонную сферу неба, усеянную мерцающими на синем фоне яркими светилами. Он рождает возвышенный поэтический образ.
Мавзолей был построен, по-видимому, во второй половине 14 в. Его архитектура и декор говорят о новых творческих исканиях и о высоком, основанном на глубокой местной традиции искусстве хорезмских мастеров. Тимур в 1388 г., разорив Хорезм, велел увезти лучших мастеров и использовать их на строительстве в Самарканде и в других городах.
В конце 14 и начале 15 в. большое строительство велось в Самарканде. Город был окружен мощной стеной с шестью воротами и глубокими рвами. В центре возвышалась цитадель с высоким дворцом, одновременно служившим главным арсеналом. Многочисленные дворцовые постройки были возведены в загородных садах вокруг Самарканда. Испанский посол Клавихо, посетивший столицу Тимура в 1404 г., был поражен богатством и оживленностью города. Большое впечатление произвели на Клавихо также быстрота и энергия, с которыми производилась перестройка Самарканда. В интересах возросшей торговли через весь город была пробита широкая улица, по сторонам которой разместились лавки купцов. «Улицу,— пишет Клавихо,— провели широкую и по обеим сторонам поставили палатки; перед каждой палаткой были высокие скамейки, покрытые белыми камнями. Все палатки были двойные, а сверху вся улица была покрыта сводом с окошками, в которые проходил свет».
Дошедшие до нас монументальные здания Самарканда, воздвигнутые при Тимуре, мавзолеи и мечети (дворцовые постройки не сохранились) образуют ансамбли, еще и сейчас определяющие силуэт «старого» города. В первую очередь надо назвать комплекс усыпальниц самаркандской знати Шах-и Зинда, расположенный на северной окраине города по склону древнего холма Афрасиаба. Эти усыпальницы-мавзолеи группируются вокруг мнимой гробницы мусульманского святого Кусала ибн Аббаса, якобы ушедшего под землю и скрывающегося там до судного дня; отсюда и название памятника — Шах-и Зинда, то есть «живой царь». На самом же деле это древнее, еще домусульманское культовое место. Усыпальницы-мавзолеи строились здесь, как показали исследования последних лет, во всяком случае, уже в 11 — 12 веках.
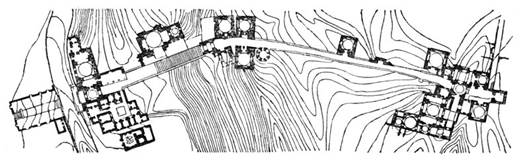
Ансамбль Шах-и Зинда в Самарканде. План.
В современном виде ансамбль Шах-и Зинда состоит из целого ряда памятников 14 и первой половины 15 в. (илл. 84 а, 86). Вход на территорию усыпальниц отмечен пештаком, являющимся наиболее поздним из всех построек Шах-и Зинда. Он возведен в 1434—1435 гг. при Улугбеке. Близко от входа стоит двойной мавзолей 15 в. с куполами на высоких барабанах. Есть основания считать, что здесь погребен знаменитый средневековый астроном Кази-заде Руми (илл. 85). Сразу за лестницей, поднимающейся по склону холма, теснятся мавзолеи, построенные при Тимуре в 70—80-х гг. 14 в. В дальней части ансамбля, за второй купольной сенью, — группа усыпальниц, в большинстве относящихся к дотимуровскому времени. Среди них мавзолей Кусама ибн Аббаса с надгробием, украшенным изразцами, возможно, хорезмской работы (илл. 84 6). Замыкает ансамбль мавзолей Ходжа Ахмеда середины 14 столетия.
Несмотря на разновременность построек, мастера-строители, возводя новые мавзолеи, учитывали и развивали сложившиеся архитектурно-художественные традиции. Поэтому ансамбль воспринимается как единая объемно-пространственная композиция, имеющая свою внутреннюю логику. Ясно читается общий плавный ритм архитектурных масс, расположенных по крутому склону холма.
Красиво скомпонованы отдельные группы построек — особенно мавзолеи тимуровского времени, среди которых выделяется купол Ши-рин-бика-ака на высоком барабане, мавзолеи с ребристыми дынеобразными куполами и восьмиугольная ротонда. Купола мавзолеев 15 в. уравновешивают и завершают композицию ансамбля с юга.
Но не только в архитектурных формах отдельных построек проявляются важнейшие художественные качества этих памятников. Как правило, мавзолеи ансамбля представляют небольшие портально-купольные сооружения, при создании которых основное внимание архитектора было обращено на декоративное оформление портала и интерьера. Даже на расстоянии, при подходе к ансамблю со стороны города, ощущается красочное мерцание голубых порталов и куполов. Внутри ансамбль поражает сказочным богатством блещущих в лучах яркого солнца цветных изразцов.
Мавзолеи Шах-и Зинда позволяют проследить постепенное развитие приемов цветной архитектурной декорации. В украшении ранних памятников видна тесная преемственность с предшествующими типами орнаментации. Так, портал мавзолея Ходжа Ахмеда (архитектор Фахри Али) облицован плитками резной терракоты, но, в отличие от памятников 12 столетия, эти плитки покрыты разноцветными глазурями. В узоре, который кажется ажурным, на бирюзово-синем фоне выделяются белые рельефные буквы надписей и многоцветные геометрические мотивы.
Дальнейшее развитие декоративного убранства прекрасно характеризует мав-золей Шади Мульк-ака, построенный в 1372 г. архитекторами Шамсуддипом, Зайнуддином и Бареддином (илл. 82). Его портал шире и выше портала мавзолея Ходжа Ахмеда. Па мощных пилонах размещено вдвое больше вертикальных полос с орнаментом. Пилоны опираются на высокий цоколь; портал имеет вытянутые вверх пропорции, что особенно подчеркивается заостренной стрельчатой аркой, завершающей сталактитовый свод. По-новому трактуются угловые трехчетвертные колонки: сплошь покрытые орнаментом, они имеют сложные по профилю базы и капители, состоящие из кубических, многогранных и полушаровидных форм и сталактитов. В целом декор портала, выполненный из резной глазурованной терракоты и майоликовых плиток, очень пластичен, выявляет и как бы лепит каждую архитектурную деталь. Большую роль играют цвет и рисунок узора. Общая бирюзово-голубая тональность придает единство декору мавзолея. Растительные мотивы обладают живым движением линий. Особенно привлекают внимание тимпаны арки портала, где на синем фоне плавно изгибаются стебли, напоминающие виноградную лозу. Очень красивы также резные бирюзовые панно на боковых стенках ниши портала, заполненные пышным цветочным узором, который разрастается вверх из ваз причудливой формы.
На порталах мавзолеев Ширин-бика-ака (1385) и Туман-ака (1405) применена уже известч ая нам по памятнику в Куня-Ургенче керамическая мозаика. Оригинально украшен интерьер мавзолея Ширин-бика-ака. На стенах росписью — синим и красным по белому фону — исполнены условно трактованные картины, изображающие пейзаж с фигурками сорок, сидящих на деревьях. Эти очень редкие для среднеазиатского монументально-декоративного искусства сюжеты перекликаются с мотивами одновременных книжных миниатюр (см. илл. 85 — 86).
При всем орнаментальном и цветовом разнообразии художественный образ ансамбля Шах-и Зинда проникнут удивительным единством. Общий колорит узоров, основанный на сочетании сине-голубой глазури с терракотово-желтой окраской кирпичных стен, напоминает о реальном соотношении цвета среднеазиатского неба и выжженной солнцем земли. Создавая надгробные памятники, зодчие и художники стремились не к аскетической отрешенности от мира, а в пределах дозволенного религией орнаментально-декоративного искусства воплощали свое представление о прекрасном. «Это есть райский сад, где погребена звезда счастья», — гласит надпись на портале мавзолея Шади Мульк-ака. Симфоническая звучность орнаментов рождает возвышенный поэтический образ, основанный на огромной художественной выразительности цвета, линий и архитектурных форм.
Из остальных архитектурных монументов, воздвигнутых в Средней Азии в конце 14— начале 15 в., наиболее ранним был дворец, построенный на родине Тимура, в Шахрисябзе. Дворец начали строить в 1380 г., Клавихо был поражен его красотой и величием. Сейчас на поверхности земли высятся лишь руины входного иештака. Пролет его арки равен 22 м, то есть немного меньше гигантской арки сасанидского дворца в Ктесифоне. Пештак дворца украшен резной керамической мозаикой, над созданием которой, возможно; трудились хорезмские мастера.
В 1397 году было заложено величественное сооружение в Ясах (современный Туркестан) у могилы считавшегося святым Ахмеда Ясави. Многочисленные помещения сгруппированы вокруг квадратного зала, перекрытого одним из самых больших в Средней Азии куполов — диаметром 18 м.
Грандиозным архитектурным сооружением, возведенным на рубеже 14—15 столетий, явилась соборная мечеть Самарканда, предназначенная для тысяч молящихся и получившая в народе имя Биби-ханым. Ее начали строить в 1399 г., после обогатившего государство Тимура грабительского похода в Индию. По-видимому, эмир придавал исключительное значение этой мечети: он сам следил за работами, всячески поощрял огромную армию рабочих и мастеров скорее завершить постройку. Мечеть строилась меньше пяти лег, и в 1404 г. она была уже закончена. Тимур требовал, чтобы самаркандская мечеть превзошла величественностью все здания мира.
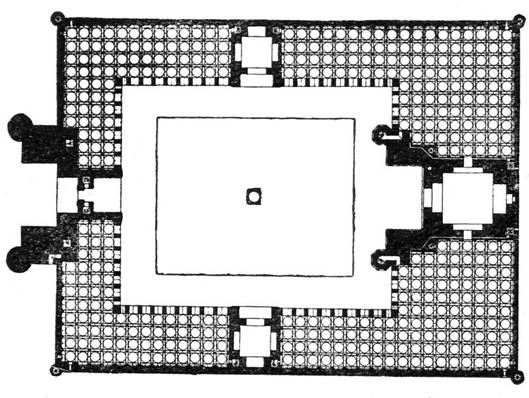
Мечеть Биби-ханым в Самарканде. План. Реконструкция.
Археологические исследования позволяют представить план и первоначальный облик мечети. Большая прямоугольная площадь, занятая мечетью, снаружи была ограждена глухой сравнительно невысокой стеной, над которой возвышались сохранившиеся сейчас в руинах, прорезанные огромными стрельчатыми арками грандиозные пештаки, кубические массы больших зданий с куполами на барабанах и стройные минареты. Все эти архитектурные объемы, симметрично расположенные по периметру большого двора, создавали своеобразный, проникнутый единством художественного замысла монументальный ансамбль.
Вход на территорию мечети украшал гигантский пештак, представлявший самостоятельное архитектурное сооружение. Обширный двор мечети окружала аркада, за которой со всех четырех сторон располагались крытые галлереи, образованные рядами колонн. Боковые галлереи посередине прерывались сравнительно небольшими портально-купольными зданиями. В глубине двора поднимался второй сорокаметровый пештак, и сейчас еще сохранивший величественную арку и граненые минареты на углах (илл. 87). За ним высилось здание главного «святилища», увенчанное полусферическим гладким бирюзового цвета куполом.
Композиция ансамбля Биби-ханым построена на сложном сочетании архитектурных форм и цвета. Роль своеобразного модуля играет стрельчатая арка в прямоугольном обрамлении. Множество арок, то дробящихся в ячейках сталактитов, то вырастающих до гигантских размеров, внесло в архитектуру сложный ритм, сделало особенно ощутимыми масштабные соотношения и вместе с тем объединило все в одно целое. Единство художественного замысла проявилось и в цвете узора. Стены мечети покрыты сеткой крупных ромбовидных фигур и куфических надписей, выложенных по терракотовому фону кирпичной кладки синими, голубыми и белыми изразцами. Голубой цвет преобладает в узорной кладке стен, он звучит в украшении пештаков и, пронизывая, таким образом, всю систему архитектурного декора, безраздельно господствует в изразцах большого бирюзового купола, как бы слившегося с небом.
Архитектура мечети была обращена к массе людей, заполнявших в дни богослужений двор и площадь перед зданием. Доминирующие в ёузоре на стенах мечети религиозные надписи и окружающие их орнаменты плоскостны, графичны и несколько суховаты, но хорошо видны на большом расстоянии. Несравненно богаче украшены пештаки. Пилоны и арки обогащены тонкими узорами расписной майолики и резной мозаики, то вкрапленных среди крупных геометрических мотивов и надписей, то заполняющих отдельные панно и тимпаны, то расположенных в виде цепочки звезд на фоне неглазурованного кирпича (илл. 89). Мерцание ярких красок изразцового убранства дополняло мягкое свечение белых мраморных панелей, наличников дверей и колонн. Архитектурные идеи, положенные в основу этого сооружения, нашли воплощение и в интерьере «святилища». Оно поражало величием пространственного решения, тонкостью пропорций, богатством декора. Над большим и высоким квадратным помещением, расширенным с каждой из сторон глубокой нишей, вознесен купол, плавный переход к которому образуют тромпы, конструктивно дополненные щитовидными парусами(В среднеазиатских монументальных постройках конца 14—начала 15 в. над основными помещениями обычно высятся двойные или даже тройные купола. В скрытом от глаз пространстве между наружным, опирающимся на барабан, и внутренними куполами возведены опорные кирпичные ребра.). Стены и своды, как и снаружи здания, имели богатое красочное убранство, выполненное росписью и раскрашенными с позолотой рельефными бумажными розетками, сделанными из прессованной бумаги и прикрепленными к штукатурке маленькими гвоздиками. Несмотря на то, что сейчас от некогда грандиозного сооружения сохранились лишь руины, даже по ним можно понять величие замысла зодчих и ощутить огромную силу их вдохновенного мастерства. В целом архитектурно-художественный образ мечети Биби-ханым представляет сложное явление, в содержании которого отразились и религиозные цели, ради которых строилась мечеть, и идеи прославления Тимура, властелина феодальной державы, и вместе с тем несравненно более широкое, хотя и ограниченное общим религиозно-мистическим характером средневековой идеологии художественное представление о мире. «Купол был бы единственным,— писал о мечети Биби-ханым современник Шарафаддин Иезди,— если бы небо не было его повторением, и единственной была бы арка, если бы млечный путь не оказался ей парой».
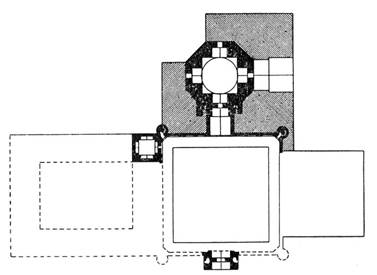
Гур-Эмир в Самарканде. План ансамбля.
Шедевром средневекового зодчества стал и мавзолей Тимура — знаменитый Гур-Эмир в Самарканде (илл. 90), построенный в начале 15 века(Установлено, что на месте мавзолеев в 14 в. было воздвигнуто медресе и ханака внука Эмира Мухаммед Султана, объединенные двором, от которого сохранился украшенный керамической мозаикой входной пештак, построенный, согласно надписи, Мухаммед ибн Махмудом Исфахани. В 1403 г. было начато сооружение гробницы, примкнувшей ко двору ансамбля с юга (против входа) и задуманной как самостоятельное архитектурное произведение.). В архитектуре доминирует огромный ребристый купол, несколько нависающий над высоким цилиндрическим барабаном. Нижняя часть здания представляет восьмигранник, сейчас почти скрытый множеством позднейших пристроек; к северу обращен небольшой портал. Пропорции постройки таковы, что на долю купола и барабана приходится более половины общей высоты здания. Купол покрыт узором из голубых и синих изразцов, что колористически также выделяет его прекрасную ребристую форму. На барабане огромными буквами выложены надписи, содержащие восхваления Аллаху. Стены восьмигранника украшены белыми и бирюзовыми изразцами на фоне неглазуроваиного кирпича. Монументальной и величественной композиции красочных архитектурных масс соответствовало пышное решение интерьера. Хорошо освещенное окнами крестообразное купольное помещение кажется большим и высоким, хотя на самом деле вершина внутреннего купола находится на 10 м ниже верхней точки наружного покрытия. Стены внизу украшены мраморной панелью с вставками из зеленого змеевика и фризами резных надписей, а выше были расписаны синей краской и золотом. Рельефные розетки на плафоне купола имитировали звездное небо. Декоративное убранство дополняли решетки в окнах и поставленная при Улугбеке мраморная ажурная ограда вокруг надгробий. Среди последних выделяется своей красотой и строгостью надгробие Тимура, сделанное из двух больших кусков темно-зеленого нефрита. Замечательным украшением мавзолея была также резная двустворчатая дверь (илл. 91). Богатейший узор исполнен на ее поверхности в два плана. Но мелкому кружевному растительному орнаменту, как по фону, размещен более крупный рисунок, изображающий стройную вазу, из которой поднимается вверх стилизованный куст, завершенный букетом цветов. Детали узора инкрустированы разноцветным деревом, костью и металлом. Есть сведения, что в первые годы после погребения эмира помещение мавзолея было богато убрано коврами и драгоценными предметами вооружения и утвари. По контрасту с этой роскошью холоден и суров крестообразный в плане склеп, покрытый почти плоским, конструктивно смело решенным плафоном.
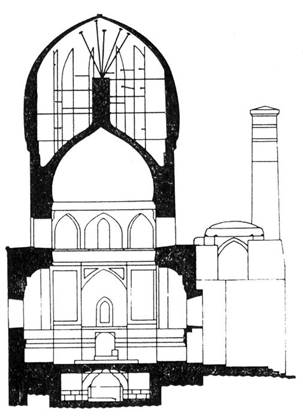
Гур-Эмир в Самарканде. Разрез.
Архитектура мавзолея отличается своеобразием форм, найденностью масштабов и совершенством конструкции. Гур-Эмир занимает особое место в истории архитектуры Среднего Востока. Его нельзя отнести ни к типу портальных сооружений, ни к башенным мавзолеям. В архитектуре Гур-Эмира обобщен опыт творческих исканий многих поколений зодчих Среднего Востока. Вместе с тем облик мавзолея особенно ярко и совершенно выражал художественные тенденции своего времени: торжественную монументальность и декоративную зрелищность. Среднеазиатское зодчество конца 14— начала 15 в. тесно взаимодействовало и оказало большое влияние на архитектуру соседних стран. В 15 в., несмотря на то, что империя Тимура распалась на ряд фактически самостоятельных государств, культурно-художественные связи между народами Среднего Востока продолжали укрепляться.
От первой половины 15 в. до нас дошли три здания медресе, построенные при Улугбеке в Бухаре, Вабкенте и в Самарканде. На дверях бухарского медресе сохранилась надпись, характеризующая передовые тенденции времени. Надпись гласит: «Стремление к знанию является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки». Лучшим по архитектуре является медресе на Регистане в Самарканде, законченное в 1420 г. В дальнейшем около медресе был построен целый ансамбль зданий, включавший мечеть, ханаку и караван-сарай. Медресе спланировано по канону с внутренним двором и огромным пештаком, выходящим на площадь.
Большой изысканностью отличается декоративная отделка медресе, особенно мозаики, по чистоте тонов глазури, тонкой гармонии в сочетании цветов, красоте линий и изяществу узора относящиеся к наиболее совершенным произведениям декоративного искусства средневекового Востока. На пилонах главного пештака по синему глубокого тона основному фону располагаются пышные розетки из белых, желтых, зеленых, марганцево-черных цветов, голубых и зеленых стеблей (илл. 88). Изящные и подвижные буквы белых и желтых надписей переплетены тонкими спиралевидно изогнутыми стеблями растений.
Среди построек второй половины 15 в. следует выделить мавзолей Ншратха-на в Самарканде (около 1465 г.). Архитектура здания дает пример новой сводчатой конструкции. Купол покоится на системе пересекающихся подпружных арок и щитовидных парусов. Эта конструкция, зародившаяся в Средней Азии еще в конце 14— начале 15 в., в Ишратхане представлена в развитом и совершенном виде. Новаторское значение этой системы заключалось в том, что она позволила сравнительно небольшим куполом перекрывать обширное помещение. Вместе с тем Эта конструкция сильно изменила характер объёмно-пространственного решения интерьера: исчезло четкое членение на три яруса, обусловленное системой тромпов; вместо этого выше идущей по низу панели стенная поверхность плавно переходит в кривизну парусов, расчлененных на отдельные грани. Соответственно изменилась система расположения орнаментального декора по куполу и сводам. Для украшения интерьера стали применять новую технику слегка рельефной живописи, носящей название «кундаль» (что значит — валик). Рельефный узор, состоящий из растительных форм и надписей, покрывался золотом; фон прописывали синей (ляпис-лазурь), цветы и орнаменты темно-красной, зеленой, розовой, голубой, лиловой и белой красками. По богатству красочной гаммы и красоте линий живопись кундаль, выполненная на сводах Ишратханы и особенно небольшого тимуридского мавзолея Ак-Сарай в Самарканде, напоминает драгоценные заглавные листы восточных рукописей.
В 14—15 вв. в зодчестве Средней Азии были созданы наиболее совершенные на Среднем Востоке архитектурно-строительные и декоративные формы.
В начале 16 в. возникло феодальное узбекское государство во главе с династией Шейбанидов. В этот период завершилось формирование среднеазиатских народностей — узбеков, туркмен, казахов, киргизов,, каракалпаков (таджики как народность сформировались раньше), расселение которых соответствует территории современных национальных республик. Несмотря на то, что в 16—17 вв. в области идеологии усилились связанные с религией реакционные тенденции, архитектура и искусство обогатились рядом новых явлений.

Мечеть Калян и медресе Мир-и Араб в Бухаре. Разрез.
Наиболее значительные памятники зодчества сохранились в Бухаре, ставшей с середины 16 в. столицей государства. Город был окружен новой стеной, построены торговые ряды, купола на перекрестках, медресе и мечети. В архитектуре 16 в. продолжали развиваться традиции предшествовавшего времени, но бухарские зодчие внесли оригинальные черты в традиционные по своему облику монументальные здания. Для Бухары этого времени характерны ансамбли из двух противолежащих, разделенных улицей или площадью монументальных построек. Особенно многочисленны кош-медресе — сдвоенные медресе, обращенные пешта-ками одно к другому. По этому принципу создан и центральный ансамбль Бухары, состоящий из большой соборной мечети Калян (нач. 16 в.) (илл. 92 а), и медресе Мир-и Араб (1530—1536 гг.), между которыми высится минарет 12 в. Мечеть по своей архитектуре относится к типу четырехайванных, с большим двором и окружающей его арочно-купольной галлереей.
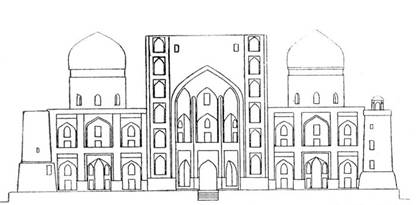
Медресе Мир-и Араб в Бухаре. Главный фасад.
Медресе Мир-и Араб, тоже четырехайванное, имеет ставшее типичным для Бухары членение фасада глубокими стрельчатыми нишами, расположенными симметрично по обе стороны от портала. Архитектура медресе исполнена большого мастерства. Порталы во дворе здания обладают стройными пропорциями и прекрасной мозаикой. В медресе Мир-и Араб, так же как и во многих других бухарских постройках 16 в. (медресе Кукельташ, загородный ансамбль Чар-Бакр и др.), очень оригинальны нарядные сводчатые и купольные перекрытия (илл. 93). Оформленные в виде сетчатых парусов, снабженные световыми проемами, эти своды придают интерьеру особую художественную выразительность. Среди памятников 1(5 в. сохранились интересные гражданские постройки: купольные сооружения на перекрестках базарных улиц — Таки-Заргаран и др. (илл. 926), торговые здания, караван-сараи.
Большое строительство продолжалось в Бухаре ив 17 в., когда Шейбанидов сменила династия Аштарханидов. Самой значительной постройкой этих времен является медресе Абдулазис-хана.
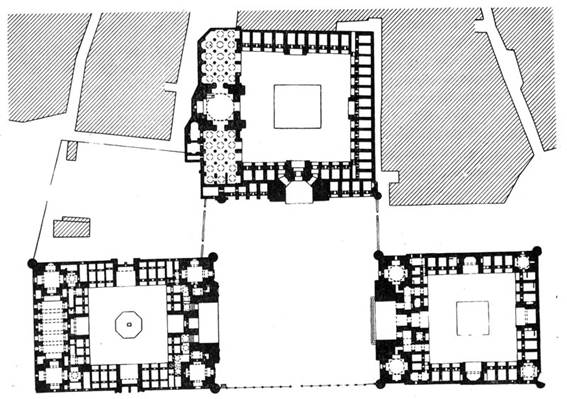
Ансамбль площади Регистан в Самарканде. План.
В этом же столетии был создан знаменитый ансамбль площади Регистан в Самарканде. Расположенные в возвышенной части города величественные и красочные постройки Регистаиа видны издали со всех сторон. Ансамбль состоит из трех медресе, выходящих своими фасадами на прямоугольную, почти квадратную площадь: с западной стороны находится ужо известное нам здание медресе Улугбека; с востока и юга медресе Шир-дор и Тилля-кари, сооруженные в 17 в. на месте зданий 15 столетия (илл. 97).
Распространенный в это время прием сопоставления однотипных монументальных построек получил здесь новое решение. Фасады зданий расположены так, что объединяющая их площадь воспринимается как большой открытый с одной стороны двор с тремя громадными пештаками. Перед взором человека, подходящего к Регистану, сразу открывается зрелище, полное необыкновенного величия. Ритмично повторяются огромные геометрически четкие архитектурные объемы. Пештаки зданий обращены к зрителю гигантскими арками, которые своей стрельчатой, заостренной кверху формой заставляют почувствовать колоссальную тяжесть архитектурной массы, давящей на мощные пилоны и стены. Арки словно застыли в могучем напряжении, и кажется, что какая-то сверхъестественная сила заставляет стоять неподвижно массивы стен, купола, пилоны и минареты, на поверхности которых спокойно переливаются яркие краски выложенных изразцами узоров и надписей.
Мощным красочным аккордом звучит яркое изразцовое убранство, то цветной сеткой покрывающее большие плоскости стен и пилонов, то образующее колористически насыщенные, с преобладанием синего, голубого или оранжево-желтого цветные пятна в нишах нештаков, в тимпанах арок, на ребристой поверхности куполов.
Лучше других сохранилось медресе Мир-дор (илл. 94), воздвигнутое в промежуток времени с 1619 по 1636 г. зодчим Абдул Джаббаром и по своей архитектуре почти точно повторяющее здание медресе Улугбека. Традиционный для среднеазиатских медресе внешний облик здания определяется массивным блоком высоких стен, над которым со стороны главного фасада возвышаются пештак, купола на высоких барабанах и угловые минареты, образующие строго уравновешенную композицию. Квадратный внутренний двор (илл. 95) окружен двумя ярусами келий — худжр; посередине каждой стороны двора устроен глубокий айван; в углах здания находятся купольные аудитории и мечеть. В пространство двора открываются стрельчатые ниши пештаков и арки худжр, повторение которых создает своеобразный орнаментальный ритм.
Декоративная отделка стен медресе, состоящая из мраморных панелей, цветных изразцов и резной мозаики, богата и красочна, но уступает тимуридской в техническом и в художественном отношении. Расцветка мозаик не так гармонична, некоторую пестроту вносят преобладающие в отдельных панно зеленая и желтая краски. Оригинальной особенностью мозаик медресе Шир-дор являются помещенные на фасаде в огромных тимпанах арки пештака изображения львов с косматой гривой и раскрытой пастью, бросающихся на маленьких белых ланей-за фигурами львов помешены изображения солнца с человеческим лицом и с желтыми лучами. Сюжет мозаики определил современное название медресе: Шир-дор, то есть львов имеющее.
Медресе Тилля-кари (начато в 1646 г.), служившее одновременно и соборной мечетью Самарканда, имеет фасад, решенный в бухарской архитектурной традиции, то есть украшенный двумя ярусами стрельчатых ниш, расположенных по обе стороны от портала. Этот прием, принесенный в самаркандскую архитектуру, не нарушил, однако, целостности и величия ансамбля, являющегося выдающимся памятником мирового зодчества.
Упадок среднеазиатских феодальных ханств в 18 —19 вв., экономическая их слабость и низкий культурный уровень господствовавших классов привели к тому, что монументальное зодчество, обслуживавшее нужды феодального государства и религии, стало быстро угасать.
Некоторый подъем пережило только зодчество Хивы — столицы узбекского Хивинского ханства в конце 18—начале 19 в. Город украсили многочисленные медресе, мечети и минареты (илл. 96 а). Известный интерес представляют ханские дворцы, особенно Таш-хаули (1832 —1841), привлекающий непосредственной связью с народным зодчеством. Дворец имеет несколько дворов с террасами, украшенными майоликой, и чудесными резными деревянными колоннами, поддерживающими расписные балочные перекрытия.
В период угасания художественной культуры эпохи феодализма подлинно творческие силы сохранились в народном зодчестве. Основанная на очень древних местных традициях, народная жилая архитектура отличается национальной спецификой, обусловленной особенностями жизни и быта таджиков, узбеков, казахов, киргизов, туркмен.
Важным общим художественным качеством народной жилой архитектуры является ее неразрывная связь с декоративным искусством. Резьба на створках дверей, на колоннах и на ганчевон штукатурке стен, росписи в интерьере и на террасах, красочная глазурованная керамика, вышивки и ткани — все эти неотъемлемые художественные элементы жилища и быта говорят о живом, никогда не исчезавшем стремлении народных зодчих и художников к высокому синтезу архитектуры и искусства.
Живопись существовала в Средней Азии на протяжении всей феодальной эпохи. В письменных источниках упоминаются монументальные росписи с батальными сценами и портретами во дворце Тимура. Сведения о книжной миниатюре восходят даже к 10 столетию. Известны имена художников-миниатюристов, работавших в Средней Азии в конце 14 и в 15 в. От этого времени дошли и некоторые рукописи, украшенные миниатюрами.
В 16 в., после окончательного падения Тимуридской династии, многие работавшие в Герате художники и каллиграфы переселились к дворам новых правителей, и в частности в Бухару и Самарканд Шейбаыидов. В этих центрах Средней Азии, имевших свои древние художественные традиции, искусство оформления книг оставалось очень высоким. Бухара славилась своими знаменитыми каллиграфами. В художественных мастерских городов Средней Азии создавались прекрасные, богато украшенные рукописи, иллюстрирующие исторические хроники, произведения современной, а также классической среднеазиатской и иранской литературы. Круг иллюстрируемых книг был обширен; среди них встречались и научные труды.
Проблема развития миниатюры в Средней Азии 16 в. представляет большой научный интерес. II хотя еще и сейчас трудно говорить о целостной картине развития среднеазиатской школы, уже отчетливо выявилось ее своеобразие.
В эволюции среднеазиатской миниатюры 16 столетия можно наметить два направления, которые тесно взаимодействовали друг с другом и тем не менее обладали несомненной самостоятельностью. Одно из них восприняло традиции герат-скои школы 15 в. В этой манере работали и местные среднеазиатские мастера и приехавшие из Герата миниатюристы. Особенно выделяются миниатюры художника Махмуда Музахиба. Его работы отличаются большой профессиональностью, уверенным мастерством.
Воздействие Герата было плодотворным и для другого направления, в основе которого, однако, лежала сильная, самобытная местная художественная традиция. До нашего времени дошли лишь некоторые произведения этой группы, среди которых как самое раннее известно «Фатх-наме» 1506/07 г.— стихотворная историческая хроника побед Шейбани-хана, иллюстрированная неизвестным, вероятно бухарским или самаркандским, мастером. Среднеазиатское происхождение имеют и миниатюры рукописи 1521/22 г. произведений Алишера Навои (Ленинград, Гос. Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина).
Исключительный интерес представляет ташкентская рукопись «Шах-наме» с миниатюрами художника Мухаммеда Мурада Самарканди. В работах этого мастера общие стилевые особенности среднеазиатской миниатюры 16 в. проявились наиболее ярко и последовательно.
Рукопись «Шах-наме» была создана для правителя Хивы Иш-Мухаммеда Султана в 1556 г. и украшена ста пятнадцатью миниатюрами. Преобладают сцены драматического содержания, особенно изображения битв, поединков, убийств, казней. Художник запечатлел также восстание кузнеца Кавэ, сцены бесед, царские приемы; встречаются и лирические сюжеты. Миниатюры Самарканди чаще всего горизонтального формата. В их композиции мастер отказывается от традиционного «коврового» принципа построения восточной миниатюры, ее многофигурности, насыщенности деталями. Обычно здесь соблюдается строгая сюжетность, изображается только то, что иллюстрирует текст. Несколько крупных фигур располагается на переднем плане листа на нейтральном тускло-сиреневом фоне. Развернутое изображение пейзажа как своеобразной эмоциональной среды отсутствует. Образ природы в некоторых миниатюрах сведен к своеобразному знаку — традиционному, очень обобщенному по формам зеленоватому холму почти без растительности. Художественный язык мастера подчеркнуто прост, конкретен и лаконичен. Сдержанностью отличается и колорит, который, несмотря на применение чистых и звучных оттенков зеленого, красного, синего, желтого, розового и коричневого, отличается все же известной суровостью, особенно благодаря введению темных серо-лиловых тонов. В целом Самарканди создает свою декоративную систему, очень целостную и энергичную, посредством которой четко выделяются господствующие на листах фигуры людей.
В миниатюре, изображающей сыновей Феридуна, которые сватаются к дочерям йеменского царя, подчеркнутая простота и элементарность композиции оживлена тонким ритмом фигур, естественностью их поз и жестов, особенно в группе трех девушек, охваченных чувством робкой стыдливости и сдержанной нежности. Очертание ковров, на которых восседают действующие лица, дано не параллельно, а произвольно смещено на плоскости листа, что разнообразит скупой и строгий характер построения. С большой живостью написаны лица персонажей, в которых художник стремится подчеркнуть некоторые характерные типы (илл. 96 б).
Искусство Самарканди ценой известной упрощенности теряет то впечатление богатства и красоты сказочно прекрасного мира, которое отличает лучшие произведения средневековой восточной миниатюры. И вместе с тем оно завоевывает и нечто новое, развивая — пусть и несколько односторонне — то, что внес Бехзад в образный строй миниатюры. Это интерес к человеку, большая конкретность его изображения. Отсюда та особая роль, которую у Самарканди приобретает передача движений, жестов и мимики персонажей. Отсюда то повышенное внимание к характерности и к изображению, в рамках условного языка миниатюры, эмоционального состояния людей — ужаса, гнева, горя, радости. Так, в миниатюре «Оплакивание Искандера», написанной в тусклой темно-синей траурной гамме, художник пвредает чувство скорби в лицах участников погребения. В иллюстрации «Афрасиаб совещается со своими придворными» ощущается атмосфера сосредоточенной и оживленной беседы. Некоторая упрощенность художественного решения, сдержанность красочной гаммы, скупой показ окружающей среды, сочетаемые с доходчивостью и конкретностью изображения, характеризуют искусство Самарканди. Несколько иными особенностями обладают произведения других бухарских мастеров второй половины 16 в. В стиле среднеазиатской миниатюры несомненно отразились определенные художественные вкусы иной общественной среды, менее связанные с требованиями изощренной придворной культуры, как, например, в сефевидском Иране того же времени.
И в начале 17 столетия искусство миниатюры в Средней Азии стояло на большой высоте. К ее первоклассным образцам относятся иллюстрации труда Шарафаддина Нозди «Зафар-наме» 1628 г., исполненные в Самарканде (Ташкент, Институт востоковедения). Двенадцать больших, почти во всю страницу, миниатюр украшают богато оформленную рукопись. Особенным совершенством отличаются изображения ожесточенных битв. С поразительным мастерством неизвестный самаркандский художник связывает здесь воедино большие группы сражающихся, создавая батальные «полотна» широкого размаха.
Своеобразная «масштабность» образа, смелость художественного решения, напряженный динамизм, отличающие иллюстрации «Зафар-наме», ярко проявились в великолепной миниатюре, изображающей решающий момент осады горной крепости Эдинек- Причудливо взаимодействуя с полосами текста, эта миниатюра очень свободно заполняет всю страницу. Композиция мастерски построена на сочетании двух идущих сверху и снизу потоков движения. Миниатюру отличают также тонкая выписанность деталей, особенно лиц персонажей, живость поз и жестов.
Изобразительные приемы самаркандского миниатюриста оригинальны и самостоятельны. Отличны они от приемов и гератских художников и тебризских мастеров 16 столетия. Миниатюры «Зафар-наме» характеризует большая зрелость стиля, что свидетельствует о существовании в Средней Азии 17 столетия своей живописной традиции.
Прикладное искусство Сродней Азии, тесно связанное с бытом народа, в эпоху феодализма прошло большой путь развития. Относительная строгость в украшении предметов утвари раннефеодального времени в 11 —12 вв. сменилась пышной орнаментальной декорацией. Эта эволюция очень ясно видна при сравнении строгих по стилю росписей саманидской керамики с глазурованными расписными сосудами 11 —12 вв. Последние украшены сложным геометрическим узором и отличаются сочной красочностью. Изменился и характер трактовки зооморфных мотивов, никогда не исчезавших в прикладном, особенно в народном, бытовом искусстве Средней Азии. На керамике 11—12 вв. изображения птиц и животных принимают очень условную, схематичную форму. Например, птица счастья — фазан трактуется в виде миндалевидной фигурки.
Больше свободы и живого чувства в узоре керамики 14—16 вв. В этот период особенно выделяются сосуды, покрытые прозрачной глазурью с синей (кобальт) росписью, изображающей растения и фигуры живых существ. Сохранились блюда и чаши 14 —15 вв., на поверхности которых изящно скомпонованы мотивы летящих или сидящих на ветках птиц среди тонко написанной листвы деревьев. В узорах этих сосудов видно влияние китайского фарфора.
На протяжении всей феодальной энохи развивалось мастерство орнаментальной резьбы по дереву и чеканки по металлу. В среднеазиатских художественных бытовых изделиях проявилось большое пластическое чувство, острота красочного видения, эмоциональная выразительность орнамента, умение мастеров находить гармоническую связь узора с формой украшаемой вещи. Утварь, как предназначавшаяся для господствовавших классов, так и бытовавшая в среде рядового городского и сельского населения, орнаментировалась с большим вкусом.
Как уже отмечалось, Средняя Азия издавна славилась тканями и особенно коврами. В своеобразном красочном узоре среднеазиатских текстильных изделий ярко проявились традиции культуры оседлых и кочевых народов Средней Азии. В дневнике Клавихо есть ценные сведения о летних станах Тимура, которые представляли своего рода временные города, сделанные из ковров, войлочных кошм и шелковых тканей.
На гератских и бухарских миниатюрах и на картинах европейских художников встречаются изображения ковров 14 —16 вв. Судя по этим изображениям, среднеазиатские ковры были преимущественно ворсовыми, хотя существовали и паласы. На коврах преобладал геометрический или стилизованный растительный орнамент. Однако среди ковров, сохранившихся до нашего времени, по-видимому, нет экземпляров древнее 18 или конца 17 века.
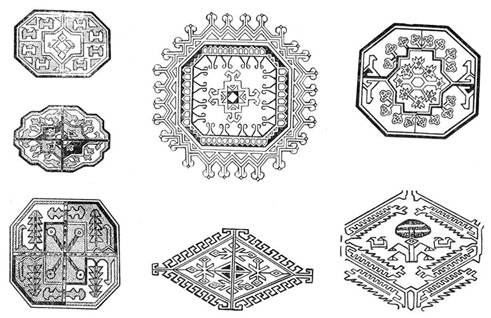
Гёли туркменских ковров.
Особенной известностью пользуются туркменские ковры. Еще в 13 в. Марко Поло дал высокую оценку туркменским коврам, определив их как «самые тонкие и красивые в мире». В кочевом быту коиры играли исключительно большую роль. Разнообразием бытового назначения объясняются различные формы ковров и некоторые особенности композиции узора. Так, большие прямоугольные ковры служили для расстилания на полу, коврами меньшего размера — эпси — завешивали вход в юрту, маленькие длинные коврики закрывали мешки для хранения утиари, красивые пятиугольные асмолдуки украшали вьюк верблюда. Ковры каждого из туркменских племен имеют свои характерные рисунки и расцветку. Однако между различными туркменскими коврами ость черты общности. Для всех туркменских ковров типичен глубокий карминно-красный фон центрального поля, на котором в строгом ритме повторяются орнаментальные элементы в форме своеобразных розеток, так называемых гелей. По характеру композиции близки ковры текинские, салырские и сарыкские, прозванные так по названиям туркменских племен. Центральное поле в этих коврах обрамлено обычно довольно широким бордюром. Основной цвет варьируется от теплого карминно-красного до густого темного, почти черно-красного. В ступенчатых гелях вкраплены синие, зеленые, оранжево-желтый, белые орнаментальные мотивы.
Другую группу туркменских ковров составляют иомудские, эрсаринские и чов-дурские. Для узора центрального поля этих ковров типичны зубчатые ромбовидные гели, якореобразные фигуры, растительные и зооморфные мотивы. Сохранились превосходные иомудские асмолдуки 18 в., украшенные красиво стилизованными фигурками птиц. В расцветке ковров иомудско-човдурской группы резче выявлена многоцветность: на общем красно-коричневом фоне более крупными пятнами выступают зеленый, синий и белый цвета.
Вероятно, в основу туркменского орнамента легли образы реального мира, трудовой деятельности кочевника, окружавшей его природы; некоторые мотивы сохранили древнее магическое значение. В узоре гелей исследователи видят условное изображение оазиса с пришедшими на водопой стадами животных.
Старинные туркменские ковры обладают высоким техническим и художественным качеством: плотным упругим ворсом и строго ритмичным рисунком, который вместе со сдержанной, но звучной гаммой красок рождает прекрасный декоративный образ.
Общий упадок хозяйственной и культурной жизни в Средней Азии в период позднего феодализма отразился почти на всех видах художественного ремесла. Однако народные мастера, изготовлявшие ткани для оде5кды, ковры, вышивки, глиняные и металлические сосуды, ювелирные изделия, украшавшие жилища резьбой по дереву, ганчу и росписями, сохраняли в своем искусстве развитое художественное чувство орнамента и колорита. Яркие черты самобытности отличают бытовое искусство каждого из народов Средней Азии: таджиков, узбеков, казахов, туркмен, киргизов, каракалпаков.








