5 Milano, Giuffré, 1936. 2 voll. A cura di Falco, Jemolo e E. Ruffini.
Франческо Руффини
Религиозная свобода: история идеи.
Date: 1-2 октября 2009
Изд: Ф.Руффини "Религиозная свобода: история идеи", М., ИВИ РАН, 1995
Пер: С итальянского А. Н. Ильинского
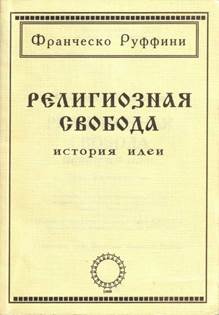
Франческо Руффини
РЕЛИГИОЗНАЯ
СВОБОДА
история идеи
Перевод с итальянского
Аутентичное переиздание публикации 1914 года,
осуществленное Институтом всеобщей истории
Российской Академии Наук,
по инициативе
Итальянской национальной Комиссии по делам ЮНЕСКО,
под эгидой и при финансовой поддержке ЮНЕСКО
Предисловие проф. Франческо Марджотта-Броглио
Москва,
1995
ББК 63.3(0)
1995 — Международный год ООН, посвященный терпимости
Настоящее переиздание книги Франческо Руффини не является репринтным, а потому имеет ряд особенностей. Редакторы книги изменили написание слов на современное (буквы ѣ, Ъ в конце слов из текста убраны), устранили очевидные опечатки. Вместе с тем редакторы издания стремились сохранить стиль и дух перевода А. Н. Ильинского, сохраняя в тексте архаизмы и стилистические особенности переводчика.
Печатается по изданию:
Франческо Руффини. Религиозная свобода: история идеи. Вып. 1. Спб; Издание Н. П. Карбасникова, 1914. Перевод А. Н. Ильинского. Под редакцией, с предисловием и примечаниями проф. В. Н. Сперанского.
Оригинал-макет подготовлен
в Институте всеобщей истории РАН
Подписано к печати 21.11.94. Формат 60x90 1/16
Бумага офсетная. Гарнитура академическая. Печать офсетная.
Тираж 700 экз.
ЛР 020915 от 23.09.94.
© UNESCO, 1995
© ИВИ РАН, 1995
ISBN 5-201-00441-5
Франческо Руффини
и история религиозной свободы
1995 год по предложению XXVI Генеральной сессии ЮНЕСКО провозглашен ООН "Международным годом, посвященным терпимости". ЮНЕСКО планирует в этом году проведение целой серии мероприятий во всем мире. В этой связи момент показался благоприятным Национальной итальянской и Российской Академии Наук для переиздания фундаментального итальянского труда о религиозной свободе, появившегося в русском переводе незадолго до Октябрьской революции1. Мы переживаем в настоящий момент период великих надежд и больших сомнений, мы видим возрождение националистической и религиозной нетерпимости, мы видим нарастание этнических и культурных противоречий, сопровождаемое грубыми нарушениями прав человека и ростом дискриминации. В этот период провозглашение понятии свободы и терпимости — это, как писал Генеральный директор ЮНЕСКО, Федерико Майор, — вызов нашему времени2. С этой точки зрения такой труд, как "Религиозная свобода: история идеи" Франческо Руффини, изданный впервые в Турине братьями Брокка в 1901 г., переведенный в 1912 г. на английский3, а в 1914 г. на русский язык, представляет собой целый этап в ходе исторического осмысления длительного пути сперва к терпимости, а затем к религиозной свободе, проделанного человечеством от античности до начала нового времени от Южной до Северной Европы, от Германии до Великобритании и Соединенных Штатов Америки. В книге Руффини наличествует предисловие, в котором в теоретическом плане ставятся проблемы толерантности, религиозной свободы, свободы церкви, свободы совести, свободы культа, и, в частности, рассматривается вопрос о присутствии на территории Италии XVIII века греческой и восточной церквей. Нужно иметь в виду, что историко-аналитические труды по проблеме религиозной свободы немногочисленны. Наиболее значитель-
1 Фр. Руффини. Религиозная свобода: история идеи. Спб, 1914.
2 F. Mayor. Message to the International Meeting on Democracy and September 1994.
3 F. Ruffini. Religious Liberty, Translated by I. Parker Heyes, with a Prefac by I. B. Bury, London-New York, 1912.
3
ные из них, как работы Байнтона, Камена, Фридера или Хассингера (все они написаны позднее, чем книга Руффини), затрагивают главным образом эпоху протестантской реформы или нового времени, а обширный труд Леклера не может быть признан удовлетворительным с концептуальной точки зрения1, хотя и остается до сих пор ценнейшим и солиднейшим источником информации по этой проблеме, которая является центральной не только в сфере человеческого мышления, но и в политической и гражданской жизни общества в целом. И вопрос этот постоянно актуален, в том числе и сегодня благодаря тому, что вновь и вновь в обществе возникают культурно-религиозные конфронтации, благодаря возрождению религиозности во всех частях света в противоположность тому "примату разума", который был провозглашен просветителями и после долгой и ожесточенной борьбы, описанной Руффини в его книге принят не только в "развитых" странах, но и насажден в тех странах, которые мы называем развивающимися.
Франческо Руффини, один из виднейших представителей итальянской юридической мысли, родился в Лессоло (Пьемонт) в 1863 г.: лишь год спустя папа Пий IX опубликовал "Силлабус", которым провозгласил враждебность католической церкви по отношению к либеральным доктринам и свою решимость не отказываться от светской власти; но спустя еще несколько лет, с военной оккупацией Рима, произошедшей 21 сентября 1870 г., последний стал столицей Итальянского королевства. Руффини умер в Турине в 1934 г.: всего за несколько лет до этого фашистское государство и Ватикан заключили "Латеранские соглашения" (11 февраля 1929 г.), положившие конец конфликту, истоки которого восходят к Рисорджименто, и открывшие путь к сотрудничеству церкви и государства с помощью Конкордата. Режим Муссолини, укрепившийся у власти, предписал профессорам университета (такой декрет издан в 1931 г.) принести присягу верности: из 1.225 доцентов лишь 12 отказались от присяги и были лишены университетских кафедр. Среди этих 12-ти были Франче-
1 R. H. Bainton. La lotta per la liberta religiosa. Bologna, 1969 (orig. inglese. Philadelphia, 1951); H. Kamen. Nascita della tolleranza. Milano, 1967 (orig. inglese: Oxford, 1967); E. Hassinger. Religiöse Toleranz if 16. Jahrhundert. Basel-Stuttgart, 1966; S. Frieder. La tolérance religieuse dans l'histoire sociale de l'Europe. Lausanne, 1957; J. Lecler. Histoire de Ia Tolerance au siecle de la Reforme. Paris, 2 voll., 1955.
4
ско Руффини и его сын Эдоардо, профессор истории права. В письме ректору Туринского университета, где он преподавал церковное право на факультете юриспруденции с 1908 г. (а перед этим несколько лет историю права) и где в течение трех лет руководил названным факультетом, Франческо Руффини заявил о невозможности "по причине совести, а также в связи со своим академическим и политическим прошлым принести присягу согласно новой формуле", предписанной фашистским правительством. Сенатор с 1914 г., министр народного образования в годы первой мировой войны, он голосовал вместе с немногими своими коллегами-сенаторами против "примирения" церкви и государства и против "Латеранских соглашений" 1929 г. В середине 20-х годов его выступления в Сенате, звучавшие оппозиционно режиму, были последними проявлениями либерального противостояния диктатуре: его книга "Права свободы" ("Diritti di liberta"), опубликованная Пьеро Гобетти в Турине в 1926 г., была символом его веры в свободу, но также, как писал Каламандрей1, символом большого гражданского мужества в годы широко развернувшегося террора. И даже если иметь в виду, что эта работа имела преимущественно подпольное распространение, она была одним из фундаментальных трудов итальянского антифашизма, в то время уже потерпевшего поражение.
Руффини, получивший образование в Университете Турина, специализировавшийся затем в Университете Липсиа в семинаре Эмиля Фридберга, преподавал в университетах Павии, Генуи и Турина церковное право, являющееся частью более широкого курса по государственному праву и включающее в себя проблемы свободы совести, религии, культа, вопросы взаимоотношений государства с церквами и религиозными конфессиями. Руффини, наряду с Франческо Скадуто, преподававшим те же сюжеты в Университете Рима, зарекомендовал себя выдающимся ученым, создавшим авторитетную историографическую школу по той теме, которая представляет для Италии исключительный интерес в связи с теми особенностями, которыми была отмечена история объединения Италии, совершившегося вопреки Папскому государству, и в связи с присутствием папы и руководства римской католической церкви на территории Италии. Некоторые его ученики — например, Артуро Карло Емоло и Марио Фалько — продолжали
1 Calamandrei P. Introduzione alia seconda edizione di F. Ruffini. Diritti di libertà. Firenze, 1946 (ristampa Rrenze, 1957). P. VII.
5
его исследования и создали многочисленные труды в этой важнейшей области права и политики. Юрист и историк, Руффини известен также широкой публике как политик и сотрудник ежедневной миланской газеты "Corriere della Sera" (известнейшей газеты того времени, возглавляемой Луиджи Альбертини), освещавший проблемы церковной политики и истории религии. Он был членом Академии Линчей (Академия наук Италии), а также в течение многих лет полномочным представителем Италии в Комиссии по культурному сотрудничеству Лиги Наций (Женева), которая в определенном смысле была как бы "зародышем" ЮНЕСКО. Не менее важно отметить также его близкие отношения с выдающимися историками и философами того времени: Эйнауди, Солари, Луццатти, Де Санктисом, Амендола, Гобетти, Альбертини, Джентиле и, особенно, Бенедетто Кроче. Вместе с некоторыми из них он подписал 1 мая 1925 года "Манифест итальянских интеллектуалов". Антонио Грамши и Пальмиро Тольятти слушали его лекции, когда учились в Университете Турина.
Богатая биография Руффини1 свидетельствует о его огромной работоспособности и трудолюбии, о широте его интересов, простиравшихся от истории права, в том числе канонического права католической церкви, до истории религий (особое внимание он уделял периоду протестантской реформы и последствий янсенизма XVIII — начала XIX века), до частного канонического права и, особенно, церковного права государства и церковной политики как в самой Италии, так и на международном уровне.
В числе более 200 им написанных работ мне хотелось бы упомянуть его первый труд об "Actio spolii"2, его исследования по финансовому религиозному праву "La quota di concorso"3 и "Le spese di culto delle opere pie"4 , двухтомник "Юность графа Кавура" ("La giovinezza del Conte dl Cavour")5 его доклад об авторском праве в Организации Объединенных Наций ("Rapport sur la propriete scientifique") и написанную на ту же тему книгу "О международной защите
1 О нем можно прочитать в кн.: F. Ruffini. Discorsi Parlamentari. Introduzione F. Margiotta Broglio e G. Spadolini. Roma, Senato della Repubblica Italiana, 1986. P. 1-2, 433-450.
2 Torino. Bocca. 1889
3 Milano, Soc. ed. libraria, 1904
4 Torino, Bocca, 1908.
5 Torino, Bocca, 1912. 2 voll.
6
прав собственности на литературные и художественные произведения" ("De la protection internationale des droits sur les oeuvres litteraires et artistiques")1, а также его работу "Пьемонтские янсенисты" (I giansenisti piemontesi")2 и два тома "Религиозной жизни Алессандро Мандзони" ("La vita religiosa di Alessandro Manzoni")3. Следует также упомянуть весьма важные для его творчества сборники "Исследование об итальянских реформаторах" ("Studi sui riformatori italiani")4, "Юридические записки" ("Scritti giuridici minori")5, "Последние исследования о графе Кавуре ("Ultimi studi sul Conte di Cavour")6, "Исследования о янсенизме" ("Studi sul giansenismo")7, "Отношения между государством и церковью" ("Relazioni tra Slato e Chiesa")8. В связи с переизданием на русском языке данного труда наибольший интерес, однако, представляет работа — недавно переизданная в Италии9 — "Религиозная свобода, как субъект публичного права" ("La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo"), впервые опубликованная в Турине в 1924 г. Это был стремительный закат либерального общества, либеральной эры10, выразителем которой, последовательным и морально несгибаемым, был Руффини. "Религиозная свобода, как субъект публичного права" сопоставима, в свою очередь с уже упомянутым трудом "Права свободы" 1926 г., где подчеркивалась взаимозависимость всех прав, угроза ликвидации которых в равной степени нависла над обществом в связи с установлением режима Муссолини. В нем обосновывалась с юридической точки зрения та самая религиозная свобода, которой Руффини посвятил
1 Genève, SdN. 1923; Paris, Hachette, 1928.
2 Torino, Bocca, 1929
3 Bari, Laterza, 1931. 2 voll.
4 Torino, Giappichelli, 1955. A cura di Bertola e Firpo.
5 Milano, Giuffré, 1936. 2 voll. A cura di Falco, Jemolo e E. Ruffini.
6 Bari, Laterza, 1936. A cura di Omodeo.
7 Firenze, La Nuova Italia, 1942. A cura di Codignola.
8 Bologna, Il Muliiio, 1974. A cura di Margiotta-Broglio.
9 F. Ruffini. La libertà religiosa. Storia dell idea. Introduzione di A. C. Jemolo. Postfazione di F. Margiotta-Broglio. Milano, Feltrinelli, 1991.
10 Cfr. F. Margiotta-Broglio. Italia e Santa Sede dalla Grande guerra alla Conciliazione. Bari, 1966; II tramonto dello Stato liberale e le costanti della politica ecclesiastica ilaliana. Dialoghi del XX, III, Milano, 1969; Id.: Totalitarian Ideology and Concodat Relations. Melanges M. A. Dendias. Athenes-Paris, 1978. P. 377-86.
7
свое историческое исследование в 1901 г. В центре внимания Руффини — человек и абсолютное уважение его индивидуальных прав. Повторив определение религиозной свободы, данное им во втором параграфе "Введения" к публикуемой книге, Руффини подчеркивает как научную ценность его постулатов для юриспруденции, так и практическую значимость их для ключевых моментов гражданской жизни: это право каждого на отказ от исповедания какой-либо религии, на неверие и на атеистическую пропаганду; неуместность применения уголовных наказаний за оскорбление религии и богохульство; право каждого не быть принуждаемым вносить деньги на содержание культа, которого он не исповедует; необходимость устранить любые ссылки на религию из юридической формул присяги; настоятельная необходимость введения светского образования и аконфессиональности общественных школ, не отказывая в то же время в праве родителям давать детям религиозное образование и воспитывать их в нормах тех убеждений, которые они исповедуют; право молодоженов на религиозное бракосочетание; отношения между церковью и государством (юридические или сепаратистские или развивающиеся в русле сотрудничества); и, наконец, свобода совести и культа. Согласно Руффини, эта свобода может обеспечиваться государством любой системы, вплоть до того, что государство может по-разному строить свои отношения с разными конфессиями, при условии, однако, что это не отразится на равноправии граждан и на праве на религиозную свободу для каждого индивидуума1. И это та политика, которая, если взглянуть на последовательную защиту религиозной свободы, проводившуюся в ходе деятельности ООН, ЮНЕСКО, других международных организаций регионального масштаба в течение последних четырех десятилетий и провозглашенную в Декларации Генеральной Ассамблеи ООН против нетерпимости и дискриминации, связанной с религией (1981 г.), является подлинной и наиболее верной защитой терпимости и мира2. К этому сегодня призваны все религии. Они призваны,
1 F. Ruffini. La liberta religiosa come diritto pubblico subiettivo. Bologna. II Mulino, 1992, ristampa dell'edizione del 1924 a cura e con Introduzione di S. Ferrari. P. 279 sgg., 452 sgg.; 482 sgg.; in proposito S. Ferrari. Introduzione, cit., P. 30-44.
2 Cfr. F. Margiotta-Broglio. Liberte religieuse et relations entre Etats et Eglises // AAVV. Las relaciones entre la Iglesia у el Estado. Madrid, 1989. P. 183-195; Id.: Nuove prospettive in tema di liberta di religione о di credenza: recenti sviluppi del sistema normativo dell'ONU // AAVV. Nuove dimensioni nei diritti di libertà. Padova, 1990. P. 635-653.
8
не отказываясь от культурно-религиозного своеобразия, внести лепту в дело мира, провозглашенное ООН и ЮНЕСКО в "Международный год, посвященный терпимости". И это применение на практике юридических и политических принципов, за введение которых в международный порядок боролся Руффини, применение спустя много лет после того, как они были сформулированы и после долгого периода незаслуженного, но вполне объяснимого забвения1, показывает актуальность его учения и уместность переиздания на русском языке его наиболее значительного труда о религиозной свободе в рамках мероприятий, запланированных ЮНЕСКО в "Международный год ООН, посвященный терпимости".
Хочу выразить огромную благодарность в первую очередь синьоре Аде Руффини, племяннице автора, которая вдохновила нас на переиздание этой книги, руководству ЮНЕСКО и, в частности Комиссии по проведению Международного года ООН, посвященного терпимости, возглавляемой Сергеем Лазаревым, Итальянской национальной Комиссии по делам ЮНЕСКО и, особенно, ее президенту сенатору Туллиа Кареттони, включившему данное мероприятие в программу этой организации, а также моему коллеге профессору М. М. Наринскому и Институту всеобщей истории Российской Академии Наук, принявшим мое предложение и с большой ответственностью отнесшимся к переизданию этой ценной работы, что позволяет еще раз подчеркнуть готовность к культурному сотрудничеству России и Италии, уже засвидетельствованную в 1914 г. переводом на русский язык книги Руффини.
Франческо Марджотта-Броглио
1 Cfr. S. Ferrari. Introduzionne. Cit. P. 43-51.
9
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА
За много веков до изобретения книгопечатания неустранимый и неисчерпаемый вопрос о религиозной свободе заставлял задумываться философов, волновал народных трибунов и сеял партийные раздоры между писателями. Нет более страшного и более священного вопроса для всей духовной культуры человечества, для всей просвещенной гражданственности, как полное устранение всех изветшалых пут религиозной и нравственной неволи, как жизненная неприкосновенность личной задушевной святыни. Нет блага, более драгоценного и более насущного, чем благо религиозной свободы. Если бы силы темные и жестокие, торжествовавшие нередко свои пирровы победы в истории, были властны над совестью бесстрашных религиозных героев, если бы нравственные вандалы и гунны могли разрушать внутренний сокровенный храм верующего сердца и если б все палачи, не ведающие, что творят, могли убить не только тело, но и душу своей жертвы, — тогда не стоило бы мыслить и страдать, тогда не стоило бы жить. "Не цепи делают раба, но рабское сознание", — тем не менее, без действительной вероисповедной свободы принудительная государственность становится для многих беспросветной духовной тюрьмой. Из почвы общественной, отравляемой религиозной нетерпимостью, растут ядовитые плевелы племенной вражды братоубийственной ненависти. Деспотическое правоверие властно утверждая единый догматический шаблон, предрешает в отрицательном смысле самую возможность религиозных философских исканий и пытается всегда сковать научное и художественное творчество. Вероисповедная ортодоксия везде была врагом широкой общественной самодеятельности и всегда была своекорыстной сторонницей духовно-полицейской опеки. Под мрачною сенью принудительного богословского авторитета часто оскудевало и чахло нелицемерное религиозное чувство. От мертвящего дыхания инквизиционной гидры вяла и сохла не раз культурная нива.
10
Идейные преемники Торквемады давно облеклись в менее откровенные ризы и глубоко затаили свои наследственные вожделения. Переряженное зло обольщает своим ханжеским благообразием в наши дни уже немногих. Прародительский недуг входил пудами, а выходит золотниками. Достаточно приглядеться внимательно к современной Испании, чтобы убедиться в упорной живучести средневекового церковного ига. "У нас нет более святой инквизиции, но в нас таится еще ее тлетворный дух", с горечью сознаются убежденные республиканцы пиринейского полуострова1. Далеко не искоренены еще явные пережитки средневекового миросозерцания и в иных протестантских странах. Лютер и Кальвин последних реакционных годов их политической деятельности являются там фактическими вдохновителями пасторского мракобесия и стоят благословляющими сторожевыми тенями над проповедническим аналоем клерикальных ретроградов. Несколько лет тому назад император Вильгельм II совершил через особо проломленные ворота церемониальный выезд на... осле в Иерусалим. Наивная буффонада современного Нерона не воскресит невозвратного прошлого и не вернет многоречивому германскому монарху реальные полномочия "апостолических величеств", но она в высшей степени характерна для мечтательных притязаний умирающего цезарепапизма.
Если в отечестве Канта, Шопенгауэра и Ницше встречают искренних и неискренних почитателей запоздалые демонстранты благочестивейшей автократии, то и под небом Вольтера и Ренана далеко не перевелись еще близорукие романтики ватиканского полновластия. В дни парламентских выборов общественная атмосфера передовых государств содержит в себе недолговечные, но вирулентные бациллы крайнего пастырского консерватизма. При избирательной кампании сторонникам последовательной демократии приходится иногда старательно дезинфицировать умы сограждан от подобной заразы. Таким образом средневековая религиозная нетерпимость, стесненная, урезанная и почти обессиленная, не стала еще, однако, всецелым достоянием истории. Не миновала поэтому жизненная необходимость в устном и печатном против нее протесте, в ораторской и писательской защите религиозной свободы.
1 Ср. Georges Lecomte, Espagne (Paris, 1896) и Angel Mervaud, Espagne au XX siècle (Peiris, 1913)
11
Отвечая этому неотступному требованию жизни, постоянно выходят из типографского станка академические диссертации и общедоступные брошюры, объемистые томы и летучие листки, посвященные вечно-юной теме о "свободе совести". Исполинский труд Франческо Руффини: "La libertà religiosa", впервые переводимый теперь на русский язык, занимает совершенно исключительное место в безбрежной и пестрой литературе предмета. Книга туринского ученого посвящена юридическому факультету генуэзского университета и носит строго-научный характер. Жестоко ошибется, однако, тот, кто по заглавным листам подумает, что это — сухо безжизненный трактат, забронированный мудреной терминологией от широкой публики и предназначенный для понимания многих специалистов. Счастливой особенностью профессора Руффини является редкое умение невредимо проходить между Сциллой отпугивающего педантизма и Харибдой легковесной банальности. Наш автор принадлежит несомненно тому законченному типу аристократов мысли, про которых величайший поэт его родины сказал: "i maestri chi sanno"... Полновластный хозяин, а не ремесленник-рабочий в области излюбленной им науки, Руффини свободен от тех слепых традиций, которым обычно подчиняются рядовые труженики академического цеха. Его литературная манера пленяет своей благородной простотой, его историческая методология подчиняет мысль читателя своей железной выдержкой.
Книга итальянского профессора однотонна и одноцветна по своему повествовательному характеру. Внимательный читатель не сочтет это ее недостатком и, наоборот, поставит в особую заслугу Руффини строгую дисциплину его правдивого пера. Для многих, обсуждавших в печати скорбную и волнующую тему о религиозной свободе, бывали неодолимы иные публицистические соблазны. Памфлетная страстность и фельетонная разбросанность — нередкие грехи и почтенных журналистов, громивших вероисповедную нетерпимость. Руффини сумел уберечь себя от этих, понятных и простительных, слабостей. Никто не упрекнет его в тенденциозном нагромождении удручающих эффектов, в преднамеренном сгущении трагических красок, в притворном пафосе гражданского негодования. Книга "La libertà religiosa" чужда излишних злободневных иллюстраций, обладающих эфемерным веком блестящего мотылька.
Руффини ни на одной странице своего гигантского исследования не покидает строго-научной основы и не впадает
12
в поверхностный дилетантизм. Ему в высокой степени присущи чувства литературной меры и исторической перспективы — всегда составляющие в научном творчестве то едва-уловимое "чуть-чуть", которое знаменитый художник Брюллов считал благодатной гаммой искусства.
Итальянский профессор не рассматривает в научный микроскоп отдельные мертвые точки прошлого и не расчленяет на одинокие нити причудливо-сплетенную ткань общечеловеческих судеб. Его всемирно-исторический кругозор никогда не затемняется непроницаемыми облаками национального пристрастия и догматического предубеждения. Философская гуманность Руффини сохраняет всегда свою универсальную широту. Для него, как для Спинозы, — целая наука — есть любовь, все понимающая и все прощающая, а наука историческая — незаменимая школа терпения и терпимости. Религиозная свобода, как далекая, но бодрящая и достижимая цель всемирного духовного прогресса, представляется ему знаменательной ступенью к той счастливой эре, "когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся". Непринужденное единомыслие освободить духовно-униженных и плененных, исцелить вековые раны народных сердец, "цепь золотую сомкнет и небо с землей сочетает".
Руффини далек, однако, от того простодушного оптимизма, который возлагает все надежды на чудотворное воздействие стихийных сил исторического процесса. Он не ждет спасительных волшебных превращений на той мировой сцене, где веками разыгрывалась тяжелая драма религиозных раздоров. Раскрепощение человеческой совести может в его глазах быть осуществлено лишь сознательными героическими усилиями человеческой воли, лишь терпеливым трудом общественной громады.
Руффини примыкает по своим философским убеждениям к передовым представителям новейшего критического идеализма. Временные разочарования и преходящие неудачи бессильны поколебать боевую решимость выросшего нравственного сознания. "Нужно не только сражаться, но и хотеть победы!, — учил Фихте-Старший. Человек должен идти твердой поступью по путям мирового добра и тогда, когда наличная действительность не дает никаких поощряющих примеров. По мудрому завету Канта самозаконное этическое сознание не должно говорить себе: "один в поле не воин", "не нами началось, не нами и кончится", "дело веков поправлять нелегко". Лукавые отговорки ленивой воли не обольстят
13
философскую мысль. Ее не манят плоские идеалы мещанского успокоения.
"Верь до конца себе, сердце мое:
Все потеряв, обретаешь,
Все проиграв, побеждаешь,
То лишь, что умерло — вечно твое
Таков девиз нравственного великана в ибсеновской трагедии. Так говорит тот священник-энтузиаст Бранд, который хотел "в храм превратить государство", положить конец половинчатым компромиссам мнимого благочестия и объединить в подвиге деятельной любви новых духовных богатырей. Так говорили многие, поверженные, но не побежденные, исповедники еретических учений. Их всех воспроизвел своим добросовестным пером Франческо Руффини.
Пред читателем проходят длинными вереницами разноименные представители религиозной оппозиции. В короткой памяти неблагодарного потомства тускнеют и стираются эти трагические имена. Для многих грамотных европейских людей слова: социниане, арминиане, индепенденты, пуритане т. д. — звук пустой, не рождающий никаких жизненных образов1. Между тем, это были живые страдающие люди с яркой своеобразной индивидуальностью, с твердым самобытным миропониманием, с несокрушимым закалом героической воли. Все они внесли свою кровную лепту в идейное развитие религиозной свободы, все они способствовали более или менее углублению общественной совести.
В бесконечном мартирологе людских страданий за веру, Руффини перелистал не только с холодным любопытством все драматические страницы, но и прочел своим проникновенным взором пророческие заветы религиозных борцов. История вероисповедных гонений научила итальянского профессора не пессимистическому предубеждению против человека и не фаталистской покорности пред живучими предрассудками. Немало писателей, блестящих и остроумных, окинув "орлиным взором триумфальный путь бессмертной глупости", приходили к выводам, безотрадным и оскорбитель-
1 Можно смело сказать, что для громадного большинства русской интеллигенции крайне смутно различимы понятия: духоборы, молокане, субботники, шалопуты и другие. Мы непростительно мало интересуемся религиозными исканиями нашего народа. Этот народ "молчит, ибо благоденствует", но в глубине истерзанного сердца свято чтит, как проговорился однажды К. П. Победоносцев, алтарь "неведомого Бога".
14
ным для человечества. Эрнест Ренан, посвятив много великолепных томов своей наукообразной беллетристики религиозному быту народов и мастерски высмеяв с ехидной мефистофельской гримассой вековые богословские споры, лишь утвердился в своем жизнерадостном безверии и каком-то всесмакующем гостеприимстве мысли. Современный миллиардер, по утверждению французского скептика, мог бы легко основать новую религию. Для этого тщеславному богачу было бы достаточно подкупить туземцев у горы Сафеда и заставить их сжечь великолепный фейерверк с ее вершины. Через неделю изобретательный миллиардер, обедая с приятелями в парижском ресторане, мог бы получать телеграммы о фанатических подвигах многочисленных исповедников новой религии. "Я советовал бы ему", наставительно добавляет Ренан, "сделать новую религию пожестче, чтобы она привлекала побольше последователей, и понелепее, чтобы ее скорее признали божественной". С подобным историческим миросозерцанием нельзя быть искренним и серьезным защитником религиозной свободы. Ошибаются те поклонники1 автора "Vie de Jésus", которые видят в знаменитом французском писателе ревностного поборника либеральных религиозно-политических начал. Чтобы стать нелицемерным сторонником свободного богопознания, нужно верить в грядущую победу собирательной истины, нужно верить в превозмогающую силу собирательного добра, нужно верить в человека и деятельно сострадать ему. Такой веры у Ренана нет и следа. Такую веру сделал своим заслуженным уделом Франческо Руффини, после того, как накопил богатейшую историческую эрудицию и много раз пересмотрел ее критической мыслью. Он твердо убедился в итоге своего научного опыта, что религиозная свобода — важнейшая из всех конституционных вольностей — и неизбежна и вполне осуществима.
Увлекательные страницы прекрасной книги, предлагаемые теперь вниманию русского читателя, проникнуты искренним благоговением перед идейным героизмом и пламенной любовью к той вечной божественной правде, которая не знает никаких искусственных перегородок, вероисповедных, национальных и сословных. В безотрадные дни русской действительности особенно утешительно живое напоминание о тех великих "утопистах", которые всегда с непоколебимым
1 Напр. С. Ф. Ольденбург в его статье о Ренане в сборнике "Проблемы идеализма" (Москва, 1903 г.).
15
убеждением повторяли евангельские слова: "Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство" (Лука, II, 32).
Валентин Сперанский
S. Moritz-Bad, 8/21 авг. 1913 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
В марте 1888 года, на торжественном заседании Академии наук в Мюнхене, Игнатий фон-Дёллингер (Döllinger), будучи уже девяностолетним старцем, прочитал доклад на тему. "История религиозной свободы"; в печати он появился только спустя год после смерти Дёллингера в третьем томе его "Академических речей".
Издатель этой посмертной работы, Лоссен, рассказывает в предисловии, как он безуспешно побуждал Дёллингера тотчас же опубликовать свою речь в "Aflgemeine Zeitung". Дёллингер ответил ему, что только после произнесения этой речи он понял всю трудность и сложность затронутого им вопроса и что поэтому он намеревается теперь собрать обильный материал и превратить свою публичную речь в целую книгу. Из этих материалов в бумагах неутомимого знаменитого ученого были найдены лишь отдельные цитаты из первоисточников.
Смерть помешала Дёллингеру довести свой труд до конца и сделать новый ценный вклад в науку. У меня не было тщеславной мысли заполнить этот пробел, когда я принимался за свою работу; и теперь, когда она окончена, я еще более далек от самообольщения считать ее совершенной. Справедливость требует, чтобы я упомянул в своем предисловии о том, что моя книга вышла в свет случайно и почти против моего желания.
Отправным пунктом также и для меня послужила вступительная академическая речь; пока я подготовлял ее к печати, она настолько разрослась, что я решил извлечь из нее небольшую брошюру для "Piccola biblioteca di scienze moderne", издаваемой товариществом Бокка в Турине. Но так как эта статья, в свою очередь, приняла слишком большие размеры, выходящие из границ и целей вышеупомянутого издания, — мне пришлось закончить и опубликовать ее уже в виде отдельной книги и даже разбить ее на два тома.
Читатель видит теперь, как в процессе предварительной работы моя книга разрасталась подобно снежной лавине, и как, один за другим, рушились мои планы и нарушались обязательства. Более всего виноватым я чувствую себя перед своим издателем.
Я рассказал все это еще и с другой целью. Мне хотелось защитить себя от возможности обвинения в ненаучности
17
моего труда. Предмет моей книги таков, что для компетентного суждения о нем необходимо познакомиться со всеми источниками, какие только может дать современная необъятная библиография. Мне же пришлось работать в городе, где, несмотря на многолюдный университет, приходится констатировать полное отсутствие научных пособий. Само собой разумеется, что я с большою охотой воспользовался бы многими работами в их первоисточниках, но, принимая во внимание местные условия, мне пришлось, к сожалению, довольствоваться передачей других лиц. И мое положение было бы еще печальнее, если бы на помощь ко мне не пришли мои друзья и коллеги, имена которых я должен упомянуть здесь.
Я пользовался указаниями и замечаниями профессора Фридберга, моего уважаемого учителя в Лейпциге, профессора Риккера, моего бывшего товарища и теперь преподавателя в том же университете; оксфордского профессора Поллока и, наконец, проф. Фредерика из гентского университета, советами которого я руководствовался при любезном содействии проф. Эмилия Бруза. Очень многим я обязан моему ученику и другу, иннсбрукскому профессору Андрее Галанте, доставившему мне целый ряд драгоценных данных из различных библиотек Германии, где ему самому пришлось работать во время своих научных занятий. Не могу забыть уважаемого Акселя Конради, генерального консула Швеции и Норвегии в Генуе, который помогал мне при чтении книг, написанных на различных северных языках.
Я выпускаю в свет этот первый том под заглавием "Историческое развитие идеи", но мой исторический очерк понятия религиозной свободы оканчивается началом девятнадцатого века.
Продолжение этого очерка будет содержанием другого тома, вместе с изучением сравнительного законодательства и современных условий религиозной свободы, главным образом в Италии.
Подобное разделение моего труда вовсе не случайно. Современное понятие религиозной свободы выработалось главным образом в течение 17 и 18 века. Идея религиозной свободы в 19 столетии уже достигает максимальной глубины и широты, и наш век, не знавший религиозных войн и протекавший при высоком уровне гражданской свободы у всех наиболее цивилизованных наций, тем самым как бы имел свою особую задачу: менее культурные нации должны были бы, образно выражаясь, идти на буксире у более передовых
18
народов, и в недалеком времени мы должны были бы увидать всеобщее применение на практике великих принципов, завещанных нам прошлым. Но девятнадцатому веку не удалось даже поставить указанную нами задачу...
С другой стороны, превратности истории, благодаря которым религиозная свобода завоевала себе место в наше время, при их изучении абсолютно не могут быть отделяемы от своей реальной обстановки. Ради краткости я приведу только один пример. Кто бы мог понять сущность религиозной борьбы во Франции, если бы не изучил при этом самым добросовестным образом условий Конкордата 1801 года, сохранившего силу и в настоящее время.
Еще одно замечание.
Я только вскользь упоминаю о тех примерах религиозной терпимости, которые дает нам античный мир, и совсем пренебрег теми, которые можно найти у нехристианских народов. Я поступил подобным образом потому, что и те и другие дали мне лишь материал для любопытных и поучительных сопоставлений, но не элементы для изучения факторов современной религиозной свободы.
Мой немалый труд был уже достаточно вознагражден тем, что я мог показать (и, как мне кажется, успешно), что современная религиозная свобода получила свой первый мощный толчок в связи с движением, начавшимся после Реформации среди чуждых итальянцам различных национальностей, где религиозная мысль интенсивно работала благодаря учению социниан.
Но я буду удовлетворен еще больше, если мне удастся переубедить моих соотечественников, что заниматься и рассуждать о религиозной свободе не есть, — как думал тот человек, о котором Мариано рассказывал в своем философском трактате, и как вместе с ним думают многие другие, — "самое странное занятие в этом мире, очень похожее на бред".
Фр. Руффини.
Турин.
Май 1900.
19
Посвящается
Юридическому Факультету
Генуэзского университета
1893-1899
ВВЕДЕНИЕ
Основные понятия








