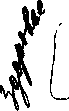Итак, основной тезис учения Франкла о смысле жизни: жизнь человека не может лишиться смысла ни при каких обстоятельствах; смысл жизни всегда может быть найден.
Основной тезис третьего учения Франкла — учения о свободе воли — гласит, что человек свободен найти и реализовать смысл жиз ни, даже если его свобода заметно ограничена объективными обсто ятельствами. Признавая очевидную детерминированность человеческого поведения, Франкл отрицает его пандетерминированность. «Необходимость и свобода локализованы не на одном уровне; свобода возвышается, надстроена над любой необходимостью» (Франкл, 1990, с. 106). Франкл говорит о свободе „человека по отношению к своим влечениям, к наследственности и к факторам и обстоятельствам внешней среды.
Свобода по отношению к влечениям проявляется в возможности сказать им «нет», принять или отвергнуть их. Даже когда человек действует под влиянием непосредственной потребности, он позволяет ей определять свое поведение и сохраняет свободу не позволить этого. Аналогичным образом обстоит дело и тогда, когда речь идет о детерминации человеческого поведения ценностями или моральными нормами — человек позволяет или не позволяет себе быть ими детерминированным. Свобода по отношению к наследственности — это отношение к ней как к материалу, возможность свободного духа строить из этого материала то, что ему необходимо. Франкл характеризует организм как инструмент, как средство, которым пользуется личность для реализации своих целей. Похожие отношения существуют между личностью и характером, который также сам по себе не определяет поведения. Напротив, в зависимости от личности характер может претерпевать изменения или сохранять свою неизменность. Свобода человека по отношению к внешним обстоятельствам, хотя и не беспредельна, но существует, выражаясь в возможности занять по отношению к ним ту или иную позицию. Тем самым само влияние обстоятельств на человека опосредуется позицией человека по отношению к ним.
Человек свободен благодаря тому, что его поведение определяется прежде всего ценностями и смыслами, локализованными в ноэтическом измерении и не испытывающими детерминирующих воздействий со стороны рассмотренных выше факторов. «Человек — это больше, чем психика: человек — это дух» (Frankl, 1967, р. 63). В этом своем качестве человек характеризуется двумя фундаментальными онтологическими характеристиками: способностью к са-мотрансценденции и способностью к самоотстранению. Первая выражается в постоянном выходе человека за пределы самого себя, в направленности его на что-то, существующее вне его. Вторая вы-
1.2. Подходы к пониманию смысла в психологии
43
ражается в возможности человека подняться над собой и над ситуацией, посмотреть на себя со стороны. Эти две способности позволяют человеку быть (не абсолютно, а в определенных пределах) самодетерминирующимся существом; механизмы этой самодетерминации принадлежат к ноэтическому измерению человека.
Наконец, важным вопросом учения о свободе воли является вопрос, для чего человек обладает свободой. В разных работах Франкл предлагает несовпадающие формулировки, однако общий их смысл — это свобода взять на себя ответственность за свою судьбу, свобода слушать свою совесть и принимать решения о своей судьбе. Это свобода изменяться, свобода от того, чтобы быть именно таким, и свобода стать другим. Франкл определяет человека как существо, которое постоянно решает, чем он будет в следующий момент. Свобода — это не го, что он имеет, а то, что он есть. «Человек решает за себя; любое решение есть решение за себя, а решение за себя — всегда формирование себя» (Франкл, 1990, с. 114).
Принятие такого решения — акт не только свободы, но и ответственности. Свобода, лишенная ответственности, вырождается в произвол. Эта ответственность сопряжена с бременем выбора человеком, какие таящиеся в мире и в нем самом возможности заслуживают реализации, а какие нет. Это ответственность человека за аутентичность его бытия, за правильное нахождение и реализацию им смысла своей жизни. По сути, это ответственность человека за свою жизнь.
Таким образом, идея смысла жизни как интегрирующего фак-юра человеческой жизни, намеченная в работах А.Адлера и К.Г.Юнга, легла у В.Франкла в основу теории личности и была разработана им весьма детально. В отличие от Адлера, для которого смысл жизни выступал как нечто непроизвольно и неизбежно складывающееся в первые годы жизни, для Франкла обретение и реализация смысла выступает как стоящая перед человеком задача, на решение которой он направляет все свои усилия, причем успех в ее решении не гарантирован, а неудача приводит к серьезным нарушениям личностного развития. Нам представляется важным по-можение Франкла об особой смысловой реальности, смысловом измерении, не сводимом к психической реальности.
Иная трактовка смысла (точнее, личностного смысла) в его ин-югрирующей функции — как интерпретации жизни — представлена теорией личности и индивидуальных различий, разработанной канадским философом и психологом Дж.Ройсом совместно с А.Па-уэллом (Royce, 1964; Royce, Powell, 1983). Ройс и Пауэлл считают, ч го понятие личностного смысла является не только наиболее молярным и диффузным, но также и наиболее важным психологичес-
44
глава 1. Подходы к пониманию смысла
ким понятием. «Осознанно и неосознанно смысл проникает во все, что индивиды делают, думают, чувствуют и во что верят, и вызывает огромный диапазон реакций... Несмотря на трудности исследования личностного смысла с эмпирических научных позиций, любая теория личности и индивидуальных различий, осознающая всю сложность своего предмета, не может обойтись без него в качестве важной первичной данности. Этим мы хотим сказать, что теория личности должна начинаться с постулата, что люди переживают свою жизнь в свете того, что они считают "осмысленным", то есть в свете индивидуальных подходов к жизни» (Royce, Powell, 1983, p. 234).
Понятие личностного смысла ассоциируется у Ройса и. Лауэлла с понятием значимости, «которую каждый индивид приписывает критическим аспектам бытия» (там же). Хотя, в отличие от психодинамических теорий Фрейда, Адлера и Юнга и ноодинамической теории Франкла, Ройс и Пауэлл работают в парадигме академической науки, это не мешает им содержательно концептуализировать понятие личностного смысла, несмотря на всю его диффузность. В построенной ими иерархической системно-факторной модели личности личностный смысл занимает вершину иерархии. Основной функцией интегративной сверхсистемы, обозначаемой термином «личность», является, по Ройсу и Пауэллу, поддержание, оптимизация и стабилизация личностного смысла, который рассматривается как чисто субъективное образование. Позиция Ройса и Пауэлла прямо противоположна в этом отношении позиции Франкла. «Личностный смысл не есть нечто существующее во внешнем мире или противостоящее индивидам извне и диктующее, какой шаг им предпринять. Это видение, которое каждый из нас должен создавать для себя заново» (Royce, Powell, 1983, p. 8). В поиске личностного смысла человек сталкивается с тремя вопросами: 1) в каком мире я живу? 2) как я могу прожить свою жизнь, чтобы наилучшим образом удовлетворить мои потребности и ценности? И 3) кто я? Отвечая на эти вопросы, человек формирует свою картину мира, стиль жизни и образ своего Я (там же, р. 3—4).
Связь умысла с мировоззрением является для Ройса ключевой. ЕщеИРкниге «Инкапсулированный человек» (Royce, 1964) он развил своеобразный подход к проблеме упомянутой выше смыслоут-раты, связав ее с гносеологической инкапсуляцией человека, т.е. с ограниченностью его видения мира, склонностью на основании частных данных делать выводы о целом. Результатом подобной инкапсуляции является неудача в нахождении смысла вследствие неудовлетворительности и ограниченности субъективной картины мира. Путь к обретению смысла связан, по Ройсу, с более высоким уровнем осознания действительности (там же, р. 84). Ройс отмеча-
1.2. Подходы к пониманию смысла в психологии
45
от роль ценностей, выступающих как «мост между смыслом и личностью» {там же, р. 103). На литературных примерах он показывает, что глубина смысла обусловлена ориентацией на ценности, согласующиеся с индивидуальностью конкретной личности. Ройс также указывает на связь смысла с наличием структурной организации. Пытаясь в целом ответить на вопрос, откуда берется смысл, Ройс пишет: «...Он возникает как функция внутренней структуры индивида, структуры вне его и структуры взаимодействия организм—среда... Ключ к личностному смыслу заложен в структуре _»пистемологических и ценностных иерархий каждого индивида» (Royce, 1964, р. 100). В одной из статей того же времени Ройс делает важное добавление, что жизнь воспринимается нами не только в свете повседневных активностей и не только в свете глобального смысла всей жизни, но и в свете еще более глобального смысла существования человечества (см. Royce, Powell, 1983, p. 248).
Ройс и Пауэлл отмечают, что личностный смысл развивается в течение жизни, смещаясь с физиологических потребностей в младенческом возрасте на ценности в возрасте более старшем; в целом с возрастом усиливается его экзистенциальная ориентация (Royce, Powell, 1983, p. 247). Наконец, как и многие другие авторы, Ройс считает фрустрацию потребности в смысле причиной ряда психологических расстройств, образующих ядро того, что принято называть психическими заболеваниями. Он пытается даже объяснить широким распространением смыслоутраты факт бурного роста психологии и психиатрии в нашем столетии (Royce, 1964, р. 76).
С идеями Дж.Ройса во многом перекликается достаточно оригинальный подход М.Чиксентмихали. Он посвятил проблеме смысла последнюю главу книги, в которой излагает свою теорию «потока» и «текучего переживания» (Csikszentmihalyi, 1990). М.Чиксентмихали начинает с констатации того, что наивно полагать, будто жизнь может иметь единый всеохватывающий смысл, в свете которого приобретает смысл любая активность в настоящем, прошлом и будущем, если под смыслом понимать глобальную, общую для всех цель. Но если такого априорного смысла нет, это не значит, что жизни не может быть придан смысл. «Большая часть того, что мы называем культурой и цивилизацией, состоит в предпринимавшихся людьми попытках, обычно с минимальными шансами на успех, создать ощущение смысла и цели для себя и своих потомков» (там же, р. 215). Констатируя трудности с определением понятия «смысл», М.Чиксентмихали связывает смыслообразование (meaning making) с внесением порядка в содержания сознания через интеграцию своих действий в единое переживание потока (там же, р. 216). Это, в свою очередь, может быть достигнуто тремя
46
глава 1. Подходы к пониманию смысла
|
|
путями. Первый — наличие цели. Все культуры содержат^ себе системы смыслов, которые могут служить целевыми ориентирами, на которые человек направляет свои текущие цели. Второй — воплощение цели в действиях. Любая цель влечет за собой ряд последствий, и если человек не готов иметь с ними дело, цель лишается смысла. И третий, являющийся результатом первых двух, — внесение гармонии в сознание. «Тот, кто находится в гармонии, неважно, что он делает, неважно, что с ним происходит, знает, что его психическая энергия не растрачивается на сомнения, сожаления, вину и страх, но всегда применяется с пользой. Внутреннее согласие в конечном счете приводит к той внутренней силе и спокойствию, которое восхищает нас в людях, пришедших, по-видимому, к согласию с самими собой» (там же, с.217).
Наиболее развернутым подходом к смыслу в аспекте интеграции личной и социальной действительности является теория^Ф^Фйшкса (Phenix, 1964). Поставив своей задачей философское обоснование принципов построения системы образования, Феникс строит в своей книге «Миры смысла» всесторонне разработанную философски-психологическую теорию смысла.
Как и ряд рассмотренных выше авторов, Феникс связывает саму сущность человека с его направленностью на осуществление смысла. «Человек — это существо, отличительная особенность жизни которого заключается в обладании смыслами и основной целью которого является их реализация. ...Его постоянно волнуют желания, чуждые животному существованию. В действительности он стремится к смыслу и, осознает он это или нет, все его стремления, каков бы ни был их видимый объект, направлены на расширение и углубление смысла» (Phenix, 1964, р. 344). В другом месте он определяет человека как существо, «создающее, открывающее, воспринимающее смыслы, наслаждающееся ими и действующее по отношению к ним» (там же, р. 48). Феникс утверждает даже, что «...нет человека, для которого развитие внутренней жизни смысла не являлось бы реальной целью всех его стремлений» (там же, р. 345), противореча тем самым собственному утверждению, что «сущность человека» характеризует лишь идеал, а не реальные факты (там же, р. 232).
Феникс пишет, что о смыслах следует говорить во множественном числе. Все возможное многообразие человеческих смыслов сводится к шести смысловым реальностям: символике, эмпирике, эстетике, синноэтике, этике и синоптике. Символика включает в себя языковые и другие, в том числе недискурсивные символические структуры, служащие для выражения и коммуникации любых смыслов. Эмпирика содержит фактическое знание о действительности. Эстетика охватывает разные виды искусства, содержанием
1.2. Подходы к пониманию смысла в психологии__________ 47
которых является воплощенная в значимых смыслах уникальная субъективность автора. Синноэтика охватывает сферу значимых межличностных отношений. Этика связана со смыслами человеческих моральных обязанностей и добровольно принимаемых решений. Наконец, синоптика имеет дело с интегративными смыслами, объединяющими в единую перспективу смыслы, принадлежащие ко всем остальным реальностям. Синоптика объединяет такие области знания, как историю, религию (в широком смысле слова) и философию, каждая из которых осуществляет смысловую интеграцию в своем особбм ракурсе. Различение шести реальностей выступает как чисто теоретическое; «любой конкретный смысл может рассматриваться как выражение одного из фундаментальных смыслов или как комбинация двух или более из них. На практике смыслы редко выступают в чистой и простой форме; они почти всегда образованы из нескольких элементарных» (Phenix, 1964, р. 8). Шесть смысловых реальностей взаимосвязаны и являются частями единой иерархической смысловой системы.
Из всех авторов, рассматривавших смысл как интегративную структуру личности, Феникс дает наиболее подробное аналитическое описание самого смысла, хотя определение смысла у него, как и у других, отсутствует. Он выделяет четыре параметра смысла: 1) переживание, рефлексивное самоосознание, опосредующее поведенческие реакции; 2) логические принципы структурирования этого переживания; 3) выбор значимых смыслов из множества потенциальных комбинаций и разработка их в русле сложившихся в цивилизации традиций и 4) выражение смысловых структур посредством соответствующих символических форм (Phenix, 1964, р. 22—25). Очень важна такая принципиальная характеристика смыслов, как их социальность: «Они являются общими. Никто не может жить осмысленно в изоляции. Общность смысла характеризует все i реальности без исключения. Любая смысловая структура является совместным способом понимания» (там же, р. 13).
Смыслы выступают у Феникса как предмет обучения. «Различные структуры знания суть различные смыслы» (там же, р. X). Обучение призвано обеспечить развитие смыслов во всем их разнообразии и обеспечить их интеграцию в иерархическую систему. Вместе с тем над людьми постоянно висит угроза смыслоутраты, в каждой из шести реальностей порождаемая своими специфическими факторами. Кроме них, Феникс выделяет еще такие общие факторы, способствующие утрате смысла, как распространение духа критицизма и скептицизма, деперсонализация и фрагментация жизни, обилие культурной продукции, подлежащей усвоению, и быстрый темп изменений условий жизни (там же, р. 5). «Люди одновремен-
48
глава 1. Подходы к пониманию смысла
но сопротивляются и отрекаются от смыслов и ищут и утверждают их, культуры одновременно разрушают смыслы и творят их» (там же, р. 30). Все же в целом Феникс занимает скорее оптимистическую позицию, формулируя в качестве цели образования осуществление человеческой жизни посредством расширения и углубления смысла.
В заключение этого раздела остановимся еще на двух подходах к смыслу как интегративной структуре личности, которые, однако, нельзя с уверенностью отнести к какой-то одной из трех рубрик, выделенных Э.Вайскопф-Джолсон (Weisskopf-Joelson, 1968). Первый из них — это экзистенциальная персонология С.Мадди (Maddi, 1971; 1983), который также отводит смыслу роль высшего интегра-тивного начала личности, почти не поясняя, однако, при этом, что такое смысл. «Человек не может стать взрослым, не решив, что является стоящим, что интересным, что истинным, чем стоит заниматься. Если человек работает, растит семью, вступает в клубы, собирает гостей, влюбляется, принимает вызов, то это потому, что все это — виды деятельности, приносящие ему какой-то смысл. Как только мы примем, что любая деятельность может иметь или не иметь для нас смысл, нам уже не избежать экзистенциального вопроса о том, почему мы вообще встаем с постели по утрам и, далее, почему мы продолжаем жить» (Maddi, 1971, р. 137). Мадди пос-'Тулирует у человека врожденную потребность в поиске смысла, выделяя три общих группы человеческих потребностей, — физиологические, социальные и психологические. Нахождение смысла обеспечивается благодаря основным психологическим потреб-1ностям: потребностям символизации, воображения и суждения. «В конечном счете цель или объект всех трех психологических потребностей, вместе взятых — увеличение смысла. Отчетливо что-то осознать — значит вложить в это больше смысла, чем оно бы имело, будучи неосознанным. Стремиться к изменениям — значит пытаться повысить осмысленность переживания, делая его более волнующим, менее скучным. Наконец, упорядочивать опыт в свете ценностных суждений и предпочтений — значит повышать его осмысленность, помещая его в личностный контекст» (там же, р. 153).
Разное соотношение трех групп потребностей лежит в основании выделения Мадди двух путей развития личности: конформистского и индивидуалистского. Индивидуалист характеризуется развитыми психологическими потребностями, которые обеспечивают возможность понимать и контролировать социальные и биологические побуждения. Такой человек обладает собственным смыслом и проходит свой жизненный путь, будучи в состоянии контролировать свою
1.2. Подходы к пониманию смысла в психологии
49
жизнь. Конформист воспринимает себя (и других) как не более чем воплощение социальных ролей и биологических нужд. Психологические потребности являются для него источником тревоги и подавляются им. Такой человек «...принимает смысл, налагаемый на пего обществом и собственным телом, которые он воспринимает как абсолюты, требующие от него служения им без малейшей возможности выбора. Такой человек подвержен стрессам, которые способны пошатнуть эту смысловую ориентацию» (Maddi, 1971, р. 183). Итогом является развитие различных форм «экзистенциального недуга» — под этим термином у Мадди фигурирует уже неоднократно рассматривавшаяся нами смыслоутрата. Человек встает на один из двух путей развития — конформистский или индивидуалистский — it результате выбора между будущим (неизвестность) и прошлым (неизменность). Делая этот выбор, человек создает смысл (Maddi, 1983).
Подход к смыслу в экзистенциально-аналитической теории Дж. Пьюдженталя (Bugental, 1981) также отличается от всех рассмотренных выше. Бьюдженталь не соглашается ни с теми, кто считает, что смыслы (meanings) мы находим в мире как нечто данное, ни с 1сми, кто считает смысл порождением самой личности, проецируемым в мир. «Мы напрасно ищем предустановленную значимость в пас самих или в нашем мире» (Bugental, 1981, р. 304). Смыслы, по Ььюдженталю, производны от нашего бытия в мире. «Мы конструируем смыслы событий, исходя из того, кем мы являемся и чем являются объекты, включенные в это событие» (там же, р. 403). Смыслоутрата или ощущение ее угрозы как раз и является осознанием того, что мир не обеспечивает человека смыслом автоматически. Тем самым на человека ложится ответственность за создание своими действиями осмысленности и сопровождающая эту ответственность экзистенциальная тревога за последствия своего выбора. Хотя смысл у Бьюдженталя уже не выступает как нечто первичное, независимое от личности, он не теряет при этом роли интегратив-мой личностной структуры, характеризующей одно из основных свойств человека: его интенциональность.
В более поздних работах на первый план для Бьюдженталя выходит понятие жизненности. «Каждый из нас знает, что он живой, и каждый стремится быть более живым, поскольку он знает, что слишком часто он не такой живой, каким мог бы быть и каким он хочет быть» (Bugental, 1988, р.1). Ключом к нашей более полной, витальной жизненности является смысл (sense). Это «внутреннее чрение», которое позволяет нам осознавать, насколько наш внешний опыт экзистенциально согласуется с нашей внутренней природой (там же, р. 2). Оно настроено на нашу уникальную жизнь.
50
глава 1. Подходы к пониманию смысла
«Полагаться в принятии решений на правила и установления, зависеть от абстрактных принципов (например, "справедливость") и перекладывать ответственность на других — все это способствует подавлению осознания нашего внутреннего смысла, который нужен нам, чтобы ощущать витальность нашей жизни. Мои выборы должны находиться в гармонии с моим внутренним смыслом для того, чтобы они имели для меня силу» (там же, р. 100).
Обобщить пять теоретических подходов к проблеме смысла, представленных в данном разделе, — непростая задача. Хотя все они продолжают заложенную Юнгом и Адлером традицию, согласно которой принципиальной особенностью человека является его направленность на поиск и реализацию смысла, тем не менее конкретные представления о смысле и его интегративном воздействии на личность весьма различны. Не удивительно, что все рассмотренные авторы крайне редко ссылаются в своих работах друг на друга. Феникс понимает смысл как нечто чисто объективное, существующее в мире, но уникальное и единственное для каждого субъекта; Ройс — как субъективное видение, накладываемое на мир, а Бьюдженталь — как продукт взаимодействия субъекта с миром или как глубинное внутреннее чувство. Феникс говорит о смыслах во множественном числе, Мадди и Ройс — в единственном, а Франкл и Бьюдженталь объединяют и то и другое. По Франклу, задачей человека является найти и реализовать смысл; по Фениксу — расширять и углублять его; по Ройсу, наоборот, стабилизировать; по Мадди — создавать смысл в процессе принятия решений, а по Бьюдженталю — осознавать его и ориентироваться на него.
Понять такие расхождения можно, если вспомнить о роли, отводимой этими авторами смыслу в понимании личности. Практически у всех смысл выступает как предельная категория, которую невозможно определить в рамках данной конкретной психологической теории, и природу смысла остается лишь постулировать, выводя уже из этих постулатов остальные положения теории. Поэтому те подходы, в которых смысл выступает как высшая интег-ративная основа личности, характеризующая ее сущность, не могут помочь нам в определении того, что есть смысл, хотя отвечают на целый ряд вопросов, касающихся влияния смысла на поведение и развитие личности. Для того, чтобы найти ответ на вопрос о самой природе смысла, обратимся ко второй группе подходов, а именно к тем, в которых смысл выступает как структурный элемент про цессов сознания и деятельности человека.