3.3.3. Ментальная репрезентация
3.3.4. Смена протофеномена в исследовании интеллекта: переход от "познавательного процесса" к "ментальному опыту"
Глава 4. Состав и строение ментального опыта
4.1. Психологическая модель устройства ментального опыта
4.2. Особенности организации когнитивного опыта
4.2.1. Архетипические структуры
4.2.2. Способы кодирования информации
4.2.3. Когнитивные схемы
4.2.4. Семантические структуры
4.2.5. Понятийные психические структуры
4.3. Особенности организации метакогнитивного опыта
4.3.1. Непроизвольный интеллектуальный контроль
4.3.2. Произвольный интеллектуальный контроль
4.3.3. Метакогнитивная осведомленность
4.3.4. Открытая познавательная позиция
4.4. Особенности организации интенционального опыта
Глава 5. Интеллектуальные способности
5.1. Общая характеристика интеллектуальных способностей
5.1.1. Конвергентные способности
5.1.2. Дивергентные способности
5.1.3. Обучаемость
5.1.4. Познавательные стили
5.1.5. Основные проблемы в изучении интеллектуальных способностей
5.2. Результаты эмпирического исследования связей компонентов ментального опыта с конвергентными и дивергентными способностями
5.3. Особенности организации психического времени в контексте проблемы интеллектуальных способностей
Глава 6. Интеллектуальная одаренность как проявление своеобразия ментального опыта личности
6.1. Типы интеллектуальной одаренности
6.2. Психические механизмы компетентности, таланта и мудрости
6.3. Сравнительное эмпирическое исследование "одаренных" и "обычных" школьников
Глава 7. Интеллектуальное воспитание личности в условиях современного школьного образования
7.1. Задачи интеллектуального воспитания учащихся и тенденции развития современной школы
7.1.1. Основные компоненты школьного образования в условиях интеллектуального воспитания учащихся
7.1.2. Интеллектуальное воспитание: элитизм или равенство?
7.1.3. Критерии интеллектуальной воспитанности
7.2. Психологические основы "обогащающей модели" обучения
7.2.1. Основные психологически ориентированные модели школьного обучения
7.2.2. Общая характеристика "обогащающей модели" обучения
7.3. Школьный учебник как интеллектуальный самоучитель
7.3.1. Психологические требования к конструированию учебных текстов
7.3.2. Основные линии обогащения ментального опыта учащихся
Вместо заключения
Терминологический словарь
Литература
Как правило, специалист не читает предисловий, ибо знает, как и для чего они пишутся. Неспециалисту также более интересно содержание работы, чем общие рассуждения о проблеме. Поэтому я согласился написать предисловие к этой книге исходя из следующих соображений. Во-первых, нужно доставить удовольствие себе и автору: похвалить человека всегда приятно, тем более своего коллегу. Во-вторых, есть возможность зафиксировать публично сходство и расхождение своих научных позиций с позицией автора этой книги, что будет полезно для наших последующих исследований.
Психология интеллекта в нашей стране долгое время была Золушкой. Интеллект отождествлялся с мышлением и не рассматривался как единая когнитивная система, тем более - в качестве общей способности.
Интеграция отечественной психологии с мировой, происходящая в последние годы, коснулась и психологии интеллекта. Причем решающую роль в этом сыграли психодиагносты. Тесты интеллекта стали широко переводиться, издаваться, использоваться в школьной, клинической практике и при профессиональном отборе.
Соответственно возрос интерес и к теории интеллекта. На первом плане оказались факторные модели интеллекта. В середине 1980-х годов часть отечественных психологов обратилась к изучению когнитивных стилей, а позже (как и во всем мире) внимание к себе привлекли работы Р. Стернберга, посвященные обыденным теориям интеллекта.
Условно все работы в области психологии интеллекта можно разделить на три большие группы (не считая множества мелких): 1) психогенетика интеллекта; 2) общая психология интеллекта; 3) дифференциальная психология и психометрика интеллекта.
Наиболее значительные результаты получены исследователями в первой и третьей областях. Между тем общая психология интеллекта до сих пор остается на периферии, поскольку, на первый взгляд, она не дает прямых практических рекомендаций в отличие от психодиагностики и психогенетики.
Монография М.А. Холодной посвящена именно общепсихологическим проблемам психологии интеллекта. Автор данного предисловия, напротив, является приверженцем не "концептуальной", а "измерительной" психологии, то есть той психологии, которая основывает свои выводы на количественных результатах, полученных с помощью стандартизированных процедур сбора и обработки данных.
М.А. Холодная определяет интеллект как форму организации ментального (умственного) опыта субъекта. С моей же точки зрения, организация ментального опыта, точнее, уровень, который может достичь его организация, определяется общей способностью к умственной деятельности, а именно: общим интеллектом, свойством некоторой психической системы, которая не тождественна ментальному опыту. Структура ментального опыта есть результат функционирования этой системы.
Но это не мешает мне признать, что результаты исследований и исходная позиция М.А. Холодной являются не только оригинальными, но и чрезвычайно продуктивными. Более того, до сегодняшнего дня в отечественной психологии не появилось работы, приближающейся по научному уровню к исследованию М.А. Холодной.
7
Ее модель психологической структуры интеллекта наиболее полно обобщает современные знания в этой области.
Концепция М.А. Холодной дает ключ к решению фундаментальной проблемы: чем определяются индивидуальные различия в интеллектуальной продуктивности? От каких параметров психики как системы, перерабатывающей информацию, они зависят? Ключевым понятием, которое может быть использовано для установления связи общепсихологического и дифференциально-психологического подходов к исследованию интеллекта, является понятие "ментальное пространство", точнее - "мерность ментального пространства". В своей концепции когнитивного ресурса я пытаюсь (удачно или не удачно - другой вопрос) использовать эти понятия при объяснении некоторых экспериментальных результатов.
Результаты своих исследований М.А. Холодная с успехом применяет в совместной работе с учеными Томского государственного университета по разработке принципиально нового поколения школьных математических учебников.
И несколько слов об авторе. М.А. Холодная - доктор психологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории психологии способностей Института психологии Российской академии наук. Безупречное качество ее исследований известно еще с той поры, когда она была аспиранткой факультета психологии Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) университета.
Книга, которую вы держите в руках, не только научная монография. Она более похожа на авторский трактат в стиле мыслителей эпохи Возрождения: автор ярко, страстно, прекрасным литературным языком излагает свои взгляды. Тот, кто их разделяет, еще раз сможет убедиться в своей правоте. Тот, кто эти взгляды не разделяет, возможно, усомнится в своей точке зрения, а значит - вернется к научной работе. Ибо наука начинается с сомнения.
Тираж первого издания монографии М.А. Холодной разошелся в считанные месяцы. Книга получила прекрасные отзывы от ученых, преподавателей и студентов. Второе, дополненное издание - у вас перед глазами, и я с удовольствием рекомендую его всем, интересующимся современной научной психологией.
Заведующий лабораторией психологии
способностей Института психологии РАН,
доктор психологических наук,
профессор
| В.Н. Дружинин |
8
Статус проблемы интеллекта является парадоксальным с самых разных точек зрения: парадоксальны и его роль в истории человеческой цивилизации, и отношение к интеллектуально одаренным людям в обыденной социальной жизни, и характер его исследований в области психологической науки.
Вся мировая история, основанная на блестящих догадках, изобретениях и открытиях, свидетельствует о том, что человек, безусловно, разумен. Однако та же история предъявляет многочисленные доказательства глупости и безумия людей. Подобного рода амбивалентность состояний человеческого ума позволяет заключить, что, с одной стороны, способность к разумному познанию является мощным естественным ресурсом человеческой цивилизации. С другой стороны, способность быть разумным - это тончайшая психологическая оболочка, мгновенно сбрасываемая человеком при неблагоприятных условиях.
Психологической основой разумности является интеллект. В общем виде интеллект - это система психических механизмов, которые обусловливают возможность построения "внутри" индивидуума субъективной картины происходящего. В своих высших формах такая субъективная картина может быть разумной, то есть воплощать в себе, по словам К. Маркса, ту универсальную независимость мысли, которая относится ко всякой вещи так, как того требует сущность самой вещи (Маркс, 1955). Психологические корни разумности (равно как глупости и безумия), таким образом, следует искать в механизмах устройства и функционирования интеллекта.
С психологической точки зрения назначение интеллекта - создавать порядок из хаоса на основе приведения в соответствие индивидуальных потребностей с объективными требованиями реальности. Проторивание охотничьей тропы в лесу, использование созвездий как ориентиров в морских путешествиях, пророчествования, изобретения, научные дискуссии и т.п., то есть все те области человеческой деятельности, где надо что-то узнать, сделать нечто новое, принять решение, понять, объяснить, открыть, - все это сфера действия интеллекта. Интеллект - как здоровье: когда он есть и когда он работает, его не замечаешь и о нем не думаешь, когда же его недостаточно и когда в его работе начинаются сбои, то нормальный ход жизни нарушается.
Общеизвестно, что в современных условиях интеллектуальный потенциал населения - наряду с демографическим, территориальным, сырьевым, технологическим параметрами того или иного общества - является важнейшим основанием его прогрессивного развития.
Во-первых, одним из решающих факторов экономического развития сейчас оказывается интеллектуальное производство, а ключевой формой собственности - собственность интеллектуальная. По мнению ряда аналитиков, в настоящее время можно говорить о глобальном интеллектуальном переделе мира, означающем жесткую конкурентную борьбу отдельных государств за преимущественное обладание интеллектуально одаренными людьми - потенциальными носителями нового знания.
Во-вторых, интеллектуальное творчество, будучи неотъемлемой стороной человеческой духовности, выступает в качестве социального механизма, который противостоит регрессивным линиям в развитии общества. Продуктом интеллектуального
9
творчества являются идеи. Слой идей в общественной атмосфере подобен озоновому в обычной земной атмосфере. Чем меньше в обществе умных людей, тем в большей мере истончается интеллектуальный культурный слой, тем, следовательно, больше "озоновых дыр" и тем более выражены деструктивные тенденции в обществе. "Сон разума рождает чудовищ" - сколь многочисленны драматические подтверждения этой максимы!
В-третьих, работа интеллекта - это гарантия личной свободы человека и самодостаточности его индивидуальной судьбы. Чем в большей мере человек использует свой интеллект в анализе и оценке происходящего, тем в меньшей мере он податлив по отношению к любым попыткам манипулирования им извне. Философская формула "свобода есть познанная необходимость" верна и в психологическом плане: человек может вести себя независимо от ситуации, только если он имеет полное и адекватное представление об этой ситуации.
Перечень доказательств значимости интеллекта можно продолжать еще долго. Однако в этом нет смысла, поскольку декларирование исключительной роли этого уникального человеческого качества самым парадоксальным образом не соответствует реально сложившемуся отношению к проблеме интеллекта: фактически, интеллект оказался подвергнутым своего рода остракизму и на государственно-идеологическом, и на обыденно-житейском, и на профессионально-психологическом уровнях.
Государство как общественный институт, призванный заниматься организацией жизни своих граждан, как правило, настороженно относится к интеллектуально одаренным людям, явно отдавая свои симпатии людям с любым другим типом одаренности (спортсменам, певцам, поэтам, мастерам по вышивке бисером и т.д.). Социально-государственный инстинкт отвержения "чересчур умных", несомненно, связан с боязнью инакомыслия как явления, способного поставить под вопрос или разрушить общепринятые социальные ценности. В целом по отношению общества к своей интеллектуальной элите можно судить о том, здорово оно либо поражено вирусом тоталитаризма (независимо от того, исповедуется при этом коммунистическая, националистическая, демократическая или религиозная идеология). Ни один тоталитарный режим не заинтересован в развитии интеллектуальных возможностей своих граждан, поскольку неумными людьми управлять значительно легче.
В свою очередь, на обыденно-житейском уровне существует стойкий стереотип о необязательности и даже нежелательности интеллекта в ряду других личных психологических качеств. "Горе от ума" - с этой констатацией готовы согласиться очень многие. В одном из наших исследований практически все взрослые испытуемые, отмечая в виде точки свое положение на оси с полюсами "очень глупый - очень умный", стремились сместить себя к середине шкалы. Общее мнение выразил в объяснении своего выбора один из испытуемых, заявив: "Я не настолько глуп, чтобы быть умным". По-видимому, игнорирование интеллекта в сфере обыденного индивидуального умонастроения обусловлено не только влиянием жизненных реалий, но и действием психологической самозащиты личности, связанной с потребностью избежать опасности "погибнуть от истины" (Фр. Ницше).
Наконец, если обратиться к психологической науке, то легко убедиться, что традиционные психологические исследования превратили интеллект в некую частную способность, имеющую весьма слабое отношение к реальным проблемам человеческой жизни.
10
Так, в западной психологии, несмотря на огромное количество работ, посвященных интеллекту, нарастает волна критики этого понятия со ссылкой на отсутствие у него каких-либо объяснительных возможностей. Это не удивительно. Ибо принятый взгляд на интеллект как на способность решать задачи (как правило, в виде определения "интеллект - это то, что измеряют тесты интеллекта") привел к тому, что интеллект оказался противопоставленным естественным проявлениям интеллектуальной активности (обыденному интеллекту), творческим интеллектуальным возможностям (креативности), эффективности социального познания (социальной компетентности) и т.д. Исследования интеллекта все в большей степени напоминали "игру в бисер". В итоге назначение интеллекта оказалось представленным в столь усеченном и обедненном виде, что его роль в психологической жизни человека начинала просматриваться все более проблематично.
В отечественной психологии, напротив, публикации по проблеме интеллекта исчисляются единицами. Достаточно взять любой учебник психологии, чтобы убедиться, что термин "интеллект" там практически не фигурирует. Своего рода принижению интеллекта, отождествляемому, как правило, с логическим, рациональным, аналитическим началом, в определенной мере способствовал возросший в последние годы интерес отечественных психологов к иррациональным субъективным состояниям, трактовке человеческого познания как творческой (надситуативной) активности, переход к анализу потребностно-мотивационной и смысловой сферы личности как источников своеобразия познавательного отношения человека к миру и т.п. В результате для профессионального психологического исследования "человек переживающий" оказался более привлекательным, чем "человек разумный".
Короче говоря, если для западной психологии проблема интеллекта попала в разряд двусмысленных тем (действительно, стоит ли браться за изучение интеллекта, если его существование в качестве реального психического качества подвергается сомнению), то в отечественной психологии эта проблема приобрела репутацию неинтересной темы.
За неверное представление об интеллекте, выстроившееся в общественном сознании на разных его уровнях, приходится платить дорогую цену, выражающуюся в падении интеллектуального потенциала общества. Речь идет о феномене "функциональной глупости", обнаруживающем себя в увеличении в общей массе населения числа лиц со средним и низким уровнем интеллектуальных возможностей. Такого рода смещение нормального распределения интеллектуальных способностей людей имеет временный характер и наблюдается в условиях действия целого ряда неблагоприятных для жизни человека факторов. К числу последних можно отнести генетико-биологические факторы (ухудшение режима питания, экологической обстановки, медицинского обслуживания, рост алкоголизации населения и т.д.), социально-экономические факторы (политическую нестабильность, "утечку мозгов", вынужденную миграцию, снижение качества образования, разрушение науки как социального института, идеологическую обработку населения в духе очередных политических лозунгов и т.д.), психологические факторы (стрессы, внутриличностные и межличностные конфликты, разрушение образа будущего и т.д.). В современном российском обществе все эти факторы представлены в полном наборе. Следует подчеркнуть, что если их действие будет достаточно длительным, то тенденция роста "функциональной глупости" может приобрести необратимый характер со всеми вытекающими отсюда последствиями.
11
По прогнозу японских футурологов, в начале третьего тысячелетия все страны мира распределятся на три группы в зависимости от того, что та или иная страна смогут предложить на мировом рынке, с соответствующими показателями уровня жизни своего населения. Первая группа стран будет торговать идеями, проектами и технологиями, поэтому граждане этих стран будут жить достаточно хорошо. Вторая группа стран сможет предложить миру сложную радиоэлектронную технику, в результате проживающие в них граждане будут жить хуже. Третья группа стран будет снабжать мировой рынок продукцией машиностроения, пищевой промышленности и сырьем, и, как следствие, уровень жизни граждан этих стран будет весьма низким. По-видимому, следует предусмотреть существование еще одной, четвертой группы стран, которые окажутся в состоянии предложить мировому сообществу только дешевую рабочую силу. Комментарии к вопросу о качестве жизни граждан этих стран, а также к вопросу о возможном месте России в будущей мировой системе излишни.
Психология как наука, изучающая человека, может только то, что она может, - вернуть проблему интеллекта на законное место с учетом ее объективной значимости. В настоящее время положение дел в области психологии интеллекта по целому ряду позиций действительно парадоксально. Однако в науке констатация парадоксальности изучаемого явления всегда являлась свидетельством того, что созрели условия для пересмотра существующих на данный момент представлений о природе данного явления и формирования качественно нового взгляда на соответствующую научную проблему. Психологические исследования интеллекта, связанные с изучением общих закономерностей его организации, функционирования и критериев развития, в этом плане исключением не являются.
12
Существует ли интеллект как психическая реальность? (причины кризиса тестологических теорий интеллекта)
Они хотят сказать, что человека можно изучать снаружи как огромное насекомое. По их мнению, это беспристрастно, а это просто бесчеловечно.
Г. Честертон
1.1. Истоки и результаты дискуссии о "количестве"
интеллектов: один, два или много?
Долгие годы монополия в изучении интеллектуальных возможностей человека, как известно, принадлежала тестологии. Именно в рамках этого направления оформилось понятие "интеллект" в качестве научной психологической категории, и именно тестология, имея почти вековую историю исследования этого психического качества, вынуждена была признать свое полное бессилие в определении его природы. Более того, А. Дженсен, один из видных специалистов в этой области, в одной из своих публикаций вынужден был заявить, что для научных целей понятие интеллекта вообще не пригодно и от него следует отказаться (Jensen, 1987). К аналогичному выводу пришел и М. Хоув, заявив, что слово "интеллект" допустимо применять только как описательный, сугубо житейский термин в силу отсутствия у соответствующего понятия каких-либо объяснительных возможностей (Howe, 1988). Совершенно очевидно, что эти суждения отнюдь нельзя отнести на счет экстравагантности авторских позиций.
13
В чем же дело? Почему тестологическая (психометрическая) парадигма, несмотря на мощное методическое обеспечение в виде огромного количества разнообразных, безупречных по своему психометрическому обоснованию тестов, использование строгих средств статистического анализа в виде аппарата математической статистики, богатейший опыт практического приложения диагностических данных (в образовании, профотборе и т.д.), не только не смогла породить сколько-нибудь приемлемую концепцию интеллекта, но, напротив, способствовала нарастанию критики понятия "интеллект"? Подчеркнем, что драматизм ситуации заключается даже не в ничтожности конечного теоретического результата тестологических исследований (хотя воистину: "гора родила мышь"), а в его деструктивности, ибо отказ от попытки определения интеллекта поставил под вопрос саму возможность его существования как реального психического образования.
Чтобы разобраться в причинах столь необычного положения дел (а заодно в очередной раз убедиться в том, что гораздо полезнее анализировать чужие ошибки, нежели извлекать запоздалые выводы из своих собственных), попробуем проследить логику формирования представлений об интеллекте на разных этапах развития тестологического подхода.
Впервые вопрос о существовании индивидуальных различий в умственных (интеллектуальных) способностях поставил Фр. Гальтон в своей книге "Исследование человеческих способностей и их развитие", опубликованной в 1883 году. Гальтон полагал, что интеллектуальные возможности закономерно обусловливаются особенностями биологической природы человека и принципиально ничем не отличаются от его физических и физиологических характеристик. В качестве показателя общих интеллектуальных способностей рассматривалась сенсорная различительная чувствительность. Первая исследовательская программа, разработанная и реализованная Гальтоном в конце XIX века в Лондоне, была ориентирована на выявление способности к различению размера, цвета, высоты звука, времени реакции на свет наряду с определением веса, роста и других сугубо физических особенностей испытуемых. Несколько лет спустя, в строгом соответствии с воззрениями Гальтона, Дж. Кеттелл разработал серию специальных процедур (названных "тестами"), обеспечивающих измерение остроты зрения, слуха, чувствительности к боли, времени двигательной реакции, предпочтения цветов и т.п. Таким образом, на начальном этапе интеллект отождествлялся с простейшими психофизиологическими функциями, при этом подчеркивался врожденный (органический) характер интеллектуальных различий между людьми.
1905 год был переломным в изучении интеллекта. Понимание природы интеллектуальных способностей с этого времени оказывается под влиянием практического запроса. Созданная по указанию французского министра просвещения комиссия для обсуждения вопроса о детях, отстающих в своем познавательном развитии и не способных обучаться в обычных школах, сформулировала задачу разработать объективные критерии для выявления таких детей, с тем чтобы обучать их в школах специального типа.
А. Бине и Т. Симон попытались решить эту сугубо прикладную задачу, предложив серию из 30 заданий (тестов) для измерения уровня умственного развития ребенка. В шкале умственного развития Бине-Симона (вариант 1911 года) тестовые задания группировались по возрастам. Например, для 6-летнего ребенка предлагались следующие задания: назвать свой возраст, повторить предложение из 10 слов, указать способы использования знакомого предмета и т.д. Задание для 12-летнего ребенка: повторить
14
7 цифр, найти за 1 минуту 3 рифмы к заданному слову, объяснить смысл картинок и т.д.
По сути, с этого момента и начинает формироваться тестологическая парадигма в исследовании интеллекта, на десятилетия вперед предопределившая ракурс анализа природы интеллектуальных возможностей человека.
Оценка уровня интеллектуального развития осуществлялась на основе соотнесения реального хронологического возраста ребенка с его "умственным возрастом". Умственный возраст определялся как тот наивысший возрастной уровень, на котором ребенок мог правильно выполнить все предложенные ему задания. Так, умственный возраст 6-летнего ребенка, который успешно выполнил все задания для детей в возрасте 6,7 и 8 лет, равнялся 8 годам. Несовпадение умственного и хронологического возрастов считалось либо показателем умственной отсталости (умственный возраст ниже хронологического), либо умственной одаренности (умственный возраст выше хронологического). Позднее в качестве меры развития интеллекта было предложено рассматривать соотношение:
| умственный возраст |
| хронологический возраст |
Ч 100%,
которое получило название "коэффициент интеллекта" (intelligence quotient, или сокращенно IQ).
Как можно видеть, в отличие от Гальтона, который рассматривал интеллект как совокупность врожденных психофизиологических функций, Бине признавал влияние окружающей среды на особенности познавательного развития. Поэтому интеллектуальные способности оценивались им не только с учетом сформированности определенных познавательных функций, в том числе и таких более сложных познавательных процессов, как запоминание, пространственное различение, воображение и т.д., но и уровня усвоения социального опыта (осведомленности, знания значений слов, владения некоторыми социальными навыками, способности к моральным оценкам и т.д.). Содержание понятия "интеллект" оказалось, таким образом, расширенным как с точки зрения перечня его проявлений, так и с точки зрения факторов его становления. В частности, Бине впервые заговорил о возможности "умственной ортопедии" (серии обучающих процедур, использование которых позволит повысить качество интеллектуальной деятельности).
Тем не менее нельзя не заметить, что в контексте такого подхода интеллект определялся не столько как способность к познанию, сколько как достигнутый уровень психического развития, проявляющийся в показателях сформированности определенных познавательных функций, а также в показателях степени усвоения знаний и навыков.
Итак, "слово было сказано" - сформулированная Гальтоном и Бине идея о возможности объективного измерения человеческого интеллекта начала свое торжественное шествие по странам и континентам. Два обстоятельства способствовали практически безоговорочному принятию тестологических представлений в качестве доминирующего профессионально-психологического умонастроения: во-первых, лавинообразный рост количества различных интеллектуальных тестов, чрезвычайно удобных в использовании, и, во-вторых, активное применение статистического аппарата обработки результатов тестовых исследований (главным образом, факторного анализа). Чрезмерное увлечение интеллектуальными тестами и чрезмерное доверие
15
к статистическим методам выступили в качестве тех двух субъективных оснований, на которых сформировался "колосс на глиняных ногах" - современная тестология. Не будем, однако, забегать вперед с оценками.
Уже с начала века в рамках тестологической парадигмы складываются две прямо противоположные по своим конечным теоретическим результатам линии трактовки природы интеллекта: одна связана с признанием общего фактора интеллекта, в той или иной степени представленного на всех уровнях интеллектуального функционирования (К. Спирмен), другая - с отрицанием какого-либо общего начала интеллектуальной деятельности и утверждением существования множества независимых интеллектуальных способностей (Л. Терстоун). Само по себе такое расхождение позиций было весьма удивительным, поскольку эти теоретические подходы имели дело с одним и тем же исходным эмпирическим материалом (результативными характеристиками интеллектуальной деятельности), одним и тем же типом измерительных процедур (тестами интеллекта - вербальными и невербальными), одной и той же техникой обработки данных (процедурами корреляционного и факторного анализа). Тем не менее на обсуждение принципов устройства человеческого интеллекта (является ли интеллект единой способностью или "коллекцией" разных способностей) были затрачены долгие годы, хотя результат этих многолетних дискуссий оказался, как мы дальше увидим, весьма неожиданным.
Теория интеллекта Спирмена базировалась на факте наличия положительных корреляционных связей между результатами выполнения различных интеллектуальных тестов. Если в каком-либо исследовании отмечалось отсутствие таких связей, то Спирмен объяснял это влиянием ошибок измерения. По его мнению, наблюдаемые корреляции всегда ниже теоретически ожидаемых, и это различие является функцией надежности коррелируемых тестов. Если откорректировать этот эффект "ослабления", то величина связей будет стремиться к единице. Основой связи выполнения разных тестов, по его мнению, является наличие в каждом из них некоторого общего начала, получившего название "общего фактора" интеллекта (general factor, сокращенно g). Кроме фактора g, был выделен и фактор s, характеризующий специфику каждого конкретного тестового задания. Поэтому данная теория получила название "двухфакторной теории интеллекта" (Spearman, 1904; 1927).
Спирмен полагал, что фактор g -это и есть собственно интеллект, сущность которого сводится к индивидуальным различиям в "умственной энергии". Проанализировав тесты, которые наиболее ярко представляли общий фактор интеллекта, Спирмен пришел к выводу, что уровень умственной энергии обнаруживает себя в способности выявлять связи и соотношения как между элементами собственных знаний, так и между элементами содержания тестовой задачи.
Действительно, последующие исследования показали, что максимальную нагрузку по фактору g обычно имеют следующие тесты: "Прогрессивные матрицы" Равена, обнаружение закономерности в последовательности цифр или фигур, вербальные аналогии (задачи на установление сходства двух понятий, а также задачи на установление связи между двумя понятиями с последующим поиском третьего понятия, которое будет воспроизводить эту связь), угадывание содержания представленных в визуально неопределенной форме картинок, классификация фигур, понимание текста и т.п.
16
В свою очередь, минимальную нагрузку по этому фактору имеют такие тесты, как узнавание слов и чисел, вычеркивание определенных букв, скорость сложения чисел, заучивание и т.п. Дж. Томпсон на этом основании сделал вывод о том, что задачи, характеризующие общий интеллект, - это "...задачи на выявление связей, которые требуют выхода за пределы усвоенных навыков, предполагают детализацию опыта и возможность сознательного умственного манипулирования элементами проблемной ситуации" (Thompson, 1984, р. 468).
Таким образом, Спирмену удалось разграничить уровневые свойства интеллекта (показатели сформированности основных сенсорно-перцептивных и вербальных функций) и его комбинаторные свойства (показатели способности выявлять связи, имплицитно заданные в том или ином содержании). Иными словами, впервые была поставлена проблема репродуктивных и продуктивных аспектов интеллектуальной деятельности.
Единственное, что нарушало убедительность теоретических воззрений Спирмена, - это факт существования высоких корреляций между определенными, сходными по содержанию тестами. Данное обстоятельство вынуждало к признанию наличия парциальных когнитивных механизмов (иначе говоря, различающихся между собой способностей), что, безусловно, никак не совмещалось с идеей универсального единства всех видов интеллектуальной деятельности.
В рамках теории интеллекта Л. Терстоуна возможность существования общего интеллекта отвергалась. Прокоррелировав результаты выполнения испытуемыми 60 разных тестов, предназначенных для выявления самых разных сторон интеллектуальной деятельности, Терстоун получил более 10 групповых факторов, 7 из которых были им идентифицированы и названы "первичными умственными способностями":
S - "пространственный" (способность мысленно оперировать пространственными отношениями);
Р - "восприятие" (способность детализировать зрительные образы);
N - "вычислительный" (способность выполнять основные арифметические действия);
V - "вербальное понимание" (способность раскрывать значение слов);
F - "беглость речи" (способность быстро подобрать слово по заданному критерию);
М - "память" (способность запоминать и воспроизводить информацию);
R - "логическое рассуждение" (способность выявлять закономерность в ряду букв, цифр, фигур).
Соответственно был сделан вывод о том, что для описания индивидуального интеллекта нельзя использовать единственный IQ-показатель, но, скорее, индивидуальные интеллектуальные способности должны быть описаны в терминах профиля уровня развития первичных умственных способностей, которые проявляются независимо одна от другой и отвечают за строго определенную группу интеллектуальных операций. Поэтому данная теория получила название "многофакторной теории интеллекта" (Thurstone, 1938).
Однако достаточно быстро выяснилось, что представление о существовании некоторого множества самостоятельных интеллектуальных способностей не может быть принято безоговорочно. Так, было отмечено, что между тестами, использованными
17
Терстоуном, как правило, наблюдаются положительные корреляции. Этот факт вынуждал вернуться к идее общего когнитивного "знаменателя" большинства тестовых результатов. Кроме того, проведение факторного анализа 2-го порядка (то есть факторизация корреляций всех возможных пар факторов) показало возможность объединения "первичных умственных способностей" в более обобщенный фактор, аналогичный спирменовскому фактору g (Brody E., Brody N., 1976).
Таким образом, поскольку результаты исследований Терстоуна не исключали возможности существования общего фактора, точно так же и результаты Спирмена - существования групповых факторов, то получалось, что и двухфакторная, и многофакторная теории интеллекта - это фактически одна теория, имеющая дело с описанием одного и того же феномена с подчеркиванием в нем либо общего (Спирмен), либо специфического (Терстоун).
Тем не менее дальнейшее развитие представлений о природе интеллекта в тестологическом его понимании было связано с обоснованием, с одной стороны, "целостности" интеллекта и, с другой стороны, - его "множественности".
Первая линия (признание общего интеллекта) представлена работами Р. Кеттелла, Ф. Вернона, Л. Хамфрэйса и др. Так, Кеттелл, используя большой набор тестов и процедуру факторного анализа (технику наклонной ротации), получил некоторое количество первичных факторов. Эти данные он взял как основу для факторного анализа 2-го порядка. В итоге он смог описать 5 вторичных факторов. Два из них характеризовали спирменовский g-фактор, но уже разделенный на два компонента: gc -"кристаллизованный интеллект", представленный тестами на запас слов, чтение, учет социальных нормативов и т.п., и фактор gf - "текучий интеллект", представленный тестами на выявление закономерности в ряду фигур и цифр, объем оперативной памяти, пространственные операции и т.д. Кроме этих базовых интеллектуальных способностей, Кеттелл идентифицировал три дополнительных фактора: gv - "визуализация" (способность манипулировать образами при решении дивергентных задач), gm -"память" (способность сохранять и воспроизводить информацию) и gs -"скорость" (способность поддерживать высокий темп реагирования) (Cattell, 1971).
По мнению Кеттелла, кристаллизованный интеллект - это результат образования и различных культурных влияний, его основная функция заключается в накоплении и организации знаний и навыков. Текучий интеллект характеризует биологические возможности нервной системы, его основная функция - быстро и точно обрабатывать текущую информацию. Вместо одного (общего) интеллекта появилось, таким образом, уже два интеллекта с радикально разными механизмами.
Впоследствии выяснилось, что разделение общего интеллекта на два типа умственных способностей - кристаллизованные и текучие - носит достаточно условный характер. Во-первых, по данным самого Кеттелла, факторы gc и gf коррелировали между собой на уровне r = 0,40-0,50, причем в оба эти фактора примерно с одинаковым весом входили одни и те же тесты, характеризующие способность к установлению семантических связей (тест аналогий и тест формальных суждений). Во-вторых, Л. Хамфрейс, реинтерпретировав данные Кеттелла, получил единый "интеллектуально-образовательный фактор", одновременно включающий и gc, и gf (Humphreys, 1967).
Итак, Кеттелл выделил две стороны в работе интеллекта: одна из них обусловливается влияниями окружающей среды, другая - особенностями строения и функционирования
18
головного мозга. Тем не менее факт взаимозависимости gc и gf (кстати, характерно, что эти два измерения наиболее высоко коррелируют у лиц, имеющих сходный образовательный и культурный уровень) вновь поднял вопрос о природе некоторого общего механизма, в той или иной мере проникающего во все виды интеллектуальной деятельности и предопределяющего наличный уровень как gc, так и gf,. Иными словами, исследования Кеттелла, начавшись с утверждения о существовании спирменовского общего фактора интеллекта, фактически доказали сложность его устройства. Однако полученные результаты вынуждали снова вернуться к идее общего интеллекта - уже в иной, не-спирменовской интерпретации.
Аналогичная линия в трактовке интеллекта, связанная с подчеркиванием единого основания интеллектуальной деятельности, характерна для исследований Дж. Равена. Работая над проблемой источников умственной отсталости и используя при этом интеллектуальную шкалу Стэнфорд-Бине, Равен отметил громоздкость последней и сложность интерпретации полученных результатов. Будучи учеником Спирмена, он придерживался той точки зрения, что умственные способности включают два компонента: продуктивный (способность выявлять связи и соотношения, приходить к выводам, непосредственно не представленным в заданной ситуации) и репродуктивный (способность использовать прошлый опыт и усвоенную информацию).
Пытаясь найти способ измерения продуктивных возможностей интеллекта, Равен создал особый тест, ориентированный на диагностику способности к выявлению закономерностей в организации серий последовательно усложняющихся геометрических фигур ("тест прогрессивных матриц") (Raven J.С., 1960). Неоднократно отмечалось, что тест Равена является одним из наиболее "чистых" измерений g. Кроме того, диагностируемые с помощью матриц Равена продуктивные свойства интеллекта гораздо лучше предсказывают интеллектуальные достижения человека по сравнению с репродуктивными свойствами, диагностируемыми вербальными тестами типа теста запаса слов (Raven J., 1985). Впоследствии успешность выполнения теста "Прогрессивные матрицы" стала интерпретироваться как показатель способности к научению на основе обобщения (концептуализации) собственного опыта в условиях отсутствия внешних указаний (Raven J., 1989).
Таким образом, на этом этапе в рамках тестологической парадигмы был сделан существенный шаг в развитии представлений о природе интеллекта, обусловленный пониманием того обстоятельства, что интеллект не может быть сведен к степени выраженности определенных познавательных функций либо к совокупности усвоенных знаний. Интеллект определяется как продуктивная способность, обеспечивающая возможность выявления связей и отношений в заданных тестовых ситуациях.
Дальнейшее углубление идеи целостности человеческого интеллекта характеризуется разработкой иерархических теорий интеллекта. Так, Ф. Верной на основе факторного анализа получил фактор g, включающий порядка 52% всех интеллектуальных функций. Этот фактор распадается на два основных групповых фактора: V : ED (вербально-цифровой-образовательный) и К : М (механико-пространственно-практический). Данные факторы, в свою очередь, включают так называемые второстепенные групповые факторы, характеризующие частные интеллектуальные способности. Последние также разделяются на некоторое множество специфических факторов, представляющих каждую отдельную тестовую методику и образующих самый нижний, четвертый уровень этой интеллектуальной иерархии (Vernon, 1965).
19
В более сложной форме представление об иерархическом строении различных проявлений интеллектуальной деятельности было развито в радиально-уровневой теории интеллекта Л. Гуттмана. По мнению этого автора, тесты могут различаться как по степени сложности относительно одной и той же способности (например, в рамках способности оперировать цифрами разные тесты могут различаться по уровню трудности их исполнения), так и по типу сложности относительно одной и той же способности (например, задания на выявление закономерности могут быть представленными на разных типах материала в виде цифр, понятий, оценок поведения других людей и т.д.). В первом случае можно говорить о "простом порядке сложности" ("вертикальный" принцип организации тестовых заданий), во втором - о "круговом порядке сложности" ("горизонтальный" принцип организации тестовых заданий) (Guttman, 1955).
Главным теоретическим результатом вышеперечисленных исследований явилось признание существования "общего интеллекта", то есть некоторого единого основания, с большим или меньшим удельным весом представленного в разных видах интеллектуальной деятельности. В свою очередь, ценность положения об иерархической организации интеллектуальных функций заключалась в выделении высших и низших уровней интеллектуальной активности, а также в идее наличия управляющих влияний в системе интеллектуальных компонентов разной степени общности.
Впоследствии идея общего интеллекта трансформировалась в представление о возможности оценки уровня общего интеллекта на основе суммирования результатов выполнения некоторого множества тестов. Появились так называемые интеллектуальные шкалы, включающие набор вербальных и невербальных субтестов (например, интеллектуальная шкала Векслера для взрослых включала 11 субтестов, интеллектуальная шкала Амтхауэра - 9 субтестов). Индивидуальная оценка уровня общего интеллекта определялась как сумма баллов успешности выполнения всех субтестов. В данном случае мы сталкиваемся с фактической подменой понятий: измерение "общего интеллекта" (general intelligence) превратилось в измерение "интеллекта в среднем" (intelligence in general) (Tuddenham, 1962).
Вторая линия в развитии тестологических исследований была связана с дальнейшей разработкой идеи Терстоуна о множественности интеллектуальных способностей. Яркий пример такого подхода - структурная модель интеллекта Дж. Гилфорда (Гилфорд, 1965). В отличие от теории Терстоуна, в которой факторный анализ служил средством выявления "первичных способностей", в теории Гилфорда факторный анализ выступал как средство доказательства предварительно сконструированной теоретической модели интеллекта, постулирующей существование 120 узкоспециализированных независимых способностей. В частности, при построении "структурной модели интеллекта" Гилфорд исходил из трех основных критериев, позволяющих описать и конкретизировать три аспекта интеллектуальной деятельности.
- Тип выполняемой умственной операции:
- 1) познание - опознание и понимание предъявленного материала (например, узнать предмет по неопределенному силуэту);
- 2) конвергентная продуктивность - поиск в одном направлении при получении одного-единственного правильного ответа (обобщить одним словом несколько понятий);
20
- 3) дивергентная продуктивность - поиск в разных направлениях при получении нескольких в равной мере правильных ответов (назвать все возможные способы использования знакомого предмета);
- 4) оценка - суждение о правильности (логичности) заданной ситуации (найти фактическое либо логическое несоответствие в картинке);
- 5) память - запоминание и воспроизведение информации (запомнить и назвать ряд цифр).
- Содержание интеллектуальной деятельности:
- 1) конкретное (реальные предметы или их изображения);
- 2) символическое (буквы, знаки, цифры);
- 3) семантическое (значение слов);
- 4) поведенческое (поступки другого человека и самого себя).
- Разновидности конечного продукта:
- 1) единицы объектов (вписать недостающие буквы в слова);
- 2) классы объектов (рассортировать предметы на группы);
- 3) отношения (установить связи между объектами);
- 4) системы (выявить правило организации множества объектов);
- 5) трансформации (изменить и преобразовать заданный материал);
- 6) импликации (предвидеть результат в рамках ситуации "что будет, если...").
Таким образом, с одной стороны, если быть теоретически последовательным, то, согласно Гилфорду, для уверенного определения уровня интеллектуального развития конкретного человека во всей полноте его интеллектуальных способностей необходимо использовать 120 тестов (5 Ч 4 Ч 6). С другой стороны, если быть последовательным с позиции здравого смысла, то такая затея заведомо бесперспективна. Заметим, что в этой и ей подобных ситуациях поневоле вспоминаешь старый и до сих пор безответный вопрос о мере сбалансированности соображений высокой теории и соображений здравого смысла как одном из критериев истинности научного знания.
Гилфорд, как известно, стоял на позиции принципиального отрицания реальности общего фактора интеллекта, ссылаясь, в частности, на низкие корреляции между результатами исполнения различных интеллектуальных тестов. Однако дальнейшая проверка структурной модели показала следующее. Во-первых, при контроле надежности использованных Гилфордом тестов до 98 % всех тестовых показателей положительно коррелируют между собой на разных уровнях значимости (Brody E., Brody N., 1976). Во-вторых, показатели так называемых независимых измерений фактически объединяются в более общие интегративные факторы, например, практически идентичными оказались операции "познание" и "конвергентная продуктивность" на символическом материале (буквы, цифры, слова) (Bachelor P., Bachelor В., 1989). Заметим, что впоследствии сам Гилфорд пришел к выводу, что при оценке определенных способностей необходимо апеллировать к интегральным показателям: в частности, для измерения возможностей семантической памяти надо учитывать все разновидности
21
конечных "продуктов", а для измерения эффективности семантических процессов - все типы "операций" и "продуктов".
Дж. Кэррол, применив для обработки своих тестовых данных факторный анализ и опираясь при интерпретации полученных результатов на идеи когнитивной психологии (в частности, на положение о решающем значении процесса переработки информации), получил 24 фактора интеллекта: мысленное оперирование образами, вербальная беглость, силлогистические умозаключения, чувствительность к противоречию и т.д. (Carroll, 1976).
Р. Мейли, попытавшись соотнести идеи и методы тестологического исследования (в частности, "структурную модель интеллекта" Дж. Гилфорда) с теоретическими позициями гештальт-психологии (в частности, положением о ключевой роли процесса структурирования образа ситуации), выделил и интерпретировал 4 фактора интеллекта: сложность (способность дифференцировать и связывать элементы тестовой ситуации), пластичность (способность быстро и гибко перестраивать образы), глобальность (способность из неполного набора элементов выстраивать целостный осмысленный образ), беглость (способность к быстрому порождению множества разнообразных идей относительно исходной ситуации) (Meili, 1981).
Более поздние варианты тестологических теорий интеллекта не привнесли, судя по всему, каких-либо принципиальных изменений в систему исходных тестологических установок. Так, А. Ягер в рамках своей "берлинской модели структуры интеллекта", построенной на основе обследования 545 студентов высшей школы с использованием 191 теста, постулировал два измерения интеллектуальной деятельности: операции (в том числе скорость, память, креативность и сложные процессы переработки информации) и содержание (в том числе вербальное, цифровое, образно-наглядное). Общий интеллект, по его мнению, есть продукт пересечения всех типов операций и всех типов содержаний (Jager, 1984).
В дальнейшем представление о существовании множества самостоятельных интеллектуальных способностей нашло своеобразную реализацию вне рамок тестологии в теории "множества интеллектов" Г. Гарднера, который описал несколько независимых типов интеллекта: лингвистический, музыкальный, логико-математический, пространственный, телесно-кинестетический, межличностный и внутриличностный (Gardner, 1983).
Как можно видеть, во всех тестологических теориях интеллекта (двухфакторной, многофакторной, иерархической, кубической, радиально-уровневой) в различном виде варьирует представление о так называемых факторах интеллекта в диапазоне от 1 до 120.
В итоге, на наивный, но тем не менее вполне законный вопрос: "Сколько же на самом деле существует интеллектов?" - тестология так и не смогла дать однозначный ответ. Кроме того, как дамоклов меч, в течение многих десятилетий над всеми этими теориями висел еще один вопрос: являются ли данные факторы реальными интеллектуальными образованиями типа "первичных умственных способностей" либо это всего лишь форма классификации используемых тестовых заданий?
Дискуссии, длившиеся многие десятки лет и связанные с попыткой утвердить определенное понимание природы интеллекта, в конечном счете привели к парадоксальному результату. Сторонники идеи общего интеллекта в своих попытках измерить его как единую интеллектуальную способность вынужденно убеждались, что общий интеллект - не более чем формально-статистическая абстракция по отношению
22
к множеству различных проявлений интеллектуальной деятельности. В свою очередь, представители идеи интеллекта как коллекции способностей также вынужденно приходили к выводу о наличии влияния некоторого общего начала, представленного в различных видах интеллектуального исполнения.
Круг, таким образом, замыкался. По-видимому, именно острота положения дел в тестологических исследованиях интеллекта подвела А. Дженсена, идеолога тестологии и горячего сторонника использования интеллектуальных тестов, к следующему пессимистическому утверждению: "...бессмысленно обсуждать вопрос, на который нет ответа, - вопрос о том, что в действительности представляет собой интеллект" (Jensen, 1969, р. 5-6). Не странно ли: тестологические теории, построенные на объективных методах измерения интеллекта, привели тестологию к признанию того, что изучение интеллекта как психической реальности невозможно.
Современная тестология, по-прежнему основываясь на измерительном подходе в исследовании интеллекта, пошла по пути ограничения содержания понятия "интеллект" с тем, чтобы избежать указанных выше сложностей и сделать интерпретацию результатов тестирования более корректной. В частности, Г. Айзенк разграничил понятия "биологический интеллект", "социальный интеллект" и "психометрический интеллект" (Айзенк, 1995). Психометрический интеллект - это психическое свойство, измеряемое с помощью некоторой системы тестовых заданий. Соответственно уровень психометрического интеллекта соотносится с успешностью выполнения интеллектуальных тестов типа Прогрессивных матриц Равена, шкалы Векслера, DAT (Дифференциального теста способностей) и т.п.
Ряд исследований психометрического интеллекта, выполненных под руководством В.Н. Дружинина, позволил уточнить его структуру. Были проанализированы соотношения между вербальным (смысловым), пространственным и числовым (знаково-символическим) факторами в структуре психометрического интеллекта, что дало основание предположить существование иерархической очередности формирования этих факторов в онтогенезе: первой ступенью является вербальный интеллект, связанный с усвоением языка, затем на его основе складывается пространственный интеллект и, наконец, последним по времени формирования появляется формальный (или знаково-символический) интеллект. При этом в качестве исходной базы для развития всех трех форм интеллекта выступает "поведенческий" интеллект (Дружинин, 1999).
На основе обобщения результатов тестологических исследований В.Н. Дружининым была разработана модель "интеллектуального диапазона", в рамках которой удалось соотнести такие важные для измерительного подхода явления, как уровень психометрического интеллекта, индивидуальная продуктивность субъекта в той или иной сфере деятельности (творческой, учебной, профессиональной), "нижний" и "верхний" пороги индивидуальных интеллектуальных достижений (Дружинин, 1998).
Подведем некоторые итоги. В рамках традиционных тестологических представлений вопрос о природе интеллекта остается открытым. Если интеллект обнаруживает себя исключительно в тестовой ситуации, то идентичен ли этот тип интеллектуального поведения интеллектуальным возможностям человека за пределами тестовой ситуации в условиях его реальной жизнедеятельности? Если интеллект - это то, что измеряется тестами интеллекта, то, что именно измеряет конкретный тест (например, тест Векслера или тест Равена)? Общий фактор интеллекта? Частные интеллектуальные
23
способности? Ситуативную форму интеллектуальной активности? Социо-экономический статус семьи тестируемого?
Компромисс компромиссу рознь. Компромиссы по типу "эффекта страуса" бессмысленны, ибо, засунув голову в песок, наивно надеяться на спасение от преследователей. Изучать психометрический интеллект и вести дискуссии по полученным результатам можно еще очень долго, испытывая при этом некоторое чувство гордости за то, что занимаешься объективным научным исследованием (хотя, с другой стороны, как можно гордиться тем, что ты изучаешь то, не зная, что?). Однако понятие психометрического интеллекта, на мой взгляд, только обострило противоречия, характерные для тестологических теорий интеллекта. Об этих противоречиях и пойдет речь в следующем разделе.
24
1.2. Основные противоречия тестологических
исследований интеллекта
Итак, наличный уровень теоретических и эмпирических материалов свидетельствует о сложившейся в тестологии кризисной ситуации, суть которой можно обрисовать двумя словами: "Интеллект исчез".
Почему же тестологический подход привел к фактической деонтологизации интеллекта, то есть к отказу признать за интеллектом статус психической реальности? Совершенно очевидно, что ответ на вопрос о том, существует ли интеллект как реальное психическое качество или не существует, по своим последствиям явно выходит за рамки чопорных академических дискуссий.
Мне кажется, применительно к тестологии следует выделить три основания, обусловивших иллюзию "исчезновения" интеллекта.
Первое основание - методическое, определяемое противоречиями тестового метода диагностики интеллектуальных способностей.
Второе основание - методологическое, связанное с принятым в тестологии пониманием интеллекта как некоторой психологической (интеллектуальной) черты, проявляющей себя в определенной "задачной" ситуации.
Третье основание - содержательно-этическое, обусловленное невозможностью однозначного объяснения индивидуальных результатов тестового исполнения и соответственно неправомерностью интерпретации интеллектуальных возможностей конкретного человека в терминах "низкий - высокий" уровень интеллектуального развития.
Для начала остановимся на противоречиях методического характера.
Во-первых, все в большей мере давала себя знать проблема низкой надежности тестов интеллекта в плане предсказания интеллектуальных достижений человека в реальных жизненных условиях. А. Анастази попыталась ограничить сферу применения результатов интеллектуального тестирования, высказав при этом беспокойство относительно распространившейся не только в обыденной, но и в профессиональной среде склонности отождествлять IQ-результаты с интеллектом. По ее мнению, большинство тестов, названных в 20-х годах тестами интеллекта, фактически следует называть тестами способности к обучению (Анастази, 1982). Интеллект, как мы видим, "исчез", его заменило понятие "способность к обучению".
24
Высокая прогностическая надежность интеллектуальных тестов по отношению к учебным успехам не удивительна, ибо уже на этапе отбора заданий и критериев оценки ответов тестовые процедуры изначально оказались ориентированными на некоторый социально требуемый тип интеллектуальной деятельности, определяющий успешность обучения в учебных заведениях традиционного типа. Тем не менее даже в этих условиях обращают на себя внимание далеко не однозначные соотношения между IQ и показателями учебной успеваемости в виде школьных оценок (рис. 1).
Рис. 1. Соотношение между IQ и школьными оценками (цит. по: Fancher, 1985, р. 147)
Как следует из рис. 1, по выборке в целом рост IQ детей сопровождается улучшением их школьных оценок, о чем свидетельствует пунктирная линия, описывающая тенденцию корреляционной зависимости этих двух переменных (величина коэффициента корреляции примерно равна 0,50-0,60). Однако анализ характера распределения индивидуальных случаев, каждый из которых на рис. 1 представлен в виде точки, говорит о существовании особой группы учащихся с достаточно высоким IQ, но относительно низкими школьными оценками. Почему дети, хорошо справляющиеся с интеллектуальными тестами, плохо учатся - это отдельная проблема. Однако сам факт наличия таких детей говорит о том, что прямая связь между способностью к школьному обучению и величиной IQ отсутствует.
Добавим к этому, что корреляции между IQ и школьными достижениями обычно высоки на начальном этапе школьного обучения (2-7-е классы), на этапе же колледжа они, как правило, снижаются (Brody E., Brody N., 1976).
Во-вторых, достаточно скоро выяснилось, что интеллектуальные тесты чрезмерно чувствительны к особенностям социализации испытуемых. По мнению К.М. Гуревича, тесты интеллекта надо демаскировать. То, что они измеряют, важно и нужно, но слово "интеллект" в их наименовании имеет весьма условное значение. Реально эти тесты выявляют степень приобщенности человека к определенной культуре, и потому их правильнее было бы назвать "тестами психического развития,
25
адекватного данной культуре" (Гуревич, 1980). Например, во многих исследованиях отмечается, что IQ ребенка, как правило, положительно связан с образовательным уровнем родителей (в первую очередь, отца) и с социально-экономическим статусом семьи.
Наиболее поразительным, пожалуй, представляется тот факт, что даже результаты выполнения теста "Прогрессивные матрицы" Равена, который относится к числу так называемых свободных от культуры тестов, испытывают чрезвычайно сильное влияние культурной среды: показатели черных граждан США значительно ниже, чем показатели белых граждан США и европейцев (аналогично по выборке индейцев); у белых, живущих в высокогорной местности ("изолянтов"), показатели ниже, чем у европейцев; показатели детей из самых богатых графств США значительно выше средних европейских данных (Raven J., 1989).
И снова интеллект, как мы видим, "исчез", оставив вместо себя индивидуальные различия в степени социализации.
В-третьих, оказалась несостоятельной ориентация на измерение конечного результата интеллектуальной деятельности в виде показателей правильности выполнения тех или иных тестовых заданий, ибо оценки ответа в терминах "хорошего" (верного) или "плохого" (неверного) результата оказывались построенными, как правило, в соответствии с требованиями определенных социальных эталонов.
Как известно, интеллектуальные тесты первоначально создавались как средство дифференциации нормы и отставания в познавательном развитии, поэтому не удивительно, что предметом тестирования стали некоторые базовые познавательные функции (вербальные и невербальные). При этом мера правильности индивидуального ответа оценивалась с точки зрения типичных для некоторой репрезентативной выборки нормативов выполнения соответствующих тестовых заданий по принципу "сравнение с другими".
Иными словами, в результативных показателях тестового исполнения индивидуальный интеллект как таковой "исчезает", остается только та часть интеллектуальных способностей, которые отвечают за соответствие (адаптированность) индивидуальных интеллектуальных действий некоторым заданным извне, социально-типичным нормативам поведения. Отсюда можно заключить, что для диагностики интеллектуальных возможностей гораздо важнее не характеристики конечного продукта, в котором уже не представлены свойства индивидуального интеллекта, а своеобразие тех когнитивных механизмов, которые этот продукт порождают.
В-четвертых, под вопросом оказалась очевидность постулата "хороший интеллект - быстрый интеллект". По справедливому замечанию К.М. Гуревича, в тестологии принимается за истину, не требующую доказательств, положение о том, что скорость интеллектуальных процессов имеет решающее значение для оценки интеллектуального потенциала (Гуревич, 1980). Однако существует ряд моментов, позволяющих усомниться в том, что скорость реагирования (и соответственно требование ограничения временных лимитов исполнения) во всех случаях является референтным проявлением интеллектуальных способностей.
Так, согласно А.Н. Леонтьеву, интеллект возникает впервые там, где поведенческий акт делится на две фазы: фазу подготовки возможности осуществления того или иного действия и фазу его реализация. То есть суть интеллекта как зарождающейся в филогенезе психической способности заключается в том, что ориентировка в ситуации
26
перемещается с уровня развернутых двигательных проб во внутренний план - возникает тот известный феномен "паузы" (замедления, отсрочивания реагирования), который у животных является поведенческим проявлением интеллектуальной активности (Леонтьев, 1959).
Дополнительным аргументом в пользу психологической неоднозначности показателя скорости исполнения являются также факты, полученные при изучении такого когнитивного стиля, как "импульсивность-рефлективность". Обзор исследований в этой области показывает, что именно рефлективные испытуемые (склонные к замедленному типу реагирования и большей точности ответов в ситуации принятия решения) в отличие от импульсивных испытуемых (склонных быстро принимать решения, допуская при этом значительное количество ошибок) характеризуются большей интеллектуальной продуктивностью (Холодная, 1990 б).
Следует принять во внимание и то обстоятельство, что если при выполнении психометрических тестов по выборке в целом обычно наблюдаются положительные корреляции между скоростью и точностью (правильностью) ответа, то внутри отдельного испытуемого эти же показатели связаны отрицательно (Hunt, 1980).
В свое время принципиальное замечание сделал в связи с обсуждаемой проблемой Дж. Равен, который утверждал, что для измерения интеллектуальной одаренности следует применять не лимитированные во времени тесты в отличие от измерения интеллектуальной эффективности, где требуется вводить временные ограничения (Raven J.С., 1960).
Таким образом, и здесь мы сталкиваемся с "исчезновением" интеллекта, ибо, если ориентироваться на его скоростные характеристики, вместо показателей интеллектуальной зрелости на первый план выходят показатели ситуативной интеллектуальной эффективности.
В-пятых, выяснилось, что в оценках IQ представлены такие психологические свойства человека, которые, оказывая влияние на величину IQ, тем не менее не имеют прямого отношения к интеллектуальной компетентности. В частности, во многих исследованиях отмечается отрицательная корреляционная связь между показателями IQ и тревожностью. Как следует интерпретировать эти данные? Корректным ли будет заключение о том, что чем более тревожным является человек, тем ниже его интеллектуальные возможности? Видимо, просто тестовые ситуации в силу своей специфики менее благоприятны для людей с определенными личностными качествами. В частности, тревожность - точнее, когнитивный компонент тревоги, связанный с отрицательными ожиданиями относительно своих возможностей и оценкой самой тестовой ситуации, - способствует росту психической напряженности, ухудшая результаты теста (Morris et al, 1981).
Аналогично, более низкий IQ отмечается у испытуемых, в чьих настроениях преобладают агрессивность либо уныние, а также у испытуемых с внешним локусом контроля (Samuel, 1980). Напротив, экстраверсия, как правило, соотносится с более высокими IQ-оценками.
Так что же измеряют тесты интеллекта: сформированность индивидуальных интеллектуальных ресурсов или сформированность индивидуальных механизмов психической саморегуляции? И снова в ситуации тестологического исследования интеллект "исчезает", поскольку в результатах тестового исполнения со значительным удельным весом оказались представленными личностные особенности испытуемого.
27
Понимание всех тех сложностей, с которыми пришлось столкнуться тестологической диагностике, вынудило ортодоксальных представителей тестологического подхода пойти на радикальную меру, а именно - принять операциональное определение интеллекта, предложенное в свое время Эдвином Борингом (1923) в формулировке "интеллект - это то, что измеряется тестами интеллекта". Современный вариант операционального определения интеллекта предложен А. Дженсеном: "Интеллект, или общая умственная способность, лучше всего может быть определен операционально, в терминах определенного типа корреляционного анализа как первый основной компонент исполнения большого числа разнообразных задач" (цит. по: Garcia, 1981, р. 1176).
Переход на операциональное определение - ход, безусловно, лукавый, но, в конечном счете, бессмысленный, ибо он загнал тестологов в ситуацию "игроков в бисер": зачем нужны интеллектуальные тесты и диагностируемые с их помощью психологические характеристики человека, если вне ситуации тестирования все это теряет всякий смысл? Тем не менее факт перехода на операциональное определение интеллекта весьма знаменателен, ибо за ним стоит принципиальная смена позиции, связанная с фактическим отказом от признания реальности интеллекта.
Второе основание кризиса тестологии, как уже отмечалось, - методологическое. Изначально сформировавшееся понимание интеллекта как некоторой униполярной психологической черты, проявляющейся в ситуации решения задач, привело к диспозициональной трактовке интеллекта: интеллект - это специфический тип поведения, предрасположенность действовать в тех или иных условиях интеллектуально.
Например, Дж. Томпсон утверждает, что интеллект - это не прямо идентифицируемое психическое качество, а всего лишь абстрактное понятие, которое упрощает и суммирует определенные поведенческие проявления (Thompson, 1984). По С. Бомену, интеллект - это "...не реальное свойство разума..., а просто характеристика личности вместе с ее собственными действиями" (Bohman, 1980, р. 9). Аналогичной точки зрения придерживаются Р. Зиглер и Д. Ричарде, указывающие, что интеллект - это понятие, которое нельзя определить через какие-либо отличительные особенности, но только через определенное количество поведенческих "прототипов" (Sigler, Richards, 1982). У. Найссер считает, что нет такого реального качества, как интеллект, точно так же, как не существует такой реальной вещи, как "стульность", хотя существование разнообразных единичных стульев - факт несомненный. Когда мы используем понятие "интеллект", тем самым лишь констатируется определенная степень сходства между двумя объектами, одним из которых является поведение реального человека, другим - поведение прототипической "идеальной интеллектуальной личности" (Neisser, 1979).
Стратегия исследования интеллекта при такой его трактовке кажется очевидной: изучать интеллект следует через перечень конкретных примеров интеллектуального поведения (частным случаем которых является ситуация решения тестовых задач). Однако достаточно скоро и здесь исследователи столкнулись с целым рядом противоречий, которые уже нельзя было разрешить посредством совершенствования исходных измерительных средств (интеллектуальных тестов). Некоторые из этих противоречий в свое время сформулировал и затем снова подтвердил Т. Майлс (Miles, 1957; 1988).
Во-первых, факты вынуждали признать, что интеллект - это в принципе открытое понятие, поскольку под него можно подвести практически бесконечное количество все новых и новых описываемых разными исследователями типов поведения. Ситуацию в области исследования интеллекта в этом случае иначе как драматической не назовешь,
28
ибо любая экстенсивная исследовательская стратегия оказывается заведомо бесплодной. Очередной психолог, создав новый интеллектуальный тест и описав некоторый новый тип интеллектуальной активности, всего лишь расширял феноменологическое поле исследований, но ни на шаг не продвигался в понимании природы интеллекта.
Во-вторых, выяснилось, что примеры поведения, которые подводятся под категорию "интеллектуального", являются таковыми, скорее, в силу требований доминирующей культуры. Еще одно логическое усилие, и можно было бы встать на позицию, согласно которой интеллект - не более чем культурный артефакт. Все это в целом позволило Майлсу сделать категорическое заключение: "...суждения, которые отсылают к "реальной сущности интеллекта", являются либо незаконными, либо нуждаются в переформулировке" (Miles, 1957, р. 155).
Пессимизм позиции Майлса нашел своеобразное подтверждение много лет спустя в работах Р. Стернберга и его сотрудников, реализовавших идею диспозициональной трактовки интеллекта на уровне эмпирического исследования. В частности, ими была предпринята попытка определить поведенческие прототипы, лежащие в основе понятий "интеллектуальная личность", "личность с высоким академическим интеллектом", "личность с высоким житейским интеллектом". Выбор наиболее подходящих поведенческих характеристик осуществлялся как экспертами (специалистами в области психологии), так и "наивными" испытуемыми. На основе факторизации полученных ответов удалось выделить три прототипа интеллектуального поведения: 1) вербальный интеллект (большой запас слов, чтение с высоким уровнем понимания, вербальная беглость и т.п.); 2) решение проблем (способность строить планы, применять знания и т.п.); 3) практический интеллект (умение добиваться поставленных целей, наличие интереса к миру и т.п.) (Sternberg, Conway, Kerton, Bernstein, 1981). He вызывает сомнений, что выделенные прототипы настолько абстрактны, что термин "интеллект" фактически остается пустым.
Наконец, следует выделить еще одно противоречие, порождаемое диспозициональной трактовкой интеллекта. Если интеллект - это склонность субъекта исполнять определенный круг задач интеллектуально, то именно задача является хорошим "проявителем" этой диспозиции. Но тогда мы будем иметь дело, скорее, с диагностикой стиля ответа, который главным образом определяется природой тестовой задачи, а не с диагностикой присущего субъекту типа когнитивной организации. Если при этом учесть, что интеллектуальные тесты в силу искусственности ситуации, процедуры и содержания заданий имеют весьма условное отношение к функционированию интеллекта в реальной жизнедеятельности, то мы снова возвращаемся к вопросу о природе естественного человеческого интеллекта, который опять же фактически "исчез", оказавшись за рамками традиционного тестологического исследования.
Наконец, третье, содержательно-этическое основание кризиса тестологических теорий интеллекта оказалось связанным с изменением ценностного отношения к человеку. "Эра восстания" (Л. Тайлер) против господства IQ-методик и самой идеи коэффициента интеллекта началась с момента слома представлений о человеке как объекте, воздействуя на который и регистрируя реакции которого, можно затем принимать "профессиональные" решения о его помещении в ту или иную социальную ячейку (поток школьного обучения, тип высшего учебного заведения, область предметной деятельности и т.п.). Подобная интерпретация сферы своей профессиональной компетенции - не что иное, как самонадеянность, объяснимая разве что духом
29
того времени и низким уровнем этической культуры тестологов недавнего прошлого. На опасность формирования в современном российском обществе подобного рода "психократического режима", то есть такого порядка общественной жизни, при котором индивидуальные человеческие жизни направляются и контролируются с помощью средств психологического тестирования, начинают указывать и некоторые отечественные авторы (Каган, Эткинд, 1989).
Строго говоря, стандартные психометрические тесты интеллекта оказываются без вины виноватыми. Любой интеллектуальный тест может только то, что он может, - и не более того. Он может измерять конкретную (частную) интеллектуальную способность, то есть сформированность тех конкретных (частных) умственных операций, которые обеспечивают успешность деятельности при выполнении строго определенного задания (раскрыть значение слов, выложить узор из кубиков, запомнить и воспроизвести набор цифр, найти закономерность в ряду фигур и т.д.). Причем полученный показатель имеет свой психологический смысл только с учетом целого ряда ситуационных и психологических обстоятельств. Поэтому психологу, получившему в свое распоряжение соответствующую информацию об испытуемом - особенно если он занимается индивидуальной диагностикой, - нужно потратить специальные усилия для обоснования того, что именно он измерил (и этим "что" далеко не всегда оказываются реальные интеллектуальные возможности данного испытуемого).
Вообще, в проблеме использования тестов вырисовывается один любопытный аспект: если существует неопределенность относительно адресата тестирования, то почему тем не менее тесты столь широко и активно применяются как средство измерения "уровня интеллекта"? Причина - увы! - весьма прозаична: мотивы поведения тестолога-практика хорошо проиллюстрированы в старом анекдоте о подвыпившем человеке, который, потеряв ключ где-то на темной улице, ползал и искал его под горящим фонарем, объясняя это тем, что, мол, тут светло.
Тем не менее практическим психологам, которые в своей работе с людьми вынуждены использовать тесты интеллекта, есть резон принять во внимание хотя бы некоторые аргументы представителей тестологической оппозиции, связанные с анализом разрешающих возможностей этого измерительного психометрического инструмента: 1) тесты слишком фрагментарны, чтобы измерить интеллект как целое; 2) информация, содержащаяся в оценках по интеллектуальным тестам, не только недостаточна для объяснения наблюдаемого уровня исполнения (Howe, 1988), но, более того, ни один тест интеллекта не может указать причин различий в его выполнении (Анастази, 1982); 3) в тестовых показателях, а также в результатах факторного анализа интеллекта вообще нет, он находится "в другом месте", в частности, в показателях успешности реальных видов деятельности (McNemar, 1964; Frederiksen, 1986); 4) интеллектуальные тесты позволяют выделять индивидуумов с очень низкими результатами, однако с их помощью нельзя отличить менее одаренных от более одаренных (характерно, что часто именно наиболее талантливые испытуемые плохо справляются с тестовыми заданиями) (Саймон, 1958; Фриман, 1999).
Остается только удивляться, что понятие "коэффициент интеллекта", возраст которого перевалил за сотню лет, тем не менее пытается сохранить младенческую наивность времени своего рождения и в современных условиях. Все в психологической науке меняется - кроме представлений об IQ: уровень IQ обусловлен наследственным фактором, интеллект - это то, что измеряется тестами интеллекта
30
(то есть интеллект - это IQ), IQ не изменяется, поэтому достаточно один раз протестировать ребенка либо взрослого, чтобы с точностью предсказать его судьбу (сможет ли он получить высшее образование, будет ли он жить в бедности и т.п.). Более того, выяснилось, что в понятии IQ содержится колоссальный потенциал социальной агрессии, поскольку ни одно другое психологическое понятие никогда не претендовало на роль жесткого управления жизнью общества при полном игнорировании прав личности.
Доказательством сказанному является выход в 1994 году книги американских психологов Р. Херрнстейна и Ч. Мюррея "Кривая в форме колокола: интеллект и классовая структура в американском обществе" (Herrnstein, Murray, 1994). Эта книга, судя по всему, имеет знаковый характер, и не случайно вокруг нее вот уже несколько лет идут бурные дискуссии сторонников и противников заложенных в ней идей. Центральные тезисы книги таковы:
- • существуют индивидуальные различия в общем факторе когнитивных способностей, по которым люди отличаются друг от друга;
- • стандартные тесты учебных достижений позволяют выявить этот фактор, однако тесты IQ измеряют уровень "общего интеллекта" с наибольшей точностью;
- • IQ-оценки идентичны тому, что люди подразумевают под словами "интеллектуальный" или "умный" в обычном языке;
- • IQ в достаточной мере стабилен на протяжении всей жизни человека;
- • когнитивные способности в виде IQ имеют наследственный характер в пределах от 40 до 80 %.
Различия между людьми в величине IQ оказывают глубокое влияние на социальную структуру и особенности функционирования американского общества. Распределение показателей IQ подчиняется нормальному закону (то есть принимает форму кривой колокола). Общество, таким образом, "расколото" на "когнитивные классы" в зависимости от величины IQ, при этом максимально обособленными являются части населения с самым низким IQ (от 50 до 90) и самым высоким IQ (от 125 до 150). Существует прямая связь между низким IQ и такими социальными явлениями, как бедность, безработица, бездельничество, преступность, жизнь на государственные пособия, разводы и т.д.). Поскольку IQ является врожденной характеристикой, то, следовательно, возникает необходимость в изменении некоторых аспектов социальной политики: введение более жестких иммиграционных законов, которые бы не пропускали в Америку лиц с потенциально низким IQ (в первую очередь выходцев из Латинской Америки и Африки); отказ от программ социальной и материальной помощи лицам с низким интеллектом (особенно женщинам, имеющим много детей); сокращение развивающих образовательных программ для социально неблагополучных детей в силу их бесполезности и переадресация финансирования в пользу программ для одаренных детей с высоким IQ; исключение льгот при трудоустройстве лиц с низким уровнем интеллекта (иначе, по мнению этих авторов, получается расизм "с обратным знаком" - лица белой расы, имея в среднем более высокий IQ, получают меньше шансов для профессионального продвижения по сравнению с представителями других рас). Иными словами, Херрнстейн и Мюррей говорят о существовании в американском обществе реальной
31
меритократии1, и именно это общественное устройство, по их убеждению, надо укреплять и поддерживать. В частности, "когнитивная элита" должна жить в отдельных районах, отправлять детей в особые частные школы, иметь социальные институты, ориентированные на их интересы, ее представители должны вступать в браки между собой, поскольку наследственный характер IQ гарантирует при этом рождение детей с высоким интеллектом, и т.д. Только таким путем, по мнению авторов, можно сохранить интеллектуальный потенциал Америки (Herrnstein, Murray, 1994).
Основанием для столь радикальных оценок и выводов является проведенный авторами анализ собственных исследований, а также большого числа исследований других авторов, посвященных выявлению корреляционных связей между IQ и различными социально-экономическими, этническими, профессиональными характеристиками людей на разных выборках. И тут мы опять сталкиваемся с фундаментальным противоречием тестологического (психометрического) взгляда на интеллект. Действительно, на уровне корреляционного анализа факты свидетельствуют, что лица с низким IQ имеют низкий социо-экономический статус (то есть находятся за чертой бедности), низкий образовательный уровень, являются плохими родителями, живут на пособия, склонны к криминальному поведению, их дети также имеют более низкий IQ и т.п. Естественно, возникает вопрос: что на что влияет?
Херрнстейн и Мюррей отвечают однозначно - причиной экономического и социального поведения людей является IQ. Однако любой студент, только приступивший к изучению основ математической статистики, знает, что фиксируемая корреляционная связь в принципе не может интерпретироваться как связь причинно-следственная. Но даже если проигнорировать эту норму научного исследования, то с не меньшей убедительностью можно выстроить альтернативную интерпретацию тех же корреляционных зависимостей: у людей, выросших и живущих в бедности, не получивших высшего образования, не имеющих возможности качественно питаться, лечиться и отдыхать, привыкших к позиции государственного иждивенца в силу объективной невозможности получить интересную работу, складывается такая специфическая среда жизнедеятельности, которая необратимо затормаживает их интеллектуальное развитие и впоследствии приводит к значительному снижению IQ.
Многими авторами приводятся и более частные - но в то же время не менее существенные - критические замечания в адрес эмпирических оснований меритократической утопии Херрнстейна и Мюррея. В частности, высказывается сомнение в реальности "общего фактора интеллекта" в виде IQ, поскольку факторный анализ не является убедительным доказательством его существования; отрицается, что IQ-оценки распределяются нормально, поскольку форма их распределения может варьировать в зависимости от меры трудности тестовых заданий и их интеркорреляций; нет доказательств, что различия между этническими группами имеют генетический источник; утверждается невозможность разведения IQ и социо-экономического статуса как детерминант социально нежелательного поведения; отмечается, что IQ не является линейным измерением; статистика ничего не может сказать о том, как зафиксированные корреляционные связи будут проявляться в каждом индивидуальном случае, и т.д. (Dorfman, 1995; Hunt, 1995).
32
Характерно, что Херрнстейн и Мюррей выстроили логику своих рассуждений исключительно в рамках психометрического взгляда на интеллект при полном игнорировании фактов, полученных в рамках других направлений исследования интеллекта.
По данным Дж. Равена, рост показателей IQ у детей в современных условиях сравнительно с показателями IQ детей несколько десятков лет назад по тесту "Прогрессивные матрицы" объясняется такими факторами, как качество питания, здравоохранения и личной гигиены (Равен, Курт, Равен, 1997). Сам Равен склонен считать критерием интеллектуального развития уровень компетентности личности в той или иной предметной области деятельности, которую можно измерить только в контексте ее интересов и ценностей (Равен, 1999). По его мнению, "...применение традиционных тестов, считающихся отличными инструментами по таким критериям, как различительная способность, внутренняя согласованность, надежность и валидность, привело к принятию неадекватных схем проверки и оценивания, к дезориентирующим нас исследовательским выводам, к социально и нравственно несправедливым решениям в области образовательной политики и практики, к распространению неверных взглядов на исследовательский процесс и на науку в целом" (там же, с. 49).
При изучении соотношения IQ и успешности профессиональной деятельности величина коэффициентов корреляции находится в пределах от 0,20 до 0,50, при этом в выборках компетентных специалистов и более взрослых работников эти корреляции значительно снижаются (Hunt, 1995). При исследовании "экспертов" (знающих, опытных профессионалов) было показано, что они имеют относительно средний уровень интеллекта в терминах IQ (до 120) и что эффективность их реальной профессиональной деятельности обусловливается другими факторами, как когнитивными (накопление предметно-специфических знаний, развитие метакогнитивных навыков и т.д.), так и некогнитивными (мотивацией, поддержкой со стороны социального окружения и т.д.) (Schneider, 1993).
В области педагогической психологии была продемонстрирована возможность улучшения интеллектуальных способностей учащихся: использование обогащающих обучающих программ и специальных тренингов повышало эффективность разных видов интеллектуальной деятельности (Reese, Parnes, 1976; Feuerstein, 1980 и др.), в том числе за счет выявления так называемой скрытой одаренности (Бабаева, 1997).
Наконец, нельзя игнорировать теорию "множества интеллектов", в рамках которой доказывается существование семи независимых видов интеллекта (Gardner, 1983) и которая исключает возможность использования единственного показателя для оценки реального интеллектуального потенциала человека в условиях многообразия проявлений интеллектуальной одаренности.
Особое значение для уточнения показателей психометрического интеллекта имеет разработка ситуативного подхода в психодиагностике способностей (Дружинин, 2001). В частности, представляют интерес факты, свидетельствующие об увеличении успешности решения тестовых задач (на примере решения заданий шкалы Векслера монозиготными близнецами) под влиянием такого ситуативного фактора, как эмоциональная поддержка ребенка экспериментатором (Воробьева, 1997). Продемонстрировано влияние на успешность выполнения заданий шкалы Амтхауэра такого фактора, как принудительность-добровольность участия в тестировании: в ситуации принудительного обследования школьники значительно хуже выполняли задания по шести субтестам из девяти (Дружинин, 2001).
33
Если IQ является столь проблематичным понятием, по отношению к которому возможны альтернативные толкования, то почему его тем не менее столь активно пытаются использовать в качестве средства организации общественной жизни (в первую очередь, в США, Великобритании и некоторых других западных странах)? Решение этого вопроса следует, на мой взгляд, искать не в плоскости психологической науки, а в плоскости политики. Ибо, по-видимому, существует политический запрос на научно-психологическое "обоснование" законности социально-экономического расслоения людей, и IQ является идеальным инструментом для подобного рода принудительной социальной стратификации.
И теперь снова спросим себя: действительно ли интеллект - это то, что измеряется тестами интеллекта? Можно ли на основе известных интеллектуальных шкал либо показателей выполнения отдельных интеллектуальных тестов оценивать уровень интеллектуального развития личности (или ее индивидуальные интеллектуальные ресурсы) с последующим приклеиванием ярлыка степени ее интеллектуальной состоятельности по отношению к тем или иным реальным видам деятельности? С ответом советую не торопиться. На протяжении всей книги данный вопрос будет еще не раз возникать между строк. И, я надеюсь, после внимательного знакомства с представленными в ней фактами, взглядами и подходами у каждого появится возможность сформулировать собственную уверенную позицию на этот счет.
Итак, в тестологических исследованиях накоплен огромный по объему эмпирический материал, имеющий важное значение для развития наших представлений о результативных свойствах человеческого интеллекта. Общеизвестно, что научное знание, будь оно хоть трижды противоречиво, является самодостаточным, ибо оно одновременно и воодушевляет (так как всегда является источником новых представлений о мире), и отрезвляет (так как изредка удается извлечь из этого знания урок).
В частности, если систематизировать описанные в тестологии характеристики интеллекта, то схематически все множество результативных проявлений интеллектуальной активности в условиях выполнения тестовых заданий, с моей точки зрения, может выглядеть следующим образом (рис. 2).
Таким образом, у нас получилась своего рода модель-"вертушка" результативных проявлений интеллекта, в которой границы секторов достаточно условны и соответственно могут перекрывать друг друга либо выпадать в зависимости от субъективных и объективных условий. Эта "вертушка" является удобным средством для анализа возможных типов интеллектуального поведения детей и взрослых, а также для классификации разных типов задач, инициирующих те или иные интеллектуальные качества личности.
В заключение этой главы сделаем некоторые выводы. Сформировавшись как наука об интеллекте, тестология потеряла интеллект как предмет исследования. Ибо, пытаясь строить теории интеллекта, тестологи описывали своего рода психологическую квазиреальность, вызванную к жизни их собственными изощренными усилиями. Следствием нарастания методических, методологических и содержательно-этических противоречий явилась иллюзия "исчезновения" интеллекта как реального психического образования.
Как уже отмечалось выше, трудности идентификации результатов интеллектуального тестирования вынудили сторонников тестологического подхода перейти либо
34
на операциональное определение интеллекта (интеллект - это то, что измеряют тесты интеллекта), либо на его диспозициональное определение (интеллект - это склонность субъекта вести себя интеллектуально в определенной ситуации). И хотя в рамках тестологической парадигмы сформировались, казалось бы, прямо противоположные ориентации: с одной стороны, жесткое сведение интеллекта к особенностям тестового исполнения и, с другой стороны, чрезмерное размывание границ этого понятия за счет перехода на подбор примеров интеллектуального поведения, тем не менее за ними стояло нечто общее - деонтологизация интеллекта, отрицание его существования в качестве психической реальности.
Рис. 2. Результативные свойства интеллекта, выявленные в тестологических исследованиях
(в прямоугольниках, обозначенных сплошными линиями, указаны описанные в тестологических теориях типы интеллекта: в пунктирных прямоугольниках - основной критерий их выделения; на осях - функции</span> каждого типа интеллекта; на границах секторов - интеллектуальные качества лиц, демонстрирующих высокую успешность в соответствующем виде интеллектуальной деятельности)
35
!. Меритократия - система, при которой положение человека в обществе определяется его способностями (в данном случае - величиной IQ)
Критерии развития интеллекта (объяснительные подходы в экспериментально-психологических теориях интеллекта)
Понятие интеллекта всегда являлось источником парадоксов. Казалось бы, это одно из наиболее очевидных понятий психологии, но в то же время и одно из наиболее неуловимых.
У. Эстес
Кризис тестологического подхода в определении понятия "интеллект" - это проявление общего кризиса теорий описательного типа, а также кризиса экстенсивной эмпирической психологии. Вечная дилемма! Что лучше: больше знать о том, что, либо меньше, но о том, как и почему?
Своеобразной реакцией на неконструктивность тестологических теорий явились экспериментально-психологические теории интеллекта, разрабатываемые в рамках различных зарубежных и отечественных подходов и ориентированные на выявление механизмов интеллектуальной активности. В целях упорядочения накопленного в этой области психологических исследований материала выделим несколько основных подходов, для каждого из которых характерна определенная концептуальная линия в трактовке природы интеллекта.
- Феноменологический подход (интеллект как особая форма содержания сознания).
- Генетический подход (интеллект как следствие усложняющейся адаптации к требованиям окружающей среды в естественных условиях взаимодействия человека с внешним миром).
- Социо-культурный подход (интеллект как результат процесса социализации, а также влияния культуры в целом).
- Процессуально-деятельностный подход (интеллект как особая форма человеческой деятельности).
36
- Образовательный подход (интеллект как продукт целенаправленного обучения).
- Информационный подход (интеллект как совокупность элементарных процессов переработки информации).
- Функционально-уровневый подход (интеллект как система разноуровневых познавательных процессов).
- Регуляционный подход (интеллект как фактор саморегуляции психической активности).
Ниже мы коротко рассмотрим взгляды некоторых ведущих представителей соответствующих подходов с тем, чтобы получить представление о предложенных в экспериментально-психологических исследованиях типах объяснения механизмов интеллектуальной активности и соответственно критериях развития интеллекта.
Поскольку в рамках настоящей работы нет возможности изложить все учения и теории подробно, а также перечислить имена всех ученых - представителей различных подходов, то отбирались только те положения, факты, имена, которые я, как автор, считала ключевыми. Кроме того, я сочла целесообразным дать этим материалам свой собственный комментарий в виде вопросов, продиктованных опять же моим личным авторским отношением к обсуждаемым проблемам. Более детально ознакомиться с вызвавшими интерес подходами можно с помощью литературных источников, ссылки на которые имеются в тексте.
37
2.1. Феноменологический подход
2.1.1. Гештальт-психологическая теория интеллекта
Одна из первых попыток построения объяснительной модели интеллекта была представлена в гештальт-психологии, в рамках которой природа интеллекта трактовалась в контексте проблемы организации феноменального поля сознания. Предпосылки такого подхода были заданы В. Кёлером (Кёлер, 1980). В качестве критерия наличия интеллектуального поведения у животных он рассматривал эффекты структурности: возникновение решения связано с тем, что поле восприятия приобретает новую структуру, в которой схватываются соотношения между элементами проблемной ситуации, важные для ее разрешения. Само решение при этом возникает внезапно, на основе практически мгновенного переструктурирования образа исходной ситуации (это явление получило название инсайта). Впоследствии М. Вертгеймер, характеризуя "продуктивное мышление" человека, также на первый план вывел процессы структурирования содержания сознания: группирование, центрирование, реорганизацию наличных впечатлений (Вертгеймер, 1987).
Основной вектор, по которому идет перестройка образа ситуации, - это его переход к "хорошему гештальту", то есть предельно простому, ясному, расчлененному, осмысленному образу, в котором в полном объеме воспроизводятся все основные элементы проблемной ситуации, в первую очередь, ее ключевое структурное противоречие. В качестве современной иллюстрации роли процесса структурирования образа
37
можно использовать известную задачу "четыре точки" (из исследований Я.А. Пономарева): "Даны четыре точки. Нужно перечеркнуть их тремя прямыми линиями, не отрывая карандаша от бумаги, и вернуться при этом к начальной точке" (рис. 3).
Рис. 3. Задача "четыре точки" и принцип ее решения
Принцип решения данной задачи состоит в том, чтобы перестроить образ: уйти от образа "квадрата" и увидеть продолжение линий за пределами точек. Короче говоря, отличительным признаком включенности в работу интеллекта является такая реорганизация содержания сознания, благодаря которой познавательный образ приобретает "качество формы". Но вот тут-то и возникает любопытная теоретическая коллизия, связанная с естественно возникающим желанием узнать о том, откуда берутся эти ментальные формы?
С одной стороны, Кёлер утверждал, что в зрительном поле есть формы, которые заданы непосредственно характеристиками объективной ситуации. Например, при восприятии первой и второй ситуации (рис. 4) содержание поля восприятия организуется таким образом, что на вопрос: "Сколько здесь объектов?" - практически любой человек в первом случае отвечает - шесть, во втором - три (во второй ситуации объективно срабатывает фактор пространственной близости элементов).
Рис. 4. Влияние фактора пространственной близости элементов на организацию познавательного образа
С другой стороны, Кёлер отмечал, что форма наших образов не является зрительной реальностью, поскольку это скорее правило организации визуальной информации, рождающееся внутри субъекта. Например, по его словам, первое восприятие среза мозга под микроскопом у студента отличается от восприятия опытного невролога. Студент не может сразу реагировать определенным образом на различие структур тканей, которые доминируют в поле зрения профессора, потому что он не в состоянии увидеть поле организованным должным образом. Следовательно, по словам Кёлера, не всякому сознанию ситуация подсказывает решение, а только такому, которое может "подняться до уровня этого разумения" (Кёлер, 1980).
38
В какой-то момент гештальт-психологические исследования вплотную подошли к проблеме механизмов интеллекта. Ведь главный вопрос как раз и заключается в том, за счет чего возможен тот или иной уровень или тип организованности зрительного (феноменального) поля, обусловливающий возможность приобретения последним "качества формы"? И почему одну и ту же объективную ситуацию разные люди видят различным образом?
Однако в контексте гештальт-психологической идеологии постановка подобного рода вопросов не имела смысла. Утверждение, что умственный образ фактически внезапно переструктурируется сам по себе в соответствии с объективно действующим "законом структуры", по сути дела означало, что интеллектуальное отражение возможно вне интеллектуальной активности самого субъекта (теория интеллекта без интеллекта!).
Как известно, в гештальт-психологии особенности структурирования феноменального зрительного поля впоследствии оказались сведенными к действию нейрофизиологических факторов. Тем самым была окончательно потеряна для объяснительного психологического анализа чрезвычайно ценная идея о том, что сущность интеллекта заключается в его способности порождать и организовывать субъективное пространство познавательного отражения.
Особое место в гештальт-психологической теории занимали исследования К. Дункера, которому удалось описать решение задачи с точки зрения того, как изменяется содержание сознания испытуемого в процессе нахождения принципа (идеи) решения. Ключевая характеристика интеллекта - инсайт (внезапное, неожиданное уяснение сути проблемы). Чем глубже инсайт, то есть чем сильнее существенные черты проблемной ситуации определяют ответное действие, тем более интеллектуальным оно является. По словам Дункера, глубочайшие различия между людьми в том, что мы называем умственной одаренностью, имеют свою основу именно в большей или меньшей легкости переструктурирования мыслимого материала. Таким образом, способность к инсайту (то есть способность быстро перестраивать содержание познавательного образа в направлении выявления основного проблемного противоречия ситуации) и является критерием развития интеллекта (Дункер, 1965).
39
2.1.2. Особенности индивидуальной базы знаний как основа
интеллектуальной компетентности
По мнению Р. Глезера, главное различие между людьми с различным уровнем интеллектуальных способностей связано с тем, что они обладают в разной мере организованной системой знаний - как декларативных (знаний о том, что), так и процедурных (знаний о том, как). Именно особенности индивидуальной базы знаний предопределяют и эффективность отдельных познавательных процессов (запоминания, решения задач), и уровень интеллектуальных достижений в профессиональной деятельности (Glaser, 1980; 1984).
Некоторые исследователи полагают, что дефициты в организации базы знаний являются одним из источников умственной отсталости. Так, Дж. Кэмпион и его соавторы объясняют значительно меньший объем знаний умственно отсталых детей по сравнению с обычными детьми того же возраста, в частности, тем, что их наличные знания сами по себе оказывают очень слабое влияние на последующее обучение (Campione, Brown, Ferrara, 1982).
39
Одной из наиболее распространенных экспериментальных моделей, в рамках которой изучается роль базы знаний, является сравнительный анализ проявлений интеллектуальной активности экспертов (знающих, опытных, обученных) и новичков (малоосведомленных, неопытных, начинающих). В ходе этих исследований был сделан важный вывод о том, что "...связь между структурой базы знаний и процессом решения задачи опосредуется качеством репрезентации проблемы...", причем опять же "...характеристики репрезентации проблемы оказываются обусловленными имеющимися у субъекта знаниями и способами организации этих знаний" (Glaser, 1984, р. 98).
Например, эксперты-физики (специалисты) сначала строят физическую репрезентацию проблемы и только потом начинают ее решать, тогда как новички (студенты) быстрее и более непосредственно переходят к процессу решения. Далее, репрезентации экспертов-физиков строятся вокруг фундаментальных принципов, которые характеризуют наиболее обобщенное, а также "подразумеваемое" знание (последнее выступает в виде сложных интуитивных представлений, далеко не всегда четко вербализованных), тогда как новички - вокруг доминантных объектов, которые явно и очевидно представлены в соответствующей физической ситуации. Кроме того, знания экспертов включают знания о возможности применения того, что они знают. Наконец, они успешно извлекают из собственных знаний необходимые для планирования своих дальнейших действий сведения (там же).
Как можно видеть, это направление исследований признает особую роль долговременной семантической памяти в интеллектуальной деятельности, то есть, по сути дела, в новом теоретико-экспериментальном оформлении восстанавливается для обсуждения старая проблема - "знания и мышление". При этом, однако, подчеркивается, что для объяснения интеллектуальной продуктивности важно не столько количество усвоенных знаний, сколько способы их хранения и воспроизведения в индивидуальной базе знаний.
База знаний - это существующие семантические сети и структура семантических данных, посредством которых субъект строит свои собственные представления о происходящем, а также правила (процедуры), посредством которых субъект использует имеющиеся у него сведения. Показателями уровня организации базы знаний являются их легкодоступность и пригодность к применению, причем речь идет, как правило, именно о знаниях в определенной предметной области.
Представляет интерес идея существования "узловых точек", или "ключевых элементов" в индивидуальной базе знаний, которые, будучи особо чувствительными к определенным семантическим влияниям, могут инициировать изменения в индивидуальных семантических структурах, вследствие чего могут наблюдаться качественные изменения в характере понимания проблемной ситуации.
Особенности базы знаний субъекта характеризуют его компетентность, то есть такое психологическое качество, которое и выступает, по мнению представителей этого направления, в качестве критерия развития индивидуального интеллекта. Высокий уровень компетентности предполагает высокий уровень понимания проблемы в некоторой реальной предметной области (такой, как математика, шахматы и т.д.), опытность при выполнении сложных действий, эффективность суждений и оценок относительно происходящих в этой области событий.
Некоторые авторы утверждают, что компетентность в отношении реальных профессиональных проблем не связана с IQ. Так, при прогнозе результатов конных скачек
40
опытные знатоки, независимо от величины своего IQ, обнаруживали более высокие показатели умозаключающей способности и многовариантность суждений в отличие от новичков (Ceci, Liker, 1986).
Итак, несмотря на принципиальные различия исходных позиций (в гештальт-психологии, как известно, отрицалась роль прошлого опыта в возникновении инсайта, в то время как при исследовании базы знаний, напротив, опытность и обученность рассматривались в качестве условия интеллектуальной эффективности), на первый план в понимании природы интеллекта были выведены содержательные аспекты познавательного отражения - либо в виде предметного содержания познавательных образов, либо в виде понятийного содержания долговременной семантической памяти.
Любопытно, что эти два разных теоретических направления сошлись как минимум на двух моментах. Во-первых, что результативные свойства интеллектуальной деятельности производны по отношению к некоторым радикальным изменениям содержания сознания (будь то мгновенное переструктурирование образа проблемной ситуации или постепенная перестройка наличных знаний). Во-вторых, что "многознание уму не научает". Действительно, по логике гештальт-психологов, многознание - это психологическая основа глупости, ибо именно систематизированные прошлые знания препятствуют нахождению решения в проблемной ситуации, загоняя мысль в колею "известного". В то же время представители знаниевого подхода отмечают никчемность "мертвого груза" неорганизованных знаний.
Какой же из всего этого следует вывод? Интеллект, механизмы которого вырастают в пространстве усвоенных знаний, подобно тому, как постепенно вырастает сложная кристаллическая структура в перенасыщенном растворе, тем не менее обнаруживает себя там и тогда, где и когда заканчивается власть знания: там, где образ ситуации перестраивается в противовес исходному предметному представлению, а также там, где собственно семантическая память превращается в особый когнитивный процесс обобщения и организации приобретенных знаний. Следовательно, вопрос о природе интеллекта, по-видимому, должен обсуждаться не столько на уровне анализа эффектов трансформации содержания сознания, сколько на уровне анализа тех когнитивных механизмов, которые эти эффекты обеспечивают. Ибо умен не тот, кто знает, а тот, у кого сформированы механизмы приобретения, организации и применения знаний.
41
2.2. Генетический подход
2.2.1. Этологическая теория интеллекта
По мнению У.Р. Чарлсворза, сторонника этологического подхода в объяснении природы интеллекта, отправной точкой в его исследованиях должно стать изучение поведения в естественной среде. Интеллект, таким образом, - это способ адаптации живого существа к требованиям действительности, сформировавшийся в процессе эволюции (Charlesworth, 1976). Для лучшего понимания адаптационных функций интеллекта он предлагает разграничить понятие "интеллект", включающее наличные знания и уже сформировавшиеся когнитивные операции, и понятие "интеллектуальное поведение", включающее средства приспособления к проблемным (новым, трудным)
41
ситуациям, в том числе и когнитивные процессы, которые организуют и контролируют поведение.
Взгляд на интеллект с позиции теории эволюции привел Чарлсворза к заключению, что глубинные механизмы того свойства психики, которое мы называем интеллектом, коренятся во врожденных свойствах нервной системы.
Любопытно, что этологический подход (с его ориентацией на изучение интеллектуальной активности в обыденной жизни в контексте естественного окружения) вывел на первый план феномен здравого смысла (своего рода "наивную теорию человеческого поведения"). В отличие от фантазийных грез и научного мышления здравый смысл, с одной стороны, имеет реалистическую и практическую направленность и, с другой стороны, мотивирован потребностями и желаниями. Таким образом здравый смысл ситуационно-специфичен и одновременно индивидуально-специфичен - именно этим объясняется его ключевая роль в организации адаптационного процесса (там же).
42
2.2.2. Операциональная теория интеллекта
Согласно Ж. Пиаже, интеллект - это наиболее совершенная форма адаптации организма к среде, представляющая собой единство процесса ассимиляции (воспроизведение элементов среды в психике субъекта в виде когнитивных психических схем) и процесса аккомодации (изменение этих когнитивных схем в зависимости от требований объективного мира). Таким образом, суть интеллекта заключается в возможности осуществлять гибкое и одновременно устойчивое приспособление к физической и социальной действительности, а его основное назначение - в структурировании (организации) взаимодействия человека со средой (Пиаже, 1969).
Как возникает интеллект в онтогенезе? Посредником между ребенком и окружающим миром является предметное действие. Ни слова, ни наглядные образы сами по себе ничего не значат для развития интеллекта. Нужны именно действия самого ребенка, который мог бы активно манипулировать и экспериментировать с реальными предметами (вещами, их свойствами, формой и т.д.).
По мере накопления и усложнения опыта ребенка в практическом взаимодействии с предметами происходит интериоризация предметных действий, то есть их постепенное превращение в умственные операции (действия, выполняемые во внутреннем мысленном плане).
По мере формирования операций взаимодействие ребенка с миром все в большей мере приобретает интеллектуальный характер. Ибо, как пишет Пиаже, интеллектуальный акт (состоит ли он в том, чтобы отыскать спрятанный предмет или найти скрытый смысл художественного образа) предполагает множество путей достижения цели.
Развитие интеллекта - это стихийный, подчиненный своим особым законам процесс вызревания операциональных структур (схем), постепенно вырастающих из предметно-житейского опыта ребенка. Согласно теории Пиаже, в этом процессе может быть выделено пять стадий (по сути, пять этапов в формировании операций) (Пиаже, 1969; Флейвелл, 1967).
1. Стадия сенсо-моторного интеллекта (от 8-10 месяцев до 1,5 лет). Ребенок пытается понять новый объект через его употребление, применяя ранее усвоенные сенсо-моторные схемы (встряхнуть, ударить, подергать и т.д.). Признаками сенсо-моторного интеллекта (в отличие от восприятия и навыка) являются варьирование действий, направленных на объект, и опора на все более отсроченные во времени следы памяти. Примером может служить поведение 10-12-месячного ребенка, пытающегося достать спрятанную игрушку из-под платка.
42
2. Символический, или допонятийный, интеллект (от 1,5-2 лет до 4 лет). Главное на этой стадии - усвоение вербальных знаков родного языка и переход к простейшим символическим действиям (ребенок может притвориться спящим, уложить спать игрушечного медвежонка и т.п.). Происходит формирование образно-символических схем, основанных на произвольном сочетании любых непосредственных впечатлений ("луна ярко светит, потому что она круглая"). Эти примитивные допонятийные умозаключения получили название "трансдукций" (В. Штерн). Наиболее чистыми формами символического мышления, по Пиаже, являются детская игра и детское воображение - в обоих случаях велика роль индивидуальных образных символов, созданных собственным "Я" ребенка.
3. Стадия интуитивного (наглядного) интеллекта (от 4 до 7-8 лет). В качестве примера рассмотрим один из множества блестящих по простоте экспериментов Пиаже.
Два небольших сосуда А1 и А2, имеющих одинаковую форму и равные размеры, наполнены одним и тем же количеством бусинок. Причем их одинаковость признается ребенком, который сам раскладывал бусинки: одной рукой он помещал бусинку в сосуд А1 и одновременно другой рукой клал другую бусинку в сосуд А2. После этого, оставляя сосуд А1 в качестве контрольного образца, на глазах у ребенка содержимое сосуда А2 пересыпается в сосуд В, имеющий другую форму. Дети в возрасте 4-5 лет делают в этом случае вывод, что количество бусинок изменилось, даже если они знают, что ничего не убавлялось и не прибавлялось. Так, если сосуд В уже и выше, они говорят, что "там больше, потому что это выше" или "там меньше, потому что это тоньше", - и переубедить ребенка при этом невозможно. В данном случае проявляют себя наглядно-интуитивные схемы, которые выстраивают причинные связи в логике очевидных наглядных впечатлений.
4. Стадия конкретных операций (от 7-8лет до 11-12 лет). Если вернуться к эксперименту с сосудами, то после 7 лет ребенок уже твердо уверен в том, что "количество бусинок после пересыпания то же самое". Понимание неизменности количества, веса, площади и т.п. (это явление в теории Пиаже получило название "принципа сохранения") выступает в качестве показателя скоординированности суждений о состояниях объекта ("дно сосуда узкое, поэтому бусинки расположились выше, но все равно их столько, сколько было") и их обратимости ("можно обратно пересыпать, и будет то же").
Появляются, таким образом, операциональные схемы конкретного порядка, лежащие в основе понимания реальных процессов в конкретной предметной ситуации.
5. Стадия формальных операций, или рефлексивный интеллект (от 11-12до14-15 лет). В этом возрасте формируются формальные (категориально-логические) схемы, позволяющие строить гипотетико-дедуктивные рассуждения на основе формальных посылок без необходимости связи с конкретной действительностью. Следствием наличия таких схем являются способность к комбинаторике (в том числе к комбинированию
43
суждений с целью проверки их истинности или ложности), исследовательская познавательная позиция, а также возможность сознательно проверять ход как собственной, так и чужой мысли.
Следовательно, интеллектуальное развитие - это развитие операциональных структур интеллекта, в ходе которого мыслительные операции постепенно приобретают качественно новые свойства: скоординированность (взаимосвязанность и согласованность множества операций), обратимость (возможность в любой момент вернуться к начальной точке своих рассуждений, перейти к рассмотрению объекта с прямо противоположной точки зрения и т.д.), автоматизированность (непроизвольность применения), сокращенность (свернутость отдельных звеньев, "мгновенность" актуализации).
Благодаря сформированности мыслительных операций оказывается возможной полноценная интеллектуальная адаптация подростка к происходящему, смысл которой заключается в том, что "мышление становится свободным по отношению к реальному миру" (Пиаже, 1969, с. 206). Наиболее яркой иллюстрацией подобной формы адаптации, по Пиаже, является математическое творчество.
В развитии интеллекта, согласно теоретическим воззрениям Пиаже, выделяются две основные линии. Первая связана с интеграцией операциональных когнитивных структур, а вторая - с ростом инвариантности (объективности) индивидуальных представлений о действительности.
Пиаже постоянно подчеркивал, что переход от ранних стадий к более поздним осуществляется путем особой интеграции всех предшествовавших когнитивных структур, которые оказываются органичной частью последующих. По сути дела, интеллект - это такая когнитивная структура, которая последовательно "вбирает в себя" (интегрирует) все прочие, более ранние формы когнитивных адаптации. Если такого рода последовательная интеграция прошлых структур во вновь образовавшиеся структуры места не имеет, то интеллектуальный прогресс ребенка оказывается невозможным. В частности, Пиаже отмечал, что сами по себе формальные операции не имеют значения для развития интеллекта, если они при своем возникновении не опирались на конкретные операции, одновременно и подготавливающие их, и дающие им содержание.
Только на основе уже сформировавшихся операций, по мнению Пиаже, можно обучать ребенка понятиям. И к этому выводу Пиаже следует отнестись с должным вниманием. Получается, что усвоение полноценных научных понятий зависит от тех операциональных структур, которые уже сложились у ребенка к моменту обучения. Поэтому, чтобы не быть поверхностным, обучение должно приспосабливаться к наличному уровню развития детского интеллекта. Заметим, Пиаже считал (явно в противовес позиции Л.С. Выготского), что вербальное мышление выступает лишь как побочное явление по отношению к реальному операциональному мышлению. В целом же "...корни логических операций лежат глубже лингвистических связей..." (Пиаже, 1969, с. 20).
Что касается роста инвариантности детских представлений о мире, то общее направление их эволюции идет в направлении от центрации к децентрации. Центрация (в своих ранних работах Пиаже использовал термин "эгоцентризм") - это специфическая бессознательная познавательная позиция, при которой построение познавательного образа диктуется собственным субъективным состоянием либо случайной, бросающейся
44
в глаза деталью воспринимаемой ситуации (по принципу "реально только то, что я чувствую и вижу"). Именно феномен центрации обусловливает особенности детской мысли: синкретизм (тенденцию связывать все со всем), трансдукцию (переход от частного к частному, минуя общее), нечувствительность к противоречию и т.п.
Напротив, децентрация, то есть способность мысленно освобождаться от концентрации внимания на личной точке зрения либо на частном аспекте ситуации, предполагает перестройку познавательного образа по линиям роста его объективности, согласованности в нем множества различных точек зрения, а также приобретения им качества релятивности (в том числе возможность анализа любого явления в системе варьирующих категориальных обобщений).
Таким образом, в качестве дополнительных критериев развития интеллекта в теории Пиаже выступают мера интегрированности операциональных структур (последовательное приобретение мыслительными операциями всех необходимых качеств) и мера объективации индивидуальных познавательных образов (способность к де-центрированному познавательному отношению к происходящему).
Анализируя отношения интеллекта к социальному окружению, Пиаже пришел к выводу, что социальная жизнь оказывает несомненное влияние на интеллектуальное развитие в силу того, что ее неотъемлемой стороной является социальная кооперация. Последняя требует координации точек зрения некоторого множества партнеров по общению, что стимулирует развитие обратимости мыслительных операций в структуре индивидуального интеллекта. Именно постоянный обмен мыслями с другими людьми, подчеркивает Пиаже, позволяет нам децентрировать себя, обеспечивает возможность учета разнообразных познавательных позиций. В свою очередь, именно операциональные структуры, создавая внутри субъекта пространство для разнонаправленных перемещений мысли, являются предпосылкой эффективного социального поведения в ситуациях взаимодействия с другими людьми.
Итак, в теории Пиаже, как можно видеть, были исчерпывающе проанализированы операциональные характеристики познавательных структур всех уровней, включая понятийный. Однако дело в том, что о психических операциях нельзя говорить безотносительно к материалу оперирования, иначе мистифицируется сама природа операций и, в частности, остается без ответа вопрос о том, какой реальный психический материал оказывается их конкретным носителем?
Игнорировать этот аспект работы интеллекта нельзя. Факты свидетельствуют, что изменение формы репрезентации проблемной ситуации в сознании ребенка (психического материала познавательного отражения) приводит к радикальным изменениям в операциональном составе его интеллектуальной деятельности. В частности, в экспериментах Ф. Франк было показано, что если 4-5-летних детей избавить от сбивающих впечатлений наглядной картины якобы "увеличения" воды в узком и высоком сосуде (процедура переливания воды при этом осуществлялась за ширмой), то, опираясь на собственные словесно-речевые рассуждения о ситуации, маленькие испытуемые оказались способными дать правильную оценку ситуации (то есть они начинали демонстрировать сформированность конкретных операций) (цит. по: Обухова, 1972). Аналогичные результаты были получены и в последующих работах самой Л.Ф. Обуховой (Обухова, 1991).
Как известно, Пиаже "оборвал" свои исследования интеллекта возрастом 14-17 лет. Но что происходит с интеллектом дальше? Ведь дальше, например, на отрезке от
45
20 до 35 лет, казалось бы, намечается "пик" интеллектуальной продуктивности и соответственно можно ожидать наибольшую зрелость операциональных механизмов интеллектуальной активности. Почему же Пиаже в своих дальнейших исследованиях не пошел в возраст взрослости?
Рискну выдвинуть следующее предположение. Пиаже не мог не осознавать того факта, что многие взрослые люди с очевидностью демонстрируют практически все описанные им эффекты детского мышления: эгоцентризм суждений, центрацию внимания на частных, случайных аспектах физических и социальных событий, неспособность стать в познавательную позицию другого человека, неготовность мыслить в гипотетико-вероятностном контексте и т.д. О том, что это явление действительно имеет место, свидетельствуют и экспериментальные данные. Так, в работе Н. Подгорецкой нашел подтверждение тот факт, что взрослые люди с высшим образованием, столкнувшись с необычной логической задачей, обнаруживают ориентацию на случайные, несущественные признаки, нарушение логических правил при определении понятий и классификации объектов, тенденцию заменять объективные оценки на субъективные, нечувствительность к противоречиям и т.п. (Подгорецкая, 1980).
Конечно, при изучении детей Пиаже сталкивался с аналогичным явлением, получившим в его теории название "вертикального декаляжа". Понятие вертикального декаляжа (буквально "расхождения") констатирует тот факт, что сходные формы интеллектуального развития можно наблюдать на разных возрастных этапах онтогенеза (то есть они как бы "смещаются" во времени).
Природу этого явления Пиаже не смог объяснить даже для детского возраста. Тем более невозможно было понять тотальный "вертикальный декаляж" в сфере интеллекта взрослого человека. В терминологии его теории также нельзя было объяснить, почему взрослый человек на фоне регресса операциональных структур тем не менее демонстрирует значительно более высокую интеллектуальную продуктивность по сравнению с подростком?
Остается предположить, что сформированность операциональных структур не является единственным показателем интеллектуальной зрелости. Но тогда возникает главный вопрос: что происходит с интеллектом за порогом формальных операций?
46
2.3. Социокультурный подход
2.3.1. Межкультурные исследования познавательных процессов
Констатация того, что человек формируется как культурно-историческое существо, усваивая в ходе своей жизнедеятельности материальные и духовные ценности, созданные другими людьми (его предшественниками и современниками), в такой ее формулировке, конечно же, не вызывает никаких сомнений. Как не вызывает сомнений и тот факт, что такие социо-культурные факторы, как язык, индустриализация, образование, институт семьи, обычаи, традиции и т.д., являются детерминантами по отношению к уровню и темпам психического (в частности, интеллектуального) развития всех членов общества.
Специфическая задача межкультурных исследований заключалась в сравнительном анализе особенностей интеллектуальной деятельности представителей разных
46
культур (как правило, представителей западной, или технократической, культуры и представителей примитивной, или традициональной, культуры). В ходе этих исследований на фоне очевидности факта культурного влияния все ярче вырисовывалась неочевидность конкретных форм этого влияния, и именно это обстоятельство позволило увидеть природу человеческого интеллекта в новом свете (Леви-Брюль, 1994; Леви-Стросс, 1994; Коул, 1997).
Во-первых, основная тенденция культурных изменений в восприятии, памяти, умозаключениях, воображении и т.д. заключается в появлении отвлеченного, категориального отношения к действительности: познавательное действие приобретает способность выходить за пределы непосредственного практического опыта в область логических рассуждений. При этом ведущую роль в появлении способности к категориальному обобщению играет школьное обучение. Различия по этому показателю между образованными и необразованными людьми, независимо от типа культуры, поразительны.
Тем не менее похоже, что культура оказывает свое влияние не на собственно уровень развития интеллекта, а, скорее, на характер интеллектуальных предпочтений. Специфика культурной среды проявляется в избирательной организации способностей людей, иными словами, в формировании своего рода познавательного стиля личности, отражающего требования культуры того общества, в котором живут его представители (Маккоби, Модиано, 1971). У американского студента, неграмотной сельской женщины из отдаленного узбекского кишлака и охотника из племени кпелле в Либерии складываются особые представления о мире - в этом ключ к пониманию своеобразия их интеллектуальной активности.
Во-вторых, критерии оценки интеллектуальных возможностей человека, сформулированные в рамках одной культуры (например, западный эталон сообразительности), не могут быть механически перенесены в другую культуру: в частности, бессмысленно измерять интеллектуальные возможности представителей народности кпелле из центральной Либерии с помощью заданий, разработанных для студентов американских колледжей.
Иными словами, именно в межкультурных исследованиях было ясно продемонстрировано то обстоятельство, что результат выполнения того или иного задания может интерпретироваться не только в терминах "хороший - плохой", но и в терминах "один - другой". И, более того, сам факт существования "других" результатов заставлял задуматься о смысле выражения "хороший результат".
Характерный в этом отношении факт приводится в исследованиях А.Р. Лурия. Когда экспериментатор предлагал неграмотным декханам, жившим в отдаленных кишлаках Узбекистана, правильный, с его точки зрения, вариант категориальной группировки предметов, то испытуемые заявляли, что такое объединение предметов не отражает их существенных связей и что человек, сделавший такую классификацию, "глупый" и "ничего не понимает". "Правильной", в их разумении, являлась классификация, в которой предметы участвовали в одной общей практической ситуации (Лурия, 1974).
В-третьих, существование специфических, культурно обусловленных свойств интеллекта не исключает наличия интеллектуальных универсалий, имеющих своим источником общие потенциальные способности людей и сходные черты их образа жизни. То есть своеобразие интеллектуальной активности представителей разных культур - это различные выражения универсальных законов устройства человеческого
47
разума, который, по удачному выражению Кл. Леви-Стросса, суть "бескорыстное упорядочивание хаоса". Так, наука и магия - это просто разные способы организации картины мира и получения знаний о нем, основанные на одних и тех же базовых мыслительных процедурах.
В-четвертых, некоторые типы социо-культурной среды "подталкивают" интеллектуальное развитие лучше, раньше и на более длительном отрезке человеческой жизни, чем другие. При этом ранняя стабилизация интеллекта в культурно обедненной среде всего лишь означает, что человек не достиг наивысшего уровня развития своих познавательных возможностей.
В-пятых, благодаря освоению вербально-логических средств интеллектуальной деятельности индивидуальный опыт через значения слов и логические рассуждения оказывается погруженным в общечеловеческий опыт; разумеется, при этом качественно расширяется интеллектуальный мир отдельного человека. С другой стороны, отмечается, что влияние культурного уровня развития имеет и свою регрессивную составляющую. Например, по мере роста уровня образованности у испытуемых увеличивается число оптико-геометрических иллюзий, обедняется словарь наименований цветовых оттенков (Лурия, 1974). Крайне любопытно, что испытуемые, ориентированные на непосредственное, предметное отношение к миру, при восприятии геометрических фигур не обнаружили никаких признаков соответствия с законами структурного восприятия, описанными в гештальт-психологии. Так, изображенный крестиками треугольник они называли "звездами", а изображенный точками квадрат - "бусами". По мнению Лурии, тенденция дополнять визуальные структуры до определенной завершенной ("прегнантной") формы является культурным результатом усвоения геометрических понятий (там же).
М. Маккоби и Н. Модиано по поводу возможной регрессии интеллектуальных сил личности пишут следующее: "Тенденция детей в 6 лет опираться в основном на восприятие свойственна всем детям независимо от того, живут ли они в Мексике или США, но в процессе дальнейшего развития мексиканский ребенок движется в направлении все большей тонкости восприятия, а североамериканский все больше овладевает операциями абстракции" (Маккоби, Модиано, 1971, с. 312). Короче, человек, чей интеллект формируется в условиях городской жизни промышленно развитого общества, выигрывает в способности логически рассуждать, категориально формулировать, классифицировать большие объемы сложной информации, но одновременно он теряет остроту восприятия предметно-практических аспектов жизни.
Таким образом, наши интеллектуальные возможности не только порождаются культурным контекстом, но и ограничиваются им (иногда - фатально, вне зависимости от того, является ли культура примитивной или развитой).
В целом критерий развития интеллектуальных возможностей в рамках данного направления связывается с тем, насколько данный субъект освоил содержание соответствующей культуры и в какой мере его интеллект является носителем и реализатором доминирующих культурных ориентации. Как можно судить, базовые культурные факторы (прежде всего, традиционный образ жизни, образование, языковая семантика) создают эффект унификации (универсализации) механизмов интеллектуальной активности. Не удивительно, что, например, образованные представители разных культур по складу своего ума более схожи между собой, чем необразованный и образованный представители одной и той же культуры.
48
В свою очередь, Л. Леви-Брюль доказал возможность сосуществования в любой культуре, а также у отдельного субъекта одновременно разных типов мышления, сделав вывод о гетерогенности человеческого мышления как его сущностной черте (Леви-Брюль, 1994; Тульвисте, 1988).
Парадоксальная совмещенность в человеческом интеллекте универсальности и гетерогенности подводит нас к проблеме разрешающих возможностей индивидуального познания. В частности, если у представителя традициональной культуры под влиянием образования формируются категориально-логические способности, а у представителя современной технократической культуры под влиянием социальной дезорганизации - архаические формы познавательного отношения к происходящему, то, что при этом происходит с интеллектуальным потенциалом человека от такого рода соседства (он повышается, снижается или остается неизменным)?
Констатация культурной природы интеллекта, пожалуй, лишь заостряет целый ряд других вопросов, связанных с механизмами устройства и функционирования индивидуального интеллекта. Например, почему в идентичной культурной среде люди с примерно одинаковым уровнем социализации тем не менее думают по-разному, о разном и с качественно разной результативностью? И еще: за счет чего, испытывая столь мощный культурный прессинг, человек тем не менее ухитряется выходить за пределы культурных влияний, перестраивая традиции, занимаясь альтернативным самообразованием, радикально меняя значение устоявшихся языковых категорий, - и именно такой тип поведения мы рассматриваем как показатель интеллектуальной одаренности?
49
2.3.2. Культурно-историческая теория высших психических функций
В рамках культурно-исторической теории высших психических функций Л.С. Выготского проблема интеллекта рассматривается как проблема умственного (в целом - психического) развития ребенка. Отстаивая формулу "выведение индивидуального из социального", Выготский писал: "Все высшие психические функции суть интериоризованные отношения социального порядка... Их состав, генетическая структура, способ действия - одним словом, вся их природа социальна, даже превращаясь в психические процессы, она остается квазисоциальной" (Выготский, 1983, с. 146).
Развитие интеллекта ребенка осуществляется под влиянием таких ведущих факторов, как употребление орудий (материальных средств организации интеллектуального контакта с миром в виде счетных палочек, книг, микроскопа и т.п.), овладение знаками (в виде усвоения значений слов родного языка, а также разнообразных средств буквенной и визуальной символики), включение в социальное взаимодействие с другими людьми (в виде различных форм помощи и поддержки со стороны взрослых).
По мнению Выготского, существует принципиальная разница между натуральным интеллектом как продуктом биологической эволюции и исторически возникшей формой человеческого интеллекта, строение которого основано на функциональном употреблении слова. Поэтому механизм интеллектуального развития ребенка связан с формированием в его сознании системы словесных значений, перестройка которой и характеризует направление роста его интеллектуальных возможностей.
49
Основной путь развития детских понятий складывается, по Выготскому, из трех ступеней в зависимости от изменений характера обобщения значения слова (Выготский, 1982 б).
1. Мышление в синкретических образах. Первоначально ребенок склонен связывать и подводить под значение слова любые предметы в любых сочетаниях. Предметы объединяются на основе субъективных представлений самого ребенка по принципу "все связано со всем". П.П. Блонский в этой связи говорил о "бессвязной связности детского мышления".
Синкретизм мышления на этом этапе развития проявляется, в частности, в феномене "всевластия мысли", то есть готовности маленького ребенка "объяснить" все что угодно на основе сиюминутного случайного впечатления.
2. Мышление в комплексах. Ребенок, пользуясь словом, объединяет предметы уже на основании объективных, действительно существующих между ними связей, но связей конкретных, наглядно-образных и фактических, открываемых ребенком в своем непосредственном опыте. Слово, таким образом, обобщает предметы с точки зрения их соучастия в какой-либо практической ситуации. На этой стадии признаки значений слов еще диффузны, они "скользят и колеблются", незаметно переходя один в другой.
В своей завершающей фазе эта стадия заканчивается формированием так называемых псевдопонятий, внешне очень похожих на настоящие понятия: ребенок при этом опирается на устойчивые, постоянные значения слов, которые он в готовом виде получает при общении со взрослыми. Однако проводить собственно понятийные мыслительные операции при их употреблении он еще не способен (давать определения, выделять частные и общие признаки понятия и т.п.). Например, ребенок правильно использует слово "посуда", однако в его представлении посуда - это не абстрактное понятие, а набор тех реальных предметов, с которыми он привык сталкиваться ежедневно.
3. Мышление в понятиях. На этой стадии развития ребенок может достаточно легко выделять, абстрагировать отдельные признаки предметов, а также комбинировать их, пользуясь значением слова в разных ситуациях. Отдельные понятия при этом образуют своего рода "пирамиду" понятий, поскольку мысль ребенка движется от частного к общему и от общего к частному. Любое отдельное понятие находится в системе связей с другими понятиями, поэтому анализ одного и того же предмета ребенок может осуществлять разными путями, выстраивая относительно этого предмета множество разнообразных суждений. Например, ребенок легко понимает значение фразы типа "цветов больше, чем ромашек" либо без труда предлагает несколько вариантов завершения фразы типа "поезд сошел с рельсов, потому что..."
Начиная с раннего онтогенеза слово вмешивается в детское восприятие, вычленяя отдельные элементы и преодолевая натуральную структуру сенсорного поля. Фактически ребенок начинает воспринимать мир не только через свои глаза, но и через свою речь. Уже позже такое "вербализованное восприятие", в котором реализуется расчленяющая функция речи, перерастает в более сложные формы "познающего восприятия", обеспечивающего аналитико-синтетический характер чувственного отражения происходящего.
50
Однако только на этапе появления понятийного мышления происходит радикальная перестройка ("интеллектуализация") всех элементарных познавательных функций на основе их синтеза с функцией образования понятий: восприятие фактически становится частью наглядного мышления, запоминание превращается в осмысленный логический процесс, внимание приобретает качество произвольности и т.д. Интеллект, следовательно, возникает как эффект изменения межфункциональных связей, как результат особого рода "сплава" (синтеза, интеграции) познавательных процессов, перестроенных категориальным аппаратом понятийного мышления.
На основе анализа закономерностей становления понятийного мышления Выготский сформулировал важнейший, с его точки зрения, для всей психологии понятий закон единства структуры и функции мышления: "что функционирует до известной степени определяет как функционирует" (Выготский, 1982 б, с. 289). Иными словами, функции мышления производны, зависимы от структуры самой мысли (то есть от того, как представлена, отражена и обобщена действительность в освоенных ребенком значениях слов).
В целом же, по его словам, "в развитии мышления мы имеем дело с некоторыми очень сложными процессами внутреннего характера, изменяющими внутреннюю структуру самой ткани мысли" (там же, с. 289). Сложность этих процессов может проиллюстрировать следующий факт: в подростковом возрасте интеллектуализируются (то есть становятся осознанными и произвольными) все основные познавательные функции, тогда как собственно интеллект остается неосознанным и непроизвольным (заметим, что под интеллектом в собственном смысле слова Выготский имеет в виду мышление в понятиях). И только благодаря усвоению так называемых "научных понятий" подросток начинает сознательно относиться к своей интеллектуальной жизни и овладевать собственными интеллектуальными силами.
Характерно, что именно социо-культурная ориентация теоретических взглядов Выготского привела его к представлению о ключевой роли слова в объяснении как механизмов развития, так и механизмов функционирования человеческого интеллекта. Чрезвычайно любопытная деталь: сам термин "интеллект" в его работах употребляется довольно редко, поскольку при таком подходе в нем нет необходимости - на место интеллекта естественно и непротиворечиво встает понятийное мышление (точнее, сознательная, категориально-логическая форма интеллектуальной деятельности), а в качестве критерия развития интеллекта выступает мера общности понятия (характеристика понятия как с точки зрения степени обобщенности его содержания, так и с точки зрения степени его включенности в систему связей с другими понятиями).
Итак, вербализация → категоризация → рационализация - таков теоретический ракурс осмысления Выготским природы интеллекта. Великая иллюзия, в ловушку которой попали многие великие умы, - вера в рациональную природу человеческого интеллекта - сработала и на этот раз. Конечно, в принципе человек способен построить логически обоснованное представление о мире, базирующееся на усвоенных им нормативных понятийных значениях. Однако даже самый поверхностный анализ работы интеллекта реального субъекта позволяет заключить, что в таком режиме человеческая мысль работает довольно редко.
51
2.4. Процессуально-деятельностный подход
2.4.1. Исследование интеллекта в контексте теории мышления
как процесса
Существенные изменения в развитии представлений о природе интеллекта привнесли отечественные экспериментально-психологические исследования, выполненные в русле трактовки психического явления как процесса. Основы этих теоретических представлений были заложены в работах С.Л. Рубинштейна, который подчеркивал, что психическое как живая реальная деятельность характеризуется процессуальностью, динамичностью, непрерывностью. Соответственно механизмы любой психической активности (в том числе интеллектуальной) складываются не до начала деятельности, а именно в процессе самой деятельности.
Довольно резко критикуя взгляд на интериоризацию внешних воздействий (в виде усвоения значений словесных знаков либо в виде освоения собственных предметных действий) как на основной механизм умственного развития, Рубинштейн в своих исследованиях исходил из теоретической формулы: "внешние влияния всегда преломляются через внутренние условия". Иными словами, возможность освоения (присвоения) извне любых знаний, способов поведения и т.п. предполагает наличие некоторых внутренних психологических предпосылок (в том числе некоторый исходный уровень умственного развития). Таким образом, умственные (интеллектуальные) способности - это, с одной стороны, результат обучения, а с другой стороны, предпосылка обучения. По словам Рубинштейна, "одаренность человека определяется диапазоном новых возможностей, которые открывает реализация наличных возможностей" (Рубинштейн, 1973, с. 228).
Рубинштейн выдвигает весьма актуальное положение о том, что "...нельзя определять умственные способности, интеллект человека по одному лишь результату его деятельности, не вскрывая процесса мышления, который к нему приводит. В попытке так подойти к определению интеллекта, т.е. умственных способностей людей, и заключается коренной дефект обычных тестовых определений интеллекта" (там же, с. 231).
Пониманием роли мыслительного процесса как внутреннего условия, опосредующего любые виды внешних воздействий (в том числе учебных), было продиктовано решение вопроса о составе и структуре умственных способностей. По мнению Рубинштейна, ядром, или общим, главным компонентом любой умственной способности является свойственное данному человеку качество процессов анализа, синтеза и обобщения. Особую роль играет обобщение отношений i том или ином предметном материале (математическом, лингвистическом, визуальном). Итак, индивидуальный интеллект складывается по мере того, как образуются, генерализуются и закрепляются основные мыслительные операции - анализ, синтез, обобщение. Другим производным компонентом способностей является более или менее слаженная и отработанная совокупность операций (умственных действий, с помощью которых может осуществляться соответствующая деятельность).
Весьма примечательно, что Рубинштейн вводит понятие "мышление-способность", противопоставляя его "мышлению-навыку" и подчеркивая тем самым, что к объяснению механизмов интеллекта нужно идти через изучение внутренних закономерностей
52
операционально-процессуальной динамики мышления (Рубинштейн, 1973, с. 233). Следовательно, суть интеллектуального воспитания личности заключается в формировании культуры тех внутренних процессов, которые лежат в основе способности к постоянному возникновению у человека новых мыслей, что, собственно, и служит самым очевидным критерием уровня интеллектуального развития.
Впоследствии большинство этих идей нашло развернутую экспериментальную реализацию в работах А.В. Брушлинского. В частности, были описаны различные эффекты внутренней процессуальной динамики мышления в условиях решения задач (действие механизма анализа через синтез, вероятностное прогнозирование, немгновенный инсайт и т.д.) (Брушлинский, 1996).
Результаты исследований, связанные с анализом процессуально-динамической основы интеллектуальной деятельности в детском возрасте, представлены в работах Л.А. Венгера. Так, согласно Венгеру, единицей интеллектуальной деятельности является познавательное ориентировочное действие. Следовательно, референтным показателем (критерием) наличного уровня интеллектуального развития ребенка-дошкольника следует считать степень овладения им основными видами перцептивных, мыслительных и мнемических действий, важных для данного возрастного периода и связанных с ведущим видом деятельности.
В частности, важно учитывать: а) показатели сформированности перцептивных действий - идентификация с эталоном (по форме, цвету, деталям), перцептивное моделирование (создание копий, образцов объектов); б) показатели сформированности образно-наглядного мышления - овладение схематизированными представлениями (например, в виде планов-схем движения к цели); в) показатели сформированности логического мышления - выделение существенных признаков объектов (например, в виде построения сериальных рядов из бумажных квадратиков, различающихся по насыщенности цветового тона) (Венгер, 1978).
При этом особо подчеркивается, что от "срезовых" показателей наличного уровня умственного развития в принципе нельзя переходить к определению уровня интеллектуального потенциала ребенка, поскольку его реальные интеллектуальные возможности могут проявиться только в ходе последующего обучения и воспитания (там же).
Несомненно, анализ процессуально-динамических характеристик интеллектуальной деятельности является одним из приоритетных направлений изучения природы интеллекта, однако их описание отнюдь не исчерпывает проблему механизмов функционирования последнего. Можно предположить, что когда интеллект сложился, то, вероятно, уже особенности его психической конструкции начинают предопределять актуальную процессуальную развертку интеллектуальной деятельности (в том числе своеобразие ее операционального состава и сформированность основных познавательных действий).
Интересной в этом плане представляется позиция В.Ю. Крамаренко. Он разграничивает интеллект как умственную способность и мышление как умственную активность, отмечая, что между реальной основой, которая выступает в форме интеллекта, и ее актуализацией, проявляющейся в форме конкретного мыслительного процесса, нет однозначного соответствия. Более того, поверхностная структура мышления, по его мнению, часто обманчива и неинформативна, в ней не содержится всей информации об умственных возможностях субъекта. Поэтому для научно-теоретического анализа, по мнению Крамаренко, необходимо выйти за границы простой регистрации и описания мышления
53
и перейти к изучению глубинных структур и процессов, позволяющих объяснить закономерности наблюдаемой мыслительной деятельности (Крамаренко, 1983).
54
2.4.2. Исследование личностных факторов интеллекта
в рамках теории деятельности
Систематические экспериментальные исследования механизмов интеллектуальной активности в русле теории деятельности были проведены О.К. Тихомировым и его сотрудниками. В качестве таких механизмов рассматриваются личностные факторы: операциональные смыслы, эмоции, мотивы, целеполагание.
Анализ особенностей решения шахматных задач позволил продемонстрировать тот факт, что в результате исследовательских действий испытуемого один и тот же элемент проблемной ситуации выступает для него по-разному на разных этапах процесса решения. Такая специфическая, сугубо индивидуальная форма отражения субъектом разных аспектов ситуации была названа "операциональным смыслом" объекта. Сопоставление осязательной активности и речевого рассуждения слепых шахматистов доказало существование невербализованных и вербализованных смыслов, взаимодействие и развитие которых определяет направление поиска решения (Тихомиров, 1969).
Далее, было показано, что при решении сложных шахматных задач состояние эмоциональной активации, как правило, предшествует моменту обнаружения критического хода, опережая словесное формулирование принципа решения задачи. Иными словами, рост эмоционального возбуждения - это эмоциональное предвосхищение принципиального решения задачи, названное Тихомировым "чувством близости решения". Выяснилось, что, возникая до принятия решения, эмоциональная активация способствует фиксации зоны поиска, сужению ее объема, изменению характера поисковых действий, то есть эмоции принимают самое непосредственное участие в регуляции интеллектуальной деятельности. Характерно, что если испытуемые выполняли простые, механические виды действий (складывали двузначные числа, считали вслух до ста), явление эмоциональной активации не наблюдалось (там же).
Роль мотивации была отчетливо продемонстрирована в экспериментах с варьированием мотивационного плана процесса решения комбинаторных и творческих задач: одна группа испытуемых просто решала задачи по инструкции экспериментатора, другой группе объявлялось, что испытуемые являются участниками соревнования на выявление "лучшего решателя", в третьей - организовывалась ситуация "исследования умственной одаренности" испытуемых. Факты свидетельствовали, что по мере роста личностно значимой мотивации растут показатели продуктивности и оригинальности ответов, что, по мнению авторов этого исследования, является доказательством подчиненности содержательных и структурных особенностей интеллектуальной деятельности мотивам, лежащим в ее основе (Тихомиров, 1976).
Исследование целеобразования (то есть порождения новых целей в индивидуальной или совместной деятельности) позволило описать целый ряд особенностей этого явления: превращение мотивов в мотивы-цели при их осознании, превращение побочных результатов действия в цель, выделение промежуточных целей при наличии препятствий в деятельности, соотношение общих и конкретных целей и т.д. (Тихомиров, 1984).
Реализации личностного подхода в исследовании познавательного отношения человека к миру (проблеме "социального мышления") посвящен ряд работ К.А. Абульхановой-Славской.
54
Акцентирование роли личностных факторов и, в первую очередь, социально-психологической позиции личности позволило получить описание личностных типов мышления, каждый из которых соединяет в себе личностные и когнитивные характеристики субъекта деятельности (Абульханова-Славская, 1986; 1991).
В связи с изложенной теоретической позицией относительно роли личностных факторов хотелось бы обратить внимание на следующее обстоятельство, весьма существенное, с моей точки зрения, для понимания природы интеллекта. Тезис о пристрастности познавательного отражения, безусловно, верен. Тем не менее существуют, к счастью, границы этой пристрастности, и задаются они, в первую очередь, уровнем интеллектуальной зрелости личности. В этом как раз и заключается один из парадоксов психологии интеллекта: на познавательную деятельность на любом ее уровне (восприятия, памяти, мышления и т.д.) действительно оказывают влияние разнообразные личностные факторы. Специфическая же роль интеллекта заключается в том, что интеллект "производит" такие субъективные состояния, которые не зависят от характеристик познающего субъекта и являются условием объективизации всех аспектов его познавательной активности.
В этой связи вспоминается высказанное в свое время Л.М. Веккером замечание, что задача психологии - показать не только то, в какой мере познавательный образ зависит от субъекта, но и то, в какой мере он от него не зависит. Субъективные состояния, не зависящие от характеристик познающего субъекта, - звучит действительно парадоксально, но суть проблемы интеллекта, по его мнению, именно в этом (из материалов спецкурса, 1971 г.).
55
2.5. Образовательный подход
2.5.1. Теории когнитивного научения
Различные варианты этих теорий объединяет убежденность в том, что природа интеллекта раскрывается через процедуры его приобретения. Соответственно изучать интеллект можно через формирование определенных когнитивных навыков в специально организованных условиях при целенаправленном руководстве извне процессом усвоения новых форм интеллектуального поведения.
В частности, в исследованиях социально-бихевиористской ориентации интеллект рассматривается как совокупность когнитивных навыков, усвоение которых является необходимым условием интеллектуального развития. Так, А. Стаатс рассматривает интеллект как систему поведенческих навыков, являющихся результатом "кумулятивно-иерархического обучения". Он согласен с критикой тех концепций интеллекта, в которых отрицается или не объясняется общность его природы. В социальном бихевиоризме, по его мнению, имеется строгое доказательство некоторого общего механизма интеллекта, в качестве которого выступают интеллектуальные навыки, релевантные различным ситуациям и требованиям. Интеллект, таким образом, трактуется как "базовый поведенческий репертуар", приобретаемый за счет определенных обучающих процедур (Staats, 1970; Staats, Burns, 1981).
Например, интеллектуальная способность к обобщению предполагает усвоение четырех основных когнитивных навыков: 1) навык наименования объектов, а также
55
наименования их свойств (цвета, размера и т.д.); 2) навык осуществления переводов по типу "слово-образ"; 3) навык работы с классами слов (то есть с родо-видовыми связями); 4) навык словесного ассоциирования. При этом особо подчеркивается, что обучение ребенка на специфических интеллектуальных тестах не может рассматриваться как условие изменения его общего интеллекта (Staats, Burns, 1981).
Аналогичен смысл теории навыков К. Фишера. Согласно его взглядам, интеллектуальное развитие есть образование иерархически организованных комплексов специфических навыков. Основной пафос этой теории состоит в попытке обосновать единство поведения и мысли, при этом утверждается, что "...мысль в буквальном смысле слова выстроена из сенсо-моторных навыков" (Fischer, 1980, р. 523).
Фишер говорит о существовании трех взаимосвязанных "ярусов" (типов) усваиваемых навыков: сенсо-моторных, репрезентативных и абстрактных. Все эти навыки формируются вместе с комбинаторными правилами, отвечающими за их взаимодействие и преобразование. В целом познание - это "...процесс, посредством которого организм осуществляет оперативный контроль над источниками вариаций своего собственного поведения" (там же, р. 523).
Еще одно направление в изучении механизмов когнитивного научения в контексте интересующей нас проблемы интеллекта представлено в исследованиях Р. Фейерштейна. Интеллект, в его понимании, есть динамический процесс взаимодействия человека с миром, поэтому критерием развития интеллекта является мобильность (гибкость, пластичность) индивидуального поведения. Источником мобильности выступает так называемый опосредованный опыт обучения (mediated learning experience) (Feuerstein, 1990).
Если ребенок развивается в благоприятных семейных и социо-культурных условиях, то такой опыт накапливается у него естественным путем, в результате чего ребенок относительно эффективно адаптируется к своему окружению. О том, что подобного рода опыт наличествует, свидетельствуют, во-первых, способность сохранять личностную идентичность (то есть оставаться самим собой, несмотря на изменяющиеся условия и обстоятельства) и, во-вторых, разнообразие в стратегиях поведения, оценках происходящего, вариантах собственных состояний и т.д. Если же ребенок развивается в условиях культурной депривации, то необходимый опыт-посредник у него не формируется, и в своем поведении он становится "рабом момента", взаимодействуя с миром по принципу "одно воздействие - одна реакция". В результате снижаются учебные успехи, нарастают личностные и социально-психологические конфликты.
По мнению Фейерштейна, развитие интеллекта с возрастом является функцией опосредованного опыта обучения, точнее, его влияния на когнитивные возможности ребенка. По своему содержанию опосредованный опыт обучения - это некоторое множество техник (приемов), в том числе навыки оценки собственной компетентности, контроля поведения, поиска цели, индивидуализации тактик и стратегий деятельности, планирования и т.п., с помощью которых субъект может сознательно управлять своими состояниями и собственной интеллектуальной деятельностью.
На основе этих представлений Фейерштейн и его коллеги разработали специальную обучающую программу под названием "Инструментальное обогащение", предназначенную для учащихся в возрасте 12-14 лет и рассчитанную на 2 года (по 3-5
56
одночасовых занятий каждую неделю). Важно подчеркнуть, что эта программа адресуется прежде всего именно тем учащимся, которые имеют либо низкие результаты по тестам учебных достижений ("неуспевающим", в терминах отечественной педагогики), либо дефициты определенных интеллектуальных способностей в виде рассеянного внимания, несостоятельности в визуальных преобразованиях или логических рассуждениях и т.п. ("отстающим в познавательном развитии", в терминах отечественной психодиагностики). Смысл данной программы, по мнению ее авторов, заключается не столько в улучшении способности ребенка решать задачи, сколько в повышении его веры в собственную компетентность и оптимизма в отношении своих интеллектуальных возможностей, а также в усвоении навыков интеллектуальной саморегуляции. Поэтому не так уж и важно, на каком материале идет когнитивное обучение и сколько задач прорешает учащийся.
Итак, с чисто практической точки зрения целесообразность формирования когнитивных навыков (и у детей, и у взрослых) в целом не вызывает особых сомнений. Тем более что в системе традиционного школьного образования линия специального обучения когнитивным и метакогнитивным навыкам практически не просматривается. Что же касается научно-теоретического плана этой проблемы, то, к сожалению, объяснить механизмы интеллекта с позиции теории когнитивного научения весьма затруднительно. Ибо не ясно, что, собственно говоря, важно для интеллектуального развития: сами по себе когнитивные навыки либо те психические новообразования, которые складываются по мере их формирования. Возможно, что формировать когнитивные навыки имеет смысл только в отношении недостаточного (отстающего в развитии) интеллекта, но как быть с категорией интеллектуально развитых и особенно интеллектуально одаренных детей? И что вообще с психологической точки зрения вернее: то, что "кашу маслом не испортишь", или то, что "умного учить - только портить"?
57
2.5.2. Исследование интеллекта в контексте проблемы обучаемости
Проблема соотношения обучения и умственного развития ребенка на протяжении многих лет являлась основополагающей для отечественной педагогической психологии. Характерно, однако, что термин "интеллект" в этих исследованиях практически не использовался. Тем не менее на определенном этапе эта проблема приобрела некоторый новый акцент, чрезвычайно существенный для выхода в сферу общепсихологического исследования интеллекта, и выступила как проблема обучаемости.
Ключевое значение в данном случае имел тот, строго говоря, очевидный, известный каждому учителю факт, что разные учащиеся испытывают разные трудности при усвоении учебного материала. Одни легко схватывают содержание понятий, другие нуждаются в дополнительных объяснительных приемах; одни легко объединяют знания из разных областей, тогда как у других знания сосуществуют параллельно, не соприкасаясь; одни легко применяют свои знания в практической ситуации, другие "не видят" практической возможности их применения; у одних легко образовываются новые связи, у других - с трудом. Короче, выяснилось, что интеллект - это не только продукт, но и предпосылка обучения.
3.И. Калмыкова, основываясь на длительных экспериментально-психологических исследованиях интеллектуальной деятельности учащихся в ходе обучения,
57
предлагает определять природу интеллекта через "продуктивное мышление", сущность которого заключается в способности к приобретению новых знаний (способности к учению, или обучаемости). Показателями обучаемости являются уровень обобщенности знаний, широта их применения, быстрота усвоения, темп продвижения в учебе. Соответственно "ядро" индивидуального интеллекта, по ее мнению, составляют возможности человека к самостоятельному открытию новых знаний и применению их в нестандартных проблемных ситуациях. Именно характеристики обучаемости предопределяют успешность школьного обучения, выступая тем самым в качестве критерия интеллектуального развития ребенка (Калмыкова, 1981).
Аналогичной точки зрения придерживается Г.А. Берулава, отмечая, что при оценке умственного развития ребенка следует принимать во внимание как "уровень актуального развития" (в виде показателей сформированности понятий, умственных действий и общих умственных способностей), так и особенности его "зоны ближайшего развития" (в виде показателей обучаемости). В свою очередь, в зоне ближайшего развития следует выделять две линии обучения (по сути, два аспекта обучаемости): во-первых, зону активного обучения (процесс усвоения и воспроизведения новых знаний с учетом различных форм учебной помощи со стороны учителя) и, во-вторых, зону творческой самостоятельности ребенка (процесс его самодеятельности и самообучаемости) (Берулава, 1990).
В целом представляется ясным то обстоятельство, что практически любая форма обучения (в виде школьного образования как особого социального института, неформального внешкольного образования, включения субъекта в специализированные программы интеллектуального тренинга и т.д.) в той или иной мере способствует увеличению индивидуальных интеллектуальных возможностей.
В частности, основной системообразующий фактор школьного обучения применительно к развитию интеллекта - это активное использование детьми языка: расширение словаря, умение словесно излагать свои впечатления, вести дискуссию и т.п. В итоге непосредственный опыт ребенка проходит символическую обработку, и как следствие, мы наблюдаем мощный толчок в направлении развития способности к абстрагированию и роста вариативности познавательных реакций (в виде разнообразия способов рассмотрения того или иного объекта, смены контекстов его анализа и т.д.).
Весьма характерным является отмеченный многими исследователями факт ранней остановки процесса интеллектуального развития у детей, не посещавших школу. Подобного рода ранняя стабилизация интеллекта, означающая, что человек не достиг наивысшего для него уровня развития своих познавательных возможностей, также свидетельствует о тесной связи механизмов становления индивидуального интеллекта с образовательными влияниями.
Тем не менее и в рамках этого подхода возникают вопросы, которые не могут быть оставлены без внимания. Прежде всего речь идет о диапазонах изменения интеллектуального потенциала и долгосрочности эффекта различных специализированных форм обучения (в том числе в виде интеллектуальных тренингов). Далее, хотелось бы иметь четкое представление о разрешающих возможностях различных типов школьного обучения применительно к задачам интеллектуального воспитания личности. Очевидно, далеко не любая технология обучения, даже если она и создает условия для личностного развития ребенка, гарантирует формирование тех глубинных когнитивных механизмов,
58
без которых невозможно прогрессирующее развитие индивидуального интеллекта. В этой связи заставляет задуматься тот факт, что формальное (традиционное) образование повышает потенциал одаренности до некоторого предела, после чего оно начинает оказывать уже негативное влияние вследствие усиления приверженности учащихся к традиционным способам решения проблем (Simonton, 1978).
В свое время Д. Гранин исчерпывающе кратко охарактеризовал суть образования. "Образование, - утверждал он, - это то, что останется после того, как все выученное забудется." Если это так, то современная образовательная теория интеллекта, по-видимому, должна заниматься изучением психических новообразований, которые "остаются" в результате тех или иных образовательных воздействий.
59
2.6. Информационный подход
2.6.1. Ментальная скорость как основа индивидуальных
интеллектуальных различий
X. Айзенк подчеркивал, что корреляционный и факторный подходы традиционной тестологии явно недостаточны для объяснения механизмов интеллекта. По его мнению, путь доказательства существования интеллекта - это доказательство его нейрофизиологической детерминации. В качестве аргументов в пользу такой интерпретации механизмов интеллекта Айзенк рассматривает факты корреляционных зависимостей показателей IQ с характеристиками вызванных потенциалов коры головного мозга (мерой их сложности и синхронности), а также с временем простых двигательных реакций и временем опознания объектов в условиях их кратковременного зрительного предъявления. "Мы приходим к удивительному заключению, - пишет Айзенк, - что лучшие тесты интеллектуальных различий - это тесты, не-когнитивные по своей природе" (Eysenk, 1982, р. 9).
В качестве основного проводится положение о том, что индивидуальные IQ-различия непосредственно обусловлены особенностями функционирования центральной нервной системы, отвечающими за точность передачи информации, закодированной в виде последовательности нервных импульсов в коре головного мозга. Если такого рода передача в процессе переработки информации с момента воздействия стимула до момента формирования ответа осуществляется медленно, со сбоями и искажениями, то успешность в решении тестовых задач будет низкой.
Следует отметить, что отношение Айзенка к тестологической концепции интеллекта весьма своеобразно: скептически оценивая психометрические исследования, он в то же время, видимо, не сомневается в том, что показатели IQ характеризуют уровень развития индивидуального интеллекта. IQ плох лишь тем, что это - слишком грубая прикидочная оценка индивидуальных интеллектуальных возможностей.
Подобно тому, как в свое время сформировалось представление о сложности состава атома, IQ также должен быть "взломан" на отдельные составляющие, каждая из которых требует отдельного измерения. А именно: в IQ следует выделить такие компоненты, как скорость решения, настойчивость в поиске решения и ошибки исполнения. Для понимания природы интеллекта особенно важен компонент "ментальная
59
скорость", которая и является, по словам Айзенка, психологической базой и источником развития интеллекта (там же).
В целом смысл идеи сведения сущности интеллекта и соответственно критерия его развития к скоростным характеристикам процесса переработки информации, обусловленным нейрофизиологическими факторами, Айзенк видит в том, что только с помощью некогнитивных по своей направленности объяснений проблема интеллекта может быть выведена из "болота ментализма" и сам интеллект может приобрести статус реальной психической способности.
Наиболее типичным проявлением ментальной скорости является феномен времени опознания. Операционально он определяется как то самое короткое время экспозиции стимула (при тахископическом предъявлении слов, цифр, букв в диапазоне от 10 до 150 мс), за которое испытуемый успевает опознать предъявляемый объект, если при этом он дает до 95 % правильных ответов. В содержательном плане - это время, которое требуется человеку для достаточной детализации визуального стимула, с тем чтобы в итоге сделать о нем уверенное и точное различительное суждение. Некоторые данные свидетельствуют об удивительно высоких корреляциях между скоростью опознания и уровнем невербального и вербального интеллекта по методике Векслера (r = -0,92 и r = -0,41 соответственно), а также с показателем по методике Равена (r = -0,72) (Eysenk, 1982).
Простые решения, как известно, всегда чрезвычайно привлекательны в силу своей обманчивой очевидности и иллюзии "последней точки в строке". И действительно, сколь многие профессиональные психологи вздохнули бы с облегчением, если бы можно было определить интеллектуальные возможности человека по скорости его психофизиологических реакций (что, собственно говоря, и пытался сделать основоположник тестологического подхода Фр. Гальтон). Увы!
Во-первых, при выполнении серии тестовых заданий стандартного интеллектуального теста время правильных ответов, как правило, больше времени ошибочных ответов, то есть большая затрата времени - это признак более продуктивной стратегии решения. Во-вторых, чем выше индивидуальный IQ, тем более замедленными оказываются умственные действия испытуемого на определенных стадиях интеллектуальной деятельности (в частности, на этапе построения репрезентации задачи, а также на этапе принятия решения) (Sternberg, 1986; Кострикина, 2001). В-третьих, если одаренный шахматист-мастер почти мгновенно схватывает шахматную позицию, видя при этом последовательность будущих комбинаций фигур, то является ли скорость его интеллектуального реагирования следствием высококачественной передачи нервных импульсов "откуда надо - куда надо" либо, напротив, сложная мозаика паттернов нервных возбуждений является следствием специфической организации его наличного ментального опыта? В-четвертых, почему мы соглашаемся с тем, что "молчание - золото" и почему на чисто интуитивной основе мы как более умного оцениваем того человека, который на заданный вопрос отвечает после некоторой паузы, а не того, который отвечает сразу же, хотя ответы обоих правильные?
Не исключено, что теория "ментальной скорости" хорошо объясняет ту частную форму интеллектуальной активности, которая задействована в решении стандартных интеллектуальных тестов и которая определяется сформированностью определенных умственных навыков. Однако вопрос о скорости переработки информации и ее отношении к механизмам работы естественного человеческого интеллекта
60
требует, по-видимому, более углубленного изучения. Во всяком случае нельзя игнорировать предположение о том, что быстрота в решении проблем и принятии решений далеко не всегда является свидетельством высокого интеллектуального потенциала.
61
2.6.2. Элементарные информационные процессы как основа
индивидуальных интеллектуальных различий
Для теоретических воззрений Э. Ханта и Р. Стернберга весьма характерным является критическое отношение к традиционной тестовой модели интеллекта. Этих исследователей объединяет убежденность в том, что интеллектуальные возможности человека не могут быть описаны единственным показателем в виде IQ (подобно росту или весу) и что IQ как сумма оценок на некотором множестве тестов скорее суть статистическая условность, чем показатель индивидуального интеллекта. В качестве основного проводится положение о том, что альтернативой психометрическому подходу должно стать изучение базовых информационных процессов, лежащих в основе решения задач. При этом, однако, сохраняется представление об IQ как показателе уровня развития интеллекта, исследовательские усилия сосредоточиваются на анализе тех когнитивных процессов, которые обусловливают и позволяют объяснить индивидуальные различия в успешности выполнения традиционных интеллектуальных тестов.
Интерес к механизмам преобразования информации, стоящим за конечным результатом интеллектуальной деятельности, в значительной мере сложился под влиянием так называемой компьютерной метафоры, а именно представления о возможности анализа процессов работы человеческого интеллекта по аналогии с процессами работы компьютера.
Элементарные информационные процессы - это микрооперациональные когнитивные акты, связанные с оперативной переработкой текущей информации. Например, в какой форме и насколько избирательно кодируется информация о внешнем воздействии, как реорганизуется информация при ее прохождении через оперативную память, каков характер хранения новой информации при ее поступлении в долговременную память и т.п.
Прием, разработанный Э. Хаитом для изучения механизмов интеллекта, был назван им когнитивным корреляционным методом. Суть его заключается в том, что показатели отдельных элементарных когнитивных процессов (например, скорости переработки лексической информации) соотносятся на уровне корреляционного анализа с показателем психометрического теста в виде IQ, с тем чтобы определить, как эффективность этого базового информационного процесса сказывается на индивидуальных различиях в исполнении определенного вербального теста.
Так, в одном из экспериментов Ханта испытуемым предъявлялись пары букв (А и а; А и А; а и а). Быстрота установления одинаковости названий букв при их физическом несходстве (А и а) интерпретировалась как скорость переработки лексической информации. Показатели этого элементарного информационного процесса, как правило, выше у испытуемых с высоким уровнем вербальных способностей (Hunt, Lunneborg, Levis, 1975).
Впоследствии Хант продемонстрировал индивидуальные различия в способах кодирования информации, которые также оказались связанными с успешностью
61
выполнения психометрических тестов. Испытуемым предъявлялась фраза типа "плюс выше звездочки" и картинка *+ (либо +* ) с требованием оценить, соответствует ли смысл фразы заданному на картинке соотношению элементов. Выяснилось, что в данных условиях обнаруживают себя две формы репрезентации этой простейшей проблемной ситуации: одни испытуемые сначала мысленно описывали картинку с помощью соответствующего лингвистического суждения и затем соотносили его с заданной фразой ("вербализаторы"), другие - мысленно создавали образ заданной фразы и сравнивали его с картинкой ("визуализаторы"). Факты свидетельствовали, что вербализаторы имеют более высокие оценки на вербальных тестах, тогда как визуализаторы, напротив, - на невербальных пространственных тестах (Hunt, 1983).
Таким образом, уровневые свойства интеллекта оказываются обусловленными такими элементарными когнитивными процессами, которые отвечают за "вербальность-образность" на уровне первичного кодирования информации. Любопытно, что, как подчеркивает Хант, интеллектуально одаренные испытуемые-студенты легко переходили от одной формы представления информации к другой, если их об этом просили (там же).
Р. Стернберг проводил свои экспериментальные исследования в рамках когнитивного компонентного метода, ориентированного на тщательный анализ непосредственно самого процесса выполнения определенного интеллектуального теста (например, теста вербальных аналогий), с тем чтобы определить, как различия в выраженности каждого из выделенных компонентов процесса переработки информации сказываются на индивидуальной успешности выполнения данного вербального теста.
Рассмотрим процесс решения теста на установление аналогий, включающего задания типа: "Вашингтон относится к цифре 1, как Линкольн - к цифрам: а) 5; б) 10; в) 15; г) 20" (нужно выбрать правильный ответ из 4 возможных - в данном случае это вариант "а").
По данным Стернберга, процесс поиска правильного ответа включает пять более элементарных информационных микропроцессов: декодирование (перевод задания во внутреннюю ментальную репрезентацию в виде развертывания значения основных слов: например, Вашингтон - это американский президент, он руководил военными действиями, он изображен на долларовой банкноте и т.д.), умозаключение (нахождение возможной связи между первым и вторым элементами первой половины аналогии: Вашингтон - это первый президент Америки и т.п.), сравнение (нахождение правила, связывающего две половины аналогии: как Вашингтон, так и Линкольн - президенты, оба изображены на банкнотах и т.д.), проверка (оценка соответствия обнаруженных связей применительно ко второй половине аналогии), построение ответа (правильный ответ "5", так как если президент Вашингтон изображен на банкноте в 1 доллар, то президент Линкольн - на банкноте в 5 долларов) (Sternberg, 1986).
Выделение этих пяти когнитивных микропроцессов (по сути дела, пяти фаз в движении мысли) позволило Стернбергу установить два любопытных факта. Во-первых, время, затрачиваемое испытуемыми на процесс решения, распределялось следующим образом: 54 % - декодирование, 12 % -умозаключение, 10 % - сравнение, 7 % - проверка и 17 % - ответ. То есть фаза построения ментальной репрезентации, судя по объему затраченного времени, явно играла особую роль в организации процесса поиска решения. Во-вторых, испытуемые, имевшие более высокие оценки по тестам
62
интеллекта, были более быстрыми на последних четырех фазах, но более медленными на фазе декодирования информации (там же).
В другом своем эксперименте, сравнивая студентов, различающихся по показателю успешности понимания прочитанного текста, Стернберг обнаружил, что лучшие чтецы отличаются иной стратегией организации внимания: они более дифференцированно распределяют затраты времени в зависимости от целей чтения (читают текст более быстро, если ставится задача схватить общую суть или уловить основную идею, и более медленно, если дается инструкция выяснить детали или осуществить анализ идей) (там же).
Нельзя не заметить, что в работах Ханта и Стернберга фактически предпринята попытка вернуть интеллекту статус психической реальности, так как, по их мнению, природа общего фактора человеческого интеллекта тождественна небольшому числу базовых когнитивных процессов.
В целом, судя по изложенным выше данным, высокий интеллектуальный потенциал действительно предполагает иной тип организации когнитивных процессов. Однако высокоинтеллектуальные люди, по-видимому, имеют не столько более сформированные механизмы переработки информации, сколько более совершенные механизмы регуляции наличных интеллектуальных ресурсов. И тогда опять мы сталкиваемся с парадоксом, обнаруженным в исследованиях Стернберга: проявления интеллектуальной зрелости оказываются связанными именно с эффектом замедления интеллектуальной деятельности (причем именно на фазе построения ментальной репрезентации проблемной ситуации). И если, возвращаясь к теории X. Айзенка, признать, что быстрота интеллектуального реагирования есть "проекция" скорости передачи нервных импульсов, то "проекцией" чего является замедление интеллектуального реагирования?
63
2.7. Функционально-уровневый подход
2.7.1. Структурно-уровневая теория интеллекта
Целый ряд существенных положений относительно природы интеллектуальных возможностей человека сформулирован в рамках теории интеллекта, разработанной под руководством Б.Г. Ананьева. В качестве исходной выступала идея о том, что интеллект - это сложная умственная деятельность, представляющая собой единство познавательных функций разного уровня. Вслед за положением Л.С. Выготского о том, что преобразование связей между различными психологическими функциями составляет основу психического развития, в рамках данной теории получил развитие тезис об интеллекте как эффекте межфункциональных связей основных познавательных процессов на разных уровнях познавательного отражения. В частности, в рамках эмпирического исследования изучались такие познавательные функции, как психомоторика, внимание, память и мышление, которые и рассматривались как компоненты интеллектуальной системы.
В соответствии с исходной теоретической концепцией структура интеллекта описывалась на основе выявления с помощью процедур корреляционного и факторного анализа характера связей как между различными свойствами отдельной познавательной
63
функции, например, объемом, распределением, переключением, избирательностью и устойчивостью внимания ("внутрифункциональные связи"), так и между познавательными функциями разного уровня, например, вниманием и памятью, памятью и мышлением и т.д. ("межфункциональные связи").
В итоге был сделан вывод, что общая направленность интеллектуального развития в зависимости от возраста характеризуется единством процессов когнитивной дифференциации (возрастанием выраженности свойств отдельных познавательных функций) и процессов когнитивной интегрированности (усилением межфункциональных связей между познавательными функциями разного уровня), задающих архитектонику целостной структуры интеллекта (Ананьев, Степанова, 1972; 1977).
Изучение характера внутрифункциональных и межфункциональных связей позволило получить целый ряд интересных фактов, характеризующих особенности организации интеллектуальной деятельности на разных уровнях познавательного отражения. Рассмотрим некоторые из этих фактов на примере внимания. Так, было показано, что в структуре свойств внимания выделяются два основных фактора: объемный, связанный с выраженностью таких свойств внимания, как объем, устойчивость и концентрация (сколько информации воспринимается и как долго она задерживается в поле сознания), и регулятивный, связанный, в первую очередь, со свойством избирательности внимания, к которому "подтягивается" переключение внимания (насколько управляемым является процесс переработки поступающей информации) (Ананьев, Степанова, 1972).
Поскольку избирательность внимания операционально определялась через показатель успешности обнаружения обычных слов среди бессмысленных буквосочетаний, то, следовательно, регулятивный аспект внимания в данном случае оказывается зависимым от понятийного мышления (степени сформированности его семантического строя). В связи с вышесказанным представляет интерес возрастная динамика внутри-функциональных связей внимания с учетом роли и места свойства избирательности в структуре других свойств внимания. Так, если в 18-21 год избирательность внимания имеет только одну связь с переключением внимания (Р = 0,05), то в 22-25 лет - уже две связи с устойчивостью и переключением внимания (Р = 0,05), в 26-29 лет - две более тесные связи с переключением и объемом внимания (Р= 0,01), в 30-33 года - три связи с устойчивостью, переключением и объемом внимания (Р= 0,05) и, наконец, в 36-40 лет связи избирательности внимания как бы "рассыпаются", возвращаясь к одной очень слабой связи с переключением внимания (Ананьев, Степанова, 1977).
Иными словами, наблюдается явно выраженная эволюция проявлений внимания. Неясной, правда, представляется природа движущих сил этого процесса, хотя, возможно, решающую роль в перестройке свойств внимания играет рост понятийного мышления, которое через избирательность внимания оказывает влияние на изменение внутрифункциональной структуры этого познавательного процесса.
Весьма своеобразным оказывается и характер изменения с возрастом связей внимания с другими познавательными функциями. В частности, если в 18-25 лет корреляционные связи между показателями внимания и мышления составляют 14,1 %, то в возрасте 26-33 года - уже 86,0 %. Если же рассматривать только связи с вербально-логическим мышлением, то изменения по этим возрастам еще более поразительны: 9,7 % и 90,0 % соответственно (Степанова, 1977).
64
Экспериментальные исследования Ананьева и его сотрудников позволили им сделать ряд важных заключений, касающихся функционально-уровневого устройства интеллекта.
Во-первых, существует система влияний высших уровней познавательного отражения на низшие и низших на высшие, то есть можно говорить о складывающейся системе когнитивных синтезов "сверху" и "снизу", которые и характеризуют строение и закономерности развития человеческого интеллекта.
Во-вторых, интеллектуальное развитие сопровождается тенденцией роста количества и величины корреляционных связей как между разными свойствами одной познавательной функции, так и между познавательными функциями разных уровней. Этот факт интерпретировался как проявление эффекта интеграции разных форм интеллектуальной активности и соответственно как показатель становления целостной структуры интеллекта на этапе взрослости (18-35 лет).
В-третьих, с возрастом происходит перестановка основных компонентов в структуре интеллекта. В частности, в 18-25 лет самым мощным по данным корреляционного анализа является показатель долговременной памяти, за ним следует показатель словесно-логического мышления. Однако в 26-35 лет на первое место выходят показатели словесно-логического мышления, за ними идут показатели внимания и только потом - показатели долговременной памяти.
В-четвертых, существуют сквозные свойства, присущие всем уровням познавательного отражения: 1) объемные возможности (объем поля восприятия, объем кратковременного и долговременного запоминания, объем активного словарного запаса); 2) единство чувственного (образного) и логического как основа организации любой познавательной функции; 3) ориентировочная регуляция в виде выраженности свойств внимания (Ананьев, Степанова, 1972).
В целом можно сказать, что критерием развития интеллекта, согласно данному направлению, является характер внутри- и межфункциональных связей различных познавательных функций и, в частности, мера их интегрированности.
Б.Г. Ананьев постоянно подчеркивал глубокое единство теории интеллекта и теории личности. С одной стороны, потребности, интересы, установки и другие личностные качества определяют активность интеллекта. С другой стороны, характерологические свойства личности и структура мотивов зависят от степени объективности ее отношений к действительности, опыта познания мира и общего развития интеллекта (Ананьев, 1977).
Важно отметить, что структурно-уровневая теория интеллекта строилась на основе изучения результативных проявлений интеллектуальной деятельности в условиях решения испытуемыми достаточно простых задач тестового типа (учитывались показатели правильности и скорости решения, свидетельствующие о степени сформированности соответствующих познавательных функций). Тем не менее Ананьеву и его сотрудникам удалось показать, что анализ взаимосвязей отдельных познавательных функций может приблизить нас к пониманию некоторых особенностей структурной организации интеллекта в рамках принятия идеи существования "общего интеллекта". При этом, однако, возникает вопрос: тождественна ли структура интеллекта характеру связей между отдельными (в данном случае результативными) проявлениями интеллектуальной активности? Вопрос может быть поставлен шире: тождественна ли структура любого объекта характеристикам связи его свойств?
65
К сказанному следует добавить, что корреляционная и факторная аргументация, по-видимому, принципиально недостаточна для каких-либо объяснительных суждений и соответственно для построения теории интеллекта - именно об этом свидетельствуют драматические уроки тестологии. Вернемся, например, к отмеченному выше факту роста с возрастом количества и величины корреляционных связей между различными свойствами памяти, внимания и мышления: не ясно, действительно ли это проявление интеграции интеллекта (в виде совместной включенности в работу и взаимообусловленности познавательных функций), либо, напротив, проявление его дезинтеграции (в виде потери автономности, нарастания жесткости в системе взаимовлияний этих функций)?
И каким должен быть теоретический вывод в плане оценки факта резкого снижения количества корреляционных связей в одной группе испытуемых по сравнению с другой? Если следовать теории Ананьева, данное обстоятельство говорит о более низком уровне развития интеллекта испытуемых первой группы, поскольку их интеллект менее интегрирован. Но почему тогда именно в группах испытуемых с максимально высоким IQ корреляционные связи между отдельными познавательными функциями (интеллектуальными способностями), как правило, значительно ниже, чем в группах испытуемых с более низким IQ? Неужели в основе экстраординарной интеллектуальной эффективности лежит интеллект с низким уровнем интегрированности?
66
2.7.2. Теория функциональной организации познавательных процессов
Интеллект, согласно Б.М. Величковскому, может быть описан как иерархия (точнее, гетерархия) познавательных процессов, включающая шесть уровней познавательного отражения (Величковский, 1987).
Так, нижние "этажи" интеллекта имеют отношение к регуляции движений в предметной среде, начиная с простейших двигательных реакций и локализации объектов в пространстве (уровни А и В) вплоть до развернутых предметных действий в условиях построения предметного образа ситуации (уровни С и D). Для понимания природы интеллекта наибольший интерес представляют два последних высших его "этажа" - это "высшие символические координации", отвечающие за представление и хранение знаний (уровень Е), и "стратегии преобразования знаний" (уровень F).
Уровень Е представлен концептуальными структурами в виде протолексикона (наглядно-типических образов объектов - "первичных понятий", по И. Хофману, или "фокус-примеров", по Дж. Брунеру), а также в виде когнитивных схем (обобщенных, стереотипизированных представлений о различных предметных областях - "фреймов" и "сценариев"). Уровень F представлен процедурами изменения наличного знания в виде операций воображения, пропозициональных операций, особого рода метаоператоров типа языковых связок "если, то...", "допустим, что..." и т.д. Благодаря этим процедурам создаются условия для порождения новых смысловых контекстов ("ментальных пространств", по Fauconnier, 1984), которые могут заполняться новыми действующими лицами и объектами, могут видоизменяться, приобретая гипотетический или контрфактический характер.
Согласно модели Величковского, традиционно выделяемые познавательные процессы (те, что описываются в любом учебнике психологии) в действительности оказываются сложными образованиями. Так, ощущения связаны с работой трех базовых
66
уровней (А, В и С), восприятие - двух (С и D), память и мышление - трех (D, Е, F), воображение и понимание - двух (Е и F), внимание - это результат управляющего влияния уровня F на Е и Е на D.
В отличие от структурно-уровневой теории Б.Г. Ананьева, в рамках теории функциональной организации познавательных процессов отрицается существование общего фактора интеллекта или каких-либо единых, сквозных механизмов его развития. Величковский придерживается представления о гетерархическом (полифоническом) принципе координации познавательных процессов, означающем, что каждый познавательный уровень формируется и работает по своим особым законам в условиях отсутствия каких-либо "верхних", либо "нижних" централизованных влияний.
Итак, оба вышеуказанных варианта функционально-уровневого подхода, несмотря на значительные различия ряда позиций их представителей, продемонстрировали одно и то же любопытное явление. Независимо от того, что именно подвергалось экспериментальному исследованию - результативные характеристики познавательных функций (Ананьев) либо уровни познавательного отражения (Величковский), - эмпирические границы между отдельными "функциями" или "уровнями" оказывались размытыми вплоть до их полного исчезновения. Действительно, при изучении понятийного мышления в какой-то момент обнаруживается, что, по сути дела, описываются особенности долговременной семантической памяти. При анализе восприятия на первом плане вдруг оказываются характеристики сканирования видимого поля и селективность перцептивного процесса (то есть собственно внимание). Исследование логических умозаключений неожиданно предстает как исследование операций воображения и т.д. "Эффект перевертыша" - так можно было бы назвать этот необычный феномен.
Первый вывод, который напрашивается при поиске причин его появления, тривиален и связан с предположением о том, что так называемые познавательные процессы - это не более чем плод нашего несовершенного профессионального ума, желающего с помощью строгих терминов (восприятие, память, логическое мышление и т.п.) упростить и хоть как-то зафиксировать предмет исследования. Казалось бы, какая ясная и удобная идея: изучать интеллект - значит изучать отдельные познавательные процессы и связи между ними. Плохо только, что как бы мы ни называли и ни систематизировали функциональные проявления интеллекта (либо в традиционном варианте как познавательные функции, либо в нетрадиционном варианте как познавательные уровни), наградой за кропотливые экспериментальные исследования будет "эффект перевертыша".
Другой, более серьезный вывод касается вопроса о том, "про что" должна быть теория интеллекта. И здесь есть смысл задуматься над одним из самых лаконичных и, на мой взгляд, удачных определений мышления, реализованным в констатации - "мышление - это интеллект в действии". Продолжим эту идею и получим ряд других определений: восприятие - это интеллект в действии, память - это интеллект в действии и т.д. По-видимому, можно предположить, что собственно теория интеллекта - это не теория познавательных процессов, а теория той психической реальности, которая инициирует определенные функциональные свойства интеллектуальной деятельности в тех или иных конкретных ситуациях.
Действительно, никак нельзя обойти вниманием тот чрезвычайно примечательный факт, что интеллект можно изучать на любом типе познавательной активности (пространственных представлениях, памяти и т.д., вплоть до сенсо-моторных реакций).
67
Соответственно особенности познавательной активности любого уровня могут выступать (и, как правило, выступают) в качестве критерия оценки интеллектуальных возможностей человека. Однако неверно было бы на основе этого обстоятельства сделать заключение о том, что совокупность познавательных процессов разного уровня - это и есть интеллект. Интеллект, условно говоря, находится за основными познавательными процессами, которые являются его "рабочими органами". Но если интеллект - это то, что обеспечивает актуализацию и координацию познавательных процессов в условиях построения познавательного образа на любом уровне психического отражения, то что же такое собственно интеллект?
Заметим, наконец, что гомогенность на уровне механизмов интеллекта отнюдь не исключает гетерогенность на уровне его функциональных свойств. Напротив, есть основания утверждать, что чем выше уровень интеллектуальной зрелости субъекта, тем более универсализированы базовые механизмы интеллекта и одновременно тем более разнообразны, автономны и "непредсказуемы" конкретные проявления его интеллектуальной деятельности.
68
2.8. Регуляционный подход
2.8.1. Интеллект как условие контроля мотивации
Положение о том, что интеллект является не только механизмом переработки информации, но и механизмом регуляции психической и поведенческой активности, одним из первых сформулировал и обосновал в 1924 году Л.Л. Терстоун в своей монографии "Природа интеллекта" (Thurstone, 1924). Различие между ранним Терстоуном с его теоретическим анализом интеллекта и более поздним Терстоуном как одним из основателей тестологического подхода, опубликовавшим в 1938 году свою знаменитую работу "Первичные умственные способности" (Thurstone, 1938), настолько разительно, что остается только удивляться хитросплетениям его профессиональной биографии.
Ранний Терстоун говорил о различии между рассудком, или смышленостью (аналитическими способностями), и разумом, или мудростью (контролирующими, регулирующими способностями). Интеллект в качестве проявления разумности рассматривался им как способность тормозить импульсивные побуждения либо приостанавливать их реализацию до того момента, пока исходная ситуация не будет осмыслена в контексте наиболее приемлемого для личности способа поведения.
В качестве примера Терстоун предлагает рассмотреть следующую ситуацию: "Вам срочно понадобились деньги". Допустим, Вы видите неподалеку своего приятеля и решаете немедленно подойти к нему и попросить взаймы нужную сумму денег. Но тут Вы замечаете, что приятель занят разговором с коллегами, и тогда Вы решаете поговорить с ним о деньгах вечером. Однако минутой позже Вам приходит в голову мысль, что, возможно, не стоит занимать деньги именно у этого приятеля, а лучше обратиться к другому своему знакомому. Но, может быть, целесообразнее вообще не занимать ни у кого деньги, а, например, взять ссуду в банке? В следующий момент Вы вдруг начинаете сомневаться в том, что деньги вообще так уж вам сейчас необходимы.
68
После определенных размышлений Вы придумываете некоторый вполне приемлемый маневр, с помощью которого можно разрешить Вашу проблему без денег.
Таким образом, мы имеем психологическую цепочку, состоящую из шести "шагов": возникшая потребность (1) - деньги (2) - занять (3) - у знакомого (4) - конкретный приятель (5) - сию минуту (6). Если реализуется вся цепочка сразу, то это свидетельствует о фактическом отсутствии интеллектуальной регуляции. Если побуждение блокируется между 6 и 5 шагом, это говорит о минимальном включении интеллекта, если между 5 и 4 - интеллект включается чуть в большей степени. Наконец, в полной мере интеллект обнаруживает себя на шаге 3 и 2. Наиболее же очевидно интеллект проявляет себя на шаге 1, поскольку при этом острое и неотложное побуждение начинает осознаваться в более абстрактной форме, в результате чего исходная потребность может быть нейтрализована либо существенно трансформирована.
Итак, неинтеллектуальное (импульсивное) поведение характеризуется ориентацией на любое решение, которое имеется под рукой. Интеллектуальное (разумное) поведение предполагает: 1) возможность задерживать собственную психическую активность на разных стадиях подготовки поведенческого акта (короче говоря, умение в любой момент сказать себе: "Стоп!"); 2) возможность думать в разных направлениях, осуществляя мысленный выбор среди множества более или менее подходящих вариантов адаптивного поведения; 3) возможность осмысливать ситуацию и собственные побуждения на обобщенном уровне на основе подключения понятийного мышления. Интеллект, следовательно, - это "...способность к абстракции, которая по своей сути является тормозящим процессом" (Thurstone, 1924, р. 159).
Среди условий, благоприятствующих применению интеллекта, Терстоун выделял, во-первых, отсутствие безотлагательного, сиюминутного давления ситуации и, во-вторых, отсутствие чрезмерного желания. В целом главный критерий интеллектуального развития в контексте данной теории - это мера контроля потребностей.
Посвятив свой теоретический анализ регулирующей функции интеллекта и связав максимум интеллектуальной активности с процессом реорганизации потребностно-аффективной сферы, Терстоун в итоге сделал вывод о том, что в будущих исследованиях интеллекта нам, по-видимому, придется использовать термины, все менее когнитивные и все более связанные с аффективной сферой. По его словам, вполне вероятно, что "...высшая возможная форма интеллекта является формой, в которой альтернативой выступает не что иное, как аффективное состояние" (там же, р. 163).
Характерно, что почти 50 лет спустя Р. Зайонс, по сути дела, воспроизвел идею Л. Терстоуна о первичности аффективного компонента интеллектуального отражения по отношению к собственно когнитивному. По его утверждению, нам может нравиться нечто до знания и даже без знания того, что это такое (Zayons, 1980). По мнению этого автора, процесс эмоционального оценивания (чувствования) отображаемых аспектов действительности - это, сравнительно с процессом их осмысливания, некоторая параллельная психологическая реальность, живущая по своим собственным законам. В частности, в отличие от суждений об объективных свойствах ситуации, чувствование не является произвольно контролируемым, оно центрировано на "Я" (достаточно сравнить утверждения: "кот черный" и "мне нравятся черные коты"), плохо вербализуется, отличается своего рода "бесповоротностью" (человек может признать ошибочность своих объектных суждений, но у него никогда не возникает ощущения ошибочности в отношении того, что он любит либо не любит). Наконец, чувствование может быть
69
отделено от содержания (мы можем вспомнить некоторое событие на основе эмоционального впечатления без опоры на детали) и т.д.
Конечно, факт "единства аффекта и интеллекта" (Л.С. Выготский) не нуждается в особом обосновании в силу своей очевидности. Вопрос, однако, заключается в том, что это единство может выражаться в двух качественно разных формах: интеллект может контролировать влечения, высвобождая сознание из плена страстей, и интеллект может обслуживать влечения, погружая сознание в иллюзорный, желаемый мир. Очевидно, что критерием интеллектуальной зрелости будет выступать готовность субъекта принимать любое событие таким, каковым оно является в своей объективной действительности, а также его готовность изменять исходные мотивы, создавая производные потребности, превращая цели в средства с учетом объективных требований деятельности, и т.д. Напротив, низкий уровень интеллектуальной зрелости (как в случае явных когнитивных дефицитов, так и в случае функциональной блокады интеллектуальной деятельности под влиянием стресса, депрессии и т.п.), видимо, будет инициировать те или иные варианты защитного поведения на фоне бурной, хотя и весьма своеобразной интеллектуальной активности.
70
2.8.2. Интеллект как ментальное самоуправление
По мнению Р. Стернберга, проблема интеллекта должна решаться в контексте более широкой проблемы, а именно: как субъект управляет собой. Соответственно следует искать ответ одновременно на три вопроса: 1) каково отношение интеллекта к внутреннему миру; 2) каково отношение интеллекта к внешнему миру; 3) каково отношение интеллекта к опыту человека. Эти вопросы и легли в основу "триархической теории интеллекта", в рамках которой интеллект определялся как форма ментального самоуправления и которая включала три (в соответствии с тремя выше сформулированными вопросами) взаимосвязанные субтеории: компонентов, контекста и опыта (Sternberg, 1985; 1986; 1988 б).
Субтеория компонентов рассматривает внутреннюю деятельность ментального самоуправления как некоторую систему элементарных информационных процессов (Стернберг назвал их "компонентами"), отвечающих за текущую переработку информации в ходе ее получения, преобразования, хранения и использования. К числу таких компонентов относятся: 1) метакомпоненты - процессы регуляции интеллектуальной деятельности, предполагающие планирование, прослеживание хода решения, выбор формы презентации задачи, сознательное распределение внимания, организацию обратной связи и т.д.; 2) компоненты исполнения - процессы преобразования информации и процессы формирования ответной реакции (связывание, дополнение, сравнение, селекция, группирование, иерархизация, кодирование и т.д.); 3) компоненты усвоения и использования знаний (процессы приобретения знаний, начиная с подражания и заканчивая инсайтом, оперативность применения в нужный момент и т.д.).
Субтеория контекста позволяет проанализировать внешние проявления ментального самоуправления, которые характеризуют функции интеллекта в его отношении к естественной среде: адаптацию к требованиям реальной ситуации, выстраивание избирательного отношения к происходящему, структурирование окружения (придание ему формы). Учет внешнего контекста, в котором проявляет себя интеллект, позволяет
70
говорить о роли социо-культурных стандартов в оценке интеллектуального поведения, доминирующих целей деятельности, невербальной культурной информации как основы социального и практического интеллекта и т.п.
Субтеория опыта описывает возможности интеллекта на шкале "новизна-стереотипность". В частности, выделяются два вида способностей субъекта: способность справляться с новой ситуацией и способность действовать быстро, без усилий на основе автоматизированных когнитивных навыков в стандартных, повторяющихся ситуациях.
Стернберг подчеркивал, что понятие "ментального самоуправления" акцентирует внимание на возможности различных альтернативных способов организации интеллектуальной активности человека и адресуется не столько к интеллекту как таковому, сколько к тому, как люди используют свой интеллект (то есть к тому, как и для чего действует интеллект).
Чтобы оттенить этот аспект работы интеллекта, Стернберг использовал метафору "устройства государства", имея в виду, что принципы ментального самоуправления в структуре интеллекта аналогичны принципам государственного управления (Steinberg, 1993 а; 1993 б). Он выделил следующие компоненты государственного управления, каждый из которых, а также весь их комплекс может быть переведен на язык особенностей интеллектуального поведения конкретного человека (рис. 5).
| 1. Функции | 2. Формы | 3. Уровни | 4. Сферы | 5. Ориентации |
| 1. законодательная 2. исполнительная 3. судебная (оценочная) | 1. монархическая 2. иерархическая 3. олигархическая 4. анархическая | 1. глобальный 2. локальный | 1. внутренняя 2. внешняя | 1. консервативная 2. прогрессивная |
Рис. 5. Метафора "государственного управления" применительно к описанию
проявлений интеллекта, по Р. Стернбергу (Sternberg, 1993 а; 1993 б)
Например, человек успешно находит правильное решение в определенной ситуации, опираясь при этом на общепринятые позиции и усвоенные им знания (1.2.), при этом он готов учесть точки зрения других людей (2.2.), свою интеллектуальную активность он обычно сосредоточивает на решении очень общих, стратегических задач (З.1.), его интересуют исключительно проблемы объектного типа (4.2.) и, наконец, его отличает консерватизм в оценках, суждениях и принятых решениях (5.1.). Комбинации этих признаков, естественно, могут быть самыми разными для людей с разным типом интеллекта.
Нельзя не заметить, что, создавая свою теорию, Стернберг пошел по пути объединения уже существующих направлений исследования интеллекта - информационного (субтеория компонентов), социо-культурного и генетического (субтеория контекста), образовательного (субтеория опыта), - сосредоточив внимание на таких критериях интеллектуального развития, как сформированность базовых когнитивных процессов, адаптированность к требованиям среды и обученность. Ясно, конечно, что стратегия "собирать камни" во всех сферах человеческой жизнедеятельности, в том числе и в сфере систематизации научных знаний, более конструктивна, чем стратегия "разбрасывать камни". Однако возникает вполне резонный вопрос, сколько
71
"субтеорий" следует сформулировать, чтобы их количество перешло в качественно новое, действительно объяснительное понимание природы интеллекта? Три? Семь? И сколько их вообще может быть в принципе?
Наконец, что касается способов использования людьми своего интеллекта, то исследования в этой области, безусловно, во всех отношениях перспективны и увлекательны. Тем более что люди порой используют свой интеллект самым неожиданным, если не сказать парадоксальным, образом (хотя, добавлю, с психологической точки зрения, пожалуй, гораздо интереснее те случаи, когда интеллект при его наличии тем не менее вообще не используется). Однако в любой момент такое исследование может быть прервано вопросом: а почему, собственно, люди по-разному используют свой интеллект? Упирается ли все это в их личностные особенности или в своеобразие исходных интеллектуальных ресурсов?
Итак, мы, наконец, завершили анализ различных направлений экспериментально-психологических исследований интеллекта. Нельзя не заметить, что эти направления формировались и развивались в режиме преемственности и дополнительности по отношению друг к другу. Так, некоторые экспериментально-психологические подходы возникли в качестве реакции на противоречия тестологических теорий интеллекта либо в качестве попытки объяснить индивидуальные различия в результатах тестового исполнения. В свою очередь, среди экспериментально-психологических теорий интеллекта существуют взаимопересечения и взаимовлияния. Например, в культурно-исторической теории Л.С. Выготского природа мышления (интеллекта) рассматривается с позиций генетического подхода. Образовательный подход, отмечая роль обучения в развитии интеллекта, тем самым выводит на первый план проблему культурных факторов интеллектуального развития. Теория ментального самоуправления Р. Стернберга сформировалась на основе учета фактов, полученных в ходе информационных и социо-культурных исследований интеллекта, и т.д.
Все рассмотренные нами подходы являются мощными теоретическими течениями с чрезвычайно богатой и блестяще разработанной эмпирической базой, все они связаны с именами известных отечественных и зарубежных ученых-психологов, чьи заслуги в изучении интеллекта огромны и неоспоримы. В этом плане, с моей точки зрения, занимать критическую позицию по отношению к любому из вышеизложенных учений бессмысленно, ибо полученные в рамках каждого подхода теоретические и эмпирические результаты являются безусловно верными - в той мере, в какой вообще можно считать верными научные знания на некоторой стадии их накопления.
Важно другое. Каждое направление (в виде экспериментального исследования, учения либо теории) открывает новый ракурс проблемы природы человеческого интеллекта, поэтому все они интересны не столько своими фактами, формулировками и основаниями (их-то как раз можно принимать либо отвергать в зависимости от склада вашего ума и темперамента), сколько вопросами, которые при этом возникают. Некоторые из этих вопросов были предложены мной к обсуждению. Однако в заключение хотелось бы задать еще один, общий для всех подходов, достаточно наивный вопрос: что же мы узнали об интеллекте благодаря экспериментально-психологическим исследованиям?
Мы узнали, во-первых, что развитие и работа интеллекта зависят от влияния целого ряда факторов и, во-вторых, что существуют многообразные функциональные свойства
72
интеллекта, которые характеризуют те или иные частные психологические механизмы выполнения интеллектуальной деятельности и которые в той или иной мере могут свидетельствовать об уровне развития интеллектуальных возможностей субъекта. Схематически основное содержание рассмотренных выше экспериментально-психологических теорий интеллекта можно представить следующим образом (рис. 6).
<div class="imgdesc"> 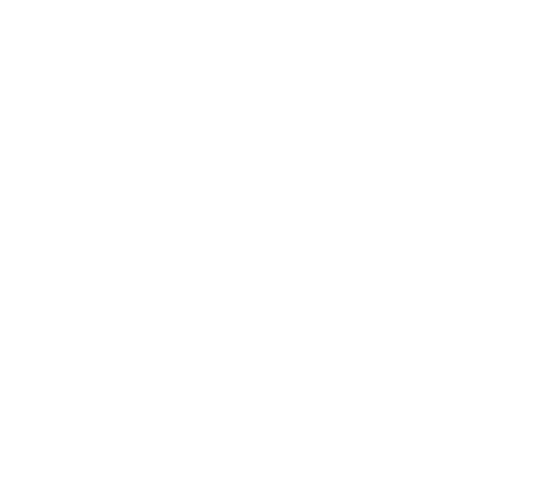
Рис. 6. Функциональные свойства и факторы интеллекта, выявленные в
экспериментально-психологических исследованиях </div>
Допустим, что со временем мы узнаем о других факторах интеллекта и получим еще некоторое количество описаний того, как функционирует интеллект в тех или иных конкретных ситуациях. Тогда в идеале мы будем знать почти все о факторах и функциональных проявлениях интеллекта, но по-прежнему почти ничего не будем знать о... собственно интеллекте. Действительно, что влияет - знаем, как проявляется - знаем, а что такое интеллект - не знаем! Иными словами, интеллект как психическая реальность в экспериментально-психологических исследованиях "исчез", превратившись в своего рода "черный ящик", который в плоскости "факторы - проявления" можно изучать до бесконечности, правда, с плачевным результатом, который нетрудно спрогнозировать
73
заранее. Ибо при такой постановке проблемы интеллекта на любом этапе ее изучения мы вслед за Спирменом можем повторить себе: "Понятие интеллекта имеет так много значений, что, в конечном итоге, не имеет ни одного".
Но, может быть, интеллект "исчез" только на уровне определений в силу крайней пестроты своих проявлений? Понятно, конечно, сколь уязвима "перечислительная позиция", согласно которой интеллект - это и то, и другое, и третье, и т.д.
Попробуем вернуться на уровень объяснений, предложенных в рамках существующих экспериментально-психологических подходов. Все они изначально были ориентированы (в отличие от тестологического подхода, имевшего дело исключительно с результативными свойствами интеллекта) именно на выявление и объяснение механизмов интеллектуальной деятельности. И здесь мы сталкиваемся с весьма характерным явлением. Нельзя не заметить, что в большинстве этих подходов обнаружила себя тенденция искать объяснение природы интеллекта вне интеллекта за счет обращения к тем или иным неинтеллектуальным факторам.
Так, среди рассмотренных в этой главе теорий оказываются представленными либо объяснения сугубо редукционистского непсихологического типа (нейрофизиологический редукционизм представителей гештальт-психологии и X. Айзенка), либо психологические объяснения, основанные на подключении каких-либо некогнитивных факторов (в частности, обращение к анализу различных аффективных и мотивационных характеристик), либо психологические объяснения когнитивного типа, в которых тем не менее интеллект отождествляется с некоторыми частными формами его проявления (мыслительными операциями, когнитивными навыками, обучаемостью, элементарными информационными процессами, совокупностью отдельных познавательных процессов, системой знаний и т.д.).
Как можно видеть, интеллект "исчезает", как правило, и в тех типах объяснений, которые были предложены в рамках экспериментально-психологических исследований. Вопрос о том, существует ли интеллект как целостная психическая реальность, таким образом, по-прежнему остается открытым.
74
Интеллект как форма
организации ментального
(умственного) опыта
Интеллектуально приспособиться к реальной действительности - значит сконструировать эту реальность, причем сконструировать в терминах некоторой устойчивой конструкции, имеющейся у субъекта.
Дж. Флейвелл
Почему ни тестологический, ни экспериментально-психологический подходы, несмотря на выделение и описание достаточно богатой феноменологии проявлений интеллектуальной активности, тем не менее не дают возможности осмыслить ее с позиции единого и непротиворечивого представления о природе интеллекта? Ситуация, как мы видим, складывается весьма драматическая. Может быть, столь систематическое "исчезновение" интеллекта является закономерным результатом многолетних исследований, и следует признать, что интеллект действительно не существует в качестве психической реальности?
Известно, что кризисные периоды в развитии научного знания - явление, в принципе, полезное. На рубеже XX века в рамках физического знания "исчезла" материя, и это привело к появлению новых областей физического знания. В свое время "исчезла" психика в бихевиористской концепции Уотсона - и появились новые направления в психологической науке. По-видимому, аналогичная ситуация наблюдается и в сфере психологии интеллекта: "исчез" не интеллект, а упрощенное представление об интеллекте, типичное для традиционных психологических подходов.
Сложности в уяснении онтологического статуса понятия "интеллект", думается, в значительной мере связаны с тем обстоятельством, что предметом исследования все это время выступали свойства интеллекта (результативные и функциональные проявления интеллектуальной активности в определенной "задачной" системе отношений). Однако попытки составить представление о природе интеллекта (как, впрочем, и о природе любого психического объекта) на основе описания его свойств оборачиваются парадоксальным результатом: чрезмерное количество знаний об интеллекте переходит в некоторое их качество с явно отрицательным знаком.
75
На мой взгляд, вопрос о природе интеллекта требует принципиальной переформулировки. Отвечать нужно не на вопрос: "Что представляет собой интеллект?" (с последующим перечислением его свойств), а на вопрос: " Что представляет собой интеллект как психический носитель своих свойств?"
Один из вариантов ответа на этот переформулированный вопрос представлен в данной монографии: носителем свойств интеллекта является индивидуальный ментальный (умственный) опыт. Пока слово - ментальный опыт - только лишь названо. Однако, по меткому выражению Л.С. Выготского, "выбор слова есть уже методологический процесс" (Выготский, 1982 б, с. 368-369). Поэтому нам придется затронуть некоторые основные линии методологического обоснования использования категории "ментальный опыт" для анализа природы интеллекта.
76
3.1. Специфика целостности психических явлений
в контексте структурно-интегративной методологии
Для начала следует вкратце остановиться на специфике психологического познания. На уровне физического или биологического познания физический или биологический объект всегда суть комплекс дифференцированных элементов, каждый из которых характеризуется достаточно дифференцированными функциями. Соответственно задача познания такого объекта заключается в выявлении законов взаимодействия элементов с целью объяснения природы его целостности и, как следствие, его свойств.
Напротив, те или иные формы психической реальности изначально даны исследователю в качестве нерасчлененного "абсолютного" целого. Поэтому в психологии начинать исследование приходится с доказательства того, что психический объект состоит из некоторого множества элементов и что природа этих элементов отнюдь не безразлична по отношению к обнаруживаемым этим объектом свойствам.
Заметим, что порог сопротивления психического материала любым попыткам его декомпозиции чрезвычайно высок. В частности, игнорирование структурных характеристик того или иного познавательного процесса, например мышления, имеет вполне определенные эмпирические основания. Налицо феноменологическая очевидность мыслительного процесса и непредставленность на уровне обыденной рефлексии мысли как психической структуры. Иными словами, в силу максимальной свернутости мыслительных психических структур возникает иллюзия их исчезновения как психологического факта и, следовательно, как объекта психологического исследования. Как говорил в этой связи К. Прибрам, психический образ "трагически невидим", имея в виду, конечно же, не предметное содержание образа, а его психическую структуру и психическую ткань.
Безусловно, на познавательные ориентации отечественных психологов оказали влияние некоторые идеологические профессиональные нормы, долгие годы считавшиеся обязательными для любого психологического исследования. Так, анализ психики в советской психологии с момента становления последней разворачивался под знаком борьбы с функционализмом. В этом плане в трактовке психических качеств человека особое значение имело принятие постулата целостности, направленного
76
против механистических и редукционистских установок в системе психологического знания.
Однако с самого начала целостность психического явления трактовалась однозначно: только с позиций принципа супераддитивности ("целое больше своих частей") (Юдин Б.Г., 1970). В этом случае утверждается, что существуют специфические законы целого, а также его свойства, которые в принципе нельзя объяснить на языке составных частей (элементов), и что именно целое однозначно детерминирует части, выступая их "причиной". При подобном подходе правомерность метода разложения сложного психического образования на элементы фактически отрицается. Более того, изучение элементов психического явления (его состава и строения) оказывается делом заведомо бессмысленным, поскольку заранее принимается, что части безразличны по отношению к природе целого и что из свойств частей в принципе не выводимы свойства целого.
В результате в центре внимания оказываются внешние проявления тех или иных психических образований, то есть те их целостные свойства, которые обнаруживают себя в условиях той или иной деятельности. Соответственно причины этих целостных свойств отыскиваются уже не "внутри" изучаемого объекта, а "вне" его, в частности, в ряду других психологических или ситуативных характеристик, во взаимодействии с которыми исходное психическое явление обнаруживает эти свои целостные свойства (например, особенности мышления объясняются через действие личностного фактора либо фактора задачи).
Именно в контексте такого понимания целостности психического объекта был в свое время сформулирован Л.С. Выготским принцип психологического анализа по "единицам" ("клеточкам"). Так, Выготский писал, что под единицей он понимает такой продукт анализа, который, в отличие от элементов, обладает всеми основными свойствами, присущими целому, и который является далее неразложимой живой частью этого целого. Правда, следует отметить, что, выделив в качестве "единицы" изучения мышления "значение слова", в процессе дальнейшего исследования природы значения Выготский тем не менее поставил вопрос об особенностях его структурной организации, раскомпоновав, таким образом, "единицу" на составляющие ее элементы (уровни разной степени обобщенности - см. описанный им психологический феномен "меры общности понятий") (Выготский, 1982 б).
Так же проблематичен и известный пример Выготского с молекулой воды. Так, если кто-то в поисках научного объяснения свойств воды, например, почему вода тушит огонь, прибегнет к разложению воды на водород и кислород, то с удивлением обнаружит, что водород сам горит, а кислород поддерживает горение. Следовательно, заключает Выготский, разложение воды на элементы не может быть путем, который приведет нас к объяснению ее конкретных свойств. Так ли? Ведь вода "мокрая" потому, что молекула этого вещества состоит из двух атомов водорода (а не одного или четырех), находящихся в строго определенном взаимодействии именно и только с одним атомом кислорода (а не атомом какого-либо другого вещества).
В значительной мере ориентация на внешние проявления психической активности оказалась обусловленной своеобразием используемых в психологии процедур анализа психической реальности. Общий смысл подобного рода методической коллизии исчерпывающе охарактеризовал Э.Г. Юдин. Подвергнув изучаемое психическое явление определенной последовательности воздействий с помощью определенных
77
методик, мы фиксируем результаты этих воздействий, получая тем самым некоторую совокупность свойств объекта. В итоге мы можем дать в той или иной мере согласованное описание различных сторон данного объекта. Исследовательская задача может быть усложнена: не просто дать эмпирическое описание свойств объекта, а определить зависимость между ними (например, с использованием средств корреляционного и факторного анализа). Однако "...и в первом, и во втором случае продуктом работы исследователя являются параметры объекта. При этом объект остается внутренне нерасчлененным, он лишь описывается с разных сторон, причем каждое описание относится к объекту в целом" (Юдин Э.Г., 1978, с. 149).
При такой методической стратегии психический объект в конечном счете описывается через совокупность своих свойств (проявлений) и, таким образом, психологическое познание не выходит за пределы исходной, но в то же время самой упрощенной формы научного анализа ("параметрического" его уровня, по Э. Юдину).
Однако природа любого явления не может быть понята на уровне описания его свойств. Объяснить природу той или иной реальности значит вскрыть ее структуру, ибо структура является основой ее функционирования.
Как же уйти "вглубь"? Как разглядеть за бесчисленными проявлениями психической реальности если не саму эту реальность (на современном уровне развития психологической науки это вряд ли возможно), то хотя бы ее контуры? Существенную помощь в разрешении этой острейшей проблемы может оказать методология структурно-интегративного подхода. Некоторые ее положения, на мой взгляд, могут сыграть ключевую роль в возвращении интеллекту статуса психической реальности.
В частности, структурно-интегративная методология позволяет анализировать природу целостности психического явления в рамках принципа субаддитивности ("целое меньше своих частей"), который органически дополняет принцип супераддитивности (Юдин Б.Г., 1970). Этот принцип учитывает ситуации, когда совокупность частей оказывается предшествующей целому и сами части обладают определенной спецификой, природа которой накладывает существенные ограничения на свойства целого. Таким образом, целое меньше своих частей в том смысле, что целое оказывается в определенной мере зависимым как от природы частей (элементов), так и от характера их взаимосвязи. С этой точки зрения именно структура психического образования (характеристики его состава и строения) представляет особый интерес для объяснения его свойств (проявлений), обнаруживающих себя в условиях той или иной конкретной деятельности.
Критика элементаризма, ориентированного на поиск простейших, далее неразложимых элементов психики, будучи справедливой для психологических концепций рубежа XIX-XX веков, впоследствии привела отечественную психологию к фактическому отказу от самой идеи анализа психической реальности на основе изучения особенностей ее структурной организации. Однако та методологическая установка, которая в свое время получила название "элементаризма" (путь от сложного к простому), на современном (системном) этапе развития научного знания приобрела совершенно иное содержание, выступая, скорее, уже в виде "интегратизма" (В.А. Энгельгардт, 1970). Под интегратизмом имеется в виду путь научной мысли от простого к сложному, направленный от анализа природы отдельных компонентов сложного объекта и интегративного процесса их организации к пониманию природы внутренне единого целого, обладающего качественно новыми свойствами.
78
Категория интеграции, следовательно, предполагает, что у частей, из которых "собрано" целое, имеются специфические свойства, обеспечивающие возможность возникновения между ними определенных связей. Эти свойства, следуя В. Энгельгардту, можно назвать десмогенными (от греческого слова "десмос" - связь). Эффект интеграции проявляется, с одной стороны, в том, что часть, входящая в состав нового, более сложного целого, утрачивает некоторую долю свойств либо они трансформируются, и, с другой стороны, в том, что у самой новой целостности появляются новые свойства, порождаемые, главным образом, теми связями, которые возникли при вхождении частей в это образовавшееся целое (Энгельгардт, 1970). Таким образом, интегративный процесс, идущий "внутри" структуры сложного объекта, является механизмом его существования и условием появления у него ряда качественно новых (системных) свойств.
Далее, еще одним важным положением структурно-интегративной методологии является признание ведущей роли структурных характеристик объекта относительно тех конкретных свойств, которые он обнаруживает в тех или иных условиях. В естественных науках идея о том, что свойства (функции) объекта оказываются производными по отношению к закономерностям его структурной организации, является общепринятой нормой научного мышления. В частности, считается, что найти закон существования того или иного объекта - физического, химического, биологического - значит понять принципы устройства данного объекта, поскольку его структура определяет эмпирически проявляющиеся свойства.
В отечественной психологии идею о неправомерности описания психической реальности через совокупность ее свойств впервые сформулировал Л.М. Веккер. По его мнению, изучать психические свойства можно до бесконечности, однако теоретического "перелома" (то есть уяснения действительной природы изучаемого явления) при этом не возникает. Задача научного психологического анализа заключается в объяснении свойств исходя из особенностей устройства и функционирования их психического носителя (Веккер, 1976; 1998).
Какое значение все эти методологические позиции имеют для психологии интеллекта? Самое наисущественное, поскольку позволяют сформулировать следующий вывод: объяснить природу интеллекта на уровне анализа его свойств (проявлений) в принципе невозможно. Для этого надо перейти к анализу особенностей внутри-структурной организации этого психического образования, которые предопределяют его итоговые (системные) свойства. И еще один вывод: изучать связи между свойствами интеллекта - вовсе не значит изучать его "структуру" (и уж тем более на этой основе нельзя создавать теории "структуры интеллекта"), ибо структура интеллекта как психического объекта не тождественна характеру связей между его свойствами.
Важно подчеркнуть, что структурно-интегративный подход вводит в сферу психологического анализа проблему субстратных характеристик изучаемого объекта. В области психологии интеллекта это проблема психического материала, из которого выстроены компоненты (части, элементы) интеллектуальной структуры. Как говорил И. Кант, свить веревку из песка невозможно (добавим, что и веревка, свитая из гнилой пеньки, не в состоянии будет выполнять свои основные функции). Есть все основания полагать, что возможности интеллекта в существенной мере зависят от того, какие психические модальности опыта (словесно-речевая, зрительная, мышечно-осязательная, чувственно-эмоциональная и т.д.) и как именно участвуют в формировании
79
его когнитивной основы. И, конечно же, самое прямое отношение к проблеме психического материала интеллектуальной структуры имеет проблема психического пространства и психического времени - к этим темам современная психология еще только ищет свои подступы.
Итак, структурно-интегративная методология применительно к изучению структурной организации интеллекта учитывает следующие аспекты его анализа:
- 1) элементы (или компоненты), которые образуют состав этого психического образования, а также те ограничения, которые накладывает на итоговые (системные) свойства интеллекта природа этих элементов (какие это элементы, их психический материал, полнота состава, степень дифференцированности и вариативности, уровень развития и т.д.);
- 2) связи между элементами, которые в "готовой" интеллектуальной структуре раскрываются не только в особенностях ее конструкции (состава и строения), но и в характеристиках актуалгенеза (то есть в характеристиках микропроцессуальной развертки в интеллектуальных актах);
- 3) целостность, проявляющаяся в действии механизмов интеграции отдельных элементов в единую интеллектуальную структуру, характеризующуюся рядом качественно новых свойств;
- 4) место и роль данной интеллектуальной структуры в ряду других психических структур.
Необходимость обращения психологического исследования к методологии структурно-интегративного подхода диктуется самой природой целостности сформировавшихся "готовых" психических явлений, в том числе интеллекта.
Во-первых, психические образования, лежащие в основе активности интеллектуального типа, - это "накопленные" формы психической организации. Ибо переход к каждой последующей стадии интеллектуального развития осуществляется не посредством замены или разрушения предшествовавших форм когнитивного функционирования, а на основе их сохранения в преобразованном виде в структуре интеллекта на новой стадии развития. В итоге можно говорить о сложности и многообразии его когнитивного состава. Соответственно одна из задач экспериментального исследования структурных характеристик интеллекта заключается, в частности, в "развертывании" скрытых в готовых познавательных структурах продуктов "прошлых" форм интеллектуальной активности субъекта, осуществлявшихся ранее на разных уровнях психического отражения.
Во-вторых, интеллектуальные структуры - если говорить о зрелом интеллекте - это особый, интегрированный тип целостности. Г. Марфи применительно к изучению структуры личности выделял три типа целостности в процессе их развития: 1) диффузная целостность, для которой характерна глобальная, недифференцированная активность; 2) дифференцированная целостность, отличающаяся выделенностью составляющих ее частей, каждая из которых функционирует более или менее автономно; 3) интегрированная целостность, которая проявляется, когда дифференцированные части оказываются в состоянии стабильной, разнонаправленной взаимозависимости (Murphy, 1966, р. 67). Аналогичные идеи о законе системной дифференциации (движении от общего к частному, от целого к частям) применительно к формированию психических
80
функций представлены в работах Н.И. Чуприковой (Чуприкова, 1995; 1998). Очевидно, что при анализе устройства уже сформировавшегося интеллекта следует говорить о третьем типе целостности и соответственно строить стратегию его конкретно-психологического исследования.
Наконец, в-третьих, существенным аспектом проблемы структурной организации интеллекта является вопрос о том, каким образом "накапливаются" интеллектуальные структуры в онтогенезе под влиянием совершенствования функционирования тех или иных форм познавательной активности ребенка в условиях его взаимодействия с предметным миром и миром других людей. Иными словами, определение природы интеллекта связано с анализом генетических соотношений в ряду психических явлений: интеллектуальная структура1 → интеллектуальная функция → интеллектуальный продукт → интеллектуальная структура2
Итак, в области психологического познания сложилась очень непростая ситуация: с одной стороны, описание структуры психического объекта через совокупность его свойств неправомерно, но, с другой стороны, собственно объяснительный психологический анализ в силу недоступности психических структур непосредственному наблюдению крайне затруднителен. Затруднителен, но для современных психологических теорий неизбежен. Ибо сейчас уже достаточно очевидна бесперспективность экстенсивной исследовательской стратегии: увеличение перечня свойств интеллекта не только практически не продвигает нас в понимании его природы, но, напротив, порождает тенденцию его деонтологизации.
Структурно-интегративный подход позволяет, как мне представляется, вернуть интеллекту статус психической реальности, так как исследование интеллектуальных возможностей человека при этом оказывается ориентированным на изучение особенностей структурной организации той иерархии психических носителей, которые "изнутри" определяют эмпирически констатируемые проявления интеллектуальной активности. Структурно-интегративная методология, следовательно, означает принципиальную смену исследовательской парадигмы, а именно: переход от описательного уровня анализа свойств интеллекта, с высокой степенью вариативности и разнообразия обнаруживающих себя в условиях тех или иных "задачных" ситуаций, к объяснительному уровню анализа этих свойств за счет выявления структурной организации интеллекта, по отношению к которым эти интеллектуальные свойства выступают в качестве производных.
Что же можно изучать в интеллекте с позиции требований структурно-интегративного подхода? Что может рассматриваться в качестве психического носителя результативных и функциональных свойств интеллекта? На мой взгляд, это особенности структурной организации индивидуального ментального (умственного) опыта, который может быть описан в терминах своего состава и строения, интегративных процессов, идущих в его пространстве, и т.д. Такой ракурс рассмотрения проблемы позволяет предположить, что интеллект как реальное психическое образование - это, в первую очередь, те события, которые происходят "внутри" индивидуального ментального опыта как в ходе его формирования, так и с точки зрения эффектов его влияния на характеристики актуальной интеллектуальной деятельности.
Соответственно изменение предмета психологических исследований интеллекта - переход от результативных и функциональных свойств интеллекта к ментальному опыту как психическому носителю этих свойств - требует нового категориального аппарата, соответствующего задаче объяснения индивидуальных интеллектуальных
81
возможностей посредством обращения к особенностям организации ментального опыта субъекта.
82
3.2. Ментальный опыт как объяснительная категория
(ретроспективный анализ)
Ни одна новая научная категория не возникает "вдруг". Напротив, ее появление - результат постепенного накопления в разных исследовательских областях фактов, мнений, идей. Этот процесс, дойдя до некоторой критической точки, "обрушивает" профессиональное сознание исследователей, вынуждая их отыскивать новые названия для увиденных ими новых форм психической реальности. Категория "ментального опыта" не является исключением из этого правила.
До последнего времени понятие "опыта" не было включено в систему научного психологического знания. Свою роль здесь сыграл, по-видимому, привычный смысловой балласт этого понятия.
Так, для отечественной философии является общепринятым определение опыта как основанной на практике чувственно-эмпирической формы познания действительности. Столь узкая формулировка исключает из содержания данного понятия те формы опыта, которые лежат в основе понятийного знания, метакогниций, эффектов интуиции и т.п.
Далее, достаточно часто опыт сводится только лишь к знаниям, умениям и навыкам. При этом опыт трактуется как нечто косное, пассивное, лежащее в основе репродуктивной интеллектуальной активности. Против такой интерпретации выступила в свое время Д.Н. Завалишина, отметив, что на уровне современных психологических представлений "...опыт человека перестает выступать как второстепенный компонент интеллекта..., но скорее становится его ведущим компонентом, потенциальным резервуаром новых операциональных и предметных знаний, зачастую всплывающих в затрудненных условиях деятельности в виде неинструментальных сигналов и интуитивных механизмов" (Завалишина, 1985, с. 111).
Многочисленные доказательства тому, что опыт играет весьма активную роль в организации познавательного взаимодействия субъекта с миром, представлены в исследованиях явления "переноса опыта". Факты свидетельствуют, что опыт может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на интеллектуальную деятельность. Примерами положительного переноса являются повышение скорости и продуктивности решения задач под влиянием ранее усвоенного релевантного опыта, феномен "немгновенного инсайта" (Брушлинский, 1996), способность мыслить по аналогии и строить метафоры и т.д. Типичными примерами отрицательного переноса могут служить различные проявления "функциональной фиксированности" (Дункер, 1965), ригидность как субъективная трудность смены способа интеллектуальной деятельности в изменившихся условиях, стереотипность и дихотомичность суждений и т.п.
Наконец, имеет место отождествление опыта только лишь с прошлым опытом (или "следами памяти"). Однако опыт - это и фиксированные формы опыта (то, что человек усвоил в прошлом), и оперативные формы опыта (то, что происходит в ментальном опыте этого человека в настоящем), и потенциальные формы опыта (то, что
82
появится в его ментальном опыте в качестве новообразований в ближайшем или отдаленном будущем). Аналогичная идея представлена в работе Ю.М. Шилкова. Он отмечает, что информация, содержащаяся в прошлом опыте субъекта, имеет значение не столько сама по себе, сколько по отношению к его настоящему и будущему опыту (Шилков, 1992).
В сущности, феномен опыта является ключевым звеном "связи времен" внутри субъекта. Об этом удивительно точно было сказано М.М. Бахтиным в связи с анализом мировоззрения Гёте, для которого столь характерным являлось "чувство слияния времен". Именно специфическое состояние опыта оказывается "...моментом существенной связи прошлого с настоящим; моментом необходимости прошлого и необходимости его места в линии непрерывного развития, моментом творческой действенности прошлого и, наконец, моментом связи прошлого и настоящего с необходимым будущим" (Бахтин, 1979, с. 217).
Представление о ментальном опыте как особой психической реальности, детерминирующей свойства интеллектуальной деятельности человека (и, более того, его личностные качества и особенности социальных взаимодействий), постепенно складывалось - в разном терминологическом оформлении - в различных областях зарубежных и отечественных психологических исследований (психологии познания, психологии личности, социальной и инженерной психологии). Эти исследования роднил интерес к устройству человеческого разума и убеждение в том, что особенности структурной организации познавательной сферы определяют восприятие и понимание человеком происходящего и, как следствие, различные аспекты его поведения.
Год за годом накапливался эмпирический материал, для описания которого использовались такие понятия, как "схема", "структура обобщения", "структурные свойства понятийной системы", "конструкт", "структура представления знаний", "ментальное пространство" и т.д. Появлялись теории, согласно которым для уяснения механизмов психологической (в том числе интеллектуальной) зрелости важно не только то, что субъект воспроизводит в своем сознании в процессе познавательного отражения, но и то, как он осмысливает происходящее.
Идея о ключевой роли структурных характеристик познавательной сферы стала активно разрабатываться в когнитивно ориентированных теоретических направлениях, в том числе таких, как: 1) когнитивное направление неофрейдизма (Д. Рапапорт, Р. Гарднер, Ф. Хольцман, Г. Клейн и др.); 2) когнитивная психология личности (Дж. Келли, О. Харви, Д. Хант, X. Шродер, У. Скотт и др.); 3) когнитивная психология (Ф. Бартлетт, С. Палмер, У. Найссер, Э. Рош, М. Минский, Б. Величковский и др.).
При всех различиях эти когнитивные подходы объединяет попытка эмпирически продемонстрировать роль когнитивных структур (то есть разных аспектов структурной организации ментального опыта) как детерминант человеческого поведения.
Объяснительный потенциал понятия "когнитивная структура" может быть раскрыт более полно, если обратиться к основным мотивам его введения в профессиональный психологический словарь, характерным для всех трех указанных выше типов когнитивных теорий.
Во-первых, необходимость разведения содержательных (идеи субъекта относительно мира) и собственно когнитивных (механизмы, посредством которых идеи появляются и преобразуются) аспектов познавательного отражения. Содержание познания доступно субъекту в самонаблюдении и самоотчете, тогда как когнитивные структуры
83
недоступны непосредственному наблюдению ни со стороны испытуемого, ни со стороны экспериментатора.
Во-вторых, потребность осмыслить факты трансситуативной изменчивости поведения, которые вновь с особой остротой поставили на повестку дня вопрос о степени законосообразности человеческого поведения. Поскольку ни фактор личностных черт, ни фактор ситуации не могли объяснить причины индивидуального поведения, следовало найти такой механизм его регуляции, в котором одновременно были бы представлены и характеристики субъекта, и характеристики ситуации. Этим требованиям как раз и отвечало понятие когнитивной структуры. С одной стороны, в когнитивных структурах фиксируется специфически организованный индивидуальный познавательный опыт, что обусловливает своеобразие понимания происходящего и соответственно возможность высокой вариативности индивидуального поведения. С другой стороны, когнитивные структуры обеспечивают отражение устойчивых, регулярно повторяющихся характеристик происходящих событий и, согласовывая с ними поведение, придают последнему закономерный характер.
В-третьих, ориентация на объяснение высокого творческого потенциала всех основных форм познавательной активности. Удивительная гибкость, непредсказуемость и продуктивность интеллектуального поведения человека привели к идее существования "внутри" субъекта некоторых психических образований, относительно независимых от окружения и способных к порождению собственных правил организации информации (селекции, структурирования, преобразования и т.д.).
Попробуем провести ретроспективный анализ трех вышеуказанных направлений в изучении структурных характеристик познавательной сферы с тем, чтобы сконцентрировать внимание на фактах и закономерностях, которые позволяют подойти к действительной феноменологии человеческого интеллекта - особенностям состава и строения ментального (умственного) опыта человека.
Когнитивное направление неофрейдизма (Менингерская школа) было сосредоточено на поиске структурных образований в познавательной сфере (они получили название "когнитивных контролей"), которые опосредуют влияние как внешних воздействий, так и мотивационных состояний. Комплекс когнитивных контролей образует характерный для личности когнитивный стиль, то есть индивидуально своеобразный способ переработки информации о своем окружении. Индивидуальные различия в когнитивных стилях обусловливают различные адаптивные подходы к реальности, которые могут быть в равной мере эффективными вне зависимости от степени "правильности" результатов познавательной деятельности (Gardner, Holzman, Klein, Linton, Spence, 1959; Gardner, Jackson, Messick, 1960).
Понятие "когнитивный контроль" было введено одновременно с понятием "когнитивная структура", которое адресовалось некоторому гипотетическому психическому образованию, объясняющему устойчивость присущих конкретной личности стилевых проявлений. Предполагалось, что если когнитивные стили характеризуют определенные наблюдаемые аспекты познавательных процессов, то когнитивная структура отражает ту психологическую основу, которая детерминирует эти процессы (Rapoport, 1957; Warr, 1970).
К сожалению, вопрос о природе когнитивных структур в Менингерской школе не обсуждался (действительно, если это структуры, то структуры чего?). Тем не менее, с моей точки зрения, в стилевых исследованиях впервые была заявлена идея
84
о роли структурной организации индивидуального ментального опыта субъекта как одной из детерминант индивидуальных различий в интеллектуальной деятельности. При этом на первый план выходила одна из важных функций структур ментального опыта: в зависимости от особенностей своей организации, они - через формирование комплекса когнитивных контролей ("когнитивных стилей" в современной терминологии) - обеспечивали управление процессами переработки информации, одновременно блокируя либо регулируя аффективные побуждения (Холодная, 1990 б; 1993; 1996).
Проблема когнитивных контролей выросла на почве психоаналитической традиции, однако с самого начала было проведено четкое различие между двумя механизмами регуляции поведения: психологической защитой и когнитивными контролями. Защита означает наличие конфликта, тогда как когнитивные контроля - реалистически-адаптивную форму отражения, способствующую сдерживанию и модификации потребностей.
Уже в первоначальных исследованиях когнитивных контролей была сформулирована гипотеза о том, что "...когнитивные структуры, детерминирующие индивидуальные свойства когнитивных контролей и интеллектуальных способностей, должны быть некоторым образом связаны" (Gardner, Jackson, Messick, 1960, p. 11).
He удивительно, что Р. Гарднер и его соавторы отмечали сходство когнитивных контролей и механизмов интеллектуального развития, описанных в теории Ж. Пиаже. Рост познавательных возможностей, согласно Пиаже, заключается в постепенном переходе от эгоцентрической к реально ориентированным формам психической активности на основе процессов ассимиляции (усвоения информации о внешнем мире) и аккомодации (приспособления поведения к внешним условиям). Ту же функцию - индивидуализированную адаптацию к действительности - обеспечивали и когнитивные контроли. Результаты исследований самого Гарднера, по его мнению, представляют "...ясное доказательство того, что интеллектуальные способности и когнитивные контроли не являются изолированными аспектами когнитивной организации, напротив, они находятся в отношениях взаимосвязи. Необоснованное различие, которое порой проводится между интеллектом и более широким спектром проявлений когнитивной организации ... не соответствует реальному положению дел" (Gardner, Jackson, Messick, 1960, p. 123).
Когнитивно ориентированные теории личности разрабатывались на основе представления о том, что искать объяснение своеобразия личности следует в особенностях понимания человеком происходящего. Одним из первых попытался выйти на анализ личности через характеристики ее познавательной (когнитивной) сферы Дж. Келли в своей теории персональных конструктов (Kelly, 1955). Для нас в данном случае важно подчеркнуть, что идеи Келли явились серьезным стимулом для целого ряда исследований, посвященных уточнению и углублению представлений о структурных аспектах индивидуального ментального опыта, характеризующих степень его когнитивной сложности.
Согласно Келли, человек воспринимает, интерпретирует и оценивает действительность на основе определенным образом организованного субъективного опыта, представленного в виде системы персональных (то есть присущих данной конкретной личности) конструктов. Конструкт - это биполярная субъективная измерительная шкала, реализующая одновременно две функции: обобщения (установления
85
сходства) и противопоставления (установления различий). Например, других людей человек оценивает с помощью конструктов "добродушный-злобный", "умный-глупый", "легко общаться - трудно общаться" и т.д. Конструкты, являясь способом дифференциации объектов, могут быть применены к оценке реальных объектов, конкретных ситуаций, другого человека, находящегося в той или иной ролевой позиции, и т.д.
Высокая степень сложности индивидуальной конструктивной системы означает, что данный субъект создает многомерную модель реальности, выделяя в ней множество взаимосвязанных сторон. Низкая степень сложности индивидуальной конструктивной системы, напротив, свидетельствует о том, что понимание и интерпретация происходящего в сознании этого субъекта осуществляются в упрощенной форме на основе использования ограниченного набора субъективных измерений.
Для оценки меры когнитивной сложности была разработана специальная методическая процедура, получившая название метода репертуарных решеток (см.: Франселла, Баннистер, 1987).
Первоначально когнитивная сложность операционально определялась через показатель количества функционально независимых субъективных измерений (в виде количества факторов, выделившихся при факторизации множества тех конструктов, которые были названы испытуемым при сравнении и оценивании им других людей и самого себя). Этот показатель интерпретировался как мера дифференцированности индивидуальной когнитивной системы: чем больше выделялось факторов при обработке индивидуального протокола, тем, следовательно, более когнитивно сложным считался соответствующий испытуемый (Bieri, 1955; 1966).
Однако достаточно скоро исследователи были вынуждены признать психологическую неоднозначность показателя когнитивной сложности в таком его виде. Эта неоднозначность была обусловлена, как можно думать, несовершенством самой методической процедуры репертуарного теста, в рамках которого не предполагался контроль уровня обобщенности конструктов, порождаемых испытуемым. В итоге возникла дилемма относительно интерпретации показателя "количество факторов", за которым могут стоять совершенно разные состояния опыта. С одной стороны, отсутствие согласованности в употреблении конструктов (много факторов) может быть результатом случайности, хаотичности суждений, и тогда высокую дифференцированность нельзя рассматривать как проявление когнитивной сложности. С другой стороны, наличие согласованности (мало факторов) может свидетельствовать о том, что используется небольшое число высокообобщенных измерений, и тогда низкая дифференцированность, будучи фактически индикатором интегрированности индивидуальной когнитивной системы, должна рассматриваться как проявление когнитивной сложности.
Для уяснения сути сложившейся коллизии имеет смысл вернуться к исходным положениям теории персональных конструктов. При анализе особенностей организации субъективной системы конструктов сам Келли, как известно, особое внимание уделял такому качеству, как системность конструктов. Конструкты не являются изолированными образованиями, они определенным образом взаимосвязаны и взаимозависимы. В частности, существуют горизонтальные связи между конструктами одного уровня (констеллятивные и пропозициональные конструкты), вертикальные связи (субординантные, суперординантные конструкты, а также конструкты, находящиеся в отношениях импликации: если А, то... В) и, наконец, связи между подсистемами
86
конструктов (соответственно можно говорить об артикулированных, монолитных и фрагментарных системах конструктов).
Таким образом, представляется принципиально важным то обстоятельство, что об уровне когнитивной сложности субъективного оценочного пространства следует судить как на основе проявления степени дифференцированности конструктов, так и па основе характера их взаимосвязей (Langley, 1971; Neimeyer R, Neimeyer G, Landfield, 1983; Smith, Leach, 1972 и др.). В частности, одним из референтных показателей когнитивной сложности является иерархическая интеграция индивидуальной конструктивной системы - такой уровень связей между конструктами, при котором конструкты более частного порядка соотносятся с обобщающими конструктами более высокого порядка (цит. по: Miller, Wilson, 1979).
Безусловно, теория персональных конструктов Дж. Келли существенно отличается от любой теории интеллекта с точки зрения понимания механизмов познавательного отражения. Так, в рамках исследований когнитивной простоты-сложности преобладает "размерный" подход (соответственно пространство оценочных суждений рассматривается как множество определенным образом организованных признаков, которые субъект приписывает объектам). В рамках исследований интеллекта на первый план, как правило, выходит "категориальный" подход в смысле признания того факта, что рост интеллектуальных возможностей связан с развитием способности к выявлению объективных характеристик действительности во все более обобщенной и вариативной системе преобразования исходных данных.
Тем не менее понятия конструкта и такого качества индивидуальной познавательной сферы, как когнитивная простота-сложность, являются чрезвычайно важным шагом в переходе к анализу устройства познавательного опыта человека.
В работах О. Харви, Д. Ханта и X. Шродера основное внимание уделялось структурным аспектам организации индивидуальных понятийных систем. Основной единицей анализа выступало "понятие" (или "концептуальная схема") как "устройство, фильтрующее опыт", посредством которого субъект воспринимает, преобразует и оценивает то или иное воздействие. Для нормального развития личности роль понятийной системы исключительно велика, ибо "...разрыв концептуальных связей между субъектом и объектами, с которыми он взаимодействует, будет способствовать деструкции Я, уничтожению той пространственной и временной опоры, от которой зависят все определения его существования" (Harvey, Hunt, Schroder, 1961, p. 7).
Наиболее важная структурная характеристика индивидуальной понятийной системы - "конкретность-абстрактность", в основе которой лежат такие психологические процессы, как дифференциация и интеграция. "Конкретная" понятийная система характеризуется незначительной дифференциацией и недостаточной интеграцией имеющихся у субъекта понятий. Соответственно для "конкретных" индивидуумов типичны следующие психологические качества: склонность к черно-белому мышлению, зависимость от статуса и авторитета, нетолерантность к неопределенности, стереотипность решений, зависимость от физических свойств внешних воздействий и т.д. "Абстрактная" понятийная система, напротив, предполагает как высокую дифференциацию, так и высокую интеграцию наличных понятий. Соответственно для "абстрактных" индивидуумов характерны: свобода от непосредственных свойств ситуации, ориентация на внутренний опыт в объяснении физического
87
и социального мира, склонность к риску, независимость, гибкость, креативность и т.д.
В ходе онтогенетического развития происходит увеличение абстрактности понятийной системы, что обусловливается увеличением альтернативных схем для восприятия одного и того же объекта, уходом от стереотипных оценок на основе все более увеличивающейся способности к внутренним понятийным преобразованиям. В целом же основой психологического роста являются прогрессирующая дифференциация и интеграция познавательного опыта. В конечном счете "...вариации в уровне абстрактности-конкретности проявляются в индивидуальных различиях "зависимости от стимула", то есть той степени, в которой воспринимающий и реагирующий индивидуум способен либо не способен выходить за пределы физических характеристик непосредственно воздействующего стимула в организации своего понимания и переживания ситуации" (там же, р. 25).
Таким образом, чем выше уровень абстрактности, тем, следовательно, более выражена способность субъекта переступать границы (пределы) непосредственного и двигаться в рамках более отдаленных временных, пространственных, семантических и смысловых расстояний.
Впоследствии X. Шродер, М. Драйвер и С. Штройферт выделили четыре типа индивидуальных понятийных систем в зависимости от уровня их структурной организации, взяв за основу критерий "концептуальной сложности": степени, с которой элементы понятийной системы оказываются дифференцированными и одновременно же взаимосоотнесенными между собой некоторым множеством способов (Schroder, Driver, Streu-fert, 1970). На рис. 7 схематически представлены четыре уровня организации индивидуальных понятийных систем с учетом роста степени их концептуальной сложности.
Рис. 7. Уровни организации индивидуальных понятийных систем по критерию "степень
концептуальной сложности" (цит. по: Schroder, Driver, Streufert, 1970)
88
Важно отметить, что рост интегрированности понятийных систем в данном случае отождествляется не только с увеличением дифференциации понятий и усилением связей между ними, но также с расширением внутреннего субъективного пространства возможных альтернативных комбинаций впечатлений за счет увеличения количества правил комбинации, сравнения и интерпретации признаков объекта.
Концептуальная сложность измеряется с помощью методики "Незаконченные предложения" на основе качественной оценки особенностей индивидуальных убеждений и верований, таких, как обобщенность суждений, учет непредвиденных обстоятельств, мера зависимости от авторитета (в том числе веры в Бога), количество банальных или нормативных утверждений, степень этноцентризма, мера согласия с социально одобряемыми способами поведения и т.д. Испытуемые распределяются на четыре группы в зависимости от характера своих ответов. Например, "Моя мать...": "замечательная женщина и я ее очень люблю" (I уровень) или "Моя мать ...": "замечательная женщина и, конечно же, она меня любит. Правда, некоторые ее поступки вызывали у меня чувство протеста, хотя она хотела мне добра. Я думаю, что такого рода детские впечатления определяют всю дальнейшую судьбу человека" (IV уровень).
Степень дифференцированности и интегрированности индивидуальной понятийной системы определяет ее структурные свойства: 1) неопределенность - ясность (степень четкости в осознании границ между отдельными понятиями); 2) компартментализация - связность (та степень, с которой понятия соотнесены друг с другом); 3) центральность - периферийность (степень значимости, или центрированности определенного понятия в его отношениях с некоторым множеством других понятий); 4) закрытость - открытость (степень восприимчивости понятийной системы к внешним событиям и ее готовность варьировать формы интерпретации ситуации) (Harvey, 1966).
Психологические описания четырех групп испытуемых в зависимости от уровня организации (концептуальной сложности) их понятийных систем свидетельствуют, что различия между ними - это прежде всего различия в типе восприятия и понимания происходящего, то есть в особенностях интеллектуального поведения (там же).
I уровень. Минимальные проявления дифференциации и интеграции: изолированность отдельных понятий, жесткие фиксированные правила их комбинации, каждый объект интерпретируется единственным образом.
Категоричный, "черно-белый" взгляд на вещи за счет снижения способности думать в режиме относительности. Стремление к минимизации конфликта вплоть до его игнорирования. Если же конфликт все-таки выносится на обсуждение, то решение принимается крайне быстро. Типичным является действие когнитивного диссонанса. Привязанность поведения к внешним условиям.
II уровень. Некоторый рост дифференциации в сочетании с недостаточной интеграцией: появляется способность к использованию альтернативных оценок и правил (например, один и тот же объект может оцениваться и положительно, и отрицательно), намечается тенденция связывать и обобщать свои впечатления.
Способность сделать выбор, поскольку "Я" становится одним из факторов регуляции поведения. Неустойчивость и необязательность мнений и убеждений. Амбивалентность и нерешительность в принятии решений, ригидность, энергичное сопротивление нормативным ограничениям.
89
III уровень. Умеренно высокие показатели дифференциации и интеграции: учитывается множество признаков объекта, восприятие становится многоаспектным, поле альтернативных интерпретаций значительно расширяется.
Появление возможности наблюдать свое поведение с разных точек зрения, развитие рефлексии. Много информации обрабатывается до того, как будет принято решение. Человек открыт новому, в том числе противоречивому опыту. Возникают элементы ориентации на будущее.
IV уровень. Максимально высокие показатели дифференциации и интеграции: способность к соотнесению и связыванию самой разнородной информации.
Переход на теоретический (причинный, генетический, категориальный) уровень понимания происходящего, высокая познавательная направленность, самостоятельное порождение новых правил и схем интерпретации происходящего, предельная гибкость и адаптивность поведения в сложных ситуациях.
Весьма характерно, что представители этих четырех групп различаются по своим социальным ориентациям. Так, представители 1-й группы отличаются положительным отношением к социальным референтам, почтительностью, конформным типом поведения; 2-й группы - агрессивностью, негативизмом, потребностью быть оригинальными, отличными от других; 3-й группы - склонностью к аттрактивным (дружеским) отношениям, развитыми навыками манипулирования другими людьми; 4-й группы - опорой на собственный внутренний опыт, склонностью воспринимать других людей через оценку их компетентности (там же).
Ведущую роль структурные идеи играли также в когнитивной теории личности У. Скотта. Этот автор отметил принципиальную важность изучения структурных свойств познания в отличие от его содержательных свойств. В то время как содержание познавательной сферы может нескончаемо варьировать под влиянием социальных и других обстоятельств, структурные ее свойства могут быть описаны конечным числом терминов, они более устойчивы и инвариантны по отношению к ситуативным факторам. Короче, знание структурных свойств (то есть свойств, которые отражают связи между компонентами определенного содержания) обеспечивает более эффективное и надежное описание личности. По определению Скотта, когнитивные структуры - это "структуры, чьи элементы состоят из идей, сознательно принятых личностью в ее феноменальном образе мира" (Scott, Osgood, Peterson, 1979, p. 145). Способ, которым любые новые впечатления воспринимаются, обрабатываются и интерпретируются, зависит от характеристик наличной когнитивной структуры.
Среди структурных свойств познавательной сферы Скотт выделяет: 1) дифференцированность (артикулированность) отдельных идей; 2) их связность (при этом подчеркивается, что связи между элементами могут рассматриваться в качестве первичной структурной характеристики, которая формирует основу для более сложных структурных свойств); 3) интеграцию - соотнесенность элементов когнитивной структуры, при которой субъект может сознательно изменять связи между элементами (характерно, что в качестве условия интеграции отдельных содержательных элементов выделяется роль вербализованного индивидуального опыта) (Scott, 1970).
В одной из своих работ Скотт рассматривает интеграцию как проявление такого типа связей между элементами когнитивной структуры, при котором "...единый принцип организации применяется ко всем элементам внутри нее" (Scott, 1974, р. 56 i). To есть интеграция в данном случае понимается как проявление центрации,
90
когда все объекты при их восприятии соотносятся с какой-либо центральной идеей (признаком), ассимилируются ею.
Основываясь на своих структурных представлениях, Скотт разработал "геометрическую модель познания" (рис. 8).
Рис. 8. "Геометрическая модель познания" по У. Скотту (Scott, Osgood, Peterson, 1979)
Элементы (О1, О2, О3 и т.д.) характеризуют представление личности об объектах (в виде некоторых визуальных впечатлений), сплошные линии - ее представления о признаках этих объектов (A1, A2, А3 и т.д.). Простой образ того или иного объекта задается как точка, которую пересекают две линии, сложный - как пересечение в соответствующей точке множества линий и т.п.
</div>
Как можно заметить, в "геометрической модели" когнитивная структура фактически отождествляется с особенностями организации осознаваемых субъектом знаний, при этом понятие трактуется по принципу "визуальный образ плюс совокупность вербальных признаков".
Впоследствии идеи, разработанные в когнитивных теориях личности, легли в основу различных вариантов когнитивной психотерапии, в которых перестройка познавательной сферы субъекта рассматривалась в качестве основного средства борьбы с эмоциональными нарушениями. Клиенту оказывалась помощь в овладении дополнительными способами категоризации конфликта, реконструкции вербально доступных знаний, актуализации неосознаваемых идей и оценок, формировании интеллектуальных стратегий саморегуляции и т.д. (Beck, 1976; Ellis, 1973, 1975 и др.).
Дальнейшее развитие структурные представления получили в экспериментальной когнитивной психологии (см.: Величковский, 1982). Исследование процессов переработки информации на неинтроспективном уровне показало наличие особых психических образований-посредников - когнитивных структур, принимающих участие в приеме, преобразовании и хранении информации.
Одним из первых заговорил о структурах ("схемах") опыта как о факторе, свидетельствующем об активной организации прошлых впечатлений и влияющем на процессы переработки информации, Ф. Бартлетт. В одной из своих работ он отметил, что "...как только разум вступает в действие, его работа обязательно заключается в заполнении пробелов, оставшихся в материале, полученном путем непосредственного наблюдения" (Бартлетт, 1959, с. 121). В свою очередь эти пробелы заполняются за счет
91
"фактических материалов", которые были накоплены заранее и организованы в определенные группы. "Эти группы - что-то вроде стандартов, использование которых помогает нам при переработке новых материалов... Они постоянно находятся при нас, и большинство из них постоянно преобразуется и изменяется" (там же, с. 123).
Впоследствии многими когнитивными психологами были описаны различные типы когнитивных структур, по сути, выступающих в качестве разновидностей "схем" в бартлеттовском понимании:
- • "когнитивные карты" - ориентировочные когнитивные схемы, связанные с перемещением в окружающей среде (Tolman, 1932);
- • "прототипы" -комбинация наиболее частых, типичных сенсорно-визуальных признаков, хранящихся в памяти и позволяющих принимать решение о степени соответствия определенного объекта той или иной категории (Rosch, 1973; 1978);
- • "предвосхищающие схемы" -пространственные представления, которые, будучи сформированными под влиянием прошлого опыта, отвечают за прием, сбор и организацию информации, оказавшейся на сенсорных поверхностях (Найссер, 1981);
- • "иерархические перцептивные схемы" -многоуровневая когнитивная структура, организованная по типу иерархической сети и включающая пространственные образы объектов, в том числе их глобальные (симметрия, закрытость, компактность и т.д.) и детальные (красный, два угла и т.д.) свойства (Palmer, 1977);
- • "комплекс схем" -включает фигуративные (опознание знакомых перцептивных конфигураций), оперативные (правила трансформации информации) и контролирующие (совокупность планирующих процедур) когнитивные схемы, наличный репертуар которых характеризует доступный для данной личности уровень "ментальных возможностей" (Pascual-Leone, 1970; 1987);
- • "фреймы" -схематизированные представления о той или иной стереотипной ситуации, состоящие из обобщенного "каркаса", воспроизводящего устойчивые характеристики этой ситуации, и "узлов", которые чувствительны к ее вероятностным характеристикам и которые могут наполняться новыми данными (Минский, 1978);
- • "сценарии" - когнитивные структуры, способствующие воспроизведению временной последовательности событий, ожидаемых личностью (Шенк, 1980);
- • "глубинные семантические и синтаксические универсалии" -базовые языковые структуры, предопределяющие характер использования и понимания языковых знаков в реальной речевой деятельности (Osgood, 1980; Хомский, 1972).
Как можно видеть, каждая из перечисленных видов когнитивных структур лежит в основе какого-либо определенного уровня познавательного отражения, каждая обеспечивает ту или иную активную форму упорядочения вновь поступающей информации (ее идентификацию, хранение, декомпозицию, селекцию по релевантным признакам, предвосхищение изменений и т.п.).
В то же время указанные когнитивные структуры, будучи фиксированными (и в какой-то мере стереотипизированными) формами прошлого опыта, отвечают за воспроизведение в сознании познающего субъекта нормальных (типичных) событий (знакомых
92
предметов, многократно повторяющихся ситуаций, освоенных правил действия, привычной последовательности изменений и т.д.). Поэтому описанные в когнитивной экспериментальной психологии когнитивные структуры недостаточны для исчерпывающего объяснения механизмов человеческого интеллекта с точки зрения учета его продуктивных возможностей, хотя, безусловно, они важны в плане понимания некоторых базовых закономерностей процессов переработки информации.
По-видимому, когнитивные структуры могут быть как минимум двух типов (при относительной условности такого рода их разделения): когнитивные структуры как фиксированные формы опыта, для которых характерен "горизонтальный" принцип формирования (в виде прототипов, перцептивных схем, фреймов, сценариев, семантических универсалий и т.п.), и когнитивные структуры как интегрированные формы опыта, для которых характерен "вертикальный" принцип формирования (соответственно они являются продуктом интеграции всех предшествовавших этапов познавательного развития и в "снятом" виде содержат различные формы познавательного отражения). Примером когнитивных структур 2-го порядка могут быть "операциональные структуры", описанные Ж. Пиаже, и "понятийные психические структуры", занимавшие центральное место в исследованиях Л.С. Выготского.
Своеобразие и разрешающие возможности интеллекта в первую очередь определяются, по всей вероятности, степенью сформированности когнитивных структур 2-го порядка, природа которых, безусловно, должна быть специфицирована в зависимости от того, является ли задачей психолога анализ зрелого интеллекта взрослого человека, стадий развития интеллекта в онтогенезе, особенностей интеллекта представителей различных культур и т.д.
Весьма характерным представляется направление эволюции современной когнитивной психологии. По мнению Ж.-Фр. Ришара, сейчас "...происходит переход от изучения эпистемологического субъекта к изучению когнитивного функционирования индивидуального субъекта в конкретной ситуации" (Ришар, 1998, с. 150). При этом, по его мнению, приходится апеллировать к понятию опыта для объяснения результатов традиционных для когнитивной психологии экспериментальных процедур, поскольку, как выяснилось, для решения целого ряда классических когнитивных задач важен опыт испытуемого в отношении ситуации, на материале которой он строит свои рассуждения (там же).
Иными словами, именно наличие опыта и его индивидуальное своеобразие, а не сформированность той или иной когнитивной структуры ("схемы") определяют эффективность интеллектуальной деятельности.
В отечественной психологии вопрос о роли структурной организации познавательной сферы впервые был поставлен в работах Л.С. Выготского. Рассматривая значение слова как основную "единицу" речевого мышления, Выготский предпринял анализ структуры обобщения, складывающейся на разных возрастных этапах. При изучении наиболее развитой структуры обобщения - понятия - была выделена такая его структурная характеристика, как "мера общности": степень представленности в содержании понятия некоторого множества признаков разных уровней обобщенности, а также его место в системе связей с другими понятиями (Выготский, 1982).
Выготский писал, что, сосредоточивая внимание на операциях мышления, на том процессе, который совершается в уме человека, нельзя игнорировать вопрос о том, как представлена, отражена и обобщена действительность в мышлении. Уже тогда им была предложена формула, раскрывающая единство структурного и функционального
93
аспектов мышления: наличная структура обобщения определяет характер доступных субъекту мыслительных операций.
Много позже идея когнитивных структур стала одной из основных при разработке теории психических процессов Л.М. Веккера. В одной из своих работ он пишет о том, что "...объяснить свойство - значит вывести его специфику из способов организации носителя этих свойств как системы элементов, состоящих из определенного материала и организованных в соответствующую целостную структуру" (Веккер, 1998, с. 661-662).
В рамках этого подхода вся совокупность познавательных процессов, образующих состав интеллекта, рассматривается как иерархия разноуровневых когнитивных структур, которые на основе когнитивного синтеза "снизу" и "сверху" образуют единую структуру человеческого интеллекта. Причем центральную роль в становлении интеллекта играют понятийные структуры. Ибо понятийные структуры (концепты), включая в себя все нижележащие уровни когнитивных структур, выступают в качестве "формы интегральной работы интеллекта", а сам концепт выступает как "интеллектообразующая интегративная единица" (там же, с. 349).
Как можно видеть, в разных областях психологического знания обнаруживает себя четко выраженная тенденция объяснять механизмы человеческого поведения на уровне структурных закономерностей организации познавательной сферы личности. Причины конкретных действий и решений человека (включая и его интеллектуальное поведение) отыскиваются в том, как устроен индивидуальный умственный опыт и соответственно в том, как данный человек воспринимает и осмысливает происходящее. По сути, были созданы принципиальные предпосылки для изменения трактовки природы интеллекта: интеллект - это не то, что измеряется тестами интеллекта, но, скорее, интеллект - это особенности организации ментальной (умственной) сферы, по отношению к которым конкретные проявления интеллектуальной деятельности (в том числе и в ситуации выполнения интеллектуальных тестов) выступают в качестве производных психологических переменных.
Таким образом, следуя логике исследований в когнитивно ориентированных психологических теориях, можно предположить, что в качестве психического носителя свойств индивидуального интеллекта выступает ментальный (умственный) опыт. Как будет осуществляться переработка поступающей информации, как человек будет решать те или иные задачи, каковы будут темп и глубина эффектов обучения, каковы будут способы осмысления тех или иных событий - все это в конечном счете зависит, по-видимому, от своеобразия состава, строения и характера эволюции индивидуального ментального опыта.
94
3.3. Феноменология интеллекта:
ментальные структуры, ментальное пространство,
ментальные репрезентации
3.3.1. Ментальные структуры
Итак, и в когнитивном направлении неофрейдизма, и в когнитивной психологии личности, и в экспериментальной когнитивной психологии были обнаружены, зафиксированы
94
и описаны определенные ментальные образования, которые контролируют и регулируют способы восприятия, понимания и интерпретации человеком происходящих событий. Назывались эти ментальные структуры по-разному: "когнитивные контролирующие принципы", "конструкты", "концепты", "когнитивные схемы" и т.д. Однако везде подчеркивалась одна и та же мысль: от того, как устроены ментальные структуры, зависят конкретные проявления интеллектуальной активности и, более того, личностные свойства и характеристики социального поведения человека.
Ментальные структуры - это система психических образований, которые в условиях познавательного контакта с действительностью обеспечивают возможность поступления информации о происходящих событиях и ее преобразование, а также управление процессами переработки информации и избирательность интеллектуального отражения.
Как отмечали в свое время Дж. Мелер и Т. Бевер, тот факт, что ментальные структуры, как правило, не демонстрируются в экспериментально-психологических и тестовых ситуациях, еще не является доказательством того, что они не существуют. По мнению этих ученых, неудачи интеллектуальной деятельности могут быть показателем не столько недостатка интеллектуальной одаренности, сколько недостатка способности к выражению имеющихся ментальных возможностей (Mehler, Bever, 1968).
Ментальные структуры составляют основу индивидуального ментального опыта. Слово "структура" происходит от латинского глагола struere, что означает "быть построенным". Иными словами, уже само использование термина "ментальные структуры" подчеркивает тот факт, что последние выстраиваются, накапливаются, видоизменяются в опыте субъекта в ходе его взаимодействия с предметным миром, миром других людей и миром человеческой культуры в целом (вопрос об исходном - психофизиологическом - носителе ментальных структур в рамках данной монографии снимается с обсуждения, поскольку это особая и самостоятельная проблема).
Ментальные структуры - это фиксированные формы опыта со специфическими свойствами, такими, как: 1) репрезентативность (они участвуют в процессе построения объективированного образа того или иного фрагмента реальности); 2) многомерность (каждая ментальная структура имеет некоторое множество аспектов, учет которых обязателен для уяснения особенностей ее устройства); 3) конструктивность (они видоизменяются, обогащаются, перестраиваются и т.д.); 4) иерархический характер организации (например, в одну перцептивную схему могут быть "вложены" другие перцептивные схемы разной степени обобщенности; понятийная структура представляет собой иерархию семантических признаков и т.д.); 5) способность к регуляции и контролю способов восприятия действительности.
Однако главная особенность ментальных структур заключена в самом механизме их функционирования. Так, О. Харви, Д. Хант и X. Шродер описывают эффект "свернутости" концепта (понятийной структуры). С одной стороны, объект приобретает некоторую познавательную ценность постольку, поскольку он оказывается соотнесенным с определенным концептуальным референтом. Но, с другой стороны, и концепт работает только при наличии объекта, который ему релевантен. "Уберите объект - и концепт окажется в спящем состоянии" (Harvey, Hant, Schroder, 1961, p. 13).
Ментальные структуры играют важную роль, которая в неявном либо явном виде отмечается в большинстве рассмотренных выше исследований, а именно: они отвечают
95
за актуализацию субъективного пространства отражения, в рамках которого и строится конкретный образ конкретной ситуации (объекта, события, задачи, другого человека, идеи и т.д.). Иными словами, ментальные структуры - это своеобразные психические механизмы, в которых в "свернутом" виде представлены наличные интеллектуальные ресурсы субъекта и которые при столкновении с любым внешним воздействием могут "развертывать" особым образом организованное ментальное пространство. Подробному описанию основных ментальных структур, характеризующих состав и строение ментального опыта, посвящена Глава 4.
96
3.3.2. Ментальное пространство
Ментальное пространство - это динамическая форма ментального опыта, которая актуализуется в условиях познавательного взаимодействия субъекта с миром. В рамках ментального пространства возможны разного рода мысленные движения и перемещения. По словам В.Ф. Петренко, подобного рода субъективное пространство отражения можно представить как "дышащее, пульсирующее" образование, размерность которого зависит от характера стоящей перед человеком задачи (Петренко, 1988).
Факт существования "ментального пространства" был зафиксирован в когнитивной психологии в экспериментах по изучению ментальной ротации (возможности мысленного вращения образа заданного объекта в любом направлении), организации семантической памяти (хранящиеся в памяти слова, как выяснилось, находятся на разных ментальных расстояниях друг от друга), понимания текста (последнее предполагает создание в уме субъективного пространства содержания текста и комплекса операторов для осуществления мысленных движений в данном пространстве), а также процессов решения задач (поиск решения осуществляется в некотором ментальном пространстве, которое является отображением структуры проблемной ситуации).
Г. Фоконье ввел понятие "ментального пространства" в целях изучения проблемы представления и организации знаний. Ментальные пространства рассматривались как области, используемые для порождения и объединения информации. Пространство вызывается к жизни или заполняется с помощью так называемых построителей пространства, типа: "Джон считает, что...", "Давайте представим, что...", "В 1977 году..." и т.д. Внутри такого пространства существуют ментальные объекты, определенным образом связанные между собой посредством "коннектора" (некоторого интуитивно очевидного отношения между элементами или персонажами данного пространства). Отдельные пространства относительно независимы, хотя имеются пути наследования информации от пространства к пространству (Fauconnier, 1985).
Впоследствии понятие ментального пространства было использовано Б.М. Величковским для объяснения эффектов переработки информации на уровне высших символических функций. Так, было экспериментально показано, что единицы представления реального пространства могут быть сразу же развернуты в полноценный ментальный пространственный контекст в зависимости от поставленной задачи (например, от образа дома, в котором человек реально находится, он легко может мысленно перейти к образу всего района города, в котором этот дом располагается) (Величковский, Блинникова, Лапин, 1986).
96
Характерно, что ментальные пространства - это предпосылка "моделирующего рассуждения", суть которого заключается в конструировании возможной, контрфактической и даже альтернативной реальности. Успех моделирующего рассуждения зависит, во-первых, от умения формировать пространства, правильно распределять знания по конкретным пространствам и совмещать разные пространства и, во-вторых, от умения выявлять осмысленные следствия этого рассуждения с учетом их отношения к реальному миру (Динсмор, 1996).
Еще одной важной функцией ментальных пространств является их участие в создании контекста. В последнее время при анализе природы интеллекта проблема контекста выходит на первый план. Так, по мнению К. Оутли, в психометрическом исследовании искажается суть интеллектуальной деятельности, поскольку оно проводится на бессмысленном материале в искусственно обедненных условиях. В действительности же, размышляя и пытаясь разумно подойти к ситуации, "...люди осмысливают вещи в соответствии с их контекстом и с тем, что они индивидуально привносят в ситуацию..." (Oatley, 1978, р. 53). Следовательно, при анализе интеллектуальных возможностей субъекта вместо попыток исключить контекст необходимо, напротив, подвергнуть изучению характер интерпретации субъектом "заполненного контекстом окружения в условиях реальной житейской ситуации" (там же, р. 228).
Возникает вопрос: откуда возникает этот контекст и почему у разных людей - относительно одной и той же ситуации - он, как правило, бывает разным? По-видимому, контекст есть результат функционирования ментального пространства, порождаемого структурами ментального опыта человека. И в этом смысле он является естественной средой работы мысли.
По-видимому, существует определенная закономерность в том, что ряд исследователей, изучающих механизмы познавательной активности того или иного уровня и имеющих дело со взрослыми (то есть в той или иной мере интеллектуально зрелыми испытуемыми), оказываются вынужденными оперировать понятием "пространства отражения": так, в области психофизиологических исследований вводится понятие "сенсорного пространства" (Забродин, Лебедев, 1977; Бардин, Похилько, 1988); в области исследования пространственных представлений - понятие "ментального пространства" (Величковский, 1986); в области психосемантики - понятие "категориального (или семантического) пространства" (Шмелев, 1983; Петренко, 1986); в области исследования индивидуальной базы знаний - понятие "знаниевого пространства" (Falmagne, Kopper, 1990).
Чрезвычайно близка этому направлению исследований идея Я.А. Пономарева о способности действовать "в уме", или "внутреннем плане действий" (ВПД). По его мнению, рассматривая интеллект в его психологическом понимании, нельзя довольствоваться "ложной систематизацией" основных познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания, мышления и т.д.) либо ограничиваться логическим анализом строения знаний, усвоенных субъектом. Предметом внимания психологов должен быть интеллект в той его части, которая связана именно с внутренним планом действий (Пономарев, 1976).
Не удивительно, что с пространственной организацией интеллекта, по справедливому замечанию У. Найссера, связано множество специфических метафор, относящихся к человеческому уму: человек может иметь "обширные" или "узкие" знания, посмотреть на вопрос "с другой стороны", изучать "области" и "сферы" знания, "выходить за пределы" ситуации и т.д. (Найссер, 1980).
97
Ментальное пространство, безусловно, не является аналогом пространства физического. Тем не менее оно обладает целым рядом специфических "пространственных" свойств. Во-первых, возможна оперативная развертка и свертка ментального пространства под влиянием как внутренних, так и внешних воздействий (то есть оно обладает способностью к одномоментному изменению своей топологии и метрики под влиянием аффективного состояния человека, появления дополнительной информации и т.п.). Во-вторых, принцип устройства ментального пространства, по-видимому, аналогичен принципу устройства матрешки. Так, согласно Б.М. Величковскому, успешность решения творческой задачи предполагает наличие некоторого множества рекурсивно вложенных друг в друга ментальных пространств, что и создает возможность любых вариантов движения мысли, вплоть до "абсурдных" идей (Величковский, 1987). В-третьих, ментальное пространство характеризуется такими качествами, как динамичность, размерность, категориальная сложность, проницаемость, упругость и т.д., которые проявляют себя как в особенностях интеллектуальной деятельности, так и в особенностях понимания людьми друг друга. Примерами могут служить эффект замедления интеллектуальной реакции как следствие развернутости ментального пространства либо эффект непонимания как следствие закрытости, непроницаемости ментального пространства одного из партнеров по общению.
Ментальное пространство - это то психическое явление, которому еще только предстоит стать предметом детального психологического исследования. Тем не менее именно понятие "ментального пространства" является, на мой взгляд, тем недостающим теоретическим звеном, которое позволяет перейти от понятия "ментальная структура" к понятию "ментальная репрезентация", столь часто используемому в последние годы в различных современных психологических теориях.
98
3.3.3. Ментальная репрезентация
Ментальная репрезентация - это актуальный умственный образ того или иного конкретного события (то есть субъективная форма "видения" происходящего). Иными словами, ментальные репрезентации являются оперативной формой ментального опыта, они изменяется по мере изменения ситуации и интеллектуальных усилий субъекта, являясь специализированной и детализированной умственной картиной события.
На первый взгляд, речь идет о явлении настолько очевидном, что трудно даже понять, почему проблема репрезентации оказалась в центре внимания многих психологов. Действительно, что такого удивительного в том, что у человека, столкнувшегося с какой-либо проблемной ситуацией, еще до того, как он приступает к поиску решения, выстраивается некоторый субъективный образ этой ситуации?
Для профессионального психолога, однако, в данном факте кроется много любопытного. Во-первых, наличие репрезентации - это свидетельство существования особого рода психической реальности, которая хотя и инициируется "извне" внешним воздействием, но зарождается и обеспечивается "внутри" субъекта. Во-вторых, особенности репрезентации происходящего (то есть то, как представлена действительность в индивидуальном сознании) предопределяют характер последующей интеллектуальной деятельности, в том числе показатели ее эффективности.
98
Таким образом, интерес к проблеме репрезентации - это фактически интерес к механизмам человеческого интеллекта (как с точки зрения его продуктивности, так и с точки зрения его индивидуального своеобразия).
Первоначально в традиционной когнитивной психологии под "репрезентацией" понималась некоторая фиксированная форма определенным образом упорядоченного знания либо та или иная форма его хранения (в виде прототипа, следов памяти, перцептивных эталонов, фрейма и т.д.). В последующие годы содержание понятия "ментальная репрезентация" было существенно пересмотрено.
Безусловно, наиболее глубокий анализ механизмов репрезентационных способностей представлен в теории Ж. Пиаже. Суть взглядов Пиаже на интеллект заключается в утверждении, что интеллект с его логическими операциями - это самая совершенная форма адаптации, которая в своем пределе позволяет воспроизводить действительность во всей ее полноте и освобождать действие от рабского подчинения ситуативным "здесь и теперь". Иными словами, качественный скачок в интеллектуальном росте ребенка связан с развитием символической функции (способности действовать в режиме "как если бы") и, как следствие, с переходом к познавательному отражению на уровне построения ментальных репрезентаций (на основе формирования операциональных структур, характеризующих способность манипулировать в уме отдельными элементами впечатлений, знаний, наличных когнитивных схем). В свою очередь, чем более совершенны репрезентационные возможности детского интеллекта, тем более инвариантны (объективированы) представления ребенка о мире (Пиаже, 1969).
Даже в самом простом своем варианте - на уровне построения перцептивного образа в условиях непосредственного восприятия объекта - действует фактор репрезентации. Как писал в этой связи Ж. Пиаже, смотреть на объект - это уже интеллектуальный акт, и в зависимости от того, останавливает маленький ребенок свой взгляд на первой попавшейся точке или фиксирует им целый комплекс отношений разных элементов объекта, можно почти наверняка судить об уровне его умственного развития (Пиаже, 1969).
В теории интеллекта Дж. Брунера в качестве субъективных средств построения репрезентации выступали способы кодирования информации. Брунер считал, что рост интеллекта предполагает, во-первых, развитие трех способов репрезентации действительности (через такие модальности опыта, как действие, образ и слово) и, во-вторых, интеграцию различных форм субъективного отражения происходящего (в виде взаимопереводов разных модальностей опыта, а также соотнесенности актуального опыта с прошлым и будущим опытом). Когнитивная компетентность в этих двух сферах и обусловливает возможность выхода индивидуального сознания за пределы непосредственного времени и заданного пространства, что и является, по Брунеру, одним из основных критериев интеллектуального развития (Bruner, 1964). Особый интерес представляет замечание Брунера о том, что именно от сформированности техник репрезентации зависит способность к сдерживанию непосредственного удовлетворения актуальных потребностей.
Одной из наиболее серьезных попыток теоретического обоснования необходимости введения понятия "репрезентации" в исследования интеллекта является работа К. Оутли (Oatley, 1978). Оутли отвергает идею любого "демонтирующего" исследования интеллекта, в рамках которого интеллект выступает как коллекция частей, чьи
99
индивидуальные свойства, суммируясь, якобы образуют сложное психическое целое (нельзя не заметить, что это как раз именно та позиция, которая была принята в тестологии при создании интеллектуальных шкал для определения уровня интеллектуального развития личности).
Реальная интеллектуальная деятельность, по мнению Оутли, отличается, во-первых, гибкостью (этим объясняется удивительное разнообразие способов решения задачи, которые варьируют как у одного и того же человека, так и между людьми) и, во-вторых, тенденцией порождать "ментальный контекст", в который затем оказываются включенными воспринимаемые внешние воздействия (это обусловливает наличие индивидуализированных форм понимания одной и той же ситуации). Эти специфические черты человеческого познания могут быть объяснены существованием феномена репрезентации происходящего, который и обусловливает как многообразие стратегий познавательной деятельности, так и наличие индивидуализированных контекстов осмысления событий. Оутли делает вывод о том, что "...богатство возможных репрезентаций у животных и человека, возможно, вплотную подводит нас к тому, что мы называем интеллектом" (Oatly, 1978, р. 138). По его мнению, психологии сейчас нужны новые теории - теории, объясняющие, как конструируются и модифицируются репрезентации.
Более современный, хотя, возможно, и более упрощенный вариант объяснения природы субъективных средств построения репрезентации - это гипотеза "двойного кодирования" А. Пайвио. Согласно этой точке зрения, существуют две системы репрезентации внешнего воздействия: вербальная (через словесное обозначение) и образная (через наглядное впечатление). Будучи автономными и независимыми, эти две системы тем не менее могут взаимодействовать одна с другой (Paivio, 1986).
Несколько в иной теоретической плоскости рассматривает природу феномена репрезентации Дж. Ройс. По его мнению, все умственные образы (или репрезентации) в виде умственных впечатлений, идей, инсайтов и т.п. являются продуктом определенных познавательных процессов (восприятия, мышления и символизации). У каждого человека складывается особый баланс этих познавательных процессов, на основе которого вырабатывается специфическая система субъективных "кодов" (средств субъективного представления действительности). Поэтому разным людям присущи разные стили познавательного отношения к миру в зависимости от преобладающего типа познавательного опыта, наличия определенных, субъективно предпочитаемых правил переработки информации и выраженности собственных критериев оценки достоверности своих знаний (Royce, 1974).
Еще более отчетливо роль репрезентации обнаруживается при исследовании процесса решения задач. По мнению Ф. Кликса, неудачи в решении задач связаны, как правило, с построением ошибочной или слишком громоздкой репрезентации проблемной ситуации. В итоге в хаотическом смешении представлений не удается выделить ее релевантные признаки. В то же время "...адекватное понятийное представление проблемной ситуации имеет критическое значение для успешного решения. Это как бы фундамент всех последующих объединений, сокращений и трансформаций информации" (Клике, 1983, с. 286).
Характерно, что в современной когнитивной психологии репрезентация рассматривается уже не как форма фиксации знаний, а как инструмент приложения знаний к определенному аспекту действительности. Таким образом, ментальная репрезентация - это конструкция, зависящая от обстоятельств и построенная в конкретных условиях для специфических целей (Ришар, 1998).
100
В отечественной психологии проблема репрезентации обычно обсуждается в контексте проблемы "образа Мира" (А.Н. Леонтьев, 1979). Утверждается, что в системе индивидуальной интеллектуальной деятельности следует различать представление о мире (поверхностные компоненты) и представление мира, или образ Мира (ядерный компонент). Образ Мира в функциональном плане предшествует актуальной стимуляции и предопределяет характер любого чувственно-перцептивного впечатления. Короче говоря, актуальный умственный образ (репрезентация конкретного события) формируется в основном за счет уже имеющегося у субъекта образа Мира (Смирнов, 1985; Петухов, 1984; Стеценко, 1987).
В целом, несмотря на разброс теоретических позиций, нельзя не согласиться с утверждением Э. Ханта о том, что "...индивидуальные различия в репрезентациях не являются случайностями экспериментальных психологических исследований. Они - важные детерминанты естественной умственной компетентности" (Hunt, 1983, р. 146).
О том, как построена репрезентация (индивидуальная умственная "картина события"), можно судить по ряду показателей: 1) особенностям распределения внимания (какие элементы проблемной ситуации воспринимаются как релевантные); 2) объему времени, затраченному на ознакомление с ситуацией; 3) форме субъективного представления ситуации (вербальной или визуальной); 4) характеру задаваемых вопросов (Dodd, White, 1980).
В пользу предположения о том, что репрезентация действительно выполняет особые функции в организации интеллектуальной деятельности, свидетельствуют многочисленные исследования различий в типе умственного видения проблемной ситуации между испытуемыми с разным уровнем интеллектуального развития: между нормальными и умственно отсталыми детьми; между старшими и младшими детьми; между студентами с высоким и низким IQ; между "экспертами" (специалистами) и "новичками" (начинающими свое профессиональное обучение).
Результаты всех этих исследований позволяют выделить некоторые универсальные дефициты репрезентационной способности, которые своим следствием имеют более низкую успешность интеллектуальной деятельности в условиях столкновения с той или иной проблемной ситуацией:
- 1) неспособность построить адекватное представление о ситуации без четких и исчерпывающих внешних указаний относительно ее природы и способов ее разрешения;
- 2) неполное представление о ситуации, когда часть деталей вообще не попадает в поле зрения;
- 3) опора на непосредственные субъективные ассоциации, а не на анализ объективных особенностей ситуации;
- 4) глобальное представление о ситуации без серьезных попыток подойти к ней аналитически, декомпозируя и переструктурируя отдельные ее детали и аспекты;
- 5) неспособность построить адекватную репрезентацию на неопределенной, недостаточной, незавершенной информационной основе;
- 6) предпочтение более простой, ясной и хорошо организованной формы репрезентации перед сложной, противоречивой и дисгармоничной;
101
- 7) фиксация внимания на очевидных, внешних, бросающихся в глаза аспектах ситуации и неспособность реагировать на скрытые, "молчаливые" ее аспекты;
- 8) отсутствие в репрезентации высокообобщенных элементов в виде знаний об общих принципах, категориальных основаниях, фундаментальных законах;
- 9) неспособность отрефлексировать и объяснить собственные действия при построении своего представления о ситуации;
- 10) использование стратегии типа "сначала - сделать, потом - подумать", то есть время на знакомство и понимание ситуации резко сокращается за счет более непосредственного перехода к процессу ее решения;
- 11) неспособность быстро и четко выделить два-три ключевых элемента ситуации с тем, чтобы сделать их опорными точками своих дальнейших размышлений;
- 12) неготовность перестроить образ ситуации в соответствии с изменением условий и требований деятельности;
- 13) эгоцентрический характер репрезентации, ее центрированность на личной точке зрения и собственных потребностях и, как следствие, ее подверженность искажающему влиянию аффективных состояний.
Понимание особой роли репрезентации в раскрытии механизмов интеллектуальных возможностей человека вынуждает некоторых авторов полностью пересмотреть традиционный взгляд на проблему интеллекта. Так, Дж. Браун и Е. Лангер вводят понятие "внимательности" (mindfulness), противопоставляя его традиционному понятию интеллекта. Внимательность - это состояние напряженной умственной сосредоточенности на происходящем, в котором субъект открыт анализу привычной информации в новом свете, чувствителен к контексту, способен создавать новые категории, имеет представление о множестве возможных перспектив какой-либо ситуации и т.д. При изучении внимательности - как альтернативы интеллекту - предметом исследования, по мнению этих авторов, должна стать "когнитивная гибкость" как способность индивидуума придавать различные значения собственному опыту и включаться в многовариантные связи со своим окружением (Brown, Langer, 1990). Этот подход - еще одно свидетельство того, что классическое представление об интеллекте уже не вписывается в систему современного психологического знания.
Итак, репрезентация - это особая форма организации ментального опыта в виде индивидуального умозрения (того, как человек мысленно видит в данный конкретный момент времени конкретное событие). Как строится индивидуальная "ментальная картина" происходящего? От чего зависят ее содержательные и структурные характеристики? Верно ли, что человек думает так, как он мысленно видит то, о чем думает? И, может быть, феномен "видящей мысли" (Г. Гёте) действительно является ключом к пониманию сути человеческой разумности (либо неспособности и неготовности к разумному отношению к происходящему)?
Более детальное исследование вопроса о том, почему разные люди по-разному ментально видят происходящее, привело многих исследователей к важному выводу о том, что фактор знаний и фактор репрезентационных способностей играют разную роль в организации интеллектуального отражения.
Например, одной из отличительных черт умственной отсталости является неспособность к трансситуативному переносу знаний, хотя знанием как таковым субъект
102
применительно к определенной ситуации может владеть достаточно хорошо. Этот критерий глупости проиллюстрирован в притче о дураке, который, прекрасно зная, как надо вести себя на свадьбе, реализовал знание такой формы поведения на похоронах. В то же время интеллектуальная одаренность наиболее отчетливо проявляется в том случае, когда человек (ребенок или взрослый), не имея в полном объеме необходимых знаний, тем не менее в состоянии решать непривычные, нетривиальные проблемы.
Дело, таким образом, не столько в знании как таковом и даже не в форме его хранения, сколько в особенностях действия репрезентационных механизмов, ибо имеющиеся знания (какими бы по степени полноты и организованности они не были) могут быть применены в очередной конкретной ситуации только в той мере, в какой организован актуальный умственный (ментальный) образ этой ситуации.
Форма ментальной репрезентации может быть предельно индивидуализирована (это может быть "картинка", пространственная схема, комбинация чувственно-эмоциональных впечатлений, простое словесно-логическое описание, иерархическая категориальная интерпретация, метафора, система утверждений "от абсурда" и т.д.). Однако в любом случае такая репрезентация отвечает двум базовым требованиям.
Во-первых, это всегда порожденная самим субъектом ментальная конструкция, формирующаяся на основе внешнего контекста (поступающей извне информации) и внутреннего контекста (наличных у субъекта знаний) за счет включения механизмов реорганизации опыта: категоризации, дифференциации, трансформации, предвосхищения, перевода информации из одной модальности опыта в другую, ее селекции и т.д.). Характер реконструкции этих контекстов и определяет своеобразие умственного видения человеком той или иной конкретной ситуации.
Во-вторых, это всегда в той или иной мере инвариантное воспроизведение объективных закономерностей отображаемого фрагмента реального мира. Речь идет о построении именно объективированных репрезентаций, отличающихся своей объектной направленностью и подчиненностью логике самого объекта. Иными словами, интеллект - это уникальный психический механизм, который позволяет человеку увидеть мир таким, каков он есть в своей действительности. Правда, кто-то смотрит на этот мир через узкую щель, кто-то - через раскрытое настежь окно, кто-то видит мир широко и ясно до самого горизонта, наконец, кто-то может увидеть даже то, что находится за горизонтом (людей с таким типом умозрения мы обычно называем гениями).
В феномене репрезентации, являющемся, с моей точки зрения, ключевым в объяснении природы человеческого интеллекта, таким образом, одновременно "снимаются" и структурные характеристики индивидуального ментального опыта, и характеристики объективной реальности. И снова мы сталкиваемся с парадоксальным эффектом работы интеллекта: чем больше проявляется активность субъекта в плане конструирования умственного образа, тем в большей мере в этом образе воспроизводятся объективные аспекты происходящего.
103
3.3.4. Смена протофеномена в исследовании интеллекта:
переход от "познавательного процесса" к "ментальному опыту"
Мы рассмотрели две основные линии обоснования трактовки интеллекта как носителя своих свойств в контексте категории "ментальный (умственный) опыт":
103
"сверху", то есть с позиции требований структурно-интегративной методологии по отношению к анализу сложных объектов, и "снизу", то есть с позиции конкретно-научной методологии психологических исследований.
Эти две линии фактически сходятся в одной принципиально важной проблемной точке, а именно в вопросе о том, что должно выступать в качестве "протофеномена" в современных психологических исследованиях интеллекта.
Понятие "протофеномена" (В.С. Швырев) характеризует то ключевое явление (факт, экспериментальную ситуацию и т.д.), в котором манифестируется та или иная теория и которое в свою очередь задает некоторые исходные теоретические ориентации в изучении природы того или иного аспекта реальности.
Если вернуться к традиционным теориям интеллекта, то в этой области психологического знания можно обнаружить весьма характерную тенденцию: результаты исследований интеллекта, как правило, интерпретировались под жестким влиянием определенных нормативно-ценностных критериев (таких, как "нормальное исполнение", "возрастное исполнение", "социальная желательность", "нестандартность ответа").
Действительно, тесты интеллекта, от использования которых не отказывались и некоторые представители экспериментально-психологических подходов, первоначально создавались как средство дифференциации нормы и патологии (или отставания в познавательном развитии). Поэтому не удивительно, что на первый план выходили те характеристики интеллектуальной деятельности, которые позволяли наиболее демонстративно оценить типичный для психологической нормы уровень интеллектуального исполнения (в частности, в виде показателей сформированности вербальных и невербальных познавательных функций). Не составляли исключения и задачи, используемые в экспериментально-психологических исследованиях интеллекта, которые фактически распределяли испытуемых по рубрикам: "может решить - не может решить" ("может справиться - не может справиться").
Влияние нормативных ценностей проявилось также и в том, что представление об интеллекте складывалось главным образом на основе результатов исполнения, характерных для школьного и студенческого возраста (заметим, что именно в этом возрастном периоде рост интеллектуальных возможностей обнаруживает себя прежде всего в высоких показателях эффективности переработки информации). Добавим к этому, что валидизация интеллектуальных тестов, как правило, шла на основе учета наиболее типичной, опять же для данной возрастной популяции, формы интеллектуальной активности - успешности учебной деятельности.
Далее, нельзя не отметить влияние на содержание понятия "интеллект" свойственного технократической культуре представления об интеллектуальной личности как человеке, имеющем обширные знания, сообразительном и логичном в разрешении задач, хорошо социализированном и эффективном в адаптации к требованиям социума и т.д.
Наконец, собственно творческие интеллектуальные возможности связывались с дивергентной продуктивностью, то есть со склонностью формулировать множество разнообразных идей, статистически редких с точки зрения некоторых объективно-типичных представлений.
Не удивительно, что в психометрических и отчасти экспериментально-психологических исследованиях интеллекта в качестве протофеномена выступал познавательный процесс в его результативных и операционально-динамических характеристиках, по которым
104
достаточно легко было выделить умственно отсталых субъектов, плохо успевающих школьников, потенциальных профессиональных неудачников, людей со стереотипным складом ума (то есть тех, кто не справляется, не понимает, не успевает, не может и т.д.).
В итоге сложилась парадоксальная ситуация: отправной точкой в формировании представлений о природе интеллекта фактически оказалось явление интеллектуальной несостоятельности. Ясно, что при этом возникает законный вопрос: если представление о признаках интеллектуальной несостоятельности проецируется на особенности работы естественного интеллекта, не получаем ли мы при этом искаженную картину механизмов устройства и функционирования последнего?
Как известно, за все надо платить. За искаженное представление о природе интеллекта мы заплатили искажением критериев оценки уровня интеллектуального развития личности. Действительно, если смотреть на человека сквозь призму операционального (тестологического) определения интеллекта, то получается, что способный ребенок - это ребенок с высоким уровнем сформированное™ основных познавательных функций, а также нормативных знаний и навыков; одаренный подросток - это подросток со сверхвысоким IQ (хотя при этом он почему-то плохо учится, с трудом налаживает отношения со сверстниками, и, повзрослев, превращается в "умную ненужность"); умный взрослый - это человек сообразительный, образованный, быстро принимающий решения, умеющий много и уверенно говорить, легко приспосабливающийся к любой новой ситуации, до тонкости освоивший доминирующую систему ценностей; творческая личность - это субъект, изощренно оригинальный, действующий не так, как все, в котором говорит голос творческого воображения при полном безмолвии так называемого "рационального, аналитического" начала.
На мой взгляд, в психологических исследованиях интеллекта возможен другой, прямо противоположный взгляд на природу естественного интеллекта, а именно с точки зрения явления интеллектуальной зрелости. Дело в том, что традиционные теории интеллекта не охватывали (а зачастую и просто игнорировали) три особые области феноменологии интеллекта: особенности устройства и функционирования интеллекта, во-первых, в условиях реальной профессиональной деятельности человека (феномен "компетентности"), во-вторых, в случаях реальных сверхординарных интеллектуальных достижений (феномен "таланта") и, в-третьих, в пожилом возрасте (феномен "мудрости"). (Более подробно эти направления изучения интеллекта будут рассмотрены в Главе 6.) Однако как раз эти линии анализа интеллектуальных возможностей человека с очевидностью выводили на первый план факт своеобразия ментального опыта субъекта как основы его интеллектуальной зрелости.
Таким образом, есть основания утверждать, что при разработке теорий интеллекта нового типа в качестве альтернативного протофеномена может выступать индивидуальный ментальный опыт (особенности его состава и строения).
Решение вопроса о том, "с какой колокольни звонить", является, безусловно, важным в плане общепсихологической теории, поскольку определение интеллекта как формы организации ментального опыта, по сути дела, возвращает этому психическому образованию статус психической реальности. Но, пожалуй, еще более важен подобного рода пересмотр представлений об интеллекте с точки зрения изменения характера прикладных психодиагностических и педагогических исследований.
В целом же смена протофеномена в психологии интеллекта - переход от изучения "познавательного процесса" к изучению "ментального опыта" - явление, по-видимому,
105
вполне закономерное, обусловленное постепенной трансформацией парадигмальных основ современной психологии в направлении признания человека субъектом. Быть субъектом - значит быть инициатором собственной активности (Брушлинский, 1994). Субъектный подход в психологии означает, что на первый план выходит проблема внутренних психических ресурсов конкретного индивидуума, которые выступают в качестве основы его самодеятельности. Соответственно речь идет о поиске тех общих закономерностей, которым подчинены формирование, устройство и функционирование "внутренних условий" деятельности (Рубинштейн, 1974). С другой стороны, в центре внимания оказывается проблема уникальности психических ресурсов, ибо понятие "субъект" акцентирует индивидуальное начало человеческой активности, связанное с индивидуально-своеобразными характеристиками "внутренних условий" деятельности данного индивидуума.
Итак, ментальный опыт - это система наличных психических образований и инициируемых ими психических состояний, лежащих в основе познавательного отношения человека к миру и обусловливающих конкретные свойства его интеллектуальной деятельности. Ментальный опыт, судя по имеющимся данным, представлен в трех основных формах, таких, как ментальные структуры, ментальное пространство и ментальные репрезентации.
Схематически соотношение основных понятий, которыми может быть описана феноменология интеллекта в рамках предлагаемого мной подхода, выглядит следующим образом (рис. 9):








