Диплом о присвоении Карлу Марксу степени доктора философии, выданный Иенским университетом 15 апреля 1841 г.

Фридрих Энгельс, 1839 год. Рисунок неизвестного художника.

Дом в Бармене (Германия), в котором 28 ноября 1820 гола родился Фридрих Энгельс.
Хлопает входная дверь в доме Генриха Маркса. Это Софи возвращается с почты. Сбросив отсыревшие под теплым осенним дождем пелерину и капор, она врывается в комнату, держа перед собой толстый конверт, долгожданный серый конверт с берлинским штемпелем, с адресом, выведенным знакомым мелким почерком.
– Письмо от Карла, и какое письмо – целый том!
Софи посылает сестренку на Римскую улицу за Женни.
Женни приходит раньше, чем успели накрыть стол к ужину. Матовые щеки ее розовеют. Склонившись над свечой, начинает она чтение доверенного ей письма с приписки.
– Он просит разрешения приехать в Трир, – шепчет она нерешительно.
Но Генрих Маркс угрюм.
– Вот, – говорит он в тревожном раздумье, – вот письмо, отражающее все недостатки моего сына. Бессвязное, бурное творчество, бессмысленное перебегание от одной науки к другой, бесконечные размышления при коптящей лампе, созидание и разрушение. Растрата дарования, бессонные ночи, родящие чудовищ. Он идет по стопам новых демонов. Он плутает, он отрывается от жизни, не заботится о будущем, о своей карьере.
Приступ кашля мешает старику говорить. Женни подает ему чашку с водой.
– Я не могу больше состязаться с Карлом в искусстве абстрактных рассуждений, он тут силен, как молодой бог, но в науке простой жизни мальчик беспомощен, и его будущее – значит, и ваше – теперь не кажется мне безоблачным…
Но Женни больше не слушала жалоб старика. Жадно впитывала она в себя строку за строкой, страничку за страничкой письмо жениха. Лицо ее постепенно успокаивалось, бледнело, и в опущенных глазах мелькали удовлетворение, восхищение и радость.
– Это исповедь большого ума и большого человеческого сердца. Я горжусь Карлом, – сказала она твердо.
Карл приближался к Триру подавленный, печальный. Не с этим тягостным чувством предполагал он навестить город, оставленный более полутора лет тому назад, город, где жили и ждали его Женни и отец, два наиболее любимых им на земле существа.
Какая тревога в каждой строке короткой записки матери! Всегда многословная, Генриетта Маркс на этот раз вовсе изменила своим правилам. Добрый отец уже более двух месяцев не покидает постели. Кашель уменьшился, но какой-то иной недуг сводит его в могилу.
На почтовой станции не встретит сына, суетясь от радости и волнения, Генрих Маркс, в первую ночь после долгой разлуки не услышит Карл шороха бархатных домашних туфель отца, в шлафроке и сбившемся на затылок колпаке пробирающегося в его комнату, чтоб говорить до пробуждения петухов «по душам» обо всем самом важном для обоих.
Эти задушевные ночные беседы – лучшие в отроческой жизни Карла.
Но Генрих Маркс не встает более. Он устрашающе изнурен. Глаза его потускнели.
Женни сидит в уголке дивана. Радость при виде входящего юноши, смешанная с беспокойством и состраданием, вызывает слезы на ее огромных карих глазах.
Карл бросается к невесте, прижимается губами, лбом, щекой к ее рукам, но голос отца, еле слышимый и прозвучавший как бы издалека, прерывает долгожданное свидание.
В комнате полутемно и душно. Карлу в этом сумраке, пропахшем лекарствами, испарениями тела, непроветриваемыми перинами, становится не по себе. Он опускается на колени у подушек отца и, с трудом удерживая крик испуга при виде его лица, начинает что-то поспешно рассказывать о дорожных впечатлениях и Берлине.
10 мая 1838 года тихо умирает Генрих Маркс.
После похорон отца Карл старался поменьше бывать дома.
В доме Вестфаленов Карл нашел отныне то, что навсегда потерял со смертью отца. Он ближе сошелся с отцом Женни Людвигом Вестфаленом и проводил в доме невесты большую часть времени. Вскоре, однако, Карлу пришлось возвратиться в Берлин, чтобы продолжать занятия в университете.
День отъезда приближался. Надвигалась новая длительная разлука с Женни.
Прошел год. 5 мая Карл проснулся особенно поздно. Он до рассвета по обыкновению читал, потом возился с конспектами и лег в постель, когда по улице, громыхая, прокатила тележка молочницы, запряженная неповоротливым козлом. Карл не сразу вспомнил, что это день его рождения, хотя еще накануне получил несколько поздравительных писем из Трира.
Двадцать один год. Совершеннолетие. А еще ничего не сделано, не взят ни один рубеж.
На столе подле чернильницы стоял в бархатной рамке слегка пожелтелый дагерротипный портрет покойного Генриха Маркса. Тонко очерченное лицо, окаймленное непослушными волосами. Отец был красивее сына. Тонкий нос, правильный овал и небольшой приятный рот. Карл не унаследовал этих черт лица. Но глаза, лоб были те же у обоих.
Портрета Женни в комнате не было. Она упорно отказывала Карлу в этом подарке. Ничто не должно было, по ее мнению, преднамеренно возвращать мысль жениха к ней.
Совершеннолетие… Но Марксу не хочется подводить итоги. Он живет, как сам того хочет. Он ничего не боится в жизни и ни о чем не сожалеет. Жизнь превосходна, полна увлекательных задач и целей.
После смерти отца Карл почти все свое время посвящал изучению философии. Он редко бывал в университете, центром его духовной деятельности стал докторский клуб. Карл был почти на 10 лет моложе других членов клуба, но ярко выраженная индивидуальность сделала его вскоре одним из идейных руководителей младогегельянцев.
40-е годы отличались быстрым хозяйственным и общественным развитием, ростом промышленности, возникновением рабочего класса, укреплением сил буржуазии. Кроме того, происходил значительный прогресс естественнонаучных знаний. Германия шла навстречу буржуазной революции. Борьба против феодального мира обострилась, а так как христианство было духовным оплотом феодализма, то эта борьба проявлялась прежде всего в наступлении на религию.
Экономический подъем вызвал к жизни критику реакционной политической системы Гегеля, согласно которой прусское государство и христианская религия представляли собой… воплощение абсолютного духа, абсолютной идеи, или, иначе говоря, прусское государство, по Гегелю, и было царством божиим.
В то же время в противоположность этой реакционной политической системе диалектический метод Гегеля был прогрессивным революционным началом, так как рассматривал все в безграничном непрерывном движении и развитии.
Это противоречие между прогрессивной диалектикой и реакционной политической системой привело к расколу последователей Гегеля на старогегельянцев и младогегельянцев.
Если ко времени, когда Карл начал учиться в Берлинском университете, гегелевская философия представлялась сторонникам великого философа прочно слаженной системой, то к концу 30-х годов раскол его школы становился все более и более заметным.
Гегель считал, что религия, бог есть сама вечная истина: философия – это религия и религия – философия.
Давид Штраус своей сразу ставшей знаменитой книгой «Жизнь Иисуса» нанес удар по гегелевской реакционной системе веры, которая ставила знак равенства между религией и философией. Он доказывал, что библейские и евангельские рассказы есть мифы древних евреев.
Полемика вокруг книги Штрауса привела к объединению сил младогегельянцев. Критикуя реакционную политическую систему Гегеля, они в то же время ставили себе целью развить его идею непрерывного усовершенствования.
Человеческую деятельность Гегель понимал только как мышление. Младогегельянцы противопоставили этому практику, философию действия и критику. Они считали, что достаточно вскрыть неразумное в государстве и обществе, чтобы немедленно короли, правительства, церковь, стремясь к разумному устройству государства, принялись тотчас же все исправлять. Философия действия и критики стала политическим оружием младогегельянцев.
Людвиг Фейербах в 1839 году выступил с критикой гегелевской философии, рассматривая в качестве мирового принципа уже не дух, а природу. Не мышление является первичным элементом, а бытие, чувственная живая материя, конкретная действительность обусловливают наше мышление. Эта материалистическая философия Фейербаха помогла младогегельянцам полностью освободиться от системы Гегеля и наряду с критической философией оказала значительное влияние на формирование мировоззрения молодого Маркса.
До Фейербаха все последователи Гегеля, естественно, были идеалистами, считали бога всемирной идеей, всеобщим началом, способным творить материю, создавшим всю вселенную и человека. Божественное происхождение королевской власти считалось неоспоримой истиной. Младогегельянцы верили, что прусское государство есть лучшая форма организации общества, и были убеждены в том, что мышление, идеи способны привести к либеральным изменениям в государстве.
Так было до вступления на престол короля Фридриха IV в июне 1840 года. От него младогегельянцы с нетерпением ждали всяких реформ и разумных преобразований, которые он должен был предпринять, как они надеялись, под воздействием их критики и их идей. Шли недели и месяцы. В Берлине, как и по всей немецкой земле, ждали конституции. Новый правитель молчал и принимал петиции с ничего не говорящей вельможной улыбкой.
Но вот, наконец, в речи к дворянам он ответил доверчивым и терпеливым либералам:
– Я твердо помню, что перед всевышним господом ответствен за каждый день и каждый час своего правления. И кто требует от меня гарантий на будущее, тому я адресую эти слова. Господь дал мне корону. Лучшей гарантии ни я и никакой другой человек дать не могут.
Дворяне и буржуа поклялись в верности и, взирая на короля, пятясь, покинули тронный зал. Так под лучами монарших слов растаяла их давнишняя мечта – конституция с королевского соизволения.
Речь монарха Карл прочел в погребке Гиппеля между двумя кружками черного пива. Никакой иллюзии он не утратил, так как иных королевских слов и не ожидал.
Карусель истории двигалась по заранее обведенному кругу. Короли, впрочем, не казались Марксу решающей силой реакции либо прогресса.
С осени Бруно Бауэр находился в Бонне, куда нетерпеливо звал и Карла. Но Маркс оттягивал приезд. Причиной задержки была выпускная университетская диссертация, работа над которой, однако, уже близилась к концу.
Впереди все отчетливее вырисовывалась университетская кафедра. Он стоял на ней в пыльном почтенном парике, в темной тоге, которой предстояло выгореть от времени.
Еще при жизни отца Маркс решил посвятить себя ученой карьере. Он мечтал взорвать реакционные системы философии и права новой истиной, гораздо более дерзкой, чем откровения Бауэра.
Но старый либеральный вельможа Альтенштейн, министр просвещения, умер. Бруно, а с ним и все юные дерзатели науки потеряли своего покровителя. Письма из Бонна становились все раздраженнее. Бауэра травили, и новый министр ничем не хотел помочь ученому. Боннские богословы только того и ждали, чтобы с позором изгнать антихриста из своей среды. Маркс на примере друга смог увидеть истинное положение. Независимости прусского профессора в области научных исследований не существовало.
Но Бауэр не хотел сдаваться. Он знал, каким мужественным бойцом со всякой пошлостью являлся Карл. Он знал, какое острое оружие – его разум.
«Приезжай, приезжай скорее, разделайся с несчастным экзаменом», – умолял Бауэр.
Невеселые откровения. Читая письма из Бонна, Маркс невольно вспоминал Пугге, сытую дрему Шлегеля, томление преследуемого властями Велькера, пошлость студенческих дней.
«Назначенные мною лекции – критика евангелия – уже вызвали у местных профессоров священный ужас; особенно скандальной они считают критику, – сообщал Бруно. – Многие студенты высказывались в том смысле, что в качестве будущих духовных лиц они не могут посещать моих лекций, так как я гегельянец… Но я ударю в критический набат так, что от одного страха им придется прибежать.
Тебя еще здесь нет, но я должен написать тебе заранее, чтоб больше потом к этому не возвращаться: по приезде сюда ты не должен говорить ни с кем ни о чем ином, кроме погоды и т.п., до нашей с тобой беседы.
Я придерживаюсь следующего принципа: высказываться вполне только на кафедре!.. Кроме того, конечно: да здравствует перо! Но только не рассуждать с этими людьми о более серьезных вопросах: они их не понимают!..
Здесь мне стало также ясно и то, что я в Берлине не хотел еще окончательно признать или в чем признался себе лишь в результате борьбы, – именно сколько всего должно пасть. Катастрофа будет ужасна и должна принять большие размеры. Я готов почти утверждать, что она будет больше и сильнее той, с которой в мир вступило христианство…
Когда ты приедешь в Бонн, это гнездо привлечет, может быть, всеобщее внимание. Приезжай, торопись!»
Покончить с Берлинским университетом, разделаться с последними экзаменами восьмого семестра уговаривал Бруно Маркса.
Настаивать, однако, было нечего. Карл и сам хотел поскорее снять студенческий мундир и получить докторскую степень. Он готовил диссертацию, рассчитывая защитить ее в Иене, а не в прусском университете, на который быстро спускались сумерки реакции. Он хотел добиться права читать лекции вначале лишь в качестве приват-доцента.
Но не в правилах юноши было, взявшись за какое- нибудь научное дело, выполнить его кое-как. Велики, неиссякаемы были его потребности в знании, зорким глазом наградила его природа.
В свои 22 года он не боялся никаких препятствий и никогда не отступал.
Наука, предмет, заинтересовавшие Маркса, поглощали все его внимание. Он, как великие астрономы, углубившиеся в изучение небесного свода, в погоне за одной звездой открывал тысячи мелких светил.
Но это внезапное обилие открытий убеждало его не в том, что он все постиг, а в том, что он нашел одну из бесконечно малых величин всей истины. Работоспособность Маркса возрастала с каждым годом его жизни, и вместе с ней росли его любознательность, желание все охватить и понять. Для своей диссертации он избрал тему о различиях между на- тур-философией Демокрита и Эпикура. Он предполагал, начав с этого, разработать впоследствии весь цикл философии стоиков, эпикурейцев и скептиков. Античный мир с первых дней работы Маркса в Берлинском университете заинтересовал его. Маркс поклонялся Эсхилу и превозносил вольнодумца Эпикура.
Кеппен, который, как и Рутенберг, со времени отъезда Бауэра по-прежнему почти ежевечерне распивал бутылочку рейнвейна в обществе дорогого Карла, был немало удивлен, найдя однажды на столе приятеля несколько итальянских грамматик.
– Ты ненасытен, как акула. Зная столько древних и новых языков, можно было бы сделать передышку. Право, трудно понять, сколько вмещает одна человеческая голова.
– Без знания языков трудно знание вообще, – ответил Маркс. – Без знания языков я не могу уловить подлинный дух культуры, дыхание нации, историю народа. Зная латынь, я решил узнать эволюцию античного языка, умирание его и рождение нового. Язык Данте, Петрарки не менее великолепен, чем язык Цицерона, Брута и братьев Гракхов. И разве Дидро, Руссо, Бальзак не кастрированы в немецком переводе? Немецкая грамматика Гримма, право, не менее занимательна, чем книги Кювье о мамонтах и ихтиозаврах. Тут, как и там, по косточке воспроизводится диковинный скелет.
– Но, одолев уже с полдюжины языков, ты так- таки не можешь избавиться от рейнского диалекта и говоришь с нами все еще, как добрый мозельский винодел, – добродушно подзуживал Кеппен.
Карл рассмеялся. Он сам знал про этот свой, по мнению истых берлинцев, недопустимый порок.
– И более того, – досказал тут же Рутенберг, – Карл, как Демосфен в одиночестве, читает вслух монологи Гёте и с их помощью пытается отучиться от неправильных ударений.
– Не глотать слов и не шепелявить, – весело признался Карл. – Но, право, даже китайские иероглифы дались бы мне легче, чем это. Однако я добьюсь удачи, дайте срок.
Зимой в Берлине начался долгожданный карнавал, длившийся с Нового года почти до самой пасхи. Карл любил посещать в это время публичные народные балы, где до рассвета продолжались пляски и оглушительная сутолока. Сам он не танцевал; забравшись на хоры, он курил, пил с друзьями и наблюдал толпу.
Но в катанье на санях он принимал самое деятельное участие. Зима в Берлине – веселая пора.
И снова чередуются: занятия итальянским языком и диссертация. В то же время возникла мысль написать книгу о гермесианизме – учении хитроумного доцента Гермеса, которое ловко переплело мистическую церковную догму с кантовской философией.
Ко времени окончания Берлинского университета план книги созрел, тема была давно выношена, перо отточено.
Лето выдалось душное. Карл предпочитал писать по ночам. Днем, в жару, валялся на постели, читая, а под вечер шел в докторский клуб либо на свидание с Фридрихом и Адольфом куда-нибудь в подвальный кабачок, на террасу ресторации или пивной.
Кеипен, с которым Карл был с некоторых пор особенно дружен, читал ему там вполголоса отрывки дерзкого памфлета, написанного к годовщине рождения «старого Фрица» – короля Фридриха Прусского. Книгу эту он собирался посвятить Марксу.
Не обращая внимания на гудящую толпу, на грохот посуды и музыку, Кеппен читал, все более увлекаясь, и, как обычно, все настороженнее становился Маркс. Вопросы его кололи автора.
– О, черт! – воскликнул Карл, не удержавшись. – Уверен ли ты в том, что старый развратник из Сан-Суси, унизивший великих французских энциклопедистов до роли своих шутов, достоин такой апологии?
Но Кеппен был убежден в своей правоте и потому несговорчив.
– Великий Фридрих – великое исключение. В нем король никогда не отставал от философа.
– Проверим, – говорил Маркс. Это суровое обещание означало для него бесконечно много: десятки прочитанных книг, бессонные ночи, выписки, конспекты, сопоставления, новые мысли, новые открытия.
«Проверим!»
Карл любил беседы с многознающим Кеппеном. Одаренный историк с одинаковой страстностью рассказывал о Будде, цитировал священные книги Ведд и патетически декламировал наизусть великолепные речи Робеспьера, Мирабо и Демулена.
Он распевал грубовато-шутливые песни французской революции и, подражая неутомимому раскачиванию баядерок, гнусаво читал нараспев монотонные ритмичные молитвы браминов.
Нередко он принимался рассказывать северные мифы, приводя Карла в неописуемый восторг прекрасными образами и мудростью народных изречений.
– Вот она, колыбель прекрасного! – говорил Маркс. – Язык родился в пещере, в землянке, в деревне. Эпос не может быть превзойден.
Карл стремился проникнуть в глубины истории, которую воспринимал как одну из важнейших наук.
Несколько лет тому назад в Нимвегене перед ним стройным рядом кладбищенских плит встали минувшие годы соединенного Нидерландского государства, теперь Европа античная, средневековая, современная, десятки погибших и возрожденных цивилизаций рассказывали ему последовательно о своих мятежных судьбах. Египет, Македония, Византия и вольная Испания одинаково приковывали к себе его пытливый ум. И снова открытие за открытием.
Прошлое планеты, которая с некоторых пор перестала Марксу казаться необъятной, необозримо большой, лежало, как труп на столе анатома. Карл скальпелем вскрывал покровы и мускулы.
Давно миновало то время, когда Маркс, самый юный из членов докторского клуба, чувствовал себя менее опытным в вопросах, которыми жили окружающие молодые ученые. Ни вожак кружка Бауэр, ни Кеппен, ни даже самонадеянный ревнивый Альтгауз не только не считали уже Карла младшим, но даже открыто признавали его превосходство. Рутенберг иногда пытался восставать, в особенности когда бывал навеселе, но в конце концов присоединялся к каждой мысли, высказанной «трирским чертенком».
Диссертация, которую Карл показал Бруно в черновике, не получила одобрения. Бауэр ожесточенно раскритиковал даже извечные стихи Эсхила в предисловии. Что-то в работе Маркса мгновенно и глубоко уязвило доцента теологии.
– Прометей, опять Прометей! Самый благородный святой и мученик в философии, сказано у тебя. Зачем этот вызов?
– Но какие это неповторимые строки, – прервал Карл, – какие слова! Они звучат, как гром!
Знай хорошо, что я б не променял
Моих скорбей на рабское служенье…
Я ненавижу всех богов: они
Мне за добро мучением воздали…
Разве я не прав, когда говорю вместе с Эпикуром: нечестив не тот, кто отвергает богов толпы, а тот, кто присоединяется к мнению толпы о богах?
Карл стоял, откинув назад большую гордую голову. Бруно почувствовал невольно его силу, его правоту, но не уступил.
– Нет и нет! Зачем дразнить гусей теперь, когда ты не знаешь, как устроится твое будущее? Ты не должен выходить за пределы чисто философского развития. Следует поступиться кое-чем ради кафедры, ради возможности, наконец, жениться и устроиться профессором.
– Что?
Бауэр не был знаком с Марксом-громовержцем, он никогда доселе не видал припадков его гнева и неодолимой вспыльчивости. Бруно растерялся.
– Что?! Ты предлагаешь мне угодничество, выслуживание? Да это человеческий недостаток, внушающий мне наибольшее отвращение. Пресмыкаться, лгать, раболепствовать ни в частной, ни в общественной жизни я не буду. Я не хочу прятать свои взгляды под плотной философской формой, загадочной, впрочем, только для глупцов.
– Ты еще не знаешь всей боли комариных укусов. Когда я предостерегаю, во мне говорит осторожность и снова осторожность. Займи кафедру и затем бросайся в бой.
– Чем вооруженный? Графином и тряпкой от грифельной доски? Нет. И цитировать библию я не стану в угоду филистерам и трусам. В Эсхиле я полюбил не только величавого поэта, но и борца за человечество. Его Прометей – неповторимый символ.
– Как бы тебе самому не стать Прометеем, прикованным к скале.
– Ты мне чрезмерно льстишь.
– Я вижу, Карл, практическая деятельность отвлекает тебя в сторону от больших идей все дальше. Бессмыслица! Ты прирожденный ученый. Теория к тому же является в настоящее время сильнейшей практикой, и мы еще не можем знать, в какой мере мощь ее будет расти.
Маркс считал, что со смертью Альтенштейна исчезло самое заманчивое в профессорской деятельности, искупавшее немало теневых ее сторон. Не стало свободы в изложении философских взглядов. К тому же министром был назначен Эйхгорн, о котором говорили, что он силен задом, а не головой.
Тщетно Бруно уговаривал Карла остаться на кафедре, отдаться чистой науке. Маркс мечтал издавать газету, считая ее лучшей трибуной для вольнодумцев. Он рвался в бой. Их споры с Бауэром становились все острее. Маркс доказывал, что философия должна стать средством преобразования действительности, должна направить свое острие против прусского государства. Впервые после нескольких лет тесной дружбы каждый из них почувствовал, что не только равнодушие, но и вражда могут в будущем разъединить их навсегда.
«Был ли он когда-нибудь полностью с нами? – спрашивал себя самолюбивый Бруно. – Такого не обуздаешь: ретивый и властный ум».
«Он не прав и путает, как всегда. Нет, это не боец», – вынес свой приговор Бауэру Карл.
Но размолвка их на этот раз была все же непродолжительной. Слишком много оставалось общих целей и планов.
Бруно вернулся в Бонн. Карл заканчивал диссертацию и сдавал последние экзамены. Будущее виделось ему теперь более отчетливо. Докторское звание обещало самостоятельный заработок. Наконец-то кончится затянувшееся жениховство, все более гнетущая разлука с любимой. Отсрочка брака с Женни порождала непрерывные недоразумения с окружающими. Не щадила свою будущую невестку и Генриетта Маркс; трирские кумушки и ханжи наперебой измышляли истории, тревожащие семью Вестфаленов. И любовь молодых людей подвергалась все большим испытаниям, пробе на огне человеческого злословия и клеветы.
«Скорее увезти Женни подальше от гнусного болотца– Трира!» – мечтал Карл.
Мог ли он обречь ее, Женни, на нищету, на студенческие лишения? Нет. Но покупать ценой подлости, уступки сытое профессорское место он не мог даже ради своей прекрасной невесты. Этого не допустила бы и сама Женни. Она требовала от него силы воли и верности не только ей, но и себе самому. Карл метался, и, как всегда, сомнения только подстегивали его работу.
В дни разъедающего душу кризиса он кончает Берлинский университет и отсылает диссертацию декану философского факультета в Иену. Маркс не хочет быть ни жалким Пугге, ни беспомощно брюзжащим Велькером, ни даже академическим повстанцем Гансом.
На прусской университетской кафедре нет места для неукротимого ума и дерзкой речи доцента Маркса. Лишь газета подходящий барьер для поединков с реакцией. Перо не худшее оружие. Маркс мечтает поскорее начать сражение. Ничто не удерживает его более в Берлине. Но прежде чем броситься в первую схватку и тем самым во многом определить свою дальнейшую дорогу, он хочет повидать Женни, получить ее напутствие.
В этот раз он отправляется в Трир не прямым путем, а с остановкой во Франкфурте-на-Майне. Там тетка Бабетта – добрейшее существо, нежно любящее детей покойного брата, – готовит ему родственный прием. Но не встреча с родными привлекает Карла. Он давно по достоинству оценил условное значение родства.
Ему хочется снова увидеть старую столицу аристократов и денежных магнатов, средневековый город, взрастивший гений Гёте и сарказм Бёрне, родину нескольких Ротшильдов и десятков тысяч нищих.
Карлу не сидится в зажиточно-уютном домике Бабетты, и под разными предлогами он старается улизнуть от ее неустанного гостеприимства и забот. Он убегает на улицы города и проводит дни и вечера в толпе. Франкфурт – необычайный город. Во всем он разный. Рядом с широкими мощеными площадями спят в столетнем сне средневековые улички и тупики, деревянные логовища давно сгнивших несчастливых алхимиков и безрадостных мудрецов. В больших ресторациях, в танцевальных залах по вечерам пляшут кадриль и сводящий с ума всю Европу бесшабашный канкан. Купцы, банкиры, промышленники веселятся вовсю.
Навстречу Карлу попадается пахнущий просмоленными бочками пристани человек в рваной самодельной обуви и в шапке, от которой остался один околышек. За пару грошей на табак и пиво он предлагает перевезти Маркса на первой попавшейся лодке на другой берег Майна, готов поступить к нему слугою, даже спеть ему гессенскую песню или что-нибудь проплясать. Он был пьян вчера и мучится тем, что не может опохмелиться. Но сегодня он трезв. Сатана тому свидетель, он слишком трезв!
Карл отказывается от всех предложений безработного бродяги, но не хочет обижать его милостыней.
Спутник Карла поет о черте, подкупившем сейм. Наконец они сворачивают в темный переулок.
– Вот, – говорит бродяга, – лучшего кабака, чем этот, нет во всем Франкфурте. Ну, что же вы размышляете? Тут, право, недорого.
В удушливом табачном дыму едва различимы люди: извозчики, мастеровые, сторожа, грузчики, бродяги.
Все столы были заняты. Карлу удалось присесть на кончик скамьи подле волосатого старика, который немедленно представился новому соседу, горделиво объявив, что он щетинщик. Другой сосед Маркса, трубочист, уроженец Швейцарии, всего лишь месяц как перешел немецкую границу. От него Карл узнал подробнее о Вейтлинге, имя которого уже слышал в Берлине. Трубочист – весельчак, балагур и крепкий пьяница, фатовато одетый в желтую рубаху с красными пуговицами и шнуром, – с первого слова понравился Марксу.
В пивной пели. Карл с трудом разобрал слова.
– Правду на земле установим мы, оборванцы, нищие… – сказал щетинщик, когда смолкла песня. – Кто хочет умереть за свободу и наше благо? Те, кто испил горькой водицы, кто наголодался, у кого живот пуст, а голова горяча. Кто сыт, тот терпелив.
– Твоя правда, – согласились вокруг, – наш хозяин не пойдет в тюрьму.
До поздней ночи сидел Маркс в пивной, приглядываясь и прислушиваясь к окружающему.
На прощание Карл шутками и расспросами сумел так расположить к себе сметливого трубочиста, что получил от него в полутьме у двери тщательно сложенный, зачитанный грязный листок.
«Призыв о помощи
Мы, немецкие рабочие, хотим вступить в ряды борющихся за прогресс. Мы хотим получить право голоса при общественном обсуждении вопросов о благе человечества, ибо мы, народ, в блузах, куртках и картузах, мы самые полезные и самые сильные люди на всей божьей земле…»
Карл с трудом разобрал эти фразы. Отыскав уличный фонарь, льющий мертвенно-синий свет, поднял листок и, прижавшись к столбу, продолжал разбирать засаленные, кое-где прорванные строчки.
«Мы хотим поднять свой голос во имя нашего блага и блага всего человечества, и пусть убедятся тогда все, что мы отлично понимаем свои интересы, и хотя не умеем выражаться по-латыни и по-гречески и не знаем мудреных слов, но на чистейшем немецком языке мы сумеем вам прекрасно рассказать, где жмет нам сапог».
Карл стоял, морща большой сократовский лоб. Мир лежал перед ним, как загадочный объект на столе ученого. Холодно и смело он изучал строение объекта, смутно желая найти подтверждение своим научным догадкам.
Не задерживаясь более во Франкфурте, Карл поехал дальше.
Снова Трир, опостылевший Трир, куда он хотел бы не возвращаться более, если б можно было поскорее увезти с собой Женни прочь из маленького душного городка.
В доме Генриетты вспыхивают ежедневно споры и пререкания.
Женни уехала – отдохнуть и поправить здоровье – к подруге. С ней уехал и добрый Вестфален. Болен Монтиньи.
Карл решает до переезда в Бонн к Бауэру некоторое время побродяжничать. Он устал от дрязг и хочет вновь одиночества и свободных наблюдений. С дорожным мешком странствующего студента пускается Карл в путь по тропинкам вдоль Мозеля к Рейну.
Солнце и леса обещают ему много светлых, радостных дней. Насвистывая песенку франкфуртского подмастерья, раскуривая одну за другой горькие сигары, он на рассвете оставляет Трир.
Благословенна Рейнландия! Махровые маки устилают берега рек. Виноградные лозы ползут по холмам, в долинах лежит «золотое руно» – река. Тих Мозель, но переменчив и резв Рейн. Воды его зелены, дно каменистое, изрытое. Нет другой реки, взрастившей столько легенд, реки веселой и мрачной одновременно, как реки Нибелунгов и Лорелеи.
Среди низких и густых лесов стоят барские усадьбы. Высокими заборами обнесены поместья, массивными стенами – не желающие дряхлеть замки, феодальные сторожевые башни на горных вершинах. Позади псарен, овинов, хлевов, где-нибудь на склоне, примостились деревеньки.
Неповторимы прирейнские песни. Незабываемы пляски в праздник урожая и виноградных сборов. Печальны и тягучи деревенские причитания-напевы в зимние вечера.
Благословенный край Рейнландии! Долговечны тут люди, которым принадлежат необъятные земли, сады и замки, но бог не шлет долгой жизни крестьянам.
Кровь жителя теплой и золотоносной равнины горяча. Помещики рейнские гостеприимны, болтливы и несдержанны в поступках. Охота, рыбная ловля, скачки по лесам и обрывистым холмам – их любимое развлечение.
И горе крестьянину, которого застигнет феодал в запретном лесу за сбором хвороста. Расправа коротка. Сапогом и острой шпорой бьет господин своего раба, виновного стегают отобранным хворостом, а случается – привязывают к дереву или вешают на суку.
Помещики Рейнландии – вспыльчивые люди, и собственность их охраняют все германские законы испокон века.
Много в мире печали. Печальны прирейнские деревни. Природа вокруг них так щедра, так мотовски расточительна. Но обойден счастьем тут жалкий арендатор, опутанный долгами мелкий крестьянин, умирающий от голода и холода в стране хлеба, вина и лесов, где помещик стережет даже связку хвороста – топливо бедных.
В середине октября 1842 года Маркс приехал в Кёльн – центр экономической жизни Рейнландии. Город насчитывал тогда около ста тысяч жителей. Совсем недавно, в 1841 году, была пущена в эксплуатацию железнодорожная линия Кёльн – Аахен. Несколько раньше здесь возникла рейнская компания буксирных пароходов. Развитие транспорта и металлургической промышленности, активизация предпринимательства в Кёльне и всей Рейнской провинции способствовали дальнейшему бурному росту деловой жизни.
Кёльнские буржуа Кампгаузен, Дагоберт, Оппен- гейм, Левиссен, адвокат Юнг и другие основали акционерное общество с капиталом в тридцать тысяч талеров, чтобы создать новую газету. Маркса пригласили в Кёльн для переговоров о сотрудничестве в новом органе рейнских промышленников и банкиров. Интересы тамошней буржуазии, которые должна была защищать «Рейнская газета», носили скорее предпринимательский, чем политический характер. Речь шла прежде всего о требовании экономических реформ.
Маркс, приехавший из Бонна, с утра гулял по городу вместе с Бауэром. Маркс любил осматривать малознакомые города, находя в каждом своеобразную мету истории.
Неподалеку от главного моста через Рейн расположилась ярмарка – бурливая, многоцветная, грубая, как средневековье. Карл – большой любитель народных развлечений, уличной сутолоки и пестроты – ни за что не согласился уступить Бруно и пойти осматривать дом, где жил Рубенс. Звуки дребезжащей, как телеги на кёльнских улицах, шарманки привели молодых ученых к карусели. Маркс взобрался на пегую лошаденку из картона и глины и понесся под визг и гиканье других пассажиров.
Карл потащил приятеля в тир. Там они тщетно десять раз подряд целились в кентавра и черта. Отличные бойцы на шпагах, они были плохими стрелками.
Потом пили пиво в балагане; кормили ручного медведя медовыми пряниками; скакали вперегонки на ослах, дергая их за хвосты, чтоб сдвинуть с места; танцевали вальс, наступая на ноги молодым местным жительницам; и, наконец, выбрались из толпы и заторопились к Сенному рынку. Они непозволительно опаздывали.
Первым человеком, который с распростертыми объятиями бросился к входящим, оказался агент предпринимателей, субсидирующих новый печатный орган – «Рейнскую газету».
Вскоре пришел и Арнольд Руге, немецкий публицист и издатель, знакомый Маркса. Он долго, горячо и значительно пожимал руку Карла.
– Мы не хотим, – сказал собравшимся доверенный сильнейших рейнских промышленников и агент акционерного общества, – доводить дело до крупных столкновений с прусскими властями. Отнюдь нет, господа. Таково всеобщее желание. Наша газета должна внушать читателям, влиятельным и невлиятельным, принципы бережливости в управлении финансами, необходимость развития железнодорожной сети, – тут он победно оглядел всех присутствующих и особо нежно улыбнулся Мозесу Гессу, которого уважал за купеческое происхождение. – Понижение судебных пошлин и почтового тарифа, общий флаг и общие консулы для государств, входящих в состав таможенного союза, ну и все прочее, что сами вы знаете лучше нас. Немножко вольности, немножко политической остроты, соблюдая все же осторожность. Я сам, господа, склонен, как и вы, к бунтарству, к якобинству. Каждый промышленник немного революционер. – Раздался смех, но агент был не из смущающихся. – Земля, по-моему, дана человеку, чтоб он рвал с нее лучшие цветы и наслаждался.
«Да он рассуждает почти как наш лобастый Штирнер!» – подумал Карл.
Руге подошел к Карлу. Разговорились.
– Моя статья о цензурном уставе – дебют, покуда не вполне счастливый, правда, – сказал Маркс.
– Будь спокоен: рано или поздно я напечатаю ее, хотя бы за границей, – пообещал твердо Руге. – Но скажи, друг, с Боннским университетом и войной за кафедру все покончено?
– Я сражался бы хоть с самим чертом, если бы было за что. Но немецкая кафедра – гроб для воинствующего духа. Об университете я могу лишь сказать, как Терсит: ничего, кроме драки и распутства, и если нельзя обвинить его в военных действиях, то уж в распутстве нет недостатка. Вонь и скука.
К разговаривающим подошли Бауэр, Юнг и Гесс.
– Мы поднимем в газете такой дебош против бога, – сказал Бруно, – что все ангелы сдадутся и бросятся стремглав на землю, моля о пощаде.
– Нелегко будет, пожалуй, отвоевывать свободу, – сказал Карл, – однако предлагаю штурм.
– Штурм небес! – вскричал Бруно.
– Штурм земли, – поправил Маркс. – Сомнительно, однако, чтоб гнет цензуры ослабел… Но не будем отступать.
Маркс начал новую главу своей жизни. «Рейнская газета» поглотила его мысли, вызвала никогда доныне не поднимавшиеся вопросы и новые сомнения.
Руге продолжал откровенно восторгаться гибким и бездонным умом юного приятеля. Статьи Карла светили небывалым светом, блистали, как скрестившиеся мечи.
– Свобода печати – первый подкоп под громаду реакции, – заявил Маркс.
Обещание снять цензуру нисколько не помешало правительству и королю продолжать свирепое преследование каждого проповедовавшего право свободы слова.
Маркс поднял меч. Свобода печати – путь к конституции.
Но свобода печати не предпринимательство. Интеллектуальная деятельность не должна подчиняться интересам прибыли. Позор раболепным продажным газетным писакам.
«Главнейшая свобода печати состоит в том, чтобы не быть промыслом. Писатель, который низводит печать до простого материального средства, в наказание за эту внутреннюю несвободу заслуживает внешней несвободы – цензуры; впрочем, и самое его существование является уже для него наказанием».
«…равнодушие по отношению к государству является основной ошибкой, из которой проистекают все остальные, – писал Маркс. – Отсюда возникает эгоизм, ограниченность собственными или частными интересами. Чем шире связь государства с обществом, чем дальше и глубже распространится в обществе государственный интерес, тем более редким явлением станут эгоизм, аморальность и ограниченность».
«Законы не являются репрессивными мерами против свободы… Напротив, законы – это положительные, ясные, всеобщие нормы, в которых свобода приобретает безличное, теоретическое, независимое от произвола отдельного индивида существование. Свод законов есть библия свободы народа».
«Действительным радикальным извлечением цензуры было бы ее уничтожение », – заявил Маркс.
В эту пору Маркс часто разъезжал. Из гулкого Кёльна он направлялся в тихий Бонн, оставлял Бонн для Трира, где умирал друг – Людвиг Вестфален – и покорно скорбела Женни. Потом снова стремглав бросался в Кёльн: редакционные дела не терпели его отсутствия. Так шли месяцы – в деловой суете, радостях и огорчениях, в постоянных сражениях с сонмом чудовищ прусской монархии. Незабываемые, по-своему счастливые дни.
Осень. Нежная, розово-синяя умиротворенная пора на прирейнской земле.
Возы с виноградом, персиками, яблоками по утрам въезжают в город, громыхая и будя Карла: он поселился неподалеку от заставы.
Сердито шлепая босыми ногами, Карл плотнее закрывает жалюзи, но спать не может. Сколько новых дум и забот! Стол его, как всегда, завален книгами и густо исписанными листами бумаг. Юный полководец, еще не нашедший своей армии, еще не определивший цели грядущих походов и боев. Французы полонили его. Прудон с его размышлениями о собственности, Дезами, Кабе, Леру, Консидеран. Французский язык то и дело врывается в его немецкую торопливую речь. Новые вопросы – свобода торговли, протекционизм – прочно приковали его внимание.
Прежде чем отправиться в редакцию, он идет в таверну, что в переулке близ собора. Там к нему подсаживается Рутенберг.
Прежней беззаботности, дружелюбия нет более между недавними друзьями. Оба они не те. Карл с раздражением посматривает искоса на отекшее лицо Адольфа.
– Проживаешь умственный капитал, прозябаешь на проценты былых мыслей и дерзаний,» идешь вспять, – сурово говорит Карл в ответ на брюзгливые сетования собеседника.
Как меняется жизнь и как трудно выдерживать проверку временем! Умственно обрюзг, отстал. Радикал и добрый парень, товарищ в проказах, гуляка, Рутенберг на первом же испытании в редакторском кресле «Рейнской газеты» обнаружил, что не боец он, а растерявшийся учителишка, к тому же и лентяй.
Карл беспощаден.
– Ты – Зигфрид, ты – воин, – возбужденно говорит Адольф, – твое перо – надо отдать ему должное, – как волшебный меч Нибелунгов, но твои задор и желчные выпады все же вовсе не уместны. Ты то действуешь наскоком, то вдруг уходишь под прикрытие. Я этого не понимаю. То или другое. Вот Бауэр – он последователен. Отрицать так отрицать. Право, эти берлинские «свободные» – большие, истые революционеры. Как тебе нравится мысль Бруно о том, что семью, собственность, государство попросту следует упразднить как понятие?
– Это еще что за водолейство?! Ну, а что будет в действительности?
– Неважно. Достаточно упразднить в понятии.
– О неисправимые скоморохи! – возмущается Маркс. – Вредные болтуны, жонглирующие словами, пустыми, как иные головы. Скоро даже пугливые филистеры распознают в грохоте ваших понятий… звук шутовских бубенцов и барабанов.
– Кто бы мог предположить, что храбрый доктор Маркс окажется столь осторожным, когда придет время действовать! Ты притупишь свое перо, свое могучее оружие, ратуя за мелочи вроде отмены цензуры либо за справедливые законы для каких-то крестьян, даже не всех крестьян мира, а только рейн- ландцев… Я и наши берлинские единомышленники отказываемся понимать твои поступки. Штурмовать ландтаг, когда следует идти походом на небо, на все понятия, устаревшие и вредные! Ты консервативен, – продолжал Адольф, весьма довольный своим монологом – ты не постиг сердцем коммунистического мировоззрения, вот в чем твоя беда.
– Ах, вот оно что! – Карл внезапно совершенно успокоился и заулыбался. – Верно, я считаю безнравственным контрабандное подсовывание новых мировоззрений в поверхностной болтовне о театральной постановке и последних дамских модах. Нет ничего опаснее, чем невежество. Социализм и коммунизм! – Карл говорил все более отрывисто. – Да знаешь ли ты, что значат эти слова, какие клады для человечества, какой порох спрятан в этих словах? Я отвечу тебе теми же словами, что и старой нахальной кумушке – «Аугсбургской газете»…
– Знаю, знаю их наизусть! Это насчет того, что на практические попытки коммунизма можно ответить пушками, но идеи, овладевающие нашим умом, покорившие наши убеждения, сковавшие нашу совесть, – вот цепи, которых не сорвешь, не разорвав сердца: это демоны, которых человек побеждает, лишь подчинившись им. Не так ли?
– Браво! Однако нет Кеппена, чтоб назвать тебя начиненной колбасой. На этот раз ты почти не переврал моих мыслей. Но сейчас я имел в виду другое. Коммунизм нельзя ни признать, ни отринуть на основании салонной болтовни. Ни одно мировоззрение не живет более землей, нежели это, а ты знаешь – я не раз доказывал тебе, – что, даже критикуя религию, мы обязаны критиковать политические условия. Что касается цензуры, то это удушающий спрут, который надо разрубить: с ним погибнет многое. Кстати, послушался ты меня – прочитал Прудона, подумал о Консидеране?
Не отвечая, Рутенберг посмотрел на часы и встал.
– Без новых французских учений об обществе нельзя существовать, не только что двигаться в политике, да и в газете, – сухо добавил Карл.
– Кстати, – сказал Рутенберг покорно, – как тебе известно, со вчерашнего дня я более не редактор «Рейнской газеты». Говорят о тебе… Что ж! Желаю успеха!
Карл проводил глазами сутулую фигуру Адольфа. Было что-то жалкое, неуверенно-развинченное в его походке. Кончено! С Рутенбергом уходило прошлое. Дружба рассыпалась в прах. Умерла.
Тот, кто не мог быть его соратником, не был для него и другом. «Да и я хорош! Рекомендовал столь бездарное и поверхностное существо на пост редактора. Ну и выбрал полководца!»
Карл не умел прощать людям слабости ни в чем.
И – без уныния, сильный, одинокий, ищущий – шел вперед, вперед, навстречу новым людям и мыслям.
Отмена цензуры, проповедь свободы – Якоби правильно нащупывал слабое место. Правительство, король запутались сами в противоречиях и собственной болтовне. Это удобная первая позиция для борьбы газеты. Как знать, не удастся ли собрать вокруг газеты лучших, отважнейших людей? Из них создать штаб движения. Кого? Кеппен… Гервег… Карл вспоминает красавца поэта, которого встретил мельком. Руге не плохой союзник, Гесс будет хорошим помощником. Мало, мало людей. Но выбора нет. Нужно укрепиться. Нужно наладить и суметь сохранить газету.
Рутенберг обвинял его, Карла, в осторожности, странно перемежающейся с необъяснимой удалью и внезапным наскоком. Но разве не таковы законы стратегии? На войне как на войне. Исподволь собирать войско, подготовить тыл и в должную минуту броситься в атаку. Враге везде. Король, помещики, ландтаг, цензурное управление – виселица живых мыслей – и буржуа, тысячи плодящихся, жиреющих буржуа.
Карл припомнил воззвание Вейтлинга. Не там ли, не в стане ли рабочих те люди, которых ему так не хватает? Об этом надо было подумать. Он покуда не хотел дать себя увлечь соблазну крайностей.
Карл с трудом оторвался от обступивших его мыслей. Пора в редакцию.
По крутой лестнице, грязной и узкой, редактор взбирался на верхний этаж.
В его кабинете, низкой и неуклюжей комнате со сводчатым потолком, с утра уже сутолока и шум. Доктор Опленгейм либо Юнг, а иногда представитель акционеров сидят на глубоком подоконнике. Цензор Сен-Поль, элегантнейший молодой человек с превосходными бакенбардами, ежедневно завиваемыми, выправка и отменные манеры которого говорят о долгой военной школе, осторожно шагает из угла в угол. Он старается не испачкать щеголеватого костюма, но дурно оштукатуренные стены бессовестно марают длиннополый сюртук.
– Доброго здоровья, лейтенант, – входя, поздоровался с цензором Маркс. – Надеюсь, Гегель и наши комментарии к его учению еще не отняли у прусской короны ее лучшее украшение? Удалось ли вам подебоширить вчера в кабачке на Новом рынке?
– Ваш ум и характер, господин Маркс, знаете сами, покорили меня. Отдаю должное вашему редакторскому гению… Вынужден сознаться, я не скучаю в Кёльне, тем более что вы не слишком балуете меня досугом. Но предупреждаю как друг, как поклонник, наконец, – газета того и гляди подведет вас всех своей небывалой дерзостью. Уловки не помогут… Однако благодарю вас за лестный отзыв, доктор Маркс.
Сен-Поль, фамильярно и многозначительно погрозив пальцем, наконец удалился.
– И у тебя хватает терпения развращать это солдатское бревно гегельянской философией, тратить время на этого палача и кутилу! – сказал Оппенгейм.
– Сен-Поль – продукт наших уродливых нравов, подлинное творение цензурного управления, и к тому же не худшее, поверь. Достаточно сравнить его с послушным дураком фон Герляхом, который обнюхивает газету, как голодный боров. Нелегко иметь дело с этой подлой породой шпионов. С каждым днем осада нашего бастиона усиливается. Цензурные придирки, министерские марания, иски, жалобы, ландтаги, вой акционеров с утра до ночи.
– Ты не на шутку раздражен, Карл.
– Еще бы! Если я остаюсь на своем посту, то только чтоб по мере сил помешать реакции в осуществлении ее замыслов. Наш разгром – победа реакционеров. Трудно все-таки сражаться иголками вместо штыков. Еще менее возможно для меня оказывать ради чего бы то ни было холопские услуги. Надоели лицемерие, глупость, грубость, изворачивание и словесное крохоборство даже ради свободы.
– Ого, Карл опять готовит нечто губительное! Что это будет? Статья о бедственном положении крестьян-виноделов? Предчувствую, он снова готов переменить веру.
– Нет, все это не то. Но я напоролся головой на гвоздь. Кто разрешит боевой конфликт эпохи – право и государство? Прощайте, друзья, гранки ждут меня! Я утопаю! Из Берлина снова бочка воды – три статьи от Мейена. Что ей слово, то мыльный пузырь!
Кабинет редактора опустел. Мальчонка в клетчатых брючках приволок мешок с корреспонденцией.
Маркс потрепал сбившиеся тонкие льняные волосы и, покуда курьер разгружал свою ношу, из куска бумаги соорудил ему в подарок стрелу и кораблик.
Старик наборщик принес кипу свежих, пахнущих сосной гранок. Но недолго доктор Маркс смог заниматься чтением и правкой номера.
Без стука отворилась дверь. Вошел молодой человек, весьма тщательно одетый, с дорогой тростью и высокой модной шляпой в руке. Глаза его дружелюбно улыбались. Широким добрым жестом он протянул Карлу большую руку.
– Я давно ждал этой встречи. Моя фамилия – Энгельс. По пути в Англию заехал к вам.
Маркс, привстав, указал ему на стул. Энгельс… Он знал это имя.
– Я приехал в Берлин после вашего отъезда и наслышался там немало о неукротимом докторе Марксе. Вас чтят в нашем «Кружке свободы». Да и в ресторане Гиппеля память о «черном Карле» прочна и незыблема.
– В мое время еще не было «Кружка свободы», – сухо поправил Карл.
Глаза Энгельса посерели, и разгладилась переносица. Он насторожился.
– Мейен, – ответил он без прежнего радушия в голосе, – поручил мне выразить недоумение и даже недовольство поведением редакции газеты в отношении берлинских сотрудников.
– Вот как! – вспылил мгновенно Карл. – Узнаю Мейена! – Он насмешливо сощурил глаза.
– Я совершенно не согласен с вашей оценкой членов кружка! – гневно заявил Энгельс, взял свою трость и нетерпеливо помахал ею.
– Вы едете в Англию? – переменил тему разговора Маркс. – Мы бы очень хотели получить от вас подробные сообщения о происходящем в стране, о рабочих волнениях, о новых измышлениях парламентских кретинов. Преинтересный остров! Не правда ли? Значит, договорились?
Глаза Энгельса слегка подобрели.
– Охотно. Я ваш сотрудник. До свидания, доктор Маркс.
– Счастливого пути, господин Энгельс.
«Так вот он какой, неистовый трирец, надменный, злой. Нет, нам с ним не по пути…» – в крайнем, необъяснимом раздражении думал Фридрих, спускаясь по лестнице. Не зная, как поправить разом испортившееся настроение и погасить досаду, он согнул дорогую отцовскую трость с такой силой, что, хрустнув, она сломалась надвое.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Была поздняя осень 1820 года. Давно облетели листья могучих деревьев вдоль дорог в долине реки Вуппер. Унылыми и темными стали луга. В парках Бармена и Эльберфельда – двух городков, расположенных вблизи друг от друга, – ветер гнал ломкие, хрустящие листья. Приближалась зима. Узкие трубы над готическими крышами выбрасывали угольный перегар. Дули холодные ветры, но снег еще не выпал.
28 ноября в Бармене госпожа Элиза Франциска Энгельс, жена богатого фабриканта, родила сына.
Появление первенца особенно обрадовало отца – сурового, энергичного человека, деспотически управлявшего не только своими предприятиями, но и всей семьей. Он мечтал о наследнике, продолжателе фирмы «Энгельс». С тем большим жаром благодарил он бога, в которого фанатически верил.
Мальчика крестили и нарекли Фридрихом. Его прадед Иоганн Гаспар Энгельс был крестьянином. Во второй половине XVIII века он основал небольшую прядильную и кружевную мастерские, которые вскоре превратились в крупную мануфактуру. Отец Фридриха унаследовал уже большую фабрику, имевшую филиалы в Энгельскирхене и Манчестере. Он построил новую бумагопрядильню, женился на дочери профессора ван Хаара и поселился в Бармене. Когда Фридрих подрос, дед ван Хаар стал давать ему уроки, увлеченно толкуя апокалипсис и весьма поэтично рассказывая греческие героические мифы о Тезее, Геркулесе, аргонавтах и золотом руне.
Карл Маркс и Фридрих Энгельс были земляками и почти что сверстниками: разница в их летах составляла всего два года. Оба они родились и выросли в Рейнской провинции Пруссии, на юго-западе Германии, вблизи берегов могучего Рейна, третьей по величине реки в Европе после Волги и Дуная. Меньше чем двести километров отделяют Бармен от Трира. Хотя родина Энгельса с ее двадцатью тысячами жителей, садами при домах и лугами была тогда таким же маленьким местечком, как и Трир, тем не менее городам в долине реки Вуппер предстояло вскоре стать немецким Манчестером.
В семье Маркса поклонялись веку просветительства и дети воспитывались в духе свободомыслия; в родительском доме Энгельса господствовали религиозные предрассудки, почитание короля, отцовский деспотизм. Чтобы прийти к либеральным воззрениям в религии и политической жизни, Фридрих должен был выдержать в годы ученичества и в юношеском возрасте тяжелую и упорную борьбу с ханжеством и мистикой, с преклонением пред незыблемостью сомнительных авторитетов, устарелыми традициями, которые преобладали в среде барменских фабрикантов.
Если юстиции советник Генрих Маркс, отец Карла, и его сын гимназист придерживались единых политических взглядов, то для Фридриха политические сомнения и протест возникли сперва в собственной семье. С годами они переросли в серьезный разлад между отцом и сыном, в разномыслие, которому суждено было обостряться и кончиться только вместе со смертью Энгельса-старшего.
Фридрих родился в годы раннего капитализма, когда бережливость, строгий и скаредный образ жизни были единственным источником расширения оборотного капитала, и таким образом экономическая необходимость выступала в виде богомольной пуританской добродетели.
Отец Фридриха был не самым фанатичным человеком среди церковников и реакционеров. Отдавая должное коммерции, он не позволял тупой религиозности целиком опутать себя. Он не считал искусство смертным грехом, оскорбляющим бога, как это утверждали люди его сословия, увлекался музыкой, играл на виолончели, флейте и устраивал домашние концерты.
От детей своих Энгельс-старший тем не менее требовал беспрекословного повиновения себе и лютеранской церкви, заставлял зубрить молитвы, петь псалмы и учиться тому, что было необходимо для приумножения состояния.
Матери Фридриха было чуждо лицемерие, она обладала чувством юмора, умела радоваться жизни, любила стихи Гёте, книги которого благочестивые буржуа не допускали в свои дома. Однако он особенно любил мать, слабохарактерную, впечатлительную женщину, которая не могла никогда ни в чем противостоять воле деспотического мужа.
Семья Энгельса, в которой подрастало, кроме Фридриха, еще семеро детей, жила в просторном доме, окруженном большим садом. В «Письмах из Вупперталя» есть рассказ о Бармене того времени, когда Фридрих был еще школяром и когда городок этот сохранял черты большой деревни. Легкие очертания тесно громоздящихся гор над прозрачным Вуппером, с пестрой сменой лесов, лугов и садов, среди которых повсюду выглядывали красные крыши, делали местность привлекательной. За городом начиналась мощеная дорога, дома из серого шифера теснились друг к другу; однако здесь было гораздо больше разнообразия, чем в Эльберфельде: то свежие лужайки – белильни, то полоска реки, то ряд садов, примыкавших к улице, нарушали монотонность картины.
– Фридрих был здоровым, краснощеким, весьма сообразительным, любознательным и живым ребенком.
С детских лет Фридрих видел чудовищные противоречия в Вуппертале. Богатство и нищета, изнурительный труд и полное безделье поражали детский ум. Позднее он переименовал Вупперталь в «Мукерталь» («Ханжеская долина» или «Долина святош»). Пьянство и религиозное неистовство, библия и пиво – вот «пища для души» жителей Бармена.
Сначала Фридрих посещал реальное училище в родном городе, где преподаватели отличались тем же непреодолимым благочестием, что и в его родительском доме. И тем не менее здесь он получил основательные познания в физике, химии, французском языке. Четырнадцати лет Фридрих был отправлен в гимназию Эльберфельда, считавшуюся одной из лучших во всей Пруссии.
Юноша проявил необыкновенные способности к наукам. В выпускном свидетельстве особо отмечалось, что Фридрих Энгельс приобрел прочные знания в латинском, греческом и французском языках.
«…во время своего пребывания в старшем классе, – говорится в аттестате Фридриха, – отличался весьма хорошим поведением, а именно обращал на себя внимание своих учителей скромностью, искренностью и сердечностью и, при хороших способностях, обнаружил похвальное стремление получить как можно более обширное научное образование…» Не менее одарен был Фрддрих в искусстве слагать стихи, рисовать карикатуры, пейзажи. Физически закаленный и сильный, он отлично фехтовал, ездил верхом, плавал.
Большое влияние на молодого гимназиста имел доктор Клаузен – преподаватель литературы и истории. Он прививал своим ученикам вкус к поэзии, учил свободомыслию в науке, ему были чужды пиетизм и филистерство. Получившему хорошее образование, талантливому и пытливому юноше постепенно открывались и лицемерие буржуа, и беззащитность и нищета рабочих, и противоречия между божественными заповедями и делами богатых. Домочадцы семьи Энгельсов рассказывали, что однажды Фридрих, взяв в руки зажженный фонарь, ходил среди бела дня по двору и по всем комнатам, разыскивая Человека, подобно тому, как это сделал когда-то в древности греческий философ Диоген. Острый ум и самостоятельность мышления Фридриха пугали отца, и он с негодованием и тревогой наблюдал за сыном. Фридриху минуло 15 лет, когда глава семьи и фирмы «Энгельс и Эрмен» пожаловался на него жене, уехавшей к больному отцу:
«Фридрих принес на прошлой неделе неважные отметки. Внешне, как ты знаешь, он стал воспитаннее, но, несмотря на прежние строгие внушения, он даже из страха наказания совсем не научился безусловному повиновению. Так, сегодня я опять был огорчен, найдя в его письменном столе скверную книжку из библиотеки, рыцарскую повесть тринадцатого века. Удивительная беззаботность, с какой он держит в своем шкафу подобные книжки. Да хранит бог его сердце, но мне часто бывает страшно за этого в общем прекрасного малого… Д-р Ханчке (директор эльберфельдской гимназии) пишет мне, что ему предложили взять на дом двух пансионеров, но что он отклонит это, если мы согласимся оставить у него Фридриха дольше чем на осень; что Фридрих постоянно нуждается в присмотре, что длинная дорога может помещать его занятиям и т. д. Я ему сейчас же ответил, что я ему очень благодарен… и прошу его оставить у себя Фридриха дольше; денег мы ради блага ребенка не пожалеем, а Фридрих такой своенравный, живой мальчик, что замкнутый образ жизни, – который приучит его к самостоятельности, для него самое лучшее. Еще раз прошу бога, чтобы он взял мальчика под свое покровительство и чтобы сердце его не испортилось. До сих пор у него проявляется тревожащее отсутствие мыслей и характера при его других, в общем отрадных качествах».
Опасения за будущее сына, возникшие у Энгельса-отца еще раньше, чем у Генриха Маркса, отца Карла, были вполне обоснованными.
Если Карл Маркс, вырастая в прогрессивной буржуазной семье, естественно и сразу приобщился к политической жизни и либерально-демократическому движению, то Фридрих при доброте его сердца и мягкости характера, оставаясь верующим я отличаясь гуманностью натуры, был захвачен больше вопросами социального неравенства и лишь значительно позже стал заниматься политикой. Его еще неясные стремления к добру и свободе проявлялись и в стихах.
Фридриха волнуют легендарные я литературные образы борцов со злом: Вильгельма Телля, Зигфрида, Фауста, Дон-Кихота.
Шестнадцатилетний Энгельс писал:
Предо мной смутно встает вдалеке
Иная прекрасная картина,
Точно сквозь облака звезды
Светят нежно и кротко.
Они приближаются – я узнаю
Уже их образы,
Я вижу Телля, стрелка,
Зигфрида, сражающего дракона,
Ко мне приближается упрямый Фауст,
Выступает вперед Ахиллес,
Буйон, благородный витязь,
Со свитой своих рыцарей.
Приближается также, – не смейтесь, братья, –
Герой Дон-Кихот…
Сочувствие к страданиям рабочих – наиболее характерная черта юноши Энгельса. Он подрастал в годы, когда труженики не были защищены никакими законами, не имели еще своих профессиональных организаций, полностью зависели от произвола хозяев и нещадно угнетались. Работали от зари до зари не только взрослые, но и дети, начиная с шестилетнего возраста. Появление машин позволило владельцам фабрик вовлечь в сферу производства множество женщин. Машины вызвали снижение заработной платы, удлинение рабочего дня, жизнь трудящихся была каторжной. Пьянство среди мастеровых стало социальным бедствием. Сын фабриканта видел, какой ценой создаются богатства, он возненавидел угнетателей, утешавших своих добровольных рабов надеждами на райские радости в загробной жизни. Жестокость религии поразила Фридриха и в конце концов, несколько позже, привела его к атеизму.
Фридрих готовился после окончания гимназии посвятить себя изучению права, но в 1837 году отец заставил его покинуть школу всего за год до выпускных экзаменов. Энгельс-старший готовил себе помощника и хотел сделать из Фридриха опытного коммерсанта.
«Нижеподписавшийся расстается с любимым учеником, – писал директор эльберфельдской гимназии доктор И. К. Л. Ханчке в выпускном свидетельстве Фридриха, – который был особенно близок ему благодаря семейным отношениям и который старался отличаться в этом положении религиозностью, чистотою сердца, благонравием и другими привлекательными свойствами, при воспоследовавшем в конце учебного года… переходе к промышленной деятельности, которую ему пришлось избрать как профессию вместо прежде намеченных учебных занятий, с наилучшими благословениями…»
Фридрих вынужден был заняться коммерцией, ставшей его мукой на несколько десятилетий. Лишь к 1870 году, почти тридцать пять лет спустя, он смог освободиться от «проклятой коммерции».
После года работы в конторе отца Фридрих был отправлен для изучения всех тонкостей коммерческой жизни в Бремен, второй по величине после Гамбурга торговый порт в Германии.
В большом ганзейском городе, расположенном у устья Везера на Северном море, Фридрих жил по воле своего отца в доме Георга Тревирануса, главного пастора церкви святого Мартина, а коммерческую науку осваивал в конторе Генриха Лейпольда, саксонского консула и владельца крупного экспортного предприятия.
Фридрих был веселым, сильным юношей. Он увлекался верховой ездой, пересекал вплавь широкий Везер. Он высмеивал тех, кто «…подобно бешеной собаке, боится холодной воды, кутается в три-четыре одеяния при малейшем морозе…». По вечерам он занимался музыкой, сочинял хоралы и участвовал в певческом кружке. И всегда нещадно бранил филистеров, а в знак протеста против них отпустил усы.
Дождавшись воскресенья, Фридрих уже на рассвете седлает коня, с завидной легкостью и ловкостью прыгает в седло и скачет за город, навстречу ветру. На одной прогулке он несколько раз попадал под ливень, четыре раза вымок до нитки, но каждый раз одежда на нем быстро просыхала «от избытка внутреннего жара», как он шутил, подражая Мюнхгаузену, в письме к родителям.
В благочестивом пасторском доме живой, хорошо воспитанный, жизнерадостный Фридрих вскоре стал как бы членом семьи. Пасторша прибегала к его помощи, когда надо было заколоть свинью или переставить в доме мебель; весной во время разлива Везера он замуровывал окна подвалов. Пастор относился к Фридриху как к родному сыну. Осенью он иногда приглашал юношу в свой винный погребок, чтобы поделиться с ним опытом дегустации. Пасторша и ее дочь вышивали Фридриху кошельки и кисеты черно-красно-золотыми нитками – эти цвета символизировали единую Германию.
Бремен стал для Фридриха тем же, чем для Маркса Берлин. Юноша оказался в большом городе, стоявшем на перекрещении многих морских путей. Он очень много, хотя и беспорядочно, читал, размышлял, пытаясь разрешить трудные литературные, религиозные, политические вопросы. Не только иностранные газеты, но и запрещенные книги, которые контрабандой доставляли бременские книготорговцы, позволили Фридриху сделать первые шаги к самостоятельному научному мышлению. Его внимание привлекает литературная группа «Молодая Германия», издававшая в Гамбурге журнал «Германский телеграф». Во главе младогерманцев стоял известный немецкий писатель К. Гуцков.
Литераторов этого течения Фридрих одно время высоко ценил, считал, что они отражают «идею века». Вдохновителями «Молодой Германии» были вначале Гейне и Бёрне. Молодой начинающий писатель Энгельс разделял политические воззрения Бёрне, которые сводились к требованиям свободы, равенства, народной независимости, республики. В начале литературной деятельности Энгельсу казалось, что он нашел в младогерманском течении выразителей современных идей. Вот что писал Фридрих в апреле 1839 года Ф. Греберу об истории возникновения «Молодой Германии».
«И вдруг – раскаты грома июльской революции, самого прекрасного со времени освободительной войны проявления народной воли. Умирает Гёте, Тик все более дряхлеет… Гейне и Бернс были уже законченными характерами до июльской революции, но только теперь они приобретают значение, и на них опирается новое поколение, умеющее использовать литературу и жизнь всех народов; впереди всех Гуцков… Винбарг придумал для этой литературной пятерки… название: «Молодая Германия»… Благодаря этому содружеству цели «Молодой Германии» вырисовались отчетливее и «идеи времени» осознали себя в ней. Эти идеи века… не представляют чего-то демагогического или антихристианского, как их клеветнически изображали; они основываются на естественном праве каждого человека… Так, к этим идеям относится прежде всего участие народа в управлении государством, следовательно, конституция; далее, эмансипация евреев, уничтожение всякого религиозного принуждения, всякой родовой аристократии и т. д. Кто может иметь что-нибудь против этого?..
Кроме «Молодой Германии», у нас мало чего активного…
…Следовательно, я должен стать младогерманцем, или, скорее, я уж таков душой и телом. По ночам я не могу спать от всех этих идей века…»
Однако в этом же письме другу Энгельс, как бы предчувствуя недолговечность своего союза с младо- германцами, спешит добавить, что разделяет не все откровения младогерманцев, ибо многие их идеи уже устарели.
И действительно, представители молодой литературы, которых в общем-то было совсем немного (никто из них, кроме Гейне и Бёрне, не оставил заметного следа), к концу 30-х годов вовсе отошли от политики. Энгельс не нашел в них руководителей и вдохновителей боевой деятельности. «Молодая Германия» была лишь небольшим эпизодом в жизни Энгельса. Он вскоре разглядел в литераторах «Молодой Германии» их индивидуализм, их склонность к самовозвеличению, осудил вздорность их претензий, их убежденность в том, что гений имеет право на произвол, а особенно упрекал их за филистерскую умеренность и борьбу с «крайностями», за проповедь «золотой середины» – как будто может быть что-нибудь общее между монархией и республикой, между революцией и контрреволюцией.
Энгельс высоко ценил Бёрне за его «Парижские письма», за республиканские взгляды и призывы к активным выступлениям против монархии. Он считал Бёрне верховным жрецом прекрасной богини – свободы.
Оценивая писателей-современников, Энгельс говорил, что Бёрне отличает превосходный стиль, Гейне пишет ослепительно, Винбарг, Гуцков, Кюне – тепло, метко, живописно. Лаубе и Мундт подражают Гейне, Гёте, Бёрне. «Наиболее разумным» среди младогерманцев он считает Гуцкова. Но это был в основном просветитель, его выступления против монархии были подобны ударам ватного кулака в железную грудь. Его заслуга, однако, была в том, что он сумел привлечь в свой журнал многих молодых талантливых авторов. К нему-то и обратился Энгельс со своим первым разоблачительным произведением, предложил ему свой первый литературный опыт – «Письма из Вупперталя».
Гуцков не только напечатал публицистическую работу Энгельса (в трех номерах), но и предложил постоянно сотрудничать в журнале: он сразу почувствовал, что имеет дело с своеобразным, сильным талантом.
В «Письмах из Вупперталя» сын фабриканта обрисовал истинное положение хозяев и рабочих. Ярость прорывалась сквозь каждую строчку написанных им очерков. Фридрих Энгельс выступал как страстный революционный демократ. Он громил сословный строй и предсказывал, что гнев обездоленного народа обрушится на дворянское сословие и опирающуюся на это сословие монархию.
Вызов был брошен!
Статьи, скрытые от родных псевдонимом «Фридрих Освальд», пугали его друзей школьной поры – Фридриха и Вильгельма Герберов – сыновей пастора, от которых Энгельс никогда не скрывал своих воззрений.
«Письма из Вупперталя» – замечательный документ эпохи. Книга полна увлекательных подробностей из жизни и быта различных слоев, групп, целых классов промышленного центра Германии в период возникновения пролетариата. Для читателей того времени «Письма из Вупперталя» были подлинным откровением, литературной и научной сенсацией: впервые не просто критиковался заскорузлый мистицизм, но раскрывалась социальная сущность религии, в них открыто рассказывалось о том, как фабриканты пользуются верой для усиления эксплуатации рабочих.
«Работа в низких помещениях, где люди вдыхают больше угольного чада и пыли, чем кислорода, – рассказывал Энгельс, – и в большинстве случаев начиная уже с шестилетнего возраста, – прямо предназначена для того, чтобы лишить их всякой силы и жизнерадостности.
…Из пяти человек трое умирают от чахотки, и причина всему – пьянство. Все это, однако, не приняло бы таких ужасающих размеров, если бы не безобразное хозяйничанье владельцев фабрик и если бы мистицизм не был таким, каков он есть, и не угрожал распространиться еще больше. Среди низших классов господствует ужасная нищета, особенно среди фабричных рабочих в Вуппертале… Но у богатых фабрикантов эластичная совесть, и оттого, что зачахнет одним ребенком больше или меньше, душа пиетиста еще не попадет в ад, тем более если эта душа каждое воскресенье по два раза бывает в церкви».
В конце книги Фридрих не забыл сказать несколько слов в шутливом тоне и о себе:
«В заключение я должен упомянуть еще об одном остроумном молодом человеке, который рассудил, что раз Фрейлиграт может быть одновременно приказчиком и поэтом, то почему бы и ему не быть тем же. Вероятно, в скором времени немецкая литература обогатится несколькими его новеллами, которые не уступают лучшим из существующих; единственные недостатки, которые можно им поставить в укор, это избитость фабулы, непродуманность замысла и небрежность стиля».
«Письма из Вупперталя» вызвали переполох, «адскую суматоху» в Бармене и Эльберфельде. Журнал был расхватан мгновенно: все были возбуждены необычно резкой, разоблачительной критикой. Вкривь и вкось толковали об авторе, подозревали Фрейлиграта и других литераторов, но в конечном счете виновник столь дерзкого писания так и не был обнаружен.
Больше всего влекла юного Фридриха поэтическая стезя, он, как и молодой Маркс, много времени посвящал сочинению стихов, находя в этом отдохновение от тяготившей его филистерской обстановки. Энгельс читал свои стихи еще в литературном кружке в Эльберфельде. Он увлекался немецким фольклором, его произведения были посвящены героям немецкого эпоса. Он написал также повесть о мужественной борьбе греческих корсаров с турками за свободу своей страны.
Взгляды Энгельса на литературу сложились под влиянием всемирно известных немецких поэтов и писателей – Гёте, Шиллера, Лессинга, Клопштока, Уланда, Тика.
Полюбились ему немецкие народные книги: «Уленшпигель», «Поп с Каленберга», «Семеро швабов», «Простаки», «Соломон и Морельф». Их поэтичность, естественность, остроумие, добродушный юмор, комизм и язвительность поднимали эти произведения, по мнению Энгельса, порой выше современных сочинений. Он настолько увлекся народной поэзией, что, живя в Бремене, намеревался, отбросив все другие литературные начинания, засесть за книгу под названием «Сказочная новелла», главными героями которой мечтал сделать Фауста и Яна Гуса.
«В моей груди постоянное брожение и кипение, – писал он Вильгельму Греберу, – в моей порой нетрезвой голове непрерывное горение; я томлюсь в поисках великой мысли, которая очистит от мути то, что бродит в моей душе, и превратит жар в яркое пламя…» Далее Фридрих развертывает целую программу своей литературной работы: предстоит написать подлинную вторую часть «Фауста», где герой книги приносит себя в жертву ради блага человечества. «Вот «Фауст», вот «Вечный жид», вот «Дикий охотник» – три типа предчувствуемой свободы духа, которые легко можно связать друг с другом и соединить с Яном Гусом. Какой здесь для меня поэтический фон, на котором самовольно распоряжаются эти три демона!»
Неясные еще самому Энгельсу стремления к свободе толкнули его на поиски идеального героя в немецком прошлом.
Образцом несокрушимой энергии казался ему Зигфрид из «Песни о Нибелунгах». Стихи о неуязвимом Зигфриде, который с бурным ликованием покидает замок отца, торопясь навстречу своей судьбе, как нельзя лучше передают настроения самого Энгельса. Подобно горному потоку, Зигфрид сметает на своем пути все преграды.
…Когда поток стремится с гор,
Один, шумя, победоносный,
Пред ним со стоном гнутся сосны,
Он сам выходит на простор:
Так, уподобившись потоку,
Я сам пробью себе дорогу!
Энгельс написал статью для «Телеграфа» под названием «Родина Зигфрида», в которой, как и в «Письмах из Вупперталя», критически оценивал существующее положение в родной стране:
«…вечные колебания, филистерский страх перед новым делом глубоко ненавистны нашей душе. Мы хотим на волю, в широкий мир, мы хотим опрокинуть границы рассудительности и добиваться венца жизни, дела… нас сажают в тюрьмы, называемые школами… и если нам удается избавиться от дисциплины, то мы попадаем в руки богини нашего столетия, полиции. Полиция следит за мыслью, разговором, ходьбой, ездой верхом и в экипаже… Нам оставили только тень дела, рапиру вместо меча; а что – значит все искусство фехтования, когда держишь в руках рапиру, а не меч?»
Не очень усердствуя в должности торгового служащего, Фридрих в свободное время, как и в Эльберфельде, продолжал писать стихи, но постепенно терял веру в свою поэтическую звезду. Знакомство с письмами Гёте к молодым поэтам сыграло здесь не последнюю роль. Как и Марксу, Энгельсу не суждено было стать большим поэтом. Но Маркс значительно раньше, еще в студенческие годы, расстался с рифмами.
Жизнь Фридриха в Бремене несколько напоминала студенческие дни Маркса в Бонне. Но за этим внешним бурным времяпрепровождением обоих молодых людей таилась скрытая внутренняя борьба, нарастала потребность осознать собственное «я», выявить те силы, которые одни способны были направить их к свободному дальнейшему развитию. В бременской буржуазии Энгельс очень скоро распознал все тот же, что и в Вуппертале, дух елейного лицемерия, боголепия, крайне враждебного отношения к просвещению и науке.
«Недаром называют Бармен и Эльберфельд обскурантистскими и мистическими городами, – писал Энгельс 19 февраля 1839 года своему школьному другу Ф. Греберу, – у Бремена та же репутация, и он имеет большое сходство с ними; филистерство, соединенное с религиозным фанатизмом, к чему в Бремене еще присоединяется гнусная конституция, препятствует всякому подъему духа…»
Наиболее тяжело дались Фридриху разочарование в религии и разрыв с ней. Это был сложный мучительный процесс, так как «вуппертальская вера», внушенная родителями, школой, церковью, давила на юношу могучим прессом христианства. В посланиях к товарищам Энгельс сам писал, что «был воспитан в крайностях ортодоксии и пиетизма», что в церкви, в школе и дома ему всегда внушали самую слепую, безусловную веру в библию и «соответствие между учением библии и учением церкви».
Но еще в родном городе он начал питать вражду к догматизму, отвергал ханжество и лицемерие ортодоксальной веры. Как в потемках, брел он по философским дебрям в поисках выхода из тяжелых противоречий. И лишь писатели «Молодой Германии», печатавшиеся в «Телеграфе», а особенно Давид Штраус своей нашумевшей книгой – «Жизнь Иисуса», помогли Энгельсу более критически взглянуть на сомнительные «откровения» традиционной веры.
Штраус дал сильнейший толчок мысли многих философов. «Жизнь Иисуса» вызвала бурю негодования не только в самой Германии и не только среди церковников, но и за рубежом и в самых различных слоях «образованного мира». Книгой зачитывались, она стала предметом жарких схваток, теологических и литературных споров. Миф о Христе распадался, расплывался «в ничто, в туман», превращал все христианство в огромный колосс, воздвигнутый на песке.
Книга Штрауса глубоко потрясла молодого Энгельса и совершила переворот в его миропонимании. «Я надеюсь дожить до радикального поворота в религиозном сознании мира; если бы только мне самому все стало ясно! Но это непременно будет, если у меня только хватит времени развиваться спокойно, без тревог.
Человек родился свободным, он свободен!» – писал Фридрих в июне 1839 года.
Спокойно Энгельсу развиваться не довелось. За три года, 1839–1841-й, он проделал большой зигзагообразный путь к атеизму и революционному демократизму. Но уже в начале этой извилистой дороги Фридрих сказал вещие слова о том, что человек родится свободным, он свободен.
1839 год был особенно бурным в философском развитии 18-летнего Энгельса. В письмах одного и того же месяца он сообщает своим друзьям на родину сперва, что он супернатуралист, затем что он разделяет взгляды Шлеермахера о вере сердцем и душой, и, наконец, пишет, что примкнул к Штраусу.
«Ну, карапуз, слушай: я теперь восторженный штраусианец. Приходите-ка теперь, теперь у меня есть оружие, шлем и щит, теперь я чувствую себя уверенным; приходите-ка, и я буду вас колотить, несмотря на вашу теологию, так что вы не будете знать, куда удрать. Да, Гуиллермо… я – штраусианец, я, жалкий поэт, прячусь под крылья гениального Давида Фридриха Штрауса. Послушай-ка, что это за молодчина! Вот четыре евангелия с их хаотической пестротой; мистика распростирается перед ними в молитвенном благоговении, – и вот появляется Штраус, как молодой бог, извлекает хаос на солнечный свет, и – Adios, вера! – она оказывается дырявой, как губка…»
Философская система Гегеля явилась для Фридриха таким же вдохновляющим откровением, как и для Маркса. В «Ландшафтах», статье, помещенной в 1840 году в «Телеграфе», в которой Энгельс описывал свое путешествие в Вестфалию, Рейнскую область, Голландию и Англию, он сравнивал впечатление от первой встречи с разыгравшимся морем с чувством, овладевшим им, когда он поднялся на вершины мощной системы Гегеля.
В отличие от Маркса, литературный талант которого был подчинен философскому мышлению, Энгельс проявил неповторимое дарование как самобытный очеркист и публицист. Мысли, навеянные Гегелем, он сравнивает с бурей на море.
«Я знаю еще только одно впечатление, которое можно сравнить с этим, – говорит Фридрих, – когда мне впервые открылась великая идея последнего философа, самая исполинская мысль девятнадцатого столетия, то меня охватил такой блаженный трепет, как будто бы на меня повеяло свежим морским воздухом под чистейшим безоблачным небом; глубины умозрения распростерлись передо мною как неизмеримая пучина моря, от которой не может оторваться взор, стремящийся проникнуть до ее дна; мы живем, движемся и обретаемся в боге! Это доходит на море до нашего сознания; мы чувствуем, что все вокруг нас и мы сами проникнуты богом».
Энгельс нашел в Гегеле «титанические идеи», которые заставили молодого человека перейти от отвлеченного мышления к действию, от философии к политической борьбе.
«…Я должен впитать в себя весьма существенные элементы этой грандиозной системы. Гегелевская идея бога стала уже моей идеей… Кроме того, – писал Фридрих своим друзьям, – я штудирую «Философию истории» Гегеля – грандиозное произведение; каждый вечер я обязательно читаю ее, и ее титанические идеи страшно захватывают меня… Гегелю никто не повредил больше, чем его собственные ученики…»
Осознав, что нет иного пути для достижения победы над реакцией, кроме сражения с мечом, в руках, Энгельс со свойственной ему энергичностью решительно бросился в политическую борьбу.
Философию Гегеля Энгельс соединил с политическим радикализмом Бёрне. Литературные сочинения Фридриха полны смелых и решительных выводов: уже в начале 40-х годов он выступает против князей- аристократов и князей церкви.
«От государя, – писал он друзьям на родину, – я жду чего-либо хорошего только тогда, когда у него гудит в голове от пощечин, которые он получил от народа, и когда стекла в его дворце выбиты революцией».
В отличие от младогегельянцев Энгельс очень скоро отошел от идей либерализма, он хотел отныне бороться за достаток и равные права для всего народа, за демократию. Как и Маркс, он стремился не столько к критике существующих порядков, сколько к их изменению. Речь шла уже не только о познании окружающего мира, а о его полной перестройке. Энгельс не мог примириться с бесчеловечной эксплуатацией и угнетением и пришел к идее общечеловеческого счастья. Это соответствовало его сущности и душевным устремлениям, его гуманности и любви к простым труженикам. В стихах этого времени он говорит о свободе и равенстве, о справедливом распределении благ, мечтает об утренней заре свободы:
…Певцы стоят не у дворцовых башен, –
Дворцы в развалинах давно лежат;
С дубов, которым натиск бурь не страшен,
Они на солнце радостно глядят, –
Хотя бы света луч, давно желанный,
Их ослепил, рассеявши туманы;
И я один из вольных тех певцов,
Дуб – это Бёрне, бывший мне поддержкой,
Когда гонители, в тисках оков,
Германию пятой сдавили дерзкой.
Да, я один из этих смелых птах,
Плывущих в море вольного эфира;
Пусть воробьем я буду в их глазах, –
Я лучше буду воробьем для мира,
Чем заключенным в клетку соловьем,
Для развлеченья взятым в барский дом.
Тогда корабль сквозь волны повезет
Не грузы богачу для накопленья
И не товар – купцу в обогащенье,
А счастья и свободы сладкий плод.
Дни Фридриха, внешне мало отличавшиеся от жизни других молодых торговых служащих, были полны сложного внутреннего движения. В то же время он оставался всегда жизнерадостным и общительным.
Из письма к Ф. Греберу от 22 февраля 1841 года известно, что Фридрих в эти дни, отдавая дань времени, дрался с кем-то на дуэли и нанес своему противнику… «знатную насечку на лбу, ровнехонько сверху вниз, великолепную приму». Он усиленно занимался литературным трудом, писал статьи для «Телеграфа» и «Утренней газеты», сочинял революционные стихи и рассказы, переводил Шелли, вел переговоры с издателем о напечатании своего первого романа, не испытывая ни малейшего страха перед цензурой.
«Впрочем, – писал он Ф. Греберу, – я не смущаюсь мыслью о цензуре и пишу свободно; пусть потом она вычеркивает сколько душе угодно, сам я не хочу совершать детоубийство над собственными мыслями. Подобные вычеркивания со стороны цензуры всегда неприятны, но и почетны; автор, доживший до тридцати лет или написавший три книги, не придя в столкновение с цензурой, ничего не стоит; покрытые шрамами воины – наилучшие. По книге должно быть заметно, что она выдержала борьбу с цензором».
В Бремен заходили корабли из всех стран света, и это дало возможность Фридриху присмотреться к людям разных национальностей, читать английские, голландские, французские и многие другие газеты. Он охотно брался за изучение все новых и новых языков, и они давались ему легко. Это стало его страстью на всю жизнь. В более поздние годы Фридриху довелось изучить и русский язык, и он не остался равнодушным к нему.
«Как красив русский язык! – писал он В.И. Засулич. – Все преимущества немецкого без его ужасной грубости».
Фридрих всякий раз не просто изучает новую для него грамматику, он любуется внутренней силой, выразительностью незнакомого ему доселе языка.
Из Бремена Фридрих в шутку писал «многоязычные» письма своей сестре Марии и друзьям, чередуя разные языки, древние и современные: древнегреческий, латынь, английский, итальянский, испанский, португальский, французский, голландский. Он уверял сестру, что выучился даже турецкому и японскому, а всего «понимает 25 языков».
В одном из писем Вильгельму Греберу, составленном на восьми языках, Энгельс, вдохновившись музыкальным звучанием людской речи, в подражание Гомеру переходит на гекзаметр, чтобы в стихах раскрыть все свое восхищение перед способностью человека мыслить и говорить.
«…Так как я пишу многоязычное письмо, то теперь я перейду на английский язык, – или нет, на мой прекрасный итальянский, нежный и приятный, как зефир, со словами, подобными цветам прекраснейшего сада, и испанский, подобный ветру в деревьях, и португальский, подобный шуму моря у берега, украшенного цветами и лужайками, и французский, подобный быстрому журчанию милого ручейка, и голландский, подобный дыму табачной трубки, такой уютный; но наш дорогой немецкий – это все вместе взятое:
Волнам морским подобен язык полнозвучный Гомера,
Мечет скалу за скалой Эсхил с вершины в долину,
Рима язык – речь могучего Цезаря перед войсками;
Смело хватает он камни – слова, из которых возводит,
Пласт над пластом громоздя, ряды циклопических зданий.
Младший язык италийцев, отмеченный прелестью нежной,
В самый роскошный из южных садов переносит поэта,
Где Петрарка цветы собирал, где блуждал Арносто.
А испанский язык! Ты слышишь, как ветер могучий
Гордо царит в густолиственной дуба вершине, откуда
Чудные старые песни шумят нам навстречу, а грозди
Лоз, обвивающих ствол, качаются в сени зеленой.
Тихий прибой к берегам цветущим – язык португальский.
Слышны в нем стоны наяд, уносимые легким зефиром.
Франков язык, словно звонкий ручей, бежит торопливо,
Неугомонной волною камень шлифуя упрямый.
Англии старый язык – это памятник витязей мощный,
Ветрами всеми обвеянный, дикой травою обросший;
Буря, вопя и свистя, повалить его тщетно стремится.
Но немецкий язык звучит, как прибой громогласный
На коралловый брег острова с климатом чудным.
Там раздается кипение волн неуемных Гомера,
Там пробуждают эхо гигантские скалы Эсхила,
Там ты громады найдешь циклопических зданий и там же
Средь благовонных садов цветы благороднейших видов.
Там гармонично шумят вершины тенистых деревьев,
Тихо там стонет наяда, потоком шлифуются камни,
И подымаются к небу постройки витязей древних.
Это – немецкий язык, вечный и славой повитый.
Но ни поэзия, ни искусство не мешали его зоркому глазу видеть «плебс, который ничего не имеет, но который представляет собой лучшее из того, что может иметь король в своем государстве».
Два с половиной года прожил Энгельс в Бремене. Ему предстояло теперь уехать отсюда навсегда, и он охотно покидал этот город, «скучное гнездо», где «сливки общества» предавались лишь чревоугодию и плотским радостям.
Молодой поэт посвящал много времени музыке, с особым увлечением играл он Бетховена. Но главную радость наряду с искусством и спортом ему доставляли философские размышления, непрерывные поиски и находки. Фридриху сопутствовали необычная бодрость духа и вера в светлое будущее человечества.
В провинции развился, окреп, пришел к пониманию мира и себя самого молодой ученый и философ. Ему было в то время 20 лет.
Воинственный и задорный, звал он на бой своих противников теологов. Уверенный в победе, он уговаривал их собраться с силами, сесть на коня и сразиться в честном поединке. «Разве вы не замечаете, – писал он Ф. Греберу, – что по лесам проносится вихрь, опрокидывая все засохшие деревья, что вместо старого, сданного в архив дьявола, восстал дьявол критически-спекулятивный…»
Оставив в Бремене вместе со скучными торговыми складами и хозяйскими конторами также и примитивную веру и присягнув на время гегелевской идее божества, Энгельс призывал молодых людей смело идти на штурм философских наук. В статье о немецком писателе Иммермане, написанной еще перед отъездом из Бремена и помещенной весной 1841 года в «Телеграфе», Энгельс говорил:
«Ведь пробным камнем для молодежи служит новая философия; требуется упорным трудом овладеть ею, не теряя в то же время молодого энтузиазма. Кто страшится лесных дебрей, в которых расположен дворец идеи, кто не пробивается через них при помощи меча и не будит поцелуем спящей царевны, тот недостоин ее и ее царства; пусть идет, куда хочет, пусть станет сельским пастором, купцом, асессором или чем ему угодно, пусть женится, наплодит детей с благословения господня, но век не признает его своим сыном… не надо бояться работы мысли, ибо подлинен лишь тот энтузиазм, который, подобно орлу, не страшится мрачных облаков… и разреженного воздуха вершин абстракции, когда дело идет о том, чтобы лететь навстречу солнцу истины. А в этом смысле и современная молодежь прошла школу Гегеля; и не одно зерно освободившейся от сухой шелухи системы пышно взошло затем в юношеской груди. Но это и дает величайшую веру в современность, в то, что судьба ее зависит не от страшащегося борьбы благоразумия, не от вошедшего в привычку филистерства старости, а от благородного, неукротимого огня молодости. Будем же поэтому бороться за свободу, пока мы молоды и полны пламенной силы…»
Осенью 1841 года Фридриху предстояло отправиться в армию, на службу в королевских войсках. Не по душе поэту и философу была прусская муштра, и шел он отбывать воинскую повинность без особого рвения. Мог ли Энгельс предполагать тогда, что военная наука впоследствии станет для него одной из самих любимых, что его стратегический талант будет признан военным» специалистами Англии и Америки, что все друзья и соратники после франко-прусской войны будут звать его не Фридрихом Энгельсом, а Генералом? Но в 1841 году, в письме сестре Марии, он без энтузиазма извещал ее, что поедет в Берлин выполнить там свой гражданский долг, «то есть по возможности освободиться от военной службы». В качестве вольноопределяющегося-одногодичника Энгельс имел право самостоятельного выбора гарнизона. Фридрих избрал Берлин не ради гвардейского артиллерийского полка, в котором ему предстояло отбывать воинскую повинность, его тянуло в столицу Пруссии потому, что это был центр младогегельянства и крупный университетский город.
Покидая в конце марта Бремен, Энгельс не знал еще, что двадцать первый год его жизни надолго оставит след в молодом сердце: он полюбил, был недолго счастлив, но затем вынужден был навсегда расстаться со своей возлюбленной. Тоска, едва не доведшая Фридриха до самоубийства, погнала его по свету, он отправился в Швейцарию и Северную Италию.
Взбираясь на горы, любуясь раскинувшимися внизу озерами и долинами, он ни на минуту не забывал своей, любимой, которая оставила его. Вот он всходит на вершину горы Ютлиберг над Цюрихским озером, любуется синим небом и майским солнцем. На юге, у горизонта, он видит сверкающую цепь глетчеров, от Юнгфрау до Сентима и Юлии; поистине не было конца великолепию, открывшемуся с горы влюбленному путешественнику.
На вершине Ютлиберга стоял деревянный дом, небольшая таверна, и Фридрих вошел туда и попросил пить. Перед ним поставили вино и холодную воду и вручили книгу, в которой гости оставляли свои записи.
«Всем известно, чем заполнены подобные книги, – рассказывал Фридрих, – каждый филистер считает их орудиями своего увековечения и пользуется случаем, чтобы передать потомству свое никому не ведомое имя и ту или другую из своих безнадежно-тривиальных мыслей; чем он ограниченнее, тем более длинными замечаниями сопровождает он свое имя… И вдруг мне на глаза попался сонет Петрарки на итальянском языке, который в переводе звучит приблизительно так:
Я поднят был мечтой к жилищу милой.
Та, что ищу я на земле напрасно,
Мне ласковой и ангельски прекрасной
Предстала в сфере третьего светила.
Дав руку мне, она проговорила:
«Нас здесь разъединить судьба не властна;
Я – та, что мучила тебя всечасно
И до заката день свой завершила.
Ах, людям не понять, как я блаженна!
Тебя лишь жду и мой покров, тобою
Любимый и оставшийся в юдоли».
Зачем она умолкла так мгновенно?
Еще бы звук, – и, прелестью святою
Пронзен, я б с неба не вернулся боле.
Вписал его в книгу некий Иоахим Трибони из Генуи; я сразу почувствовал в нем друга, ибо на фоне остальных, пустых и бессмысленных записей сонет этот выделялся особенно ярко, подействовал на меня особенно сильно. Кто ничего не чувствует перед лицом природы, когда она развертывает перед нами все свое великолепие, когда дремлющая в ней идея, если не просыпается, то как будто погружена в золотые грезы, и кто способен лишь на такое восклицание: «Как ты прекрасна, природа!» – тот не вправе считать себя выше серой и плоской толпы. У более глубоких натур при этом всплывают наружу личные недуги и страдания, но лишь с тем, чтобы раствориться в окружающем великолепии и обрести благостное разрешение. Это чувство примирения не могло найти себе лучшего выражения, чем в приведенном сонете. Но еще одно обстоятельство сблизило меня с этим генуэзцем; уже кто-то до меня принес на эту вершину свою любовную муку, и я стоял здесь не один с сердцем, которое месяц тому назад было так бесконечно счастливо, а ныне чувствовало себя разорванным и опустошенным. И то сказать, какая мука имеет большее право излиться перед лицом прекрасной природы, чем самая благородная, самая возвышенная и самая индивидуальная из мук – мука любви?»
Во второй половине сентября Энгельс прибыл в Берлин в артиллерийскую бригаду. В свободное от службы время он усердно посещал Берлинский университет в качестве вольнослушателя. Жил он на частной квартире на Доротеенштрассе, расположенной неподалеку и от казарм гвардейского пехотно- артиллерийского полка и от его учебного заведения.
Энгельс особенно увлекался философией, в Берлине он слушал лекции Шеллинга, Вердера, Мархейнеке, Геннинга, Михелета и других профессоров. Энгельс сблизился с кружком младогегельянцев.
Как в свое время для Маркса, так и для Энгельса центром духовной и политической деятельности стал «Докторский клуб». Фридрих установил близкие отношения с левыми гегельянцами – братьями Эдгаром и Бруно Бауэрами, Ф. Кеппеном, Булем, Рутенбергом, Э. Мейеном. На обложке «Атенеума», журнала, который издавался клубом во второй половине 1841 года, появился рядом с именами других членов редколлегии псевдоним Энгельса – Ф. Освальд. В декабре он поместил в «Атенеуме» главу из своих путевых записок под названием: «Скитания по Ломбардии. I. Через Альпы».
Образная речь, красочные пейзажи, революционные мысли этих очерков привлекли внимание к молодому автору.
Прошло немногим более полугода, как из Берлина уехал Карл Маркс. Фридрих постоянно слышал об этом человеке восторженные отзывы. Хотя Марксу было только 23 года, его необычайный ум, многогранность, духовная сила прославили его среди берлинских младогегельянцев. О нем говорили, как о «голове, полной идей», а молодой адвокат Г. Юнг писал из Кёльна, что Маркс «отчаянный революционер» и «одна из умнейших голов, которые я знаю».
Какое сильное впечатление производил Маркс на своих соратников уже в самом начале своего философского и революционного пути, можно судить также по отзывам одного из видных младогегельянцев, Гесса, который, будучи на несколько лет старше Маркса, успел к началу 40-х годов опубликовать уже немало теоретических трудов. После знакомства с Марксом он написал своему другу Ауэрбаху восторженное письмо:
«Ты будешь рад познакомиться здесь с человеком, который теперь также принадлежит к нашим друзьям, хотя и живет в Бонне, где скоро начнет преподавать… Это такое явление, которое произвело на меня, хотя я и подвизаюсь с ним на одном поприще, очень внушительное впечатление; короче говоря, ты должен приготовиться к тому, чтобы встретиться с величайшим, может быть, единственным из живущих теперь настоящим философом, который вскоре, как только начнет публично выступать (в печати или на кафедре), привлечет к себе взоры Германии. Он превосходит как по своим идеям, так и по своему философскому духовному развитию не только Штрауса, но и Фейербаха, – а последнее очень много значит… Д-р Маркс – так зовут моего кумира – еще совсем молодой человек (ему самое большее двадцать четыре года), который нанесет последний удар средневековой религии и политике; он сочетает с глубочайшей философской серьезностью самое едкое остроумие; вообрази себе соединенными в одном лице Руссо, Вольтера, Гольбаха, Лессинга, Гейне и Гегеля – я сказал, именно соединенными, а не сваленными вместе, – и ты получишь д-ра Маркса».
В то же время Энгельс слышал, что Карл был человеком поразительной физической силы и жизнерадостности. Эдгар Бауэр, неуемный кутила и потешник, ставший самым близким другом Фридриха в Берлине, рассказывал ему о веселых поездках Бруно Бауэра и Карла по окрестностям Бонна. Он показал Энгельсу письмо брата, полученное весной. Фридрих и Эдгар немало посмеялись, перечитывая его.
«Сюда снова прибыл Маркс. На днях отправился с ним на прогулку, чтобы еще раз насладиться хорошими видами. Поездка оказалась превосходной. Нам было, как всегда, очень весело. В Годесберге мы наняли пару ослов и прогалопировали на них как бешеные вокруг горы и через деревню. Боннское общество смотрело на нас с большим удивлением, чем когда-либо. Мы ликовали, ослы орали».
Под воздействием всех этих рассказов о необычайном трирце Энгельс, сочиняя свою нашумевшую среди берлинских младогегельянцев героико-комическую поэму «Торжество веры», в третьей песне воспел Маркса как могучую стихийную силу:
Кто мчится вслед за ним, как ураган степной?
То Трира черный сын с неистовой душой
Он не идет, – бежит, нет, катится лавиной,
Отвагой дерзостной сверкает взор орлиный,
А руки он простер взволнованно вперед,
Как бы желая вниз обрушить неба свод.
Сжимая кулаки, силач неутомимый
Все время мечется, как бесом одержимый!
Себя Энгельс изображает мастером «игры» на гильотине, говорит о себе, что он «всех левей», – следовательно, считает себя сторонником революционных действий. Он призывает граждан к оружию.
А тот, что всех левей, чьи брюки цвета перца
И в чьей груди насквозь проперченное сердце,
Тот длинноногий кто? То Освальд -монтаньяр!
Всегда он и везде непримирим и яр.
Он виртуоз в одном: в игре на гильотине,
И лишь к единственной привержен каватине,
К той именно, где есть всего один рефрен:
Forroez vos bataillons! Aux armes, citoyens![1]
Энгельс славился жизнелюбием, задором, неустрашимостью. Ему нравились шумные пирушки члеиов «Докторского клуба», на которых он радовался больше всех, потешая друзей забавными стихами собственного сочинения. Больше всего на этих встречах по- прежнему доставалось церковникам и филистерам.
Самым выдающимся событием университетской жизни 1841/42 учебного года были лекции профессора Шеллинга, видного немецкого философа, крупнейшего представителя натурфилософии. Он был приглашен ректором прусского университета в Берлин, чтобы развенчать гегелевскую философию.
В начале 40-х годов прусское правительство начало поход против младогегельянцев – сеятелей свободомыслия, делавших радикальные выводы из гегелевской философии. Прибытию в Берлин Ф. В. Шеллинга министерство просвещения придавало большое значение. Теоретик реакционного романтизма, он к концу своей жизни стал сторонником феодальной монархии, сословных привилегий и евангелической веры.
Младогегельянцы встретили Шеллинга в штыки, они считали, что должны во что бы то ни стало победить в схватке с представителем мракобесия, который служит «нуждам прусского короля».
«Если вы сейчас здесь, в Берлине, спросите кого- нибудь, кто имеет хоть малейшее представление о власти духа над миром, – писал Энгельс, – где находится арена, на которой ведется борьба за господство над общественным мнением Германии в политике и религии, следовательно, за господство над самой Германией, то вам ответят, что эта арена находится в университете, именно в аудитории № 6, где Шеллинг читает свои лекции по философии откровения».
На лекции Шеллинга приходили не только видные ученые, но и политические деятели, иностранные послы, офицеры. В перерывах слышался смешанный гул немецкой, французской, английской, венгерской, польской, русской, новогреческой и турецкой речи. Кто бы мог предполагать тогда, что среди присутствующих, заполнивших до отказа самую большую аудиторию университета, находятся будущие яростные политические противники. Австрийский посол в Берлине Меттерних, несколькими годами позже став главой правительства Австрии, начнет жестоко преследовать Маркса и Энгельса; анархист Бакунин в 60–70-е годы пойдет войной на Интернационал и станет злейшим врагом основоположников научного коммунизма.
Недавнего бременского конторщика волновали предстоящие философские схватки. Он верил, что дальнейшее развитие всей духовной жизни Германии на ближайшие годы, а то и десятилетия зависит от исхода сражения с Шеллингом.
Хотя Энгельс был еще недостаточно подготовлен, чтобы сразиться с всемирно известным ученым, однако профессор, ставший реакционером и противником Гегеля, уже в силу этого был уязвим в любом философском споре. Энгельс, рьяный сторонник диалектики Гегеля, призывал к открытой политической борьбе с существующими порядками и потому обрел преимущества, которые позволили ему нанести жестокий удар Шеллингу. Отважный воитель Энгельс был прав, когда писал, что меч воодушевления так же хорош, как и меч гения.
В борьбе против Шеллинга, которая выдвинула Энгельса в первые ряды младогегельянцев, молодой студент закалил свое оружие, выступив впервые как философ и теоретик со своими собственными политическими и социальными взглядами. Он говорил о необходимости взаимопроникновения мысли и дела, Гегеля и Бёрне.
Энгельс воевал с Шеллингом беспощадно. В декабре 1841 года он напечатал в «Германском телеграфе» статью «Шеллинг о Гегеле»; весной 1842 года была опубликована его анонимная брошюра «Шеллинг и откровение», а следом за ней «Шеллинг – философ во Христе». Энгельс в этих работах выступил в защиту Гегеля и подверг уничтожающей критике реакционные, идеалистические взгляды Шеллинга.
Берлин конца 30-х – начала 40-х годов стал колыбелью различных философских систем и учений. Они оказали заметное влияние на формирование взглядов Маркса и Энгельса. Особенно поразили их открытия Людвига Фейербаха. Его книга «Сущность христианства», вышедшая в 1841 году, была тщательно проштудирована обоими молодыми учеными, причем каждый из них в отдельности тотчас же принялся защищать Фейрбаха в печати от нападок королевско-прусских философов.
В «Сущности христианства» Фейербах неопровержимо показал, как религия перемещает отношения между богом и человеком. Он первым среди философов своего времени стал материалистом. Фейербах поставил сознание в зависимость от бытия, он доказал, что бог есть порождение человека, что человек создал бога по своему образу и подобию.
Маркс, не без сарказма, отмечал, что не представители церкви, не теологи, не профессора-идеалисты, а антихристианин Фейербах добрался до самых корней происхождения христианства. Фейербах по-немецки означает «огненный ручей», и Маркс, пользуясь игрой слов, говорил, что нет для философов другого пути к истине и свободе, как только через огненный поток.
«Стыдитесь, христиане, – благородные и простые, ученые и неученые, – стыдитесь, что антихристианину пришлось показать вам сущность христианства в ее подлинном, неприкрытом виде, – писал Маркс о книге Фейербаха «Сущность христианства». – А вам, спекулятивные теологи и философы, я советую: освободитесь от понятий и предрассудков прежней спекулятивной философии, если желаете дойти до вещей, какими они существуют в действительности, т.е. до истины. И нет для вас иного пути к истине и свободе, как только через огненный поток. Фейербах – это чистилище нашего времени».
В книге «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» Энгельс много времени спустя рассказал о том значительном влиянии, которое оказал первый немецкий материалист на младогегельянцев, и именно тогда, когда идеализм Гегеля стал тормозом дальнейшего развития философии:
«Тогда появилось сочинение Фейербаха «Сущность христианства». Одним ударом рассеяло оно это противоречие, снова и без обиняков провозгласив торжество материализма. Природа существует независимо от какой бы то ни было философии. Она есть та основа, на которой выросли мы, люди, сами продукты природы. Вне природы и человека нет ничего, и высшие существа, созданные нашей религиозной фантазией, это – лишь фантастические отражения нашей собственной сущности. Заклятие было снято; «система» была взорвана и отброшена в сторону… Надо было пережить освободительное действие этой книги, чтобы составить себе представление об этом. Воодушевление было всеобщим: все мы стали сразу фейербахианцами».
Фейербах доказывал, что считавшие себя немощными перед силами природы люди создали в своем сознании идею о высшей силе, способной творить все на земле. Человек – однодневка; бог же бесконечен, непосягаем, невидим. «Место рождения бога, – писал Фейербах, – исключительно в человеческих страданиях». Но человек своими мыслями о боге отражает свою собственную сущность, «вращается вокруг самого себя». Религия есть раздвоение, конфликт с самим собой. Человек, создав бога, отдает себя в его руки, ожидая от него благ и милости. Сознание бога есть самосознание человека. Сущность человека, по мысли Фейербаха, сводится к его способности мыслить и любить.
Фейербах видел поворотный момент истории в том, что абсолютным божеством становится сам человек. Все мысли, чувства, представления, желания должны быть посвящены конкретному, видимому божеству – человеческому существу, ибо человек есть «начало, середина и конец религии».
Расковывающее, глубоко прочувствованное полное освобождение от всех и всяческих религий, принесенное философией Фейербаха, вдохновило Энгельса. Отныне все сомнения отброшены – Энгельс окончательно становится атеистом. Гегелевский «абсолютный дух», стыдливо, как фиговый листок, прикрывавший культ бога, разрушен. Энгельс посвящает себя навсегда идее служения не богу, а человечеству. В брошюре «Шеллинг и откровение» он отдал дань восхищения перед открытиями Фейербаха:
«Занимается новая заря, всемирная историческая заря, подобная той, когда из сумерек Востока пробилось светлое, свободное эллинское сознание… Мы проснулись от долгого сна, кошмар, который давил нашу грудь, рассеялся… Все изменилось. Мир, который был нам до сих пор так чужд, природа, скрытые силы которой пугали нас, как привидения, – как родственны, как близки стали они нам теперь!.. Небо спустилось на землю, сокровища его рассеяны, как камни на дороге, и нам стоит только нагнуться, чтобы их поднять…
И самое любимое дитя природы, человек… превозмог также свое собственное раздвоение, раскол в своей собственной груди. После томительно долгой борьбы и стремлений над ним взошел светлый день самосознания… Только теперь познал он истинную жизнь… Долгое время ухаживания для него не прошло даром, ибо гордая, прекрасная невеста, которую он сейчас ведет к себе в дом, для него только стала тем более дорогой. Сокровище, святыня, которою он нашел после долгих поисков, стоила многих блужданий. И этим венцом, этой невестой, этой святыней является самосознание человечества – тот новый граль, вокруг трона которого, ликуя, собираются народы и который всех преданных ему делает королями, бросает к их ногам и заставляет служить их славе все великолепие и всю силу, все величие и все могущество, всю красоту и полноту этого мира. Мы призваны стать рыцарями этого граля, опоясать для него наши чресла мечом и радостно отдать нашу жизнь в последней священной войне, за которой должно последовать тысячелетнее царство свободы».
Брошюра Энгельса «Шеллинг и откровение» имела большой успех. Многие говорили, что автор «оставил позади всех старых ослов в Берлине».
В то время как Маркс пробивался сквозь чащу философских систем навстречу новым открытиям, когда он, встав на почву реальной жизни, выступил против рейнских помещиков в защиту беднейших крестьян, младогегельянцы в Берлине все больше отрывались от земли, все выше забирались в заоблачные сферы абстракции. В конце 1841 года они организовали союз атеистов, так называемый кружок «Свободных», члены которого верили в историческую миссию прусского государства и стремились дальнейшей критикой способствовать его развитию.
Мыслители Германии, ее творческая интеллигенция, изолированные от политического и практического дела, оторванные от широких масс народа, предавались умозрительным рассуждениям, жили в сфере абстрактных систем. Младогегельянцы, вооружившись могучим оружием своего учителя, полагали, что теоретические рассуждения приносят больше пользы, чем практическая деятельность. Идея, слово имеют большую силу, чем целый народ. Они утверждали, что в Германии теория – это и есть практика. Важно лишь, чтобы теория была хороша, а затем наступит время, когда идеи, как солдаты, сами ринутся в бой. Практика должна поэтому руководствоваться исключительно выводами теории, и тогда Пруссия станет образцовым государством Европы.
Энгельс вначале, когда он только прибыл в Берлин, в основном, пусть с некоторыми поправками и отклонениями, разделял эти взгляды «Свободных». Но мысль Энгельса никогда не останавливалась, не каменела, как это случилось вскоре с идеями Бауэров, Штирнера, Мейена. Хорошо знающий все стороны жизни страны и народа и отлично владеющий диалектикой, Фридрих очень скоро разочаровался в духовно опустошенных писателях «Молодой Германии», высмеял открыто их пресловутую либеральную «теорию золотой середины». Он призывал младогегельянцев к открытому разрыву со старым строем, зло высмеивал тех, кто стремился к конституционной монархии, которую Маркс в 1842 году назвал «двуполым существом, внутренне противоречивым и самоуничтожающимся».
Республиканец и демократ Энгельс не мог принять также и новые теории индивидуализма, которые проповедовал» Мозес Гесс, Макс Штирнер и Михаил Бакунин.
Мозес Гесс утверждал, что главное в политической борьбе – это отрицание. «Надо разрушать – писал он, – чтобы привести все вещи в движение».
Мозес Гесс был оторванным от борьбы трудящихся интеллигентом, и его идеология отразила стремления изолированного ученого-одиночки. Разрушение и отрицание выдвигались Гессом как основное средство против социального зла.
Как раз в это время среди, младогегельянцев в Берлине появился русский политический изгнанник, обедневший дворянин из Тверской губернии, бывший прапорщик, двадцатисемилетний Михаил Бакунин.
В 1840 году Бакунин приехал в Берлин, зимой 1841/42 года вместе с Энгельсом слушал лекции Шеллинга в университете. В 1842 году он перекочевал в Дрезден, где сблизился с Руге и Гервегом и написал большую статью для «Немецкого ежегодника». Бакунин высказал в ней взгляды, сходные с выводами Э. Бауэра, М. Гесса, М. Штирнера:
«Позитивное отрицается негативным и, наоборот, негативное – позитивным; что же общего между ними, что их объединяет? – писал несколько замысловато Бакунин. – Негативное – это разрушение основ, страстное истребление позитивного… И только в таком беспощадном отрицании находит свое оправдание негативное, и как таковое оно абсолютно оправдано, потому что представляет собой проявление противоположного себе, незримо присутствующего практического духа…»
В духе апокалипсиса Бакунин вещал: «О, воздух тяжел, чреват бурями. И поэтому мы обращаемся к нашим заблудшим братьям. Кайтесь! Кайтесь! Царство господне близко!»
Хотя статья Бакунина в основном повторила философские воззрения Мозеса Гесса, она имела большой успех. Бакунин поместил ее под французским псевдонимом «Жюль Элизар», и вначале все полагали, что автор – французский философ.
Бакунин и Гесс провозглашали, как новые мессии, утопический коммунизм. Они отождествляли коммунизм с всеразрушительством, ничем не ограниченную личную эгоистическую свободу дикаря с социальной свободой человека в избавленном от эксплуатации обществе.
Карл Маркс и Фридрих Энгельс готовы были отдать свою жизнь для блага наибольшего числа людей на земле. Мозес Гесс, Макс Штирнер, Михаил Бакунин уходили от забот и тревог трудового люда, превыше всего они ставили свои собственные интересы, собственное «я». Цель жизни они видели во всеобщем разрушении, полагая, что созиданием должны заниматься потомки.
Пока берлинские младогегельянцы все дальше и дальше отдалялись от реальных запросов жизни, Маркс в Кёльне вел тяжелые бои с королевско-прусскими порядками, с цензурой, выступал в защиту крестьян в их борьбе с помещиками, изучал действительность не как абстракцию, а как живую реальность.
Философия и философы слишком много времени посвящали ничего не дающим людям размышлениям, вместо того чтобы принимать непосредственное участие в политической борьбе. Маркс призывал философов покинуть поднебесье и проникнуться пониманием живой действительности. Философские системы не родятся вне времени, они создаются по требованию эпохи и управляют развитием общества.
«Но философы, – писал Маркс, – не вырастают, как грибы из земли, они – продукт своего времени, своего народа, самые тонкие, драгоценные и невидимые соки которого концентрируются в философских идеях. Тот же самый дух, который строит железные дороги руками рабочих, строит философские системы в мозгу философов…
Так как всякая истинная философия есть духовная квинтэссенция своего времени, то с необходимостью наступает такое время, когда философия не только внутренне, по своему содержанию, но и внешне, по своему проявлению, вступает в соприкосновение и во взаимодействие с действительным миром своего времени. Философия перестает тогда быть определенной системой по отношению к другим определенным системам, она становится философией вообще по отношению к миру, становится философией современного мира».
Энгельс постепенно отошел от «Свободных». Только личная дружба с Эдгаром Бауэром оставалась связующей ниточкой, которая, однако, сразу оборвалась, как только Энгельс некоторое время спустя очутился в Манчестере среди английских рабочих.
В середине 1842 года Энгельс выступил в «Немецком ежегоднике» со статьей, направленной против абстрактной критики, он призывал к политической борьбе.
Печатные работы Освальда (Энгельса) привлекали все большее внимание и вызывали множество догадок об авторе. Некоторые утверждали, что это псевдоним самого Гуцкова. С тем большим удивлением была встречена статья Ф. Освальда, в которой он осуждал представителей «Молодой Германии» за их недостаточно четкие взгляды, путаницу в философских понятиях, слабость идейных позиций в литературных произведениях.
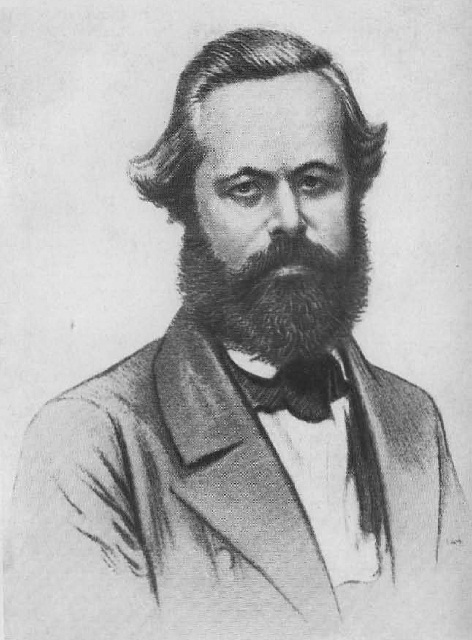
Портрет Карла Маркса 40-х годов

Женни фон Вестфален, жена К. Маркса
Пытливый аналитический ум Энгельса находился в постоянном поиске истины, отметал все устаревшее, отжившее, промежуточное, половинчатое. Огромным злом для развития Германии были литераторы и философы, отстаивавшие так называемую «золотую середину», то есть пытавшиеся примирить веру и безверие, революцию и контрреволюцию, философию реакционную и прогрессивную. Типичным представителем такого рода «мыслителей» был литератор младогерманского течения, редактор «Кенигсбергской литературной газеты» Александр Юнг. Против него и направил Энгельс свое окрепшее после жестоких схваток с Шеллингом копье. Он напечатал в 1842 году в «Немецком ежегоднике» статью, в которой, критикуя книгу Юнга о современной немецкой литературе, высказал все, что передумал за последний год, все, что накипело в его сердце против разочаровавших его своей мелкотравчатостью литераторов «Молодой Германии». Энгельс писал о А. Юнге:
«Теперь он выступает с упомянутой выше книгой и выливает на нас целый ушат неопределенных, некритических утверждений, путаных суждений, пустых фраз и до смешного ограниченных взглядов. Можно подумать, что со времени своих «Писем» он спал. Ничему не научился, ничего не позабыл. Отошла в прошлое «Молодая Германия», пришла младогегельянская школа, Штраус, Фейербах, Бауэр; к «Jahrbucher» привлечено всеобщее внимание, борьба принципов в полном разгаре, борьба идет не на жизнь, а на смерть, христианство поставлено на карту, политическое движение заполняет собой все, а добрый Юнг все еще пребывает в наивной вере, что у «нации» нет иного дела, кроме напряженного ожидания новой пьесы Гуцкова, обещанного романа Мундта, очередных причуд Лаубе. В то время как по всей Германии раздается боевой клич, в то время как новые принципы обсуждаются под самым его ухом, г-н Юнг сидит в своей каморке, грызет перо и размышляет о понятии «современного». Он ничего не слышит, ничего не видит, ибо по уши погружен в груды книг, содержанием которых сейчас уже не интересуется больше ни один человек, и силится очень точно и аккуратно подвести отдельные вещи под гегелевские категории».
Для Энгельса литераторы «Молодой Германии» были лишь временными попутчиками, с которыми он теперь порывал. Во всякой идейной борьбе, говорил Энгельс, во всяком движении всегда существует некая категория путаных голов, которые чувствуют себя отлично, пока вода мутна. Но когда самые принципы уже выкристаллизовались, когда элементы обособились, тогда настает время распрощаться с этими никчемными людьми и окончательно с ними разделаться, ибо тогда ужасающим образом обнаруживается их пустота.
Энгельс распознал в этих либералах от литературы обыкновенных врагов революции, и этим объясняется столь суровая оценка деятелей «Молодой Германии» и сторонников «золотой середины».
Не стихийное течение событий, а революционное действие – вот что важно для развития истории – таков вывод Энгельса.
В статье об А. Юнге Энгельс делает первый шаг к материалистическому миропониманию. В ответ на нападки Юнга на «Сущность христианства» Фейербаха, в которых редактор кенигсбергской литературной газеты пытался доказать, что Фейербах придерживается примитивных земных позиций, не учитывая, что земля – лишь незначительная часть безграничной вселенной, Энгельс не без злого сарказма писал:
«Вот так теория! Как будто на луне дважды два – пять, будто на Венере камни бегают как. живые, а на солнце растения могут говорить? Как будто за пределами земной атмосферы начинается особый, новый разум, и ум измеряется расстоянием от солнца! Как будто самосознание, к которому приходит в лице человечества земля, не становится мировым сознанием в то самое мгновение, когда оно познает свое положение как момент этого мирового сознания!»
По мнению Энгельса, перешедшего к этому времени окончательно на революционно-демократические позиции, топор уже занесен над корнем дерева королевеко-прусской монархии.
В статье «Фридрих-Вильгельм IV, король прусский», написанной осенью 1842 года, Энгельс говорит о неизбежности и необходимости революционного свержения самодержавия в Германии. Он доказывает, что лишь переворот, осуществленный народом, может покончить с «христианским государством». Не критика и преобразование старого государства, к чему стремились младогегельянцы, а народная революция и создание нового государства – таков вывод, к которому пришли Энгельс и Маркс почти одновременно, независимо друг от друга. Этим они значительно ушли вперед от других младогегельянцев, которые навсегда застыли на идее реформ прусского королевства путем его критики.
Энгельс закончил военную службу и вернулся в отчий дом в Бармен. К концу срока пребывания в Берлине он порвал с группой «Свободных», от которых тщетно требовал, чтобы они, по примеру Бернс, перешли к политической борьбе. Это должно было бы сблизить его с Марксом. Однако их первая встреча, когда Энгельс, направляясь в Манчестер, посетил Маркса в редакции «Рейнской газеты», была холодной, и ничто не предвещало той небывалой в истории человеческих отношений дружбы, которая позднее спаяла навсегда этих двух людей.
Многие десятилетия спустя, вспоминая свою первую встречу с Марксом, Энгельс писал: «Когда я по дороге в Англию опять явился около конца ноября в редакцию «Рейнской газеты», то застал там Маркса. При этом случае произошла наша первая, очень холодная встреча. Маркс выступил в это время против того, чтобы «Рейнская газета» стала проводником главным образом богословской пропаганды, атеизма и т.д.».
Сходство и различие в духовной сущности Маркса и Энгельса ясно обнаружилось уже в их молодые годы. Оба были людьми прямого практического действия, презирали фразерство, позу. Стремление не только к познанию, но к изменению мира вызывало у них отвращение ко всему мистическому, расплывчатому, утопическому и реакционному. Они обобщали разрозненные факты, они требовали революционного вмешательства в жизнь
Энгельс воспринимал и усваивал все быстро, писал споро, легко отыскивал наиболее существенное в предмете. В отличие от Маркса, он рано столкнулся с противоречиями в своей семье и познал истинные условия существования человека. Различие между богатством родного дома и нищетой, лицемерие религии навсегда остались в его сердце прямым укором действительности. Одновременно он дополнял знакомство с обществом теоретическими познаниями.
Маркс был волевым человеком, любил преодолевать препятствия, побеждать трудности. Он был прирожденным исследователем и добивался проникновения в глубины явлений. Маркс работал медленно, основательно. Расчленяя предмет исследования, идя от частного к общему, он добивался ясности и делал выводы, ведшие его к открытию новых вершин для обозрения окружающего.
Энгельс видел идеал в воинственном Зигфриде, прокладывающем себе путь силой и мечом. Маркс нашел свой символ в Прометее, не пощадившем себя ради любви к людям.
Стиль Энгельса был легким, свободным, прозрачным. Мысли рождались как бы сами собой и легко ложились на бумагу.
Маркс, особенно в молодости, пользовался длинными, усложненными фразами, несколько трудными для чтения и понимания, но свидетельствовавшими о богатстве мысли, которая настойчиво пробивала себе дорогу к ясной и точной формулировке.
Верность идее борьбы за свободу народа была одной из самых характерных черт Маркса и Энгельса. Вся их жизнь была посвящена этому, и они никогда ничего не жалели для победы трудящихся. Двадцатидвухлетний Фридрих Энгельс, шагавший, как и Маркс, от одной философской системы к другой, чтобы, освободившись от всех идеалистических заблуждений, выйти, наконец, на широкую дорогу материализма, сформулировал в дни борьбы с реакционными взглядами Шеллинга свой девиз – все ради торжества идеи свободы – и оставался верен этому девизу до конца своих дней.
«И эта вера во всемогущество идеи, в победу вечной истины, – писал он в работе «Шеллинг и откровение», – эта твердая уверенность, что она никогда не поколеблется, никогда не сойдет со своей дороги, хотя бы весь мир обратился против нее, – вот истинная религия каждого подлинного философа, вот основа подлинной позитивной философии, философии всемирной истории… Пусть не будет для нас любви, выгоды, богатства, которые мы с радостью не принесли бы в жертву идее, – она воздаст нам сторицей! Будем бороться и проливать свою кровь, будем бестрепетно смотреть врагу в его гневные глаза и сражаться до последнего издыхания! Разве вы не видите, как знамена наши развеваются на вершинах гор? Как сверкают мечи наших товарищей, как колышутся перья на их шлемах? Со всех сторон надвигается их рать, они спешат к нам из долин, они спускаются с гор с песнями при звуках рогов. День великого решения, день битвы народов приближается, и победа будет за нами!»
Хотя характеры молодых революционеров Карла и Фридриха были во многом совершенно разные, обоим была присуща одна и та же весьма важная черта: они никогда не боялись порывать с теми людьми, чьи идеи становились им чужды. Движение вперед, новые и новые исследования, смелые и решительные выводы – такова дорога будущих друзей, и в то время, как младогегельянцы считали, что они уже достигли высот в науке, указав на абстрактную критику как единственно действенный рычаг для преобразования мира, Маркс, руководил «Рейнской газетой», а Энгельс, знавший близко жизнь в силу своих семейных связей и профессии, очень скоро поняли, что пассивная критика сама по себе беспомощна. Усевшись в удобное кресло абстракции, берлинские «Свободные» возносили собственное «я», но они становились трусливыми и нерешительными, как только надо было действовать.
Фридрих Энгельс прибыл в Англию в конце 1842 года. Отец посчитал за лучшее отправить сына подальше из начинавшей приходить в движение предреволюционной Германии.
Фридрих не впервые переплывал Ла-Манш. Когда таможенный чиновник, бегло осмотрев саквояжи, пропустил его на набережную, он почувствовал себя почти прирожденным англичанином.
Энгельс знал английский язык в совершенстве. Взобравшись в фиакр, он обратился к рыжему вознице с приветствием шотландских горцев, и тот, не колеблясь, признал земляка.
В ожидании почтового дилижанса Энгельс просмотрел кипу английских газет. Он заключил, что, по мнению самих англичан, мало изменений произошло у них за те два года, которые для него были так бурны и богаты событиями.
Он был обескуражен. С немецких берегов Англия казалась младогегельянцам охваченной социальной лихорадкой, рвущейся навстречу революции. Патетический Гесс в берлинских ресторанах, где собирались «Свободные», столько раз вдохновенно пророчествовал, обещая, что социальный переворот начнется на Британских островах и лишь потом перебросится на континент.
– Воды пролива не погасят пламени» Осанна! Приди! – кричал Гесс, простирая руки.
Оказалось, однако, что не только парламентские дебаты, биржевые отчеты, чартистские протесты и петиции, не только проповеди модных архиепископов и стихи королевских лауреатов, не только колебания акций и настроений палаты лордов, во и жизнь в ее повседневности осталась неизменной, несмотря на ушедшие сроки.
Удивительная страна? Привычка подменила в ней страсть. Странный мир упорных, невозмутимых и в то же время столь могущественных улиток.
Энгельс заметил, что в моде были все те же неприятно полосатые, сборчатые в талии брюки, просторные рединготы и черные цилиндры. Франты носили тросточки и белили щеки. Головки дам выглядывали из-под больших, без меры украшенных лентами шляп-корзин.
Барменский купец был достаточно красив и статен, чтобы тотчас же привлечь внимание девиц на выданье. Молодого человека легко можно было принять не за скромного бомбардира, каким он был недавно, а по крайней мере за гвардейского офицера, слегка неуклюжего в непривычном штатском платье.
Он был хорошо одет, но без щегольства, без многообразных тончайших измышлений местных денди. Шейный платок, на взгляд франта, был слишком уж добросовестно обмотан вокруг шеи, воротник и манжеты были слишком туги, и покрой сюртука чрезмерно широк в спине и талии. К тому же молодой человек недопустимо часто улыбался и был не только не бледен, но даже вызывающе румян. Лицо его было юношески пухлым, нос насмешливо вздернут, и только глаза уже отражали опыт и зрелость мысли.
В почтовой карете он легко заводил знакомства, умело пробивая вежливую замкнутость англичан. Девицы улыбались ему, и он отвечал им не без удовольствия.
Пожилые люди незаметно для себя переходили с этим юношей на тон равных и, насколько это допускалось их правилами, оживлялись в беседе. Они говорили, расправляя толстые пледы на коленях и пыхтя сигарами, о том, что положение Англии тяжелое, что кризис – божья кара, как град, выбил нивы промышленности.
– Но, – кончали они убежденно, – никогда материальные интересы не порождали революций. Дух, а не материя толкает к безумствам, и – хвала небу! – в этом смысле нация здорова.
В Лондоне Энгельс остановился в знакомом отеле. Его встретили приветливо и безо всякого изумления, точно не более нескольких часов тому назад он вышел на очередную прогулку. Хозяин в тех же выражениях, что и в 1840 году, осведомился о погоде и самочувствии постояльца. И тот же слуга без двух передних зубов подал ему острый томатный суп и рыбу, пахнущую болотом. Пудинг был черств и пресен, и подливка отдавала перцем.
Поутру у порога отеля та же нетрезвая и ободранная старуха клянчила свое очередное пенни. И она узнала Фридриха и не удивилась ему. На бирже худой швейцар, преисполненный сознания своей великой миссии, взял у Энгельса пальто и шепнул ему с тем же заговорщицким видом о катастрофе с новыми железнодорожными акциями.
– Сэр интересуется ими, – добавил он уверенно.
И Фридрих вспомнил, что два года тому назад он действительно следил за их взлетом и падением.
Вечером в клубе фабрикантов он нашел всех и всё на обычных местах. Приглашенный скрипач играл ту же слащавую «Песню отъезжающего моряка» и сфальшивил именно там, где всегда.
Один из знакомых зазвал молодого купца к себе. Справлялась серебряная свадьба. И снова неизменность быта, как режущий монотонный скрип, задела Энгельса. – Веселье регламентировалось, вымерялось, как порции куриной печенки и пирожного за ужином.
Коммерческий дух господствовал и здесь. В зале танцев шла отчаянная азартная купля и продажа. Для «девиц на выданье» символом счастья стало обручальное кольцо. Их тетки, матери и уже пристроенные замужние или обрученные сестры оценивали, как опытные маклеры, всех присутствующих мужчин. Чиновники, купцы, военные, зазванные на эту биржу брака, котировались, то поднимаясь, то снижаясь в цене, как торговые и промышленные бумаги.
Любивший покружиться в вальсе с хорошенькой девушкой Фридрих внезапно понял, что рискует оказаться в плену. Наивные ухищрения девиц, их неловкие атаки, их плоская болтовня и утомительная жеманность внезапно вызвали у него мутную, как тошнота, скуку. Он бежал с бала.
Энгельс хорошо знал быт этих буржуа, быт лживый, подленький, мелкий. Как презирал он этих людей, ханжески-религиозных и в то же время безжалостных, когда кто-либо посягнет на их благополучие, оторвет их от великого дела всей их жизни – наживы!
Энгельс по воле отца поселился в Манчестере и работал там простым конторщиком на бумагопрядильной фабрике «Эрмен и Энгельс».
Меньше всего времени Фридрих проводил в канцелярии. Он изучал жизнь рабочего класса, посещая грязные кварталы, где жили труженики и безработные, и собственными глазами видел их нужду и нищету. Он изучал акты и другие документы фабричных инспекторов, которыми до него мало кто интересовался.
Мужчины работали на фабриках, заводах, шахтах по 16, а нередко по 18 часов в сутки, не считая перерывов на обед. На текстильных фабриках женщин и детей заставляли работать по 19 часов в сутки. На некоторых предприятиях было установлено, что два раза в неделю дети, кроме обычных дневных часов, работают еще, после часового сна, всю ночь напролет. Несмотря на столь каторжный труд, люди жили впроголодь, ютились в трущобах, ходили в лохмотьях.
Еще сильнее возненавидел Энгельс фабрикантов, буржуа. Глубоким сочувствием к рабочему классу проникнуты его корреспонденции в «Рейнскую газету», с негодованием разоблачает он дикую жестокость хозяев, в первую очередь по отношению к малолетним рабочим, которых безжалостно эксплуатировали ради высоких прибылей. Смертность среди детей трудящихся превышала 50 процентов. Энгельс писал о положении рабочих детей в Англии:
«…Какую богатую коллекцию болезней создала эта отвратительная алчность буржуазии! Женщины, неспособные рожать, дети-калеки, слабосильные мужчины, изуродованные члены, целые поколения, обреченные на гибель, изнуренные и хилые, – все это только для того, чтобы набивать карманы буржуазии! Когда же читаешь об отдельных случаях этой варварской жестокости, о том, как надсмотрщики вытаскивают раздетых детей из постели и побоями загоняют их на фабрику с одеждой в руках… как они кулаками разгоняют детский сон, как дети тем не менее засыпают за работой, как несчастный ребенок, заснувший уже после остановки машины, при окрике надсмотрщика вскакивает и с закрытыми глазами проделывает обычные приемы своей работы; когда читаешь о том, как дети, слишком утомленные, чтобы уйти домой, забираются в сушильни и укладываются спать под шерстью, откуда их удается прогнать только ударами плетки; как сотни детей каждый вечер приходят домой настолько усталыми, что от сонливости и плохого аппетита уже не могут ужинать и родители находят их спящими на коленях у постелей, где они заснули во время молитвы, когда читаешь обо всем этом и о сотне других гнусностей и мерзостей, и читаешь об этом в отчете, все показания которого даны под присягой и подтверждены многими свидетелями, пользующимися довернем самой комиссии, когда подумаешь, что сам этот отчет – «либеральный», что это буржуазный отчет… когда вспомнишь, что сами члены комиссии на стороне буржуазии и записывали все показания против собственной воли, то нельзя не возмущаться, нельзя не возненавидеть этот класс, который кичится своей гуманностью и самоотверженностью, между тем как его единственное стремление – любой ценой набить свой кошелек…»
Фридрих Энгельс заступается за рабочий класс Англии, он обвиняет буржуазное общество в сознательном массовом убийстве производителей всех благ и богатств.
Находясь в Англии, Энгельс пришел к целому ряду важных открытий. Быстрое духовное развитие молодого ученого поражало его друзей и знакомых.
«Энгельс представлял собой настоящее чудо, если сравнить зрелость и мужественность его мышления и стиля с его возрастом», – писал в эти годы Иоганну Якоби берлинский врач Юлиус Вальдек.
До Энгельса все экономисты не находили достаточно сильных слое, чтобы восславить буржуазию, создавшую самую крупную в мире индустрию, работающую на силе пара, проложившую первые 10 тысяч километров железных дорог, построившую огромный паровой флот.
Энгельс высказал совершенно новую точку зрения на великий промышленный переворот, показавшуюся дикостью тогдашним буржуазным экономистам и писателям: самое важное детище промышленного переворота – английский пролетариат.
Он увидел, что этот только что родившийся в цепях нищий ребенок, отдающий все свое время и силы труду, очень скоро вырастет в богатыря и именно ему суждено совершить социальную революцию.
Поезда между Манчестером и Ливерпулем ходили дважды в день. Энгельс подъехал к низкому деревянному навесу вокзала задолго до отхода поезда.
Локомотив! Фридрих встретил его, как давнишнего знакомого, хотя и увидал впервые. Фридрих, увлекающийся техникой, давно изучил его строение.
Раздался звонок. Перебросив через руку плед, Фридрих бросился, как и все откуда-то взявшиеся пассажиры, к вагонам.
Кочегар неторопливо налил в котел несколько ведер воды и полез в машинное отделение. Какие-то служители в толстых кафтанах вышли из сарая, называемого буфетом, и громко прокричали, что поезд «Манчестер – Ливерпуль» отправляется.
Наконец поезд тронулся, тяжело вздыхая и сопя. Дым стлался над вагонами без крыш, оседая на капорах и шляпах пассажиров. Стук колес и локомотива заглушал голоса. Привыкнув с детства к лихой езде верхом, Энгельс не был поражен бегом поезда. Он задавал себе вопрос о том значении, которое приобретает для человечества и истории изобретение Стефенсона. Фридрих видел перед собой карту земли и прокладывал мысленно одну за другой железные дороги.
Рельсы ложились на пустыни, соединяли Азию с Европой, обвивали цепочкой оба американских материка. Фридрих с проницательностью коммерсанта и точностью ученого угадывал изменения, которые произойдут на планете под влиянием этих черных линий.
Поезд начисто менял понятие о времени и расстояниях.
Недавний артиллерист предвидел, как в случае войны тряские и покуда неуклюжие железнодорожные вагоны будут грузить солдатами. Энгельс гадал о том, какова была бы судьба Наполеона, если б полководцу служили поезда.
В таких размышлениях быстро пробежали часы. Поезд подъехал к Ливерпулю.
Город этот показался молодому человеку таким же страшным, безжалостным, как Манчестер, как и
Лондон. На набережной женщины с просящими глазами, голодными глазами волчиц преследовали его, предлагая единственное, что им еще принадлежало, – тело.
Маленькая девочка дернула Фридриха за руку и, когда он бросился от нее прочь, закричала:
– Дайте же мне хоть пенни на хлеб, если не хотите пойти со мной в доки!
Энгельс остановился и дал ей монету. Но не только женщины попрошайничали в порту. Мужчины-нищие молча протягивали руку.
В доках Энгельс спотыкался о пьяные тела. У дверей дымного кабака плакал ребенок.
Фридрих вспомнил детство. Разве, возвращаясь из школы в большой пасмурный родительский дом, где проходил он по таким же проклятым закоулкам? Их было много и в Бармене.
Пробираясь по фабричному району в центр города, Энгельс заглядывал в окна домов, затянутые тряпками, пропитанными маслом, наклоняясь, проходил в тесные подворотни, и тоска – преддверие возмущения, предшественница действия – одолевала его.
В каждой конуре жило до десяти человек.
Социалистическая литература, с которой он отчасти познакомился на родине в последние годы, подготовила его ко многому, и, однако, действительность превосходила все, что могло нарисовать самое мрачное воображение.
Он шел к центру города. Из кабаре доносились истерически нарастающий мотив канкана, топот танцующих ног и визг.
Ему казалось, что он впервые по-настоящему, во всю величину увидел этот иной мир и его обитателей. Их было много, этих людей; и здесь, в Англии, самой индустриальной стране земли, они были еще более несчастны, чем где-либо, чем в Бармене, Бремене – в городах, о которых Фридрих думал, как об отсталых окраинах передовой Европы.
Что же это означает? Прогресс, несущий счастье и богатство людям, подобным семье Энгельсов, лишней цепью обвивает тело пролетария? Какое же социальное проклятие тяготеет над этим людом, познавшим ад при жизни?
Эта страна, законам и процветанию которой завидуют, вся пропитана жестоким равнодушием, бесчувственностью, говорил он себе.
Человечество распалось на монады. Везде – и может быть, в нас, во мне – варварское безразличие, эгоистическая жестокость. Везде социальная война… везде взаимный грабеж под защитой закона, думал Фридрих.
Энгельсу захотелось быть совсем одному в чужом городе, в чужом доме, и он решил ночевать в Ливерпуле. Он был слишком окружен мыслями, чтоб не искать одиночества. Так поэт или ученый, обремененный созревшей думой или открытием, упрямо ищет уединения и покоя, чтоб освободить себя от ноши. В такие минуты хорошо быть в чужом месте, чтобы ни одна привычная вещь не мешала думать, чтоб ни одно вторжение не разрывало густого напряжения.
Фридрих опустил суконную портьеру. Окна противоположного дома рассеивали его думы.
Бывают в жизни людей тяжелые минуты, когда человек как бы отходит в сторону от своей жизни и всматривается в свое прошлое, наклоняется, как над колыбелью новорожденного, над своим настоящим. Гнетущие минуты, отмечающие, однако, движение.
Фридрих будто опять подошел к знакомой зарубке на двери отцовского дома (каждые полгода отец измерял рост детей) и увидел, что она ему едва лишь доходит до плеча. Он заметно вырос.
Вошедший слуга принес ему заказанный ужин, раскрыл постель и переложил поближе к лампе черную библию. Пожелав доброй ночи, он тихо удалился. Фридрих курил. Лицо его было так же спокойно и приветливо, как всегда. Не переставая перебирать месяц за месяцем свое прошлое, он неторопливо принялся за ужин. Никогда еще аппетит не изменял ему.
Энгельс хладнокровно восстанавливал в памяти последние два года. Нет, они не пропали зря. Больше всего он боялся пустых часов. Не замечая времени, поглощаемого книгой, университетской лекцией, работой над статьей, он болезненно, как перебои сердца, ощущал каждое неиспользованное, канувшее в неизвестность мгновение. Но он не мог упрекнуть себя в самообкрадывании, в мотовстве, прожигании времени.
Вспоминая прошлогодние битвы, Фридрих старательно перебирал прожитое. Он снова рылся в дорогом, мертвом уже хламе, в старых письмах, пахнущих мышами и завядшими травами, находил драгоценные, совсем нетронутые реликвии, рисунки, мундир в чернильных пятнах и блестящую ненужную шпагу.
На рассвете Энгельс лег, наконец, в постель. Машинально взял приготовленную заботливым хозяином отеля библию. Нашел «Песнь песней» и прочел нараспев, как читал поэмы.
Он обрадовался этой книге, как старой школьной тетради. В детстве Фридрих открывал ее робко, с молитвой. Потом ее угрожающий переплет и непонятный язык раздражали мальчика, как постоянные проповеди, которые читали ему в доме все – от отца до старого лакея. Он мстил библии, выискивая в псалмах нелепости и высмеивая пророков. Неряшливые, юродивые пророки казались ему в лучшем случае чудаками и досадными глупцами. Он долго воевал с библией, вызывая на поединок самого бога. Это было тяжелое время, противоречивое и болезненное. В борьбе с собой, с семьей, с привычкой он, наконец, сорвал с себя путы религии и выбросил, как старый школьный ранец, книгу, которую так чтил в детстве. Прошло время. Читая Бауэра, Гесса, Штрауса, Фейербаха, он снова проделал тот же путь, идя дорогами своих былых мыслей, снова сразился с христианской догмой.
Страх и негодование остались позади. Разорвались ассоциации. Библия лежала перед ним старой детской игрушкой. Как поэт он отдавал должное эпическому таланту безвестных художников, ее сотворивших. Что ж, «Песнь песней» столь же поэтична, как и песня о Нибелунгах; псалмы были грубоваты и мелодичны, как старые саги.
Перелистывая священное писание, Фридрих вспомнил им написанную шуточную библию: «Чудесное избавление от дерзкого покушения, или торжество веры». Эти веселые рифмы казались ему всегда удачными. Но как далеко отошла в прошлое пора младогегельянских дуэлей и дурачества!
Фридрих достал свою поэму из дорожного несессера, расправил. Тоненькая книжечка без имени автора на обложке.
Как долго, скрытно, упорно он мечтал стать поэтом!
«Может быть, это было неизбежностью для юношей Моего поколения, как корь и дуэлянтское бахвальство…»
«Услышь, господь, услышь! Внемли моленью верных,
Не дай погибнуть им в страданиях безмерных:
Терпенью твоему когда конец придет,
Когда ты казнь пошлешь на богохульный род?
Доколе процветать ты дашь в земной юдоли
Безбожным наглецам? Скажи, господь, доколе
Философ будет мнить, что «я» его есть «я»,
А не от твоего зависит бытия?
Все громче и наглей неверующих речи…
Приблизь же день суда над скверной человечьей».
Господь на то в ответ: «Не пробил час для труб,
Еще не так смердит от разложенья труп.
К тому ж и воинство мое – от вас не скрою –
Не подготовлено к решительному бою.
Богоискателями полон град Берлин,
Но гордый ум для них верховный господин;
Меня хотят постичь при помощи понятий,
Чтоб выйти я не мог из их стальных объятий.
И Бруно Бауэр сам – в душе мне верный раб –
Все размышляет: плоть послушна, дух же слаб…»
Утром Энгельс вернулся в Манчестер. В этом городе он вскоре встретил ирландскую работницу Мари Бернс и подружился с ней. Молодые люди полюбили друг друга. Мэри стала женой Энгельса. Это был свободный союз, не скрепленный церковью и законом. Подруга Фридриха первая поведала ему много о нищете ирландского народа, его бесправии и упорной губительной борьбе за свое освобождение от ига британцев. Она стала проводником Энгельса по рабочим кварталам Манчестера, а также по «Малой Ирландии» – одному из пригородов, где ютились ее соплеменники – труженики и безработные.
Мэри оплакивала свою многострадальную отчизну, она была горячим приверженцем неистового борца за свободу Ирландии О'Коннеля.
После брака Фридрих решительно изменил образ жизни. Пренебрегая мнением приятелей отца, он отвергал приглашения на обеды, ужины, танцы.
В свободные от дел в конторе часы Фридрих уходил в рабочие дома, на собрания чартистов, в харчевни, что у шлагбаума, отмечающего городские границы. По ночам он зачитывался Годвином и декламировал Шелли, которого полюбил страстно.
Ему удалось добыть парламентские синие книги, в них наряду с дипломатическими и политическими документами публиковались также отчеты фабричных инспекторов.
Он чувствовал себя Колумбом, ступившим на чужую землю и увидевшим людей с другим цветом кожи, о существовании которых он и не подозревал.
Но с каждым новым фактом тайна теряла свое обаяние, обнажалась.
Цифры, острые, как молния, открывали Фридриху загадку происхождения и путь этого иного народа, настойчиво требовавшего к себе внимания всего мира, народа, заселяющего всю планету, называемого – Пролетариат.
История рабочего класса, которую он изучал, была мрачна. Фридрих видел, как нищали крестьяне, как нужда заставляла их продавать свой труд и как потом рабство ковало из них новых людей – пролетариев. Разве не опередили они – в невзгодах и в борьбе – всех своих собратьев на земном шаре? Книга о них могла стать путеводной нитью. Но об этом ее значении Фридрих пока решил не думать. Размышлять для него означало рыть – рыть до тех пор, пока не найдет клад – ответ.
Нередко Фридрих хладнокровно и деловито думал о том недоверии, которое так часто проскальзывало в отношении рабочих к нему.
«Они чувствуют во мне чужака. Между нами легла вывеска торговой фирмы «Эрмен и Энгельс».
Нет оснований покуда доверять мне, сыну фабриканта, еще недавно поэту, философу, парящему над землей в густой мгле всяких абстракций.
В пролетарии живет здоровый инстинкт настороженности и недоверия к слову.
Увы, заслуги и шрамы от ран философских боев, мозоли на языке от споров в кружке «Свободных» не имеют цены в глазах Джонов Смитов. И они правы. Они идут к революции как к единственной цели жизни. Для них свобода и труд – воздух и хлеб; для многих же мне подобных – нередко спасение от сплина, моцион ума и тела, слюнявая филантропия. Зрелище нищеты за окном портит нам аппетит. Мы задергиваем шторы или откупаемся грошами. Отсюда чувствительные сцены бедности у Диккенса и Жорж Санд… Они хотят обедать с сознанием выполненного долга. Совесть мешает их желудку, их аппетиту. Совесть делала их вина и трюфели кислыми. Они бросали ей подачку в виде сострадания и призывов к гуманности. Но пролетарии вовсе не калеки. Они солдаты, идущие навстречу победам, воспринимающие, как препятствие, лишения похода. Не им, а мне надо будет гордиться, если наши руки сплетутся и мы пойдем рядом. Может быть, я пригожусь, как неплохой командир отделения, думал Фридрих.
В таверне Энгельс угощает молодого рабочего и говорит с ним, как старый товарищ. Но сегодня, сейчас ему хочется рассказывать только о легендарной реке Нибелунгов.
Уроженец Рейна по своей натуре настоящий сангвиник. Его кровь переливается по жилам, как свежее бродящее вино, и глаза его всегда глядят быстро и весело. Он среди немцев счастливчик, которому мир всегда представляется прекраснее и жизнь радостнее, чем остальным. Смеясь и болтая, он сидит в виноградной беседке за кубком, давно забыв все свои заботы, тогда как другие часами еще обсуждают, пойти ли им и заняться тем же, и теряют из-за этого лучшее время. Несомненно, ни один рейнский житель не пропускал представлявшегося ему когда-либо случая получить житейское наслаждение, иначе его приняли бы за величайшего дуралея. Эта легкая кровь сохранит ему еще надолго молодость. Житель Рейна забавляется веселыми, резвыми шалостями, юношескими шутками или, как говорят мудрые солидные люди, сумасбродными глупостями и безрассудствами. И даже старый филистер, закисший в труде и заботах, в сухой повседневности, хотя бы он утром высек своих юнцов за их шалости, все же вечером за кружкой пива занятно рассказывает им забавные истории, в которых сам принимал участие в дни своей юности…
С полудня началась забастовка. Ее негромко провозгласили часы, десятки часов на заводских корпусах. Подчиняясь знаку часовой стрелки, остановились фабрики. Рабочие беспорядочно высыпали на безлюдные улицы. В полдень город ожил и зашумел так, как шумел только на рассвете или в сумерки.
Во всех церквах, на всех площадях митинговали. И чем тише, мертвенней становились корпуса и дворы фабрик, тем взволнованнее говорили город, улицы.
Фридрих вышел в прихожую конторы. На вешалках, как висельники, неестественно выпрямившись или скорчившись, застыли серые шинели, плащи, полукафтаны. Их никто не стерег. На деревянной скамье лежала забытая сторожем железная табакерка. Сторож забастовал.
В груде шляп и цилиндров Энгельс отыскал картуз и, закутав шею фланелевым шарфом, вышел на улицу. Мимо него продолжали идти рабочие. Он свернул с моста в глубь заводских улиц. Растерянно поскрипывали настежь отпертые ворота. Какие-то люди пробирались к конторам по найму. Унюхав добычу, они торопились предложить себя вместо протестующих собратьев. Озираясь, они проникали на пустые, брошенные фабрики еще раньше, чем их принялись искать.
Энгельс ощутил острое желание избить их. Не часто чувство опережало в нем рассудок.
«Рабские душонки, подлые и жалкие! Рабочие сами скоро расправятся с предателями».
Минуту спустя он уже думал о другом:
«Следует поставить рабочие пикеты у фабричных ворот, чтоб останавливать измену на пороге».
Но об этом уже позаботились – рабочие присоединились к страже.
«Революция приближается!» – надеялся Энгельс, но вместе с тем росло в нем беспокойство.
Не было ли снова провокации, которая опутала рабочих летом, во время первой большой забастовки 1842 года? Не хотят ли промышленники руками пролетариев добыть уступки от правительства?
Через все сомнения пробивалось одно полное нарастающее чувство – гордая радость.
Фридрих видел впервые рабочий класс в организованном действии. Забастовка была прекрасна, как революционный бой, как массовое восстание. Какой магический пароль, пробежав через многотысячный город, остановил наперекор всему десятки заводов, сотни машин, тысячи станков? Разве не было беспорядочное шествие рабочих мирным и небывалым доныне парадом их мощи и сознания солидарности?
«Так воспитывается революция, – думал Фридрих, – социальная революция, за ней следует не коронование новой династии, а свержение режима». И он радовался замечательному уроку, который давала ему история.
Через несколько дней забастовка кончилась.
Город, как река, вошедшая после разлива в берега, снова обезлюдел и затих.
Монотонно стучали паровые станки на текстильных фабриках. Ткачи и пряхи согнулись над работой.
Энгельс в Манчестере завел широкие знакомства среди чартистов и их руководителей, писал статьи для английских рабочих газет, рассказывая в них о развитии политических и философских учений на континенте. Центральная газета чартистов «Северная звезда», социалистическая газета «Новый нравственный мир» печатали статьи Энгельса.
Некоторые чартисты проповедовали революцию «законным путем», одни хотели прийти к власти, завоевав большинство голосов в парламенте, другие призывали пролетариат к стачкам и классовой борьбе.
Самые выдающиеся вожди чартизма – О'Брайен, О'Коннор, Д. Гарни понимали, что пролетариат их страны ведет классовую борьбу с капиталистами. Энгельс, пришедший к мысли о невозможности мирной революции, о необходимости беспощадной борьбы с господствующими классами, увидел в чартизме наиболее яркое проявление социально-революционных устремлений рабочего класса Англии.
Еще одно значительное течение английского пролетариата составляли последователи Оуэна, которых с 1836 года звали социалистами. Они проповедовали идеи социалистической организации труда и коммунистического распределения, но мечтали достичь этого мирной разумной пропагандой, петициями. Оуэнисты были сторонниками «общественного мира». Они утверждали, что все зло происходит от частной собственности, религии и буржуазного брака, но, видя перед собой непреодолимо огромную, могучую каменную стену капитализма, могли лишь мечтать о том, что она рассыплется сама собой. Оуэн назвал будущий общественный строй справедливости, гармонии и коллективизма «социальной системой», после чего утвердилось в литературе само слово «социализм».
Всем сердцем сочувствуя оуэнистам и чартистам и желая слияния этих течений в одно могучее революционное социалистическое движение, Энгельс стремился установить личные контакты с их вождями и рядовыми рабочими. Он встречался одно время с социалистическим лектором портным Джоном Уотсом; с чартистом, сельским батраком, затем городским рабочим Джемсом Личем, а знакомство с Джорджем Гарни, видным деятелем левого крыла чартистов, превратилось затем в многолетнюю дружбу.
Гарни был ровесником Маркса. Шестнадцати лет он примкнул к чартистскому движению, был поклонником Великой французской революции, провозгласил Марата своим героем и следом за ним называл себя сам «другом народа». Много лет спустя после первого знакомства с Энгельсом Гарни рассказывал, как в 1843 году впервые появился в редакции «Северной звезды» молодой немец, выдающийся революционер и мыслитель, говоривший по-английски, как природный британец, и заявил, что глубоко сочувствует чартистскому движению.
«В 1843 году Энгельс приехал из Бредфорда в Лидс, – писал Гарни, – и обратился ко мне в редакцию «Северной звезды». Это был высокий, красивый молодой человек с почти мальчишеским лицом. Несмотря на немецкое происхождение и образование, его английский язык поражал своей безупречностью. Он сказал, что постоянно читает «Северную звезду» и очень интересуется чартистским движением. Так началась наша дружба, продолжавшаяся более 50 лет».
Знакомство некоторых наиболее прогрессивных деятелей английского рабочего движения с Энгельсом, начавшись в эти годы, перерастает впоследствии в большую близость и сотрудничество не только с ним, но и с Марксом.
В своем политическом развитии Энгельс в Англии шагнул далеко вперед, особенно после того, как начал изучать экономические и социальные отношения с точки зрения классовой борьбы. До Маркса и Энгельса рабочие рассматривались немецкими исследователями и экономистами как часть третьего сословия, и считалось само собой разумеющимся, что интересы трудового люда естественно подчинены интересам хозяев. Но в Англии, классической стране капитализма, рабочий класс ко времени приезда туда Энгельса был уже полностью оторван и от земли и от мелкой кустарной промышленности и ничем не располагал больше для добывания средств к жизни, кроме своих рук, кроме способности продавать свою рабочую силу. Это был новый, совершенно отделенный от всех других слоев общества класс со своим будущим. Энгельс понял, что решающую роль в истории играет борьба противоположных экономических и социальных интересов различных классов – буржуа и рабочих, и это было важным открытием.
Энгельс в своих статьях 1843 года критикует аполитичность утопических социалистов, теоретическую ограниченность чартистов, их демократические иллюзии. Он осуждает также заговорщицкую тактику бланкистов и выступает как сторонник революционного свержения господства буржуазии.
Май и июнь 1843 года Фридрих прожил в Лондоне. Он приехал туда по делам фирмы, но главная его цель была в том, чтобы установить связь с тайным обществом немецких рабочих – Союзом справедливых.
Из зажиточных гостиниц, из грязных залов биржи Фридрих бросился на лондонские окраины, где ютились в бедности революционеры – немецкие изгнанники. Иосиф Молль, Карл Шаппер, Генрих Бауэр – руководители союза – встретили его дружелюбно. Энгельс впервые видел подлинных пролетариев-вождей. Их образованность и твердые взгляды на жизнь и социальные отношения поразили его. Правда, они остались равнодушными к философскому докладу, который молодой человек попробовал им преподнести. Ни ересь Шеллинга, ни откровения Макса Штирнера не произвели здесь особого впечатления, зато о заработной плате, о быте немецких текстильщиков и ремесленников они хотели знать все. Уравнительный коммунизм этих рабочих показался ему несколько ограниченным и слишком уж практическим. Но как хорошо чувствовал себя Фридрих среди этих новых людей! Насколько низкая конура, где сапожничал весельчак Генрих Бауэр, была приветливее любого купеческого дома! Эти люди, потерявшие на время родину из-за своей революционной деятельности, казались ему идеально простыми, целеустремленными.
Наиболее яркой фигурой среди руководителей Союза справедливых был Карл Шаппер. Он родился в 1812 году на юге Германии в небогатой семье сельского пастора.
Шаппер прожил тяжелую жизнь революционера- подвижника. Много раз его бросали в тюрьму, сажали на скамью подсудимых, изгоняли из родной страны. То лесничий и бочар, то наборщик, он зарабатывал на хлеб для себя и семьи тяжелым трудом. Превыше всего ставил он интересы народа, интересы рабочего класса.
Это был человек богатырского сложения, «живая баррикада», как его прозвали соратники, темноволосый, сероглазый, с высоким открытым лбом. Он был одним из тех самородков, которые обладали удивительной способностью вдохновлять простых тружеников революционным словом и вести их в бой.
В 1833 году Шаппер участвовал в нападении на полицейскую гауптвахту во Франкфурте, что должно было послужить сигналом к началу восстания в Южной Германии, был арестован, бежал в Швейцарию. В 1834 году находился в рядах участников так называемого Савойского похода, имевшего целью вызвать мятеж в Северной Италии, был схвачен, сидел полгода в тюрьме. В 1836 году странствующий подмастерье Шаппер пешком дошел до Брюсселя, затем обосновался в Париже, стал там активным деятелем немецкой тайной республиканской организации– Союза отверженных, затем Союза справедливых.
В мае 1839 года Шаппер вместе с другими членами Союза справедливых принял участие в неудачном восстании бланкистов в Париже, был брошен в тюрьму Консьержери и после продолжительного заключения выслан из Франции.
В 1840–1848 годах он живет в Лондоне. Здесь Шаппер в 1843 году знакомится с Энгельсом, а в 1845 году – с Марксом. Убедившись на собственном революционном опыте, что заговорами невозможно помочь народу, он постепенно проникся доверием к научным взглядам Маркса и Энгельса. Шаппер стал во главе Союза справедливых, пользовался большим влиянием среди руководителей и членов этого революционного общества и сделал все возможное для того, чтобы союз порвал с Вейтлингом и другими мелкобуржуазными теоретиками, и принял программу научного коммунизма.
Энгельс отклонил предложение о вступлении в тайный Союз справедливых, придерживавшийся заговорщицкой тактики и начертавший на своем щите утопический девиз: «Всеобщее равенство и братство». Уже тогда Энгельс понимал, что новое общество невозможно создать с помощью замкнутых тайных сект, что коммунизм вырастает из недр самого капиталистического общества и что он может победить лишь тогда, когда в движение будут втянуты самые широкие массы рабочих. Однако знакомство Энгельса с Шаппером, Моллем и Бауэром в 1843 году положило начало важнейшим историческим событиям: несколько лет спустя Союз справедливых принял научную программу – «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса – и был преобразован в Союз коммунистов.
Вскоре после возвращения из Лондона в Манчестер Энгельс получил от Маркса и Руге приглашение сотрудничать в «Немецко-французском ежегоднике». Он написал для этого журнала статьи «Наброски к критике политической экономии» и «Положение Англии. Томас Карлейль. «Прошлое и настоящее». Они были опубликованы в «Ежегоднике» в феврале 1844 года.
Английская печать гораздо свободнее, нежели немецкая, занималась обсуждением политических и социальных вопросов. Писатели Карлейль и Шелли нещадно критиковали существующие на острове порядки. Энгельс, уже со времен «Писем из Вупперталя» проявивший горячий интерес к социальным отношениям, оказавшись в Англии свидетелем более обнаженных классовых противоречий между богатством и бедностью, роскошью имущих и нищетой трудящихся, занялся в первую очередь изучением политической экономии. А. Смит, Д. Милль, Т. Мальтус, Д. Рикардо, Ж.Б. Сэй, Дж.Р. Мак-Куллох помогли ему понять экономическую сущность буржуазного общества. Но в противоположность либеральным экономистам Энгельс рассматривает Англию с критических позиций. Вот что он писал о положении самой передовой, самой могущественной индустриальной страны, комментируя книгу Карлейля «Прошлое и настоящее».
«Тунеядствующая землевладельческая аристократия, не научившаяся даже сидеть смирно и по крайней мере не творить зла; деловая аристократия, погрязшая в служении маммоне и представляющая собой лишь банду промышленных разбойников и пиратов, вместо того чтобы быть собранием руководителей труда, «военачальниками промышленности»; парламент, избранный посредством подкупа; житейская философия простого созерцания и бездействия, политика laissez faire; подточенная, разлагающаяся религия, полный распад всех общечеловеческих интересов, всеобщее разочарование в истине и в человечестве, и вследствие этого всеобщее распадение людей на изолированные, «грубо обособленные единицы», хаотическое, дикое смешение всех жизненных отношений, война всех против всех, всеобщая духовная смерть, недостаток «души», т.е. истинно человеческого сознания; несоразмерно многочисленный рабочий класс, находящийся в невыносимом угнетении и нищете, охваченный яростным недовольством и возмущением против старого социального порядка, и вследствие этого грозная, непреодолимо продвигающаяся вперед демократия; повсеместный хаос, беспорядок, анархия, распад старых связей общества, всюду духовная пустота, безыдейность и упадок сил, – таково положение Англии».
Энгельс высоко оценил книгу Карлейля, считая, что это единственный труд, который «затрагивает человеческие струны, изображает человеческие отношения и носит на себе отпечаток человеческого образа мыслей». Карлейль считал источником всех бед Англии атеизм, Энгельс высмеивает утопические рассуждения Карлейля о необходимости создать новую религию, высмеивает культ сверхчеловеческого и сверхъестественного, критикует утверждение, будто капиталистическое общество может быть спасено «истинным аристократом», героем, выдающейся личностью. Устроить мир истинно по-человечески может только рабочий класс. Господствующие образованные классы Англии глухи ко всякому прогрессу. Лишь рабочие, писал Энгельс, «неизвестная континенту часть английской нации», действительно достойна уважения, несмотря на всю их грубость и на всю их деморализацию. От них-то я придет спасение Англии; они представляют собой еще пригодный для творчества материал; у них нет образования, но нет и предрассудков, у них есть еще силы для великого национального дела, у них есть еще будущее.
Рабочий класс в лице своих общественных деятелей-социалистов выдвигает задачу уничтожения капиталистического гнета. «Во всяком случае, социалисты представляют собой единственную партию в Англии, имеющую будущее, как бы относительно слабы они ни были. Демократия, чартизм должны вскоре одержать верх, и тогда массе английских рабочих останется одни только выбор – между голодной смертью и социализмом».
До Энгельса английские экономисты не ставили вопроса о праве на частную собственность, они считали, что частная собственность – естественное, разумное и вечное условие жизни людей. Общественные отношения для буржуазных экономистов существовали лишь ради частной собственности. Классическая политическая экономия защищала интересы класса капиталистов. Энгельс в своих «Набросках» с новых, социалистических позиций показал возможность и необходимость создания подлинно научной экономической теории. Недаром Маркс назвал «Наброски» гениальным эскизом политической экономии рабочего класса. В них 23-летний ученый впервые в истории описал характерные черты капиталистического хозяйства – безработицу, пауперизм, кризисы, исступленную, остервенелую, сатанинскую, отчаянную эксплуатацию, – с точки зрения социализма, то есть как естественное состояние общества, в котором господствует частная собственность. Статьи Энгельса, опубликованные в «Ежегоднике», знаменовали переход их автора от идеализма к материализму, от революционного демократизма к научному коммунизму.
В Манчестере часто бывал Георг Веерт, немецкий поэт. Он стал другом не только Энгельса, но в его жены Мэри Бернс, и не раз сопровождал молодых супругов в их поучительных походах по рабочим кварталам.
Веерт, сын немецкого пастора, торговый служащий, был младше Энгельса на два гада. Молодые люди познакомились еще в Эльберфеяьде в 1836 году, когда Фридрих посещал местную гимназию, а Георг был учеником в торговом доме.
С весны 1844 года Энгельс начал накапливать материалы для книги «-Положение рабочего класса в Англии». Веерт под влиянием Энгельса написал несколько статей о тяжелых условиях, в которых живут и трудятся английские рабочие. Свой очерк «Пролетарии Англии» Веерт закончил похвальными словами Энгельсу:
«…Я счастлив тем, что в настоящее время один из самых выдающихся философских умов Германии взялся за перо, чтобы написать обширный труд о жизни английских рабочих; это будет труд неоценимого значения. Во всяком случае, этот писатель лучше меня сумеет представить отдельные факты в их истинном свете; благодаря длительному пребыванию в Манчестере – колыбели пролетариата – он имел гораздо больше случаев изучать рабочих, чем я…»
Много стихов Веерт посвятил ирландскому народу, в том числе написанное в 1844 году стихотворение «Мэри». С волнением и сочувствием рисует Веерт прекрасный образ ирландской девушки, отдающей все заработанные ею тяжелым трудом деньги на дело освобождения родного народа от английского владычества.
На корабле к нам приплыла
Она из Тинперери.
Да, кровь горячая была
В ирландке юной Мэри.
Веерт рассказывает далее, как Мэри отвергает все домогания любви славных моряков, как самоотверженно она работает, чтобы накопить денег для помощи ирландским революционерам.
Пускай мой дар родной стране Как помощь поступает. Точите сабли! На огне Пусть ярость закипает! Не заглушить и в сотню лет Трилистник Типперери Английской розе!.. Свой привет О'Коннелю шлет Мэри.
Можно предположить, что стихотворение «Мэри» Веерт написал под впечатлением знакомства с женой Энгельса Мэри Бернс.
Фридрих Энгельс решил посвятить книгу о рабочих Англии всем тем, чья история, чья жизнь, безличная, как статистическая цифра, и трагическая, как цифра на безымянном трупе в городском морге, послужит основой этой книги.
Бывшие луддиты, рабочие были вдохновителями Фридриха, как и всеобщая забастовка, газеты и пророчества немецких социалистов, как Иосиф Молль и чартист Гарни.
Во вступлении к своей книге Фридрих писал:
«Рабочие!
Вам я посвящаю труд, в котором я попытался нарисовать перед своими немецкими соотечественниками верную картину вашего положения, ваших страданий и борьбы, ваших чаяний и стремлений. Я достаточно долго жил среди вас, чтобы ознакомиться с вашим положением.
…Я убедился в том, что вы больше чем просто английские люди, члены одной обособленной нации, вы – люди, члены одной великой общей семьи, сознающие, что ваши интересы совпадают с интересами всего человечества. И видя в вас членов этой семьи «единого и неделимого» человечества, людей в самом возвышенном смысле этого слова, я, как и многие другие на континенте, всячески приветствую ваше движение и желаю вам скорейшего успеха».
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Пять месяцев длилась упорная борьба в «Рейнской газете». Маркс не знал ни в чем равнодушия. С тех пор как он стал редактором этой газеты, он не только отдавал ей все силы, время, но и пытался охватить на ее узких столбцах все наиболее значительные темы современности. Еще летом 1842 года газета опубликовала несколько статей о социальных вопросах. Карл Маркс заинтересовался талантливом коммунистом портным Вейтлингом и напечатал его статью о жилищах берлинской бедноты.
Все интересовало «Рейнскую газету», и она отражала каждое движение маятника истории, особенно в немецких княжествах.
Как-то, сообщая о съезде ученых в Страсбурге, «Рейнская газета» в примечании добавила, что, когда неимущие в Германии домогаются богатства, которым владеет только среднее сословие и крупная буржуазия, это напоминает борьбу третьего сословия против дворянства в начале Великой буржуазной французской революции.
Однако этого замечания было достаточно, чтобы «аугсбургская ведьма» – «Всеобщая газета» обвинила «Рейнскую газету» в заигрывании с коммунизмом.
Маркс со свойственной ему быстротой реакции дал отпор нападкам «Всеобщей газеты», которая сама не раз печатала принадлежащие перу Гейне статьи, восхвалявшие французский социализм и коммунизм. Воевать с «Всеобщей газетой» было тем более нелегко, что она, единственная в ту пору в Германии, имела национальное и даже международное значение. Но это не могло остановить Маркса. В то время ему было еще трудно говорить что-либо по существу коммунизма, хотя он и считал его весьма серьезным явлением. «Или мы потому уже не должны считать коммунизм важным современным салонным вопросом, что он носит грязное белье и не пахнет розовой водой?» Однако Маркс не обещает читателю немедленного ответа. «Мы, – пишет он, – не обладаем искусством одной фразой разделываться с проблемами, над разрешением которых работают два народа», т.е. Англия и Франция.
Не в правилах Маркса было пользоваться оружием, которое он еще не изучил и не усовершенствовал. Он писал, что «Рейнская газета» будет решать все эти вопросы «после упорного и углубленного изучения». Труды Леру, Консидерана, Прудона й другие требуют глубокого подхода и не могут быть разобраны в порядке случайной фантазии.
Карл мечтает о том, чтобы взяться снова за книги. Столько еще вопросов не нашли ответа.
Он ищет новых путей. Но редакторская деятельность кажется ему не менее важной, оставить ее – не дезертирство ли с поля боя? Не ради ли возможности говорить с этой высокой трибуны он отбросил мысль о профессуре, разошелся со многими товарищами?!
Работа в «Рейнской газете» между тем становилась все более затруднительной. Маркс надеялся на друзей в Берлине, обещавших сотрудничать в его печатном органе.
Берлинские «Свободные», уже после отъезда из прусской столицы Фридриха Энгельса, своими скандалами, бесчинствами, глупыми выходками в кабаках, притонах, на улицах (такое поведение было частью их «программы») вызывали презрение и недоумение не только у робких филистеров, но и у тех, кто раньше готов был присоединиться к ним. Бруно Бауэр не стеснялся участвовать в бессмысленных шествиях нищих, устраиваемых «Свободными», и стал не меньшим скоморохом, нежели они. Только строгий Кеппен держался в стороне от этих шумных дебошей, кончавшихся нередко в полицейских участках.
Все эти странные бесчинства пагубно отражались на духовной и творческой деятельности «Свободных». Карл Маркс получал от них для газеты большей частью никчемную продукцию, подолгу отбирал и переделывал полученное.
Окончательный разрыв со «Свободными» совершился в ноябре 1842 года. В это время Гервег и Руге побывали в Берлине. Незадолго до этого Гервег познакомился и крепко подружился с Марксом.
В клубе «Свободных» Гервег и Руге выслушали Бруно Бауэра, который выступил с нелепыми требованиями упразднить, не считаясь с реальной действительностью, понятия государства, собственности и семьи.
Гервег попробовал уговорить Бауэра и его друзей взяться за ум и отказаться от пустозвонства. В ответ они принялись оскорблять его и высмеивать стихи Гервега. Спор между Руге, Гервегом и «Свободными» дошел до «Рейнской газеты». Маркс поддержал Руге и Гервега, и «Свободные», в частности Мейен, начали сочинять пасквили на газету.
В это же время Маркс претерпевал, как сам говорил, «ужасные цензурные мучительства», вел огромную переписку с министерством, выслушивал обер-президентские жалобы и обвинения в ландтаге, спорил с акционерами, субсидирующими газету, крайне раздраженными ее «левым» направлением.
Осенью 1842 года правительство стало еще больше придираться к газете и ее редактору, надеясь, что она умрет естественной смертью. Но число подписчиков все возрастало: с 885 оно поднялось до 1820. Король негодовал. Статьи в газете становились все более дерзкими и враждебными правительству. Рутенберг был выслан из Кёльна.
30 ноября Маркс писал Руге: «Рутенберг, у которого уже отняли ведение немецкого отдела (где деятельность его состояла главным образом в расстановке знаков препинания)… Рутенберг благодаря чудовищной глупости нашего государственного провидения имел счастье прослыть опасным…»
Корреспонденции из Бернкастеля о невыносимом положении мозельских крестьян, помещенные в «Рейнской газете», вызвали подлинный рев со стороны обер-президента Шаппера, который только искал повода избавиться от Маркса. 19 января 1843 года совет министров в присутствии короля постановил закрыть «Рейнскую газету».
Формальным поводом для этого послужило то, что у газеты будто бы нет разрешения на издание. Фактической же причиной было ее противоправительственное направление.
В интересах пайщиков после их хлопот газете разрешили выходить еще три месяца.
«В течеиие этого времени, до казни, – писал Маркс Руге, – газета подвергается двойной цензуре».
Число подписчиков в это время возросло до 3200, и в Берлин направлялись петиции с большим количеством подписей. Читатели просили не закрывать «Рейнскую газету».
Пайщики, желая спасти деньги, вложенные в издание, потребовали в это же время от Маркса, чтобы он совершенно изменил тон и характер газеты. Это и заставило Карла Маркса 17 марта сложить с себя обязанности редактора.
Карл поехал к Женни. Ему было 18 лет, когда она стала его невестой. Семь лет ждали они друг друга, ни мыслью, ни поступком не изменяя своей любви. 19 июня 1843 года доктор Карл Маркс обвенчался, наконец, с Женни фон Вестфален. Они прожили несколько счастливейших недель в красивом городке Крейцнахе у Каролины фон Вестфален, матери Женни, одиноко жившей после недавней смерти Людвига Вестфалена.
Арнольд Руге звал Маркса в Париж. Он предлагал ему основать там немецкий журнал. Осенью 1843 года Карл и Женни покидают Германию, направляясь во Францию.
Женни и Карл плечом к плечу, рука в руке стоят у окна. Перед ними Париж. Как далеко отступил в их памяти Рейн, отошла родина!
Франция. Отсюда, издалека, вместе с верными соратниками он сумеет пойти войной на самодержавие, на филистеров, на помещиков. Так думал Карл.
Во Франции Маркс находит несравненно большие противоречия, нежели в сонном немецком государстве, открывает глухую борьбу сытых и голодных. Разоренные крестьяне наполняют улицы столицы, клянчат милостыню, тихо мрут в подворотнях, на порогах домов новой знати.
Зверски оскаленная пасть – вот оно, буржуазное государство. Маркс отшвыривает с презрением гегелевскую, такую наивную и лживую перед хищным оскалом буржуазного Парижа, формулу о государстве как нравственном организме, величаво возвышающемся над борьбой общественных классов.
«Ошибался или предавал? – спрашивал тень Гегеля Карл. – Старик был слишком гениален, чтоб так ошибиться».
Страшная борьба изо дня в день, от часа к часу, ежеминутно разыгрывается на безмятежных с виду улицах Парижа. Голодные и сытые. Богатые и бедные. Плебеи и патриции. Пролетариат и буржуазия…

Вильгельм Вейтлинг

Генрих Гейне

Портрет Фридриха Энгельса 40-х годов
Женни принимается убирать книги с маленького стола. Из амбразуры окна Карл следит за ее движениями. Стол, наконец, накрыт к ужину.
Стук в дверь. Входит, помахивая большой шляпой, нестарый господин в нарядном, снегом осыпанном пальто. Холодная, чуточку надменная улыбка, изысканный светский поклон.
– Вот вам и сам прославленный буян, еретик и безбожник Генрих Гейне, – объявляет редактор «Немецко-французского» ежегодника Руге, появившийся в дверях вместе с поэтом.
Генрих Гейне зачастил к Марксам. Он полюбил неровную улицу Ванно, маленькую квартирку с окнами, затемненными ветвистым каштаном, приветливую Женни, смущенно кутающуюся в клетчатую шаль и неторопливо подшивающую края трогательно маленьких распашонок.
В доме Марксов все говорило о нетерпеливом ожидании нового человека. Приехала из Крейцнаха со строгим наказом беречь Женни ее сверстница, Елена Демут, выросшая в людской дома Вестфаленов. Спокойно и умело взяла она на себя заботы о маленькой семье. И сразу стало как-то уютнее, наряднее вокруг. Появились какие-то чашечки, подносики. Пеклись булочки. Только с упрямой и вздорной госпожой Руге не поладила Ленхен. Зато Генрих Гейне может всегда рассчитывать на ее гостеприимство, на горячую чашку кофе или кружку остуженного пива. Он желанный гость и баловень всех. Взлохмаченный Карл из-за груды бумаг неизменно радостно приветствует входящего поэта. Женни откладывает книгу и шитье. Елена торопится с угощением. И нередко проводят они все вместе зимние вечера у неспокойно гудящего камина.
Генрих приносит стихи. Он читает их негромко, но хриплый голос его выразителен. Отрываясь от тетрадей, поэт нервно ищет на лице Карла похвалы, осуждения либо равнодушия: последнее для него было бы нестерпимо. Но Маркс никогда не бывает безразличен к лире любимого поэта. Поэзия Гейне не бесстрастна, не бесцельна. Уже написано «Просветление».
Карл знает наизусть стихи нового друга.
Будь не флейтою безвредной, Не мещанский славь уют – Будь народу барабаном, Будь и пушкой и тараном, Бей, рази, греми победно!
В тихие вечера о чем только не говорят Женни, Карл и Генрих! О Париже, то бурливом, то самодовольном, о новых идеях, книгах и людях. О родине, о далекой Германии.
– Я верю в революцию и жду ее. Не сегодня, так завтра.
Гейне думает то же.
– На окраинах Парижа, – говорит он, – я видел людей в рубищах, с лицами, изувеченными голодом. Они читают памфлеты Марата и мрачные вещанья Буонарроти. Они хотят создать Икарию – эту страну, одновременно прекрасную н скучную для мне подобных скептических умов. Они пахнут кровью. И все же коммунисты – единственная партия, которая заслуживает почтительного внимания. Но хотя разум мой приветствует их, я боюсь этой разрушительной силы. Они, как гунны, уничтожат моих кумиров. Грубыми, мозолистыми руками они разобьют в порыве мести предметы тончайшего искусства, босыми ногами растопчут мои воображаемые цветы. Что будет с моей «Книгой песен»? Кому нужны хрупкие мечты поэта? Навсегда развеются образы пажа и королевы. Нет, я боюсь этих мрачных фанатиков и их злобы. И все же они придут, они победят… Из одного отвращения к защитникам немецкого национализма я готов полюбить коммунистов. Им чужды лицемерие и ханжество. Я – за них.
Карл, добродушно улыбаясь, слушает Гейне. Он хочет верить, что рано или поздно мятущийся поэт сам разберется в охвативших его противоречиях.
Иногда Генрих приходит к Марксам болезненно бледный, сумрачный, жалуется на недуги, на человеческую пошлость и дурной парижский климат.
– Обругали? – спрашивает Женни сочувственно.
Поэт молча лезет в задний карман щеголеватого фрака и достает измятые листы журнала.
– Не принимайте так близко к сердцу завистливый и злобный вой ничтожеств. Будьте милостивы к насекомым. Они тоже хотят жить, – говорит Женни и с подчеркнутой брезгливостью откладывает в сторону журнальную статейку.
– О, эти насекомые ядовиты! Это мухи цеце. Вы только послушайте их крики. Это людоеды, пляшущие вокруг костра, на котором поджаривается человеческое мясо.
– Ваш язык и в поджаренном виде будет для них страшнее пушки, – смеется Женни. – Над этим растревоженным болотцем можно только смеяться.
– Воняет, – хмурится Гейне. Но раздражение его проходит, у госпожи Маркс особое умение врачевать раны и усмирять взбунтовавшееся самолюбие.
Под неяркой висячей лампой еще чернее, еще гуще кажется шевелюра Маркса, в темно-коричневых пушистых волосах Гейне еще ярче просвечивает седина. Генрих на 20 лет старше Карла. Но разница возраста неуловима. Саркастический необъятный ум Карла – камень, на котором оттачивается перо поэта.
Поздно ночью уходит Генрих Гейне из маленькой квартиры Марксов. Но гостеприимные хозяева еще не сразу успокаиваются, продолжают говорить о прекрасной поэзии Гейне и о самом поэте.
Дописав свою новую статью, Карл торопится отдать ее на суд жене. Никто лучше не понимал его замыслов. Иногда Женни писала под диктовку мужа или терпеливо разбирала черновые записи. Это были счастливые минуты полного единения. Женни, как мать, окружала его заботой; Карл с сыновней доверчивостью отдавал ей свои мысли.
Случалось, до рассвета они работали вместе. Елена ворчала за стеной и, потеряв терпение, требовала, чтоб Женни позаботилась если не о себе, то хоть о будущем ребенке. Карл шутливо хватался за голову, гнал жену в постель, гасил лампу, осуждал себя за невнимание, забывчивость. Но в следующую ночь повторялось то же, покуда решительный окрик Елены опять не прекращал разговоров и скрипа ломких перьев.
Давно спит дом. Лучшее время для размышления. Женни не хочет ждать до утра. Маркс не заставляет себя уговаривать. Он рад тотчас же показать ей итог последних дней работы. В этом сочинении, названном «К критике гегелевской философии права. Введение», он впервые употребил новое слово – пролетариат. Внимательное ухо Женни тотчас же уловило его.
– До сих пор, – говорит она, прерывая чтение, – ты писал обычно о бедных классах, о страждущем человечестве, которое мыслит, и о мыслящем человечестве, которое угнетено. Не так ли? Пролетариат – о нем так прямо сказано впервые.
– Я не только упоминаю о нем – я жду от пролетариата выполнения его великой исторической миссии, коренного общественного переворота. – И добавляет: – Главная проблема настоящего – отношение промышленности и всего мира богатства к политическому миру.
– Читай, – требует снова Женни.
– «Оружие критики, – продолжает Карл, – не может, конечно, заменить критики оружием, материальная сила должна быть опрокинута материальной же силой; но теория становится материальной силой, как только она овладевает массами».
«Дело в том, что революции нуждаются в пассивном элементе, в материальной основе. Теория осуществляется в каждом народе всегда лишь постольку, поскольку она является осуществлением его потребностей… Недостаточно, чтобы мысль стремилась к воплощению в действительность, сама действительность должна стремиться к мысли».
Карл читает все быстрее, слегка шепелявя, комкая слова, и Женни не раз призывает его к плавности и спокойствию. Четко рисует Маркс величавое призвание пролетариата:
«Подобно тому, как философия находит в пролетариате свое материальное оружие, так и пролетариат находит в философии свое духовное оружие, как только молния мысли основательно ударит в эту нетронутую народную почву, совершится и эмансипация немца и человека».
– Браво, Карл! Это лучшая из истину которую ты нашел.
Но в чепце, сползшем на ухо, в глухом шлафроке, угрожающе жестикулируя, на пороге комнаты появляется Ленхен.
– Полуночники! – гремит она. – Сейчас же спать! Я пожалуюсь госпоже Вестфален… А вы, господин Маркс, вы демон. И если Женни родит крикуна, он вам отомстит за мать: будет орать день и ночь. А у такого беспокойного отца обязательно родится буян!
Женни не дает Ленхен говорить и, поцелуем заглушив упреки, тушит лампу.
Первый номер долгожданного «Немецко-французского ежегодника» вышел в феврале 1844 года. Кого только не было в числе сотрудников! Разящий Гейне, певучий Гервег, все низвергающий Бакунин, отважный Якоби, нравоучительный Гесс, могучий Энгельс и, наконец, сам рейнский Прометей – Карл Маркс. Редакторы надеялись, что журнал осуществит союз между революционерами Франции и Германии.
Среди главных сотрудников журнала не было единства. Только Маркс и Энгельс имели ясное понятие о цели журнала.
Маркс рассматривал грядущую революцию как общее дело мыслителя и пролетария, он хотел, чтобы теоретики посредством критики старого мира нашли новый мир. Маркс выступал рьяным противником догматиков и утопистов. Он ополчился против тех философов, которые уверяли, будто имеют в своем письменном столе готовые ответы на все загадки жизни и несмышленому человечеству остается только раскрыть рот, чтобы ловить жареных рябчиков, которых преподнесут им ученые. Маркс утверждал, что не дело философов давать раз и навсегда готовые решения, годные на все времена для всех народов. Мыслители должны подвергнуть беспощадной критике все существующее, не страшась собственных выводов и не боясь столкновения с власть предержащими. В Германии в то время преимущественный интерес вызывали, как писал Маркс, религия и политика, и он предлагал взять за исходную точку исследование этих проблем на страницах «Немецко-французского ежегодника».
Марксу и Руге не удалось привлечь к сотрудничеству в своем журнале ни одного французского автора. Ламенне, Прудон, Луи Блан, Ламартин, Лерне, Консидеран из различных идейных или политических соображений отказались писать для журнала. Тем самым была разрушена сама идея совместного выступления немцев и французов на страницах ежегодника. В первом и единственном сдвоенном номере журнала напечатали статьи и стихи Маркс, Энгельс, Руге, Гесс, Гейне, Гервег и молодой немецкий журналист Верней. Исследования Маркса «К критике гегелевской философии права. Введение» и «К еврейскому вопросу» и статьи Энгельса «Положение в Англии» и «Критические очерки политической экономии» знаменовали переход обоих мыслителей от революционного демократизма к научному коммунизму, от идеализма к материализму. Работы эти имеют непреходящее значение.
Прусское правительство, напуганное коммунистической направленностью статей Маркса и Энгельса, а также нападками Гейне на короля, потребовало от французского премьера Гизо запрещения «Немецко-французского ежегодника» и высылки его редакторов. Агентурные донесения прусских шпионов из Парижа были тревожными. Прусский министр внутренних дел отдал распоряжение – подвергнуть репрессиям редакторов и сотрудников опасного журнала.
«Содержание первого и второго выпусков «Немецко-французского ежегодника», издаваемого в Париже Руге и Марксом, – писал министр начальнику полиции в Берлине, – как во всей тенденции этого журнала, так и во многих местах является преступным, в частности, таковой является попытка государственной измены и оскорбления величества. За это ответственны издатели и сочинители отдельных преступных статей. Поэтому я покорнейше прошу Ваше Превосходительство, не будете ли вы так добры, не производя шума, дать указание надлежащим полицейским властям арестовать д-ра А. Руге, К. Маркса, Г. Гейне и Ф.К. Бернса с конфискацией их бумаг, как только они окажутся по эту сторону области, и для дальнейшего распоряжения относительно расследования, которое должно вестись против них, немедленно уведомить меня при отправлении бумаг, если таковые будут найдены».
Прусское правительство запретило распространение в стране «Немецко-французского ежегодника». Таможенные власти конфисковали несколько сот номеров журнала на границе и на рейнских пароходах. Открытое распространение журнала в Германии стало невозможным, что привело также к финансовому краху всего издания. Выход ежегодника прекратился, едва начавшись.
Полярность политических и философских взглядов обоих редакторов журнала – Маркса и либерального фразера Руге – привела в конечном счете к тому, что между ними образовалась идейная пропасть, а вместе с ней началась и личная вражда. Руге вскоре после выхода в свет первой книжки ежегодника объявил Марксу открытую войну. Он был сравнительно богатым человеком, вместе с издателем Фребелем финансировал «Немецко-французский ежегодник». Осуждая переход Маркса на сторону рабочего класса, Руге потребовал от Фребеля, чтобы тот ни при каких условиях не печатал никаких работ Маркса
«Вы не можете принимать к печатанью никакие книги Маркса, которые он Вам предложит, – писал Руге издателю. – Вы, без сомнения, знаете, в каких я отношениях с этим человеком…»
Разрыв с Руге взволновал Карла. Сколько раз приходилось ему терять навсегда друзей! Бауэры, Рутенберг… Кто виноват? Виноватых нет. Кто же прав? Об этом скажет время.
После закрытия «Немецко-французского ежегодника» Маркс остался без всяких средств к существованию. Друзья прислали ему из Кёльна тысячу талеров, чтобы он имел возможность продолжить свою научную деятельность.
В отличие от Германии Франция к середине века была более экономически развитой страной с сильным, боевым пролетариатом. Париж в то время стал центром революционного движения. Недовольство парижских рабочих выливалось в частые, правда постоянно неудачные, восстания, порождало заговоры. Мирные утопические мечты Сен-Симона и Фурье были вытеснены различными другими социальными доктринами, проповедники которых все более решительно защищали классовые интересы пролетариев. Трудовая Франция искала путей к переделке общества на более справедливых началах. Теоретики коммунистических течений – Кабе, Дезами и Бланки – призывали к полному разрушению буржуазного общества и ликвидации частной собственности, чтобы на их месте воздвигнуть Федерации гармонии и справедливости. Некоторые считали, что достигнуть этого можно только тайными заговорами и переворотами. Представители социалистических учений – Видаль, Леру, Пеккер – требовали обобществления средств производства, но надеялись при этом на добрую волю и согласие имущих классов. Было еще несколько десятков известных и малоизвестных теоретиков, Париж кишмя кишел различными обществами, группами, сектами, общинами, ассоциациями, братствами, землячествами, кружками, союзами, которые при всей своей теоретической беспомощности были едины в одном – в ненависти к буржуазному строю и эксплуатации.
Маркс, не принимая ни одного из этих учений и не войдя ни в одно из этих обществ, вооружившись могучим оружием – диалектикой Гегеля, исследуя экономические и социальные основы буржуазного общества, пришел в Париже к гениальному открытию: в самом буржуазном обществе таятся причины его собственного разложения, в самом капиталистическом способе производства гнездится та червоточина, которая приведет к гибели корабль частной собственности, социальной несправедливости и эксплуатации.
К мысли о необходимости заняться исследованиями экономического фундамента общества Маркс пришел еще в Кёльне в 1842–1843 годах, когда, редактируя «Рейнскую газету», выступил со статьями в защиту мозельских крестьян-виноделов. Изучение закона о краже дров и необходимость разобраться в правовых отношениях между крестьянами и помещиками Рейнской Пруссии побудили Маркса перейти от чистой политики к экономическим вопросам. Это в конце концов привело его к материалистическому пониманию истории и научному социализму, Вот почему Маркс, уже успевший к 1844 году ознакомиться с трудами некоторых классиков буржуазной политической экономии, сумел высоко оценить «Наброски к критике политической экономии» Энгельса, ему стало ясно, что это выдающийся труд, написанный с совершенно новых позиций, а именно с позиций рабочего класса.
В 40-е годы в одном только Париже проживало почти 100 тысяч немцев: портные, столяры, различные мастеровые и подмастерья. Среди них были и политические эмигранты и кочевавшие с места на место в поисках заработка рабочие. Наиболее сознательные из них принимали деятельное участие в различных французских политических и социальных организациях. В Париже, в Союзе справедливых, Маркс встретился с энергичными революционными пролетариями – немцами и французами. Он установил связи с руководителями Союза справедливых – врачом и литератором Германом Эвербеком и журналистом Германом Мёйрером. Знакомый Маркса по Кёльну, Мозес Гесс, свел его с вождями тайных французских рабочих обществ.
Члены Союза справедливых – многие из них несколько лет спустя образовали ядро Союза коммунистов – собирались в различных кафе, где вели ожесточенные споры. Французская и немецкая полиция наблюдала за рестораном Шрайбера и отелем «Комета», в которых бывали немецкие коммунисты. Бывал там и Маркс. В одном из донесений немецкого полицейского агента в Берлин об этих собраниях говорилось: «Это действительно достойное сострадания положение, если посмотреть на то, каким образом несколько интриганов вводят в заблуждение бедных немецких ремесленников и пытаются втянуть в коммунистическое движение не только рабочих, но и молодых торговцев… Каждое воскресенье немецкие коммунисты собираются в помещении, принадлежащем одному виноторговцу. Здесь сходятся часто 30, 100, 200 немецких коммунистов. Они произносят речи, открыто проповедуя убийство короля, отмену всякой собственности, расправу с богатыми и т. д., при этом уже нет речи ни о какой религии, короче говоря, все это вопиющая, отвратительнейшая бессмыслица. Я мог бы назвать юных немцев, которых их почтенные родители приводят туда по воскресеньям и портят их. Полиция, должно быть, знает, что там каждое воскресенье собирается так много немцев, но она, вероятно, не знает, какова их политическая цель. Я пишу Вам это очень спешно, чтобы Маркс, Гесс, Гервег, А. Вейль, Бернштейн не могли продолжать таким образом ввергать в несчастье молодых людей».
Маркс глубоко сочувствовал французским и немецким пролетариям, высоко ценил их храбрость, убежденность, готовность к борьбе. Революционный дух рабочего класса Франции обрадовал Маркса. В пролетарии он увидел будущего могильщика буржуазного строя.
Насколько быстро Маркс шагал в своих теоретических открытиях к цельному научному мировоззрению, настолько же отставали его вчерашние соратники. Руге, живя рядом с будущим творцом «Капитала», не в силах был понять того, что происходило вокруг него. После разрыва с Марксом он решительно выступал против политических организаций трудящихся. Он ненавидел рабочих, обвинял их в том, что они якобы всех образованных людей хотят превратить в ремесленников. «Маркс погрузился в здешний немецкий коммунизм, – писал Руге в июле 1844 года, – конечно, только в смысле непосредственного общения с представителями его, ибо немыслимо, чтобы он приписывал политическое значение этому жалкому движению».
Новые соратники Маркса относились к нему с большим уважением. Один из руководителей немецких пролетариев в Париже, Эвербек, писал в эту пору о молодом трирце:
«Карл Маркс… без сомнения, по меньшей мере так же значителен и гениален, как Г.Э. Лессинг. Одаренный исключительным интеллектом, железным характером и острым уверенным умом, обладая широкой эрудицией, Карл Маркс посвятил себя изучению экономических, политических, правовых и социальных вопросов».
Во французской революции 1789 года, историю которой тщательно изучал Маркс, он увидел великий пример единства экономического, социального и политического переворота. Деятельность Конвента настолько завладела всеми его мыслями, что он решил написать его историю. Революционный орган великой буржуазной революции рассматривался Марксом, как максимум политической энергии, политического могущества и политического рассудка. Так как времени на работу не хватало, Маркс читал и писал ночами, конспектируя огромную экономическую, политическую и историческую литературу. «Он работает с необыкновенной интенсивностью, – писал Руге Фейербаху о Марксе, – и обладает критическим талантом, который подчас переходит в чрезмерный задор диалектики, но он ничего не заканчивает, он все обрывает на середине и всякий раз снова погружается в безбрежное море книг… Маркс сейчас так вспыльчив и раздражителен, что дальше некуда, в особенности после того, как дорабатывается до болезни и по три, даже по четыре ночи не ложится в постель». В другом письме, адресованном М. Дункеру, тот же Руге писал; «Маркс хотел сначала дать критический анализ гегелевского естественного права с коммунистической точки зрения, потом – написать историю Конвента и, наконец, критику всех социалистов. Он всегда хочет писать о том, что только что прочитал, но потом читает дальше и делает все новые выписки. Я все еще считаю возможным, что он напишет довольно большую и незапутанную книгу, начинив ее всем собранным материалом».
Результатом титанического труда явились «Экономическо-философские рукописи» Маркса, написанные за шесть месяцев, с марта по август 1844 года, и представляющие собой первые наброски будущих гениальных творений.
Политические друзья Маркса с нетерпением ждали его книгу о политической экономии. Юнг писал ему из Кёльна: «…каждый с огромным нетерпением ожидает Вашего труда о политической экономии и политике. Я прошу Вас об одном: не отвлекайтесь снова на Другие работы; совершенно необходимо, чтобы такой труд появился. Борьба с религией завершена, и таковую вполне можно представить самой широкой публике, но что касается политики и политической экономии, то здесь еще отсутствует всякая определенная точка опоры. И все же публика настроена разделаться с этими абстракциями быстрее, нежели с религией. Вы теперь должны стать для всей Германии тем, чем уже являетесь для Ваших друзей. Вашим блестящим стилем и большой ясностью аргументации Вы здесь должны одержать и одержите победу и станете звездою первой величины».
Продвигаясь вперед по различным дорогам в поисках истины, Маркс и Энгельс, как это выяснилось во время их второй встречи в Париже в конце лета 1844 года, пришли к одним и тем же выводам, и это единство взглядов, принципов и целей навело их на мысль о сотрудничестве, которому суждено было превратиться в беспримерный в истории человечества дружеский союз двух гениев.
«Живя в Манчестере, – писал впоследствии Энгельс, – я, что называется, носом натолкнулся на то, что экономические факты, которые до сих пор в исторических сочинениях не играют никакой роли или играют жалкую роль, представляют, по крайней мере для современного мира, решающую историческую силу: что экономические факты образуют основу, на которой возникают современные классовые противоположности, что эти классовые противоположности во всех странах, где они благодаря крупной промышленности достигли полного развития, в частности, следовательно, в Англии, в свою очередь, составляют основу для формирования политических партий, для партийной борьбы и вместе с тем для всей политической истории. Маркс не только пришел к тем же взглядам, но и обобщил их уже в «Немецко-французском ежегоднике» (1844 г.) в том смысле, что вообще не государством обусловливается и определяется гражданское общество, а гражданским обществом обусловливается и определяется государство, что, следовательно, политику и ее историю надо объяснять из экономических отношений и их развития, а не наоборот. Когда я летом 1844 г. посетил Маркса в Париже, выяснилось наше полное согласие во всех теоретических областях, и с того времени началась наша совместная работа».
Маркс и Энгельс прошли плечом к плечу сквозь бури и штормы, они сражались рядом, дополняя друг друга как теоретики и революционеры.
Маркс в Париже так же, как Энгельс в Англии, перешел Рубикон – он окончательно порвал с идеализмом и принял материализм, он отказался от иллюзий буржуазного демократизма и прочно стал на позиции научного коммунизма.
В библиотеке, в зале, чинном, покойном, горели свечи и лампы. Было тихо, торжественно. Шуршали листы каталогов и книг. Точно вздохи. Карл любил эту тишину, этот запах стареющей бумаги. Вокруг было столько знакомых. С полок они смотрели на него.
Карл читал невероятно быстро. В памяти оставались нужные, важные подробности недавнего прошлого. Иногда он выписывал что-то, отмечал страницы в принесенной тетрадке, условным значком обозначал прочитанное.
Ненасытное желание знаний все еще владело его умом. Великая потребность обобщить все политическое, социальное и культурное многообразие жизни, подчинить его одной, всеисчерпывающей точке зрения гнала его от идеи к идее, к синтезу.
Книги, окружающее, люди были для Маркса лишь послушными помощниками. Зодчий стремился воздвигнуть здание, они поставляли ему необходимые камни. Неисчислимые часы мог проводить Карл в величественном молчании читального зала. Он не избегал трудностей в научных изысканиях, не боялся строгой абстракции.
Пока Карл, позабыв обо всех заботах, склонившись над книгой, сидел в Национальной библиотеке, Женни и Елена занимались хозяйством.
Денни родила 1 мая. Карл в комнатке Ленхен подле кухни курил не переставая. Беспокойство гнало в коридор, на лестницу. Он метался. Стоны за стеной становились сильнее, переходили в крик, Ленхен, вся в белом, появлялась с ведрами, тазами и уходила вновь. Она не отвечала на расспросы.
Была чудесная весна. На улице Ванно зацветали каштаны, как в Трире. Бело-розовые тугие цветы засматривали в окна.
Наконец на свет появилась девочка. Карл, измучившийся, но счастливый, нашел дочь красавицей и сказал важно:
– Ее имя будет Женни, лучшего человечество не создавало.
Вечером явился Гейне, неловко передал госпоже Маркс смятые под плащом цветы. Вскоре зашли и Гервеги. Карл откупорил бутылку рейнвейна и поднял бокал в честь двух Женни.
При виде мастеровых, пришедших с поздравлениями, Руге, живший с Марксами в одном доме, на мгновение задержавшись на площадке перед входной дверью, сказал язвительно:
– Поздравляю Карла не только с дочерью, но и с толпой приверженцев. Полтора пролетария с тобой во главе, конечно, уничтожат реакцию и установят коммунизм. Надеюсь, вам это удастся не скоро.
Карл не удостоил недавнего союзника ответом.
Дела много. Нужно ответить на письма. Для этого лучше всего зайти в маленькое кафе возле почты. На мраморном столике легко пишется. Юнг в Кёльне занят распространением ввозимого контрабандой первого и единственного номера «Немецко-французского ежегодника». Порывшись в карманах в поисках карандаша, Карл вспоминает о безденежье и материальных трудностях, на которые обречена его семья. Скоро ли Юнг пришлет ему денег? Тяжелы эти поиски средств существования. Бедная Женни, как старается она экономить, не досаждать ему! Он чувствует свою ответственность перед ней и ребенком, страдает от невозможности дать им самое необходимое.
Упрямое, решительное «отобьемся!» срывается с его уст.
К делу, к делу!.. Обер-президиум в Кобленце разослал пограничным властям приказ об аресте Маркса. Итак, год в Париже, статьи и выступления в клубах не прошли даром. Прочитав об угрозе немецких властей, Карл ощущает удовлетворение, приток новых сил. Значит, то, что он делает, нужно, важно, существенно. Значит, выпущенные снаряды попали в цель. Пусть на угрюмой громаде прусской монархии его перо вызвало лишь одну видимую трещину. Пусть. Разве не из трещин образуется впоследствии пропасть?
«Мы не сдадимся!»
Карл вспоминает о дневном собрании немецких ремесленников на улице Венсен у Барьер-дю-Трон, о своем намерении побывать там.
После бурных споров, еще разгоряченный, он идет оттуда в Национальную библиотеку. Там ждут его книги. Горбатый дряхлый библиотекарь почтительно встречает Маркса. Этот немец не Обычный читатель. И библиотекарь благоговейно приносит ему книги. Он несет их впереди себя, и кажется, что горб его переместился. Адам Смит, Рикардо, Джемс Милль, Сэй, Шульц… Француз кладет книги на стол так осторожно, как только может, и спешит з, а второй партией Тут иные имена. Старик прижимает к сердцу памфлеты Марата, речи Робеспьера, Мирабо, Бриссо, отчеты Конвента, разрозненные номера газеты Демулена, мемуары мадам Роллан и Левассера.
– Какие это люди, какое время! Увидим ли мы таких героев, услышим ли мы подобное непревзойденное красноречие? – шепчет горбун.
Маркс вытирает перья.
Не таких еще героев и не такое красноречие узнает мир!
Библиотекарь стар, Карл молод. Перед ним десятилетия жизни.
Каких-нибудь 50 лет, чуть больше, отделяют его от французской революции. Не затихла с тех пор Европа. Неугомонная Европа.
Все может быть, и все будет. Кризисы, войны, революции.
Библиотекарь не верит. Настоящее кажется ему таким прочным…
Маркс перелистывает книги. Он отмечает ошибки якобинских стратегов, и, однако, не это, по его мнению, определило тот, а не иной путь революции. Что же? И Рикардо и Адам Смит приходят на смену Робеспьеру. Но и экономическая наука не исчерпывает поставленного вопроса. Карл читает, конспектирует, ищет причины. История как военная карта на столе полководца. Даты как поля битв.
Тени великой революции окружают Маркса. Шаг за шагом он идет по ее следам. Он спорит с мадам Роллан, он обвиняет ее в слепоте и узости. Жирондисты говорят с трибуны Конвента.
– Чьи интересы вы защищаете? – допрашивает их Карл. – Вы, предки нынешних буржуа у власти.
Марат, больной и раздраженный, принимает Маркса.
Он в ванне, покрытой простыней. Он громит врагов народа. Революция в опасности, реакция наступает из всех щелей республики. Справа и слева.
– Слева? – переспрашивает Маркс.
Жак Ру, Леклерк, Роза Лакомб – люди предместий. Их тоже преследует язвительный Друг народа, которого завтра пронзит кинжал монархистки-дворянки…
Карл идет мимо дома Марата на улице Кордельеров. Он торопится в Конвент. Но не пышные слова ораторов интересуют его. В комнате подле зала лежат списки верховного органа революции.
– Покажите мне их, – требует Карл.
Тонконогий писец в голубом кафтане подает ему нарядную тетрадь. Маркс смотрит в графу о профессии. Юристы, торговцы, солдаты. Он уже готов отложить списки,
– Неужели ни одного?
– Кого ищет гражданин?
– Рабочих.
Писец в затруднении.
– Есть, – говорит он, ударив себя по лбу, – есть один член Конвента рабочий из Реймса. Есть и еще один. А вот это ремесленник…
Карл благодарит и уходит, едва заглянув в списки.
9 термидора – в ратуше. Вместе с Филиппом Лева выглядывает он на площадь. Не колебания Робеспьера волнуют его, не болтовня делегатов из секций, не смерть якобинцев. Безлюдная площадь кажется ему приговором. Равнодушие окраин страшно, как гильотина.
Карл в раздумье опускает голову. Быстро бежит перо по узким листам. Дата за датой. Тетрадь за тетрадью.
Смеркается, когда Маркс отрывается, наконец, от книг и конспектов. Улицы вокруг библиотеки темны, узки, невеселы, как в дни, когда тележка бравого палача Сансона провозила по ним на Гревскую площадь дань «народной бритве» – гильотине. На углу старик, помнящий Наполеона, продает газеты. На последней странице, между подробным описанием убийства из ревности и советами хозяйкам, – краткое сообщение о восстании ткачей в Силезии. Незыблемая европейская почва снова колеблется. Карл сорвал шляпу и помахал ею. То был немой клич, бодрое приветствие. От Бреславля до Майнца, от Регенсбурга до Штеттина, над всей Германией шквалом пронеслись бунты и восстания. Силезцы не одиноки.
На улице Ванно Марксы читают стихи Гейне.
Угрюмые взоры слезой не заблещут!
Сидят у станков и зубами скрежещут:
«Германия, саван тебе мы ткем,
Вовеки проклятье тройное на нем!
Мы ткем тебе саван!
Будь проклят бог! Нас мучает холод,
Нас губят нищета и голод,
Мы ждали, чтоб нам этот идол помог,
Но лгал, издевался, дурачил нас бог,
Мы ткем тебе саван!
Будь проклят король и его законы!
Король богачей, он презрел наши стоны,
Он последний кусок у нас вырвать готов
И нас перестрелять, как псов!
Мы ткем тебе саван!
Будь проклята родина, лживое царство
Насилья, злобы и коварства,
Где гибнут цветы, где падаль и смрад
Червей прожорливых плодят!
Мы ткем тебе саван!
Мы вечно ткем, скрипит станок,
Летает нить, снует челнок,
Германия, саван тебе мы ткем!
Вовеки проклятье тройное на нем!
Мы ткем тебе саван!»
Бывшие друзья, узнав от Руге, что шалый Маркс сошелся с немецкими подмастерьями-коммунистами в Париже, злобно напали на него. Неистовство политической вражды безгранично.
Женни не всегда остается равнодушна к пасквилям, но Карл веселится от всей души, перечитывая смесь лжи и бессильной злобы.
– На войне как на войне, – говорит он. – Классовая борьба беспощадна. Это борьба не на жизнь, а на смерть.
Маркс постоянно изучал жизнь простого народа, ему хотелось как можно глубже узнать быт, нравы, интересы, суждения, страдания и радости, как он сам писал, бедной, политически и социально обездоленной массы. Его особенно интересовали законы, ущемляющие неимущих людей, он исследовал положение мозельских крестьян, выступал против духовного, политического и социального гнета, царившего в Пруссии и во всей Германии. Именно в годы своего сотрудничества в «Рейнской газете» Маркс подошел вплотную к выяснению классовой структуры немецкого общества, к пониманию социализма. Постепенно молодой ученый и журналист перестал отделять вопросы чистой политики от экономических отношений.
К различным утопическим коммунистическим учениям Маркс относился критически, однако считал свои знания еще совершенно недостаточными для того, чтобы высказать окончательное суждение. Чрезвычайно требовательный к самому себе, Маркс досконально изучал каждый предмет, прежде чем судить о нем окончательно. Он писал в «Рейнской газете», что коммунизм – это важный современный вопрос, выдвигаемый самой жизнью, борьбой того сословия, которое в настоящее время не владеет ничем, иными словами – пролетариатом.
Когда Маркс из революционного демократа становился коммунистом, изменялось одновременно и его мировоззрение, совершался переход от идеализма к материализму. Так на мировом небосклоне появился новый большой философ, которому предстояло стать основателем науки о социализме и современном материализме.
Незаконченная обширная рукопись Маркса «К критике гегелевской философии права» стала весьма важной вехой в возникновении нового философского учения. Исследования Гегеля привели Маркса к выводу, что «анатомию гражданского общества следует искать в политической экономии».
Переход от идеализма к материализму и от революционного демократизма к коммунизму окончательно совершился в статьях и письмах Маркса, опубликованных в «Немецко-французском ежегоднике». В них он наметил программу журнала и усмотрел его задачу в «беспощадной критике всего существующего». Маркс выступил против догматизма, который был свойствен всей прежней философии и утопическому коммунизму. Он обрушился на схематиков, проповедующих раз и навсегда сформулированные решения, якобы годные для всех грядущих времен. Решительно отвергая оторванные от жизни, от практической борьбы масс умозрительные теории, Маркс выдвинул задачу – связать теоретическую критику старого общества с практикой, с политикой, «с действительной борьбой».
В статье «К еврейскому вопросу», осуждая Б, Бауэра за идеалистическую, теологическую постановку национального вопроса, Маркс развил важную мысль о коренном различии между буржуазной и социалистической революцией, которая должна освободить человечество от всякого социального и политического гнета. В работе «К критике гегелевской философии права. Введение», опубликованной в «Немецко-французском ежегоднике», Маркс впервые указал на пролетариат как на общественную силу, способную осуществить социалистическую революцию.
Итак, Маркс выступил уже как революционер, обратившийся к труженикам с призывом начать беспощадную борьбу против существующего строя, против феодальных и буржуазных правительств, против социального неравенства.
Был август 1844 года. Сен-Жерменское предместье опустело Новая, безмерно богатая финансовая знать и укрепившиеся после Реставрации аристократы выехали в свои поместья в Бретань, в сумрачные замки у медлительной Луары и на Пиренеи.
Карл Маркс целыми днями работал. Книги по экономике, философии, мемуары деятелей французской буржуазной революции, статистические таблицы, парламентские отчеты, мрачные, как кладбищенский регистрационный перечень, – все привлекало его внимание. Желая отдохнуть, он перелистывал Шекспира, из которого многое знал наизусть, смеялся над проделками хитроумного Жиля Блаза, зачитывался Бальзаком. Ни одна новая книга Гейне, Жорж Санд, Мюссе, Гюго, Мериме не ускользала от его внимания.
Маркс сильнее ощущал свое одиночество в огромном городе, особенно в неистовой уличной толпе. Прошло уже несколько месяцев, как Женни уехала в Трир к матери и увезла туда тяжело болевшую дочурку. Нетерпеливо ждал Карл возвращения жены и ребенка, побеждая тоску напряженной работой.
Фридрих Энгельс решил не позднее сентября 1844 года побывать в Париже, чтобы снова повидаться с Марксом. Их первая встреча в 1842 году была холодной. Под влиянием писем братьев Бауэров, крайне раздосадованных тем, что Маркс навсегда резко порвал с «Кружком свободных», Фридрих отнесся с некоторым недоброжелательством к редактору «Рейнской газеты». Маркс, заподозрив в Энгельсе единомышленника берлинских «Свободных», ответил ему тем же.
С тех пор прошло почти два года, и Энгельс понял, что ко времени первой встречи с «неистовым трирцем» он не достиг еще той ясности, глубины мысли и анализа, которые были уже у Карла. Давно оценил Энгельс по достоинству заблуждения и напыщенные разглагольствования «Свободных», разглядел истинную сущность краснобаев Бауэров.
Мысль Фридриха была отныне прочно прикована к экономике, этой пружине, столь отчетливо выпирающей из-под всех покрывал, набрасываемых на нее буржуазным обществом. Перед внимательным взором Фридриха прошли чартистские восстания, сотрясавшие буржуазную Англию, забастовки голодающих рабочих, бунты луддитов против машин.
Когда Фридрих начал изучать положение рабочего класса в Англии, он был потрясен, как первооткрыватель, вступивший на новую землю. Энгельс писал обо всем Марксу, и между ними, вначале незаметно, протягивались нити полного доверия и понимания, из которых ткется дружба, не разрушаемая ни временем, ни опасностями.
Свое сотрудничество в «Немецко-французском ежегоднике» Энгельс начал с критики политической экономии, подобно тому как Маркс штурмовал и низвергал гегелевскую философию права. Полная задора и блеска статья «Наброски к критике политической экономии» привела в восхищение требовательного Маркса. Он назвал эту статью Энгельса «гениальным наброском». В ней 24-летний автор вскрыл некоторые противоречия буржуазного общества. Он добрался до ядра всех бед – до частной собственности.
Энгельс заглянул в недра общества, в котором жил. Он увидел страшные последствия капиталистической конкуренции, кризисов и смертельную борьбу классов. Он задумался над тем, что даже достижения науки при господстве частной собственности вместо освобождения несут человечеству ад и рабство.
Познакомившись поближе с Энгельсом по его письмам и статьям, Карл Маркс безошибочно понял, что это человек могучего ума и дарования.
Через хмурый, зелено-серый Ла-Манш, отделяющий Англию от Франции, Маркс и Энгельс мысленно протянули друг другу руки.
В конце августа 1844 года Фридрих выехал из Манчестера в Лондон. Как всегда, его поразило чудовищное однообразие во внешнем облике этого города. Покуда громоздкий кеб вез его по улицам, он думал, что лондонский «юг» едва ли отличим от «севера» и «юго-востока». Всюду выстроились в ряд совершенно одинаковые гладко-серые дома. Между ними, как во рту с испорченными зубами, чернеют щели – уличные тупики. На замызганных рундуках торгуют рыбой, перезревшими овощами и фруктами, несвежими яйцами, изношенным тряпьем.
Фридрих невольно сравнивал нарядную толпу, прогуливающуюся по Пиккадилли, с худосочными детьми, которых вели жалкие женщины, кутающиеся в полинявшие шали. Кеб свернул в близлежащий квартал Сохо, заселенный безработными, чужеземцами, ремесленниками, затем выбрался на набережную Темзы. Вдали был виден порт, за ним начинались доки.
Через несколько дней Энгельс был в Париже. Он располагал всего десятью днями свободного времени, так как его настойчиво звали в Германию родные. Ему очень хотелось скорее увидеть прохладную долину Вуппера, где расположены вблизи друг от друга родной Бармен и Эльберфельд. Но он решил, хотя бы проездом, повидать Маркса, познакомиться с ним поближе.
Вечерело, когда в квартире на улице Ванно раздался резкий звонок. Карл сам открыл дверь.
Перед ним, держа в руках цилиндр и трость, стоял очень молодой человек с большими, широко расставленными серыми глазами, смотрящими прямо, испытующе и смело.
Карл сразу же охватил взглядом вошедшего. Это бывает не всегда. Иногда люди долго не запоминаются, и впечатление от них меняется со временем. Лицо гостя отражало волю и ум, добродушие и наблюдательность Карл как-то по-новому увидел и чистоту светлой кожи, и нос с широкими подвижными ноздрями, и большой добрый рот. У гостя была маленькая, тщательно подстриженная каштановая бородка. Густые русые волосы были расчесаны на пробор и переходили в узкую полоску бакенбардов, обрамлявших овальное лицо.
Он был высок, широкоплеч, худощав и щегольски одет.
– Входите, Энгельс, я рад, очень рад вас видеть, – сказал Карл.
– Вы узнали меня, Маркс? Я проездом в Париже, еду из Англии в Германию. Хотел бы…
– Да входи же, – прервал приветливо Маркс.
Через несколько минут Фридрих и Карл сидели
за маленьким столом, и казалось им, что они давным-давно дружны.
– Ваши наброски к критике политической экономии превосходны. Вы сказали то, что не было еще открыто никем: все противоречия буржуазной экономики порождены частной собственностью. Вы далеко опередили Прудона, который борется с частной собственностью, погрязнув в ней сам. Я тщательно изучил вашу статью, – сказал Маркс.
Фридрих покраснел, сильно смутился.
– Вы переоцениваете мои заслуги, доктор Маркс. Это только первые шаги. Все, что я сделал, вы открыли бы и без меня, если бы не занимались здесь другими вопросами.
Карл разлил вино и предложил выпить на брудершафт.
Энгельс смотрел с чувством нарастающей симпатии на широкоплечего, коренастого собеседника. Черные волосы грозными волнами обрамляли великолепный лоб. Неотразимо привлекал прямой веселый взгляд глубоких черных глаз Карла. Столько мыслей было выражено в них, столько силы они излучали!
– Оба мы пришли к одним и тем же выводам, – говорил между тем Маркс. Он встал, закурил сигару и начал ходить по комнате. – Мы убеждены в том, что именно пролетариат несет в себе великую миссию преобразования мира и человечества. Победа его неизбежна!
– Я тоже не сомневаюсь в этом! – воскликнул Энгельс.
– Если у тебя есть терпение, Фридрих, я прочту тебе кое-что, о чем неустанно думаю все последнее время. Многое из написанного, кстати, найдено мною после чтения твоей статьи.
Они стояли друг против друга, оба широкоплечие, сильные, молодые.
– Видишь ли, – сказал Маркс, – для уничтожения идеи частной собственности вполне достаточно идеи коммунизма. Для уничтожения же частной собственности в реальной действительности требуется коммунистическое действие.
Маркс открыл тетрадь и, перелистав несколько страниц, стал читать:
– «Когда между собой объединяются коммунистические рабочие, то целью для них является прежде всего учение, пропаганда и т. д. Но в то же время у них возникает благодаря этому новая потребность, потребность в общении, и то, что выступает как средство, становится целью. К каким блестящим результатам приводит это практическое движение, можно видеть, наблюдая собрания французских социалистических рабочих. Курение, питье, еда и т. д. не служат уже там средствами соединения людей, не служат уже связующими средствами. Для них достаточно общения, объединения в союз, беседы, имеющей своей целью опять-таки общение; человеческое братство в их устах не фраза, а истина, и с их загрубелых от труда лиц на нас сияет человеческое благородство».
Энгельс внимательно вслушивался в каждое слово. Он вспомнил свои разговоры с рабочими Вупперталя, Бремена, Манчестера и Лондона.
– Все это верно, – сказал он убежденно.
– Но вернемся к философии, – продолжал Маркс, – нам с тобой неизбежно придется проверить свою философскую совесть. Мы ведь шли одними дорогами.
Энгельс Наклонил голову в знак согласия, но добавил:
– Я плутал в этой чаще дольше тебя, Карл.
– Все же и ты выбрался из нее вовремя, – снова заговорил Карл, тяжело шагая по комнате и продолжая курить. – Нельзя отказать Фейербаху в том, что он решительно покончил со всеми религиями, как бы они ни назывались. Помнишь его вопрос и ответ? «Что есть бог?» Немецкая философия разрешила его так: «Бог – это человек». Вот оно – ядро новой религии, культ абстрактного фейербаховского человека. Где же действительные люди в их историческом развитии? Несмотря на свою гениальность, Фейербах их не видит. Его человек есть сущность всего, но это неверно; человек – совокупность общественных отношений, плод общественного развития.
Табачный дым давно уже плыл по комнате густым облаком. Заметив это и вспомнив наказ жены курить меньше, Карл широко раскрыл створки окна. С шутливой печалью он погасил окурок сигары, отложил коробок со спичками, затем подошел к письменному столу и достал еще несколько густо исписанных неровным почерком тетрадей. Карл снова начал читать. Это были мысли, самые дорогие и важные для него, итоги многих лет, воплощенные в слово.
Маркс спорил с Гегелем. Слова его обрушивались, точно скалы, расплющивая противника.
– Не думаешь ли ты, Фред, что иногда мысли у Гегеля будто какие-то застывшие духи, обитающие вне природы и вне человека. Он, подобно Пандоре, собрал их воедино и запер в своей «Логике».
Энгельс кивнул утвердительно головой и живо заметил:
– Все семейство Бауэров не перестает нападать на нас в своей газете, заклиная этих самых духов и высокомерно обрушиваясь на все живое. Пора дать сокрушительный отпор и опровергнуть их бредни. Они не перестанут твердить, что лучшее поле битвы – это чистая фолософия.
– Мое давнишнее желание – сразиться с ними, Фридрих. Блестящая мысль! Мы не станем откладывать этого дела ни на один день, – ответил Маркс.
– До какой нелепости дошли Бауэры и какое пренебрежение у них к народу, к массе, видно по их последнему кредо. Помнишь, с каким высокомерием Бруно говорит о народе: «великие дела прежней истории были ошибочны с самого начала и не имели успеха, потому что ими интересовалась и восторгалась масса».
– Да, Фридрих. Противопоставление духа массе проходит через все изречения Бруно Бауэра в его «Всеобщей литературной газете». Я рад, чтв Кеппен не поддался на эту удочку и не доводит философию Гегеля до отвратительной абстракции.
– Братья Бауэры видят не дальше своих, правда довольно длинных, носов. Но самомнение их при этом безгранично. Заметь, они все еще тщетно пытаются вознестись за облака на пуховике из философских лоскутов. Они критикуют все подряд, особенно то, что пугает их днем и ночью, – все массовые движения, будь то социализм, французская революция, христианство, англиканство, противоречия и борьба в промышленности. Еще бы, ведь все это тесно связано с массами, с людьми, – горячо говорил Энгельс. – Итак, вызов Бауэров мы принимаем!
– Это будет наша первая совместная работа, Фред.
В этот погожий вечер Энгельс поздно ушел из квартиры на гористой тихой улице Ванно. Он был счастлив.
Во время своего краткого пребывания в Париже Фридрих написал семь разделов книги, критикующей братьев Бауэров.
В эти дни ему казалось, что сутки необычайно коротки и главное, чего не хватает человеку, – это времени.
Через несколько дней он выехал в Бармен, где в чинном патриархальном доме ждали его придирчивый, деспотический, поучающий отец, нежно любимая, чуткая и, ласковая мать и еще семеро деятельных, румяных и жизнерадостных братьев и сестер! Они не предавались никаким сомнениям и размышлениям и твердо верили, что быть фабрикантами или их женами самый завидный удел на земле.
Но невесело жилось Фридриху Энгельсу в доме его отца. Ему ненавистна была предпринимательская деятельность с самых молодых лет, и он намеревался порвать с отцовским делом при первом удобном случае, а если потребуется, то и вызвать этот разрыв любыми средствами. Мог ли он думать тогда, что ради дружбы, ради того, чтобы поддержать в беде товарища, ему придется хотя и с болью в сердце, но добровольно заниматься торговыми и производственными делами своего отца долгие десятилетия.
Энгельс как-то писал Марксу о своем тяжелом состоянии из-за двойственности существования:
«…Видя огорченные лица обоих стариков, я опять попытался взяться за коммерцию и… немного поработал в конторе.…Но мне это опротивело раньше, чем я начал работать, – торговля – гнусность, гнусный город Бармен, гнусно здешнее времяпрепровождение, а в особенности гнусно оставаться не только буржуа, но даже фабрикантом, то есть буржуа, активно выступающим против пролетариата. Несколько дней, проведенных на фабрике моего старика, снова воочию показали мне… эту мерзость, которую я раньше не так сильно чувствовал. Я, конечно, рассчитывал иметь дело с коммерцией только до тех пор, пока мне это будет удобно, а там написать что-нибудь предосудительное с полицейской точки зрения, чтобы иметь благовидный предлог перебраться за границу. Но я не выдержу так долго. Если бы я не должен был ежедневно регистрировать в моей книге отвратительнейшие картины из жизни английского общества, я, вероятно, уже успел бы прокиснуть, но именно это давало новую пищу моему бешенству. Можно еще, будучи коммунистом, оставаться по внешним условиям буржуа и вьючной скотиной торгашества, если не заниматься литературной деятельностью, – но вести в одно и то же время широкую коммунистическую пропаганду и занятия торгашеством, промышленными делами, этого нельзя. Довольно, на пасху я уеду. К тому же еще эта усыпляющая жизнь в семье, насквозь христианско-прусской, – я не могу больше этого вынести, я бы мог здесь в конце концов сделаться немецким филистером…»
Вскоре после отъезда Энгельса вернулась из Трира в Париж с выздоровевшим ребенком Женни Маркс. В квартире на улице Ванно жизнь пошла по-обычному.
Летом и осенью 1844 года Карл часто бывал на окраинах Парижа, где встречался с рабочими и ремесленниками.
В самой просторной комнатке какого-либо дома собирались портные, столяры, кузнецы, печатники, прядильщики. Разговор шел о невыносимо длинном рабочем дне, о дороговизне и высокой квартирной плате за лачуги. Как-то заговорили о Гизо и короле.
– Из-за интриг монархов погибли французские матросы, – сказал кто-то.
– Уста короля болтают о благе французского народа, – ответил бородатый столяр, намекая на Гизо, которого Луи Филипп называл «мои уста», – да только под народом понимают банкиров, спекулянтов и пройдох.
– В тюрьме Огюст Бланки и Барбес. Некому свернуть шею монархии. Много говорим, мало делаем, – сказал типографский рабочий, член тайного Общества времен года, созданного Бланки.
– Нет смысла лезть в драку, заранее зная, что побьют. Хватит, нас довольно били. Выступать, так уж чтоб победить.
Маркс одобряюще взглянул на говорившего.
С января 1844 года в Париже начала выходить два раза в неделю немецкая газета «Вперед». Она предназначалась не только для немцев, живущих во Франции, но также для читателей в Пруссии и других немецких королевствах и княжествах. Газета искала опору в германском юнкерском реакционном патриотизме.
Первым редактором газеты был Адальберт фон Борнштедт, отставной прусский офицер.
Всегда невозмутимый, предпочитавший быть незаметным, слушать, а не говорить, фон Борнштедт был оценен высшими чинами полиции Австрии. Его безукоризненный автоматизм, светские манеры, кое- какие знания привели в восхищение и внушили полное доверие даже такому знатоку людей, как Меттерних. Князь не раз принимал Адальберта по условному письму, в ночное время, в одном из потайных залов своего замка Иоганнесберг.
Тайный шпион Меттерниха, немец по происхождению, не довольствовался только этой службой. По совместительству фон Борнштедт был также шпионом и прусского правительства. Оно весьма дорого оплачивало его услуги.
Продавая то Пруссию Австрии, то Австрию Пруссии, а иной раз и обе эти страны России, Адальберт внимательно следил в Париже за эмигрантскими кружками. Пост редактора пришелся ему весьма кстати – как удобное прикрытие.
Фон Борнштедт промахнулся, начав борьбу с «Молодой Германией». Он рассердил берлинских филистеров – зажиточных горожан, которые изображали из себя сторонников реформ и прогресса. Между двумя кружками пива, после сытных сосисок они охотно занимались критикой правительства, не приносившей, впрочем, никому вреда и способствовавшей пищеварению. Курс, взятый газетой «Вперед», их сначала разочаровал, а затем и возмутил.
Еще раньше своих соотечественников отвернулись от газеты парижские эмигранты.
Тщетно печатал фон Борнштедт статьи, в которых обещал, что газета откажется от всяких крайних взглядов, как реакционных, так и революционных. Он был готов на все, лишь бы сохранить добрые отношения с немецкими эмигрантами и не отпугнуть их от газеты. Ведь это была та дичь, за которой его послало охотиться прусское правительство.
Но, прочитав и эти лояльные высказывания, эмигранты не поверили редактору и издателю. Тираж газеты резко упал. Заметив изменение курса газеты, департамент тайной полиции в Берлине доложил правительству о возмутительной пропаганде газеты и добился запрещения ввоза ее в Пруссию. Остальные немецкие правительства последовали этому примеру. Адальберт фон Борнштедт, ожидая головомойки, поехал в Берлин с покаянием. На посту редактора его сменил молодой, чрезвычайно болтливый, легковерный, но пылкий журналист, юрист по образованию, Бернайс. И тотчас же к газете примкнули многие немецкие эмигранты, живущие в Париже.
Маркс, искавший трибуну для продолжения борьбы, начатой в «Рейнской газете», решил воспользоваться приглашением сотрудничать в газете «Вперед».
В помещении редакции всегда было накурено, шумно и многолюдно. Несколько раз в неделю там собирались сотрудники: Маркс, Бернайс, Гейне, Гервег, Бакунин, Вебер, Руге.
Иногда в редакции поднимался словесный ураган, в котором трудно было что-либо разобрать, порою затевалась праздная беседа. Бернайс, прерывая монологи Руге и Бакунина, таинственно сообщал о последних событиях в высшем обществе и за кулисами театров.
Маркс терпеть не мог празднословия. Истребляя одну за другой сигары, он нередко властно прекращал разглагольствования и призывал всех к делу. Ему не перечили. Маркс скоро стал душой газеты. Уверенно и вместе с тем скромно он подсказывал темы статей, неотступно следил за тем, чтобы газета сохраняла прогрессивное направление. Маркс фактически редактировал ее и писал иногда передовые статьи, а также лапидарные заметки без подписи.
Врач Вебер не обладал специальными познаниями в области политической экономии, по был образованным и способным популяризатором. Маркс, оценив это, со всей присущей ему щедростью делился с Вебером своими мыслями. Он дал ему свои рукописи, из которых тот почерпнул важнейшие теоретические положения и цитаты для своих статей. Вебер п доходчивой форме повторял многие выводы Маркса о значении денег в буржуазном обществе.
Руге как-то напечатал в газете несколько заметок и статей о прусской политике, которые снабдил всевозможными сплетнями о нелестных чертах характера прусского короля-пьяницы, привычках хромой королевы. Одну заметку он закончил предположением, что прусская королевская чета состоит только в «духовном» браке. Всю эту пошлость Руге подписал не своей фамилией, а псевдонимом «Пруссак».
«Кто же это такой?» – недоумевали читатели. Сам Руге был некогда гласным городской думы Дрездена и числился в списках саксонского посольства во Франции.
Женни Маркс, прочитав подленькие статьи, подписанные «Пруссак», заволновалась. Она знала о провокационных слухах, будто под этим псевдонимом скрывается Маркс.
– Кто такой «Пруссак»? Читателя явно наводят на ложный след, – сказала она гневно, протягивая газету мужу. – Неужели ты думаешь оставить без ответа пущенную в тебя отравленную стрелу?
Карл любил схватки и предвкушал победу, как всякий человек, убежденный в своей правоте.
– Отвечать надо так, чтобы не уподобиться Руге, который стремительно опускается на самое дно беспринципности. Он жалок и труслив. Есть своя логика у человека, когда он становится предателем: сказав «а» в алфавите отступничества, он неизбежно произносит все буквы до последней… Руге очень скоро доползет на брюхе до прусского министерства иностранных дел, будет каяться и вымаливать прощение, сваливая на бывших товарищей свои грехи.

«Рейнская газета», редактировавшаяся К. Марксом









