Воистину велика изначалъность юань знака Цянь!
Тьма сущностей берет [отсюда] начало,
Поэтому [они] объединены Небом.
Движет облака, вызывает дождь,
Распределяет по родам сущности, вливает формы,
В великой ясности конца и начала,
Шесть положений образуют время,
Время едет на шести драконах,
и так управляются Небеса.
Дао знака Цянь в изменениях-преображениях,
Категоризирует и направляет природу, снн,
и судьбу, мин.
Сохраняет великую гармонию,
Поэтому "в выдержке удача".
Появляется глава над всеми сущностями,
Все государства процветают в умиротворении.
ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ[61]
Мы видим теперь, что постоянство в Переменах — это просто часть жизни. Жизнь не статична, не задана раз и навсегда, она вечно то вздымается, как струя фонтана, то опадает. Постоянство она сохраняет в движении. Мы видим теперь, что постоянство в Переменах восходит к принципу знака Сяо чу, «Удерживание малым», которое делает «Творящее», Цянь, видимым. Проявление «Творящего» происходит в соответствии с неотменимыми законами и предполагает, в случае знака Сяо чу, полное самоотречение. То что может заставить Цянь, «Творящее», проявиться в существующем, само должно исчезнуть, раствориться в акте творения. Оно лишается собственного бытия превращаясь в энергию, необходимую для воплощения нового в грядущем. Сюнь гуа в этом знаке можно сравнить с мостом между прошлым и будущим.
Да чу, 26
 Удерживание великим»
Удерживание великим»
| Но все сказанное ранее останется незавершенным, если мы не рассмотрим еще один аспект постоянства в Переменах, представленный в знаке Да чу, «Удерживание великим»  . Он вплотную приближает нас к реальности, хотя на на неискушенный взгляд, кажется, мало чем отличается от знака Сяо чу, «Удерживание малым» . Он вплотную приближает нас к реальности, хотя на на неискушенный взгляд, кажется, мало чем отличается от знака Сяо чу, «Удерживание малым»  . В Сяо чу «Творящее», . В Сяо чу «Творящее»,
|
Цянь, Небо, — внутри, а Сюнь, «Мягкость», «Проникающее», Ветер, — снаружи. Единственная слабая черта должна удерживать весь гуа, когда Ветер проносится по Небу, нагоняя дождевые тучи. В Да чу податливых черты уже две, а внизу — по-прежнему три сильные черты. Цянь, «Творящее», Небо, теперь внизу, а вверху — Гора, Гэнь. Но разница между знаками Сяо чу и Да чу измеряется не количеством черт, и прибавление податливой черты совсем не означает усиления сдерживающего начала. Различие лежит в форме составляющих первичных гуа. Вверху Гэнь, Гора, «Покоящееся» , — и появляется что-то ощутимо реальное: Небо в недрах Горы.
Мифы многих народов рассказывают о небе внутри горы. Снова и снова возникает образ чего-то массивного, высокого, мощного, содержащего полость или пещеру, внутри которой — небо, небо хотя отличающееся от привычного нам, но исполненное творческой силы. Этому миру дано проявлять формы, и однажды он явится в сущее как провозвестник золотого века. Не только в наших немецких сказаниях, но также и в далекой Азии встречается идея неба-пещеры.
Часто, почти всегда такие сказания являются метафорами чего-то происходящего внутри человека. Также и здесь: творческие силы укрощены и собраны воедино «Покоящимся», Гэнь. Творческие силы, стремящиеся вырваться наружу, резко тормозятся; задержанные таким образом, они создают форму, которая не только находит выход в виде идеи, но процесс продолжается до тех пор, пока они не станут частью реальности.
«Туань», «Суждение», к знаку «Удерживание великим»: «Да чу, УДЕРЖИВАНИЕ ВЕЛИКИМ. Благоприятна выдержка. Не вкушать дома — к удаче. Благоприятна переправа через великий поток». «Образ», «Сян», гласит: «Небо внутри Горы: УДЕРЖИВАНИЕ ВЕЛИКИМ. Цзюнъ-цзы так познает многие речения древности и деяния прошлого, воспитывая Дэ, суть».
Прежде всего необходимо преодолеть субъективность. Внутренние творческие силы должны плодотворно использоваться в окружающем мире. Возможна следующая интерпретация образа: нижняя податливая черта, порождаемая отрицательным полюсом, указывает на эмоциональную сферу. Эмоции — Ветер, несущийся по Небу — могут быть мощным стимулом, но они настолько подвижны, что одна сменяется другой прежде, чем возникающая форма воспримет какое-либо влияние. Эмоции проносятся как шторм, бесследно исчезая, — и все остается по-прежнему. Поэтому эмоциональное начало, вегетативный аспект чувствительности, само по себе не способно создать ничего прочного. Оно стимулирует, начинает, но никогда не доводит до конца.
Средняя податливая черта обозначает субъекта. Она находится в позиции правителя, на границе сознания. Это — сознание «Я». Но «Я» само по себе не обладает никакой особой силой. Его можно сравнить с лучом прожектора, разрезающим пространство эмоций. В свете «Я» все представляется другим, и только сам луч, кажется, остается неизменным. Но это не так, поскольку освещаемое им пространство тоже находится в постоянном движении. Перед нашими глазами течет поток без начала и конца. Попадая в луч прожектора, воды на секунду вспыхивают мириадами огней и опять возвращаются во тьму. Таково «Я», на фундаменте которого зиждятся все наши построения, хотя само оно столь же непостоянно, как и все остальное. Непостоянство «Я» дает о себе знать даже на протяжении одного дня. Только потому, что мы вообще способны вообразить постоянство, мы приписываем стабильность собственному «Я». В действительности у него нет даже непрерывного существования. Сознание периодически отключается — во сне, в состоянии обморока, когда мы мечтаем. Но жизнь не останавливается во мраке бессознательного. Мы пробуждаемся, и память подсказывает, откуда начать. Мы сопрягаем новое со старым, привычно не замечая разрыва, и так поддерживаем идеальную картинку «Я», стабильного в любых переменах.
Иллюзорность этой картины яснее, чем кто-либо другой, осознал Будда. Он считал «Я» источником всех страданий. «Я» создает неразрешимое противоречие. Так как оно абсолютно бестелесно, оно всегда обязано своим существованием чему-то вне себя. Раскол необходимо присутствует в «Я», потому что «Я» находит нечто, не излучающее собственного света, и светит через него. Что мы обозначаем как наше «Я»? Тело ли это, которое неузнаваемо меняется в течение каких-нибудь трех-четырех лет? Или это что-то происходящее в душе, постоянства в которой ничуть не больше, чем в теле? Любовь? Ненависть? Жадность? Отвращение? Эмоции приходят и уходят; радость и страдание вечно сменяют друг друга. Неизменным кажется лишь стремление к счастью и желание избежать беды. Но стремления эти, похоже, лишь еще крепче привязывают человека к преходящему. Стремление к счастью и бегство от несчастья, страх и надежда отравляют жизнь больше всего. Они лишают нас даже тех моментов, когда «Я» по крайней мере реально. Они лишают нас настоящего, отбрасывают к призракам прошлого, к его магическим образам и одновременно отнимают их и манят потерянным раем. Или же эти чувства увлекают нас вперед, в лишенное качеств, туманное будущее, которое спешит нам навстречу из мрака на свет «Я». И мы устремляемся к нему в наших мыслях, страшась и надеясь, теряя последнюю возможность насладиться, хотя бы на секунду, тем, что есть.
Поэтому Будда считал жизнь иллюзорной. Иллюзорность не означает невещественности; здесь подразумевается, что основное свойство иллюзии — страдание. «Я» не существует, это всего лишь конгломерат состояний души, которые кажутся реальными, покуда находятся в поле внимания, где они обрастают отличительными признаками. Но само «Я» остается тем же — несуществующим, пребывающим в плену преходящего. Сама по себе мимолетность не вызывает страдания. Каждое мгновение замкнуто на себя и, каким бы ужасным оно ни было, минет секундой позже. Радость или страдание — в текущем моменте они одинаково не существуют. Только желания и жадность «Я» раскручивают колесо страданий. «Я» тянется к иллюзорной пище преходящего. Но насытиться иллюзией невозможно, и поэтому желания всегда вспыхивают с новой силой.
К такому обескураживающему выводу пришел Будда, направив неизвестные нам, европейцам, энергии на анализ «Я»-комплекса. Будда использовал абсолютно незаинтересованную мысль и свою интуицию для создания точного и острого инструмента, противостоять которому невозможно. Спасение пришло к Будде, так как Ничто обретает силу, чтобы растворить все, что существует. В то самое мгновение, когда «Я» разорвано на части, мы понимаем, что это не разорванность «Я». Что это — мимолетная эмоция, движение жизни, порождающее и увековечивающее жадность и невозможность насытиться. Мы узнаем его по бессмысленности, по собственной зависимости от этого бесконечного потока из глубины. Когда это становится очевидным — благодаря проницательности, с которой Будда растворяет сущее, всю жизнь, — «Я» исчезает. Без «Я» материальное существование может еще продолжаться какое-то время, как вращается по инерции гончарный круг после того, как гончар завершил свою работу. Но цикл уже не возобновится. Спасение пришло.
От этой суровой концепции жизни не отделаешься парой красивых слов. Это бездна, в которую необходимо решиться заглянуть хотя бы раз, чтобы получить право высказать свое мнение. Если человек не готов сам последовать за мыслью Будды, пройти с ним весь трудный путь, он не сможет предложить ничего взамен, потому что концепция Будды радикальна и окончательна.
И все-таки «Книга Перемен» предлагает иной взгляд на мир, хотя бытие во времени и пространстве в ней не более постоянно, чем в учении Будды. Для создателей «И цзин» очевиден факт, что изменение не имеет начала и что оно воспроизводится бесконечно. Из «И цзин» также явствует, что все преходяще, что вещи не обладают собственной реальностью, но являются лишь сиюминутными воплощениями чего-то иного. «Книга Перемен», как и китайская мысль в целом, признает, что, если человек позволит вещам превратить его в вещь, он будет страдать — от внутреннего конфликта, ибо человек — не вещь, но субъект. Он будет страдать как объект, с которым сам отождествит себя. Человек сам создает источник своих страданий, поэтому с этих позиций преодоление учения Будды возможно. Хотя слова следует выбирать осторожнее. Преодолеть учение Будды, конечно, невозможно. Мы можем только поставить его рядом с другим учением, которое, в свою очередь, самодостаточно. Есть два пути (и не думаю, чтобы нашелся третий), две альтернативы существования, и индивид выбирает то, что диктуют ему его судьба и природа.
Вернемся к знаку Да чу:

Мы уже говорили о четвертой черте и описали ее как слабую черту вегетативной жизни, эмоций, чувствительности. Мы говорили и о пятой черте, также слабой, — черте субъективного опыта. Осталась верхняя сильная черта, черта Неба, «Творящего», Закона. Над вегетативной жизнью ощущений и примитивной чувствительности, над колебаниями субъекта между страхом и надеждой и над всем проистекающим из этого стоит Господин, который больше не является субъектом. Это — Небо, Цянь, «Творящее», сила, которой можно давать разные имена. Благодаря такой структуре Дао (как бы мы его ни называли) господствует над сознательным и эмоциональным аспектами в человеке. Так в знаке Гора (Гэнь, «Пребывающее», «Покоящееся») обретает форму упрочившаяся внутри себя троичность1[62]. Ничто преходящее не сохраняется. Но то, что действительно существует, — наша человеческая сущность, управляемая Небом, возможная в любом из нас, — это может обладать постоянством. Как организм, с которым ни сила, ни время не могут ничего поделать, это — вечное движение, имеющее форму, но не застывшее. Хотя оно слито с формой, но течет вместе с потоком жизни.[63]
В этом — тайна. В этом — сила, которую символизирует гора, улавливающая и воплощающая форму «Творящего», Цянь. Для китайцев гора — космическое явление, не просто куча камней и земли, но центр; мы могли бы сказать — центр магнитных и электрических сил. Вокруг горы всегда что-то происходит. К ней стекается жизнь, испарения поднимаются с земной поверхности и собираются над ней, из покрова тумана, окутывающего гору, проливается благодатный дождь. На горе растут деревья и травы. Туда слетаются птицы, там живут звери. Живые организмы покрывают гору словно тонкий зеленый покров. Все это вкладывается в понятие «гора», поэтому, говоря о горе, человек подразумевает прочность и надежность, «Покоящееся», продолжительность существования которого гораздо больше, чем жизнь, для которой оно служит убежищем и укрытием. Гора гарантирует стабильность течению жизни, реагирующему на любое воздействие. В «Покоящемся» содержатся три идеи. Во-первых, гора — это оплот, с ней ассоциируется прочность и защищенность. Во-вторых, с горой связан принцип собирания, а соответственно, и надежности. Гора возвышается над миром, притягивая, собирая вокруг себя силы жизни. В-третьих, гора питает и поддерживает жизнь. Гора полна жизни, и все живое преисполнено радости под защитой горы.
Но самая очевидная из всех тайн, тайна проявления принципа горы, отражена в этом гуа. И явным, и мистическим способом гора питает, собирает и хранит жизнь. Небо внутри Горы, жизнь в долинах, окруженных горой.
Теперь, держа это в памяти, попробуем ответить на вопрос: есть ли постоянство в Переменах? Есть ли спасение из беспросветного отчаяния? Как примириться с жизнью, не делая бесповоротного шага самоотречения, о необходимости которого учил Будда? Что делать, если мы не хотим растворения в небытии? Запад встречается здесь с Дальним Востоком в общем неприятии аскетизма как отрицания жизни. Более того, они едины в стремлении найти средство, которое сделает жизнь вечной, обеспечит постоянство в Переменах. Мы должны адаптироваться к объективной реальности, но избегая причуд нашего эго, малого эго, образованного мелкими повседневными нуждами. Также не имеет смысла приписывать объективность тому, что отражают тело и мозг при помощи набора нервных рефлексов. Реальность не здесь и не там, и в то же самое время и здесь и там. Человек, который не есть ни «Я», ни «Ты», но который присутствует и в тебе, и во мне. Этот человек не принадлежит ни сегодня, ни завтра, но существует и в «сегодня» и в «завтра»; человек, который был здесь с самого начала и который будет здесь вплоть до Вечности. Это великое Существо, и я не являюсь какой-то его частью (такое выражение совсем не отражает сути), но Оно и есть я, потому что человечество — это я, а я — человечество, хотя, конечно, обозначенное таким образом существо сразу становится чем-то большим, чем отдельный человек, отдельная эпоха или любая другая ячейка в великой сети отношений, образующих человечество. Это Господь, Дух всех существующих религий. Назовем Его, например, Богом на Небесах и этим перенесем в заоблачные выси, ведь Он превыше всего, что можно помыслить. Но тогда мы поставим его вне мира и станем восславлять издалека, обрекая на несуществование. Он будет тогда не чем иным, как проекцией человека на пустоту пространства Вселенной, идеей, оживающей только в лучах наших собственных жизней. Или можно назвать Его Мессией, Христом, который ходил среди нас и был одним из нас. Все это — образы, порождаемые необходимостью пережить то, что составляет суть человека. Человек — не сумма, он не слагается из множества индивидов, не выводится как производная от большинства. Человек един, но в то же время множественен в проявлении, реализуясь во времени и в пространстве в отдельных индивидах, — ив этом его тайна. Когда же мы пытаемся выйти из изоляции индивидуального существования и отыскать общую основу, когда вместо лучей великого светила, отраженного в осколках зеркала, мы обращаемся к источнику света, мы обретаем Дао. Это не Дао Неба и даже не Дао Земли, это Дао Человека, но в нем выражается объективный закон постоянства в Переменах.
Так психика человека обретает устойчивость, и он получает энергию, необходимую для проявления присущего ему творческого начала. Он ловит, формирует и проводит импульс в жизнь. Собирание и концентрация — те действия, которые очищают, обогащают и питают человеческую природу. Энтелехия индивида отражает в себе вечное; его жизнь неотделима от Вечности, и только в ней он обретает завершенность. Гете говорил, что все люди бессмертны, но в разной степени. Человек бессмертен постольку, поскольку ему удается постичь вечное значение своей жизни, стать «прозрачным» для Вечного. Величие бессмертия превыше любых расстояний, но само бессмертие не требует пространства, ему не тесно нигде.
Поэтому в знаке Да чу, «Удерживании великим», заключена огромная сила — в нем богатство, значение, величие, красота, в нем благо. Нет нужды выбирать по мелочам. Тетиву можно натягивать до тех пор, пока лук не достанет до Неба, пока человек не вместит в себя все. Возможно, что величайшая идея Кун-цзы — это учение об «Удерживании великим», которое собирает воедино человеческое существо. Нет необходимости ампутировать члены, освобождаться от чего-то внутри себя. Человек может принять себя таким, как есть, со всем, что дано Небом, со всем, с чем пришел в этот мир. Мы можем принять наши добродетели с любовью и найти в них удовольствие. И мы можем полюбить зверя в себе (если позволительно употребить это слово), так как закон воплощения формы должен быть равно применим ко всем аспектам человеческой природы. Ибо что такое, собственно говоря, зверь в человеке? Что обозначаем мы как зло, понуждение, чувственность, что мы зовем грехом? Это внутреннее препятствие, дисгармония. В любом случае, здесь возможны два решения. Мы можем быть слишком слабы и не способны стать хозяевами в собственном доме. Тогда зверя необходимо изгнать — и человек бежит в пустыню, удаляется от привычного окружения, как поступил святой Антоний, только для того, чтобы еще чаще встречаться со своим зверем во сне. Я не верю, что человеку вообще когда-либо удавалось избавиться от зверя в себе. Пожалуй, психоанализ делает важное, полезное дело, показывая зоопарк, который мы таскаем внутри. Психоаналитик вводит нас в эту компанию и говорит: «Ну, давай же, покажи, как ты поладишь с этим зверьем». Это — часть тебя. Если ты собираешься их уничтожить, приготовься с каждым убийством расставаться с частью себя самого. Мудрость Кун-цзы в том, что он сдерживал, не убивая. Он ни в коем случае не призывал к анемии аскетизма. Потому что, конечно, даже самого свирепого льва можно усмирить голодом, но, получив свободу, он станет еще кровожаднее.
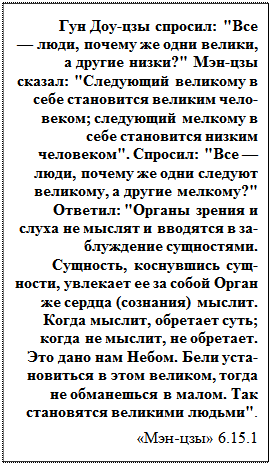 Разумнее просто принять себя как есть, отнестись с мягкостью даже к собственному дикому зверью. Но следующим шагом надо показать, кто настоящий хозяин. Сила Кун-цзы в том, что он приручает. Зверей не лишают жизни, но держат под контролем. Успех состоит в установлении порядка в себе самом, в иерархизации высокого и низкого, важною и неважного. Все, каким бы незначительным оно ни казалось — самое низкое, самое обыкновенное, — имеет право быть включенным в общий порядок. В нем любая вещь находит свое место. И грех тоже. Грех ценен как источник силы, и если правильно выбрать возницу, то грех будет исправно «тянуть воз». Поэтому задача — гармонизировать внутренние энергии, чтобы большое стало большим, а малое — малым. Недопустимо, чтобы в положении правителя оказалось малое, а великое не имело бы возможности реализации, оставаясь внизу. Все должно встать на свое место на Небе, заключенном в Горе.
Разумнее просто принять себя как есть, отнестись с мягкостью даже к собственному дикому зверью. Но следующим шагом надо показать, кто настоящий хозяин. Сила Кун-цзы в том, что он приручает. Зверей не лишают жизни, но держат под контролем. Успех состоит в установлении порядка в себе самом, в иерархизации высокого и низкого, важною и неважного. Все, каким бы незначительным оно ни казалось — самое низкое, самое обыкновенное, — имеет право быть включенным в общий порядок. В нем любая вещь находит свое место. И грех тоже. Грех ценен как источник силы, и если правильно выбрать возницу, то грех будет исправно «тянуть воз». Поэтому задача — гармонизировать внутренние энергии, чтобы большое стало большим, а малое — малым. Недопустимо, чтобы в положении правителя оказалось малое, а великое не имело бы возможности реализации, оставаясь внизу. Все должно встать на свое место на Небе, заключенном в Горе.
Тогда приходит искупление. Грех превращается в мощь. Человек перестает быть тварью земной благодаря присущей ему способности стать выше греха, жить там, где правит Дао. В «Книге Перемен» Кун-цзы говорит о том, как этого достичь. По Мэн-цзы[64], великое и мелкое есть в каждом, но великий человек отождествляется с великим в себе, а низкий — с мелким. Если ориентироваться на лучшее в себе и сообразно с ним формировать и удерживать себя, становится возможным совершенствование.
И еще одна тайна: удержать силой невозможно. По крайней мере, на четвертом и пятом уровнях Да чу. Четвертая черта, министр, символизирует чувственный мир; пятая, правитель, — личностную сферу. Они обе слабые, но благодаря соответствию Закону обретают мощь; в них воплощен Закон, облаченный в красоту и не омраченный строгой необходимостью. Закон сулит удовольствие, его охотно соблюдают из-за притягательности. В этом тайна правильного поведения, ли. Я не буду останавливаться на этом подробно, скажу только, что правильное поведение, нормы которого принимаются добровольно, это, с одной стороны, закон красоты, радующий сердце, а с другой — закон, усмиряющий опасные аспекты как Неба, так и внутренней природы человека.
Перед нами открывается следующая возможность. «Суждение», «Туань», гласит: «Благоприятна выдержка. Не вкушать дома — к удаче. Благоприятна переправа через великий поток». «Не вкушать дома» означает непривязанность к «Я», возможность спокойно выйти к людям, легко покинув орбиту своего незначительного «Я», броситься в битву жизни, где потенциальности воплощаются в формы. Здесь насущны не хлеб и вода, не мясо или овощи, но движение духа, импульс стремящегося к проявлению «Творящего», Цянь. В нем пища, и об этом, о способности поймать импульс и оформить хаос, говорится в «Суждении», «Туань». Поэтому благоприятна переправа через великий поток. Благоприятно омовение: душа должна пройти через священное очищение, прежде чем вступить в божественные кущи Неба. В знаке Да чу человек получает возможность перерасти свое маленькое «я», он становится частью мира и обретает постоянство в изменении.
«Образ», «Сян», подтверждает: «Небо внутри Горы: УДЕРЖИВАНИЕ ВЕЛИКИМ. Цзюнь-цзы так познает многие речения древности и деяния прошлого», — потому что и здесь мы найдем человека. Здесь находит выражение не традиционализм и не ложно понятый консерватизм, но Закон, который всегда был и есть, Закон, определяющий существование тех, кто занят воспитанием характера. Превращение двух нижних черт знака Да чу, «Удерживание великим»  , дает знак Гэнь, «Покоящееся», Гору
, дает знак Гэнь, «Покоящееся», Гору  .
.
Гэнь, 52
 «Покоящееся»
«Покоящееся»
|
Превращение сильно изменяет конфигурацию знака Да чу. Текст к первой черте гласит: «Начальная девятка: есть опасность, благоприятно перестать», ко второй: «Девятка вторая: с повозки сняты колесные оси».
Если то, что мы узнали, осталось непонятым, эти два текста производят мрачное впечатление. Оба не сулят в настоящем и близком будущем ничего хорошего, ничего похожего на настоящее дело, свободное творчество, беспрепятственное развитие. Текст к начальной черте предупреждает об опасности: лучше остановиться. В истории человечества день сменяется ночью, ночь — днем. В продолжении дня важно действовать, потому что с наступлением ночи действие становится невозможным. В этом нет никакого особого пафоса: ночь — время, когда нельзя действовать, — не вечна, это не ад и не смерть, а просто пора, когда жизнь уходит под землю, когда она ускользает от влияния сознания, когда затруднения служат сигналом для остановки, смены ритма. Тело подает свои сигналы болью. Боль направляет внимание на место, где развивается болезнь, она помогает осознать необходимость остановки, чтобы в действие могли вступить целительные силы природы, времени, отдыха. Так же подает сигналы жизнь, предостерегая от опасности. С этим не имеет смысла спорить не потому, что так написано в «Книге Перемен», но потому, что сама наша реальность, время, в котором мы движемся, содержит опасность. Об этом говорит и астрология, и просто трезвый, непредвзятый взгляд на ситуацию показывает, что опасность висит в воздухе. Глупо было бы не замечать этого. Хотя, конечно, куда приятнее и утешительней просто отрицать опасность и идти напролом. Но это проходит без последствий, только когда опасность мимолетна. Траншею можно взять натиском, если она достаточно узка, и сделать невозможное возможным. Пусть процветает человек, который не утратил внутренней гибкости и поэтому может пренебречь опасностью, с тем чтобы преодолеть ее. Он обладает божественным даром, который стоит хранить. Ибо лишь тот молод, кто не теряет это сокровище. Остальным же следует положиться на благоразумие и сохранять трезвый взгляд на вещи. В особенности если опасность не привязана непосредственно к настоящему моменту и, следовательно, преодолима собственными силами, но является частью объективного мира. Тогда не стоит растрачивать понапрасну силы, лучше их экономить, потому что опасность, ставшую частью ситуации, нахрапом не одолеешь. Кто проявляет излишнюю активность во время ночи, кто живет так, как если бы на дворе стоял день, ничего не достигнет. Он повредит и себе, и другим. Отсюда возникающий в тексте ко второй черте образ повозки. Повозке бы ехать вперед. Повозка, колесо — это символ Неба внизу. Небо похоже на колесо, вращающееся само по себе и побуждаемое к движению Цянь, «Творящим», которое является квинтэссенцией Неба. Но сейчас нужно снять колеса с осей — не от большой радости, но в знак самоотречения. Самоконтроль необходим, чтобы принять время ожидания, чтобы без сопротивления снять повозку с колес. Это действие должно быть добровольным. В тексте к другому знаку говорится, что колеса повозки отваливаются. Но, к счастью, в этом гуа такое не грозит. Нам дана возможность приспособиться к новой ситуации. Хотя положение серьезно, ведь движение останавливается. Нижний первичный гуа Цянъ, «Творящее», превращается в Гэнь, «Покоящееся». Теперь Гэнь и вверху, и внизу, то есть таинственное знание Горы здесь удвоено. Поэтому текст к знаку Гэнь гласит: «ПРЕБЫВАЕШЬ, Гэнь, в спине, не замечая своего тела. Выходя во двор, не видишь своих людей. Нет позора». И образ: «Сдвоенная Гора: Гэнь. Мысли цзюнь-цзы так не покидают его положения».
Покой, пребывание всегда плодотворно. Потому что в Китае к горе относятся как к месту смерти, но также и как к месту, дающему начало новой жизни. В знаке Гэнь северо-восток — это точка, где соприкасаются жизнь и смерть, день и ночь. Возможно ли, чтобы постоянство в Переменах не потерялось на этой грани?


Эти две замечательные фигуры находятся над входом в Маулбронский (Maulbronn) монастырь. Вырезанные из камня над створками ворот, они сродни друг другу по типу изображения, но абсолютно различны по идее. Одна розетка изображает щупальце, вращательное движение которого уходит в бесконечность, а та, что рядом, расцвела розой, в цветении которой проглядывает контур божественного космического креста. В кресте содержится огромная сила, но она покоится — покоится, не тревожа глаз и свободная от внутреннего напряжения. Я не знаю, какой смысл вкладывали маулбронские монахи в эти розетки над дверями своего монастыря. Может быть, они хотели намекнуть на возвращение из хаоса жизни в покой монастыря как пристанище чистой медитации? Какова бы ни была причина, выраженная мысль полна глубокого значения. Есть две возможности. Вот жизнь во всей ее суете, которая наконец обретает покой, покой сконцентрированной энергии. Это перспектива, которая открывается внутреннему взору, когда человек выходит из долгого медитационного упражнения, забыв, что у него есть тело. «Я» не мешает, и человек начинает видеть более глубокие слои своей личности, достигая в этом внутреннем переживании уровня бессознательного. Более того, «выходя во двор, не видишь своих людей». Это перспектива, в которой получает форму то, что существует объективно, подобно видению Ореста[65], когда он в кратком приступе безумия взглянул вверх и вдруг узрел грозных воинов, пребывающих в полном согласии. Когда-то разившие и убивавшие друг друга мирно шествовали вместе, и скорбь его утихла на миг, пока во вспышке безумия-просветления длилось видение могущественной, вечно спокойной Неподвижности.
Все — ради этого момента; но, чтобы открылся внутренний взор, прежде следует отгородиться от внешнего и в покое «Пребывающего» воздвигнуть внутри себя Гору, Гэнь. Остановиться, но не умереть, прерваться на переходе от старого к новому. Принесет ли новый день трудности и сражения, принесет ли он опасность или принудит снять повозку с колес — нельзя терять присутствия духа. Наоборот, мы хотим оставаться свободными от беспокойства, порождаемого опасностями и препятствиями. Человеку необходимо снова и снова переживать божественные моменты внутреннего видения: они приносят покой, в котором собирается динамическое напряжение и тем самым обновляется жизнь.
Сейчас мы между старым и новым. В период солнцестояния освобождается энергия, необходимая для освоения накопленного в прошлом цикле. Будем надеяться, что сможем направить и использовать полученный импульс в соответствии с законом постоянства в изменении.

СМЕРТЬ
И
ОБНОВЛЕНИЕ

I
По китайской представлениям, все существующее в феноменальном мире обусловлено парами противоположностей — свет и тьма, позитивное и негативное, Ян и Инь. В метафизической сфере основная пара противоположностей проявляется как жизнь и смерть. И не случайно, что один из древнейших китайских документов определяет счастье человека как обретение смерти, которая увенчает жизнь — его жизнь. А величайшее возможное несчастье — преждевременная смерть, обрывающая жизнь, вместо того чтобы завершить ее. В этом мировосприятии темное, сопровождающее свет, — не просто отрицательная противоположность жизни; само его присутствие, его форма сразу определяет место светлого аспекта, жизни. Не из особой осторожности и не из-за суеверия древние мудрецы воздерживались называть человека счастливым при жизни. Очевидно, что значение жизни до определенной степени зависит от находящегося за ее пределами — от тьмы, навстречу которой мы движемся.
Но размышление на эту тему требует мужества; страшащийся смерти не вправе говорить о ней. Воспитание в себе бесстрашия должно превратиться в привычку — бесстрашный встречает будущее лицом к лицу и способен признать и принять все без попыток к бегству.
Что думали о проблеме смерти в Китае? Прежде всего, сама проблема ставилась по-другому. В сознании европейцев жизнь и смерть представляются абсолютными антитезами, непересекающимися отрезками времени неравной продолжительности. Жизнь коротка, она длится семьдесят, восемьдесят, может быть даже сто лет и имеет начало во времени. Но, несмотря на краткость, жизнь полна глубокого значения. От нее зависит, где человек встретит Вечность — понимаемую как бесконечность времени, — на Небесах или в аду. Вероятно, эта концепция пришла из персидской культуры и была воспринята христианством вместе с некоторыми понятиями платонизма. Современных европейцев эта концепция по большей части не удовлетворяет, но заменить ее нечем. Мы согласны с одной половиной — с тем, что человеческий век короток, но другая вызывает у нас сильные сомнения.
На Востоке, тем не менее, понятие реальности воспринимается несколько иначе. Жизнь — которая кажется нам такой важной — словно теряет часть своего блеска. Она не столь реальна, как привыкли мы. Ибо сама реальность на Востоке в пределе означает лишь видимость, то, что существует лишь между двумя полюсами основной пары противоположностей. И если, с одной стороны, жизнь не представляется оплотом реальности, то и мир теней, мир смерти, с другой стороны, также не осмысляется как нечто однозначно отрицательное. Ночное время включается в более широкий контекст жизни и смерти. Такое восприятие соотносит и жизнь и смерть в равной мере с миром видимости, в то время как бытие лежит выше, чем то или другое, отдельно взятое.
На Востоке считается, что все, у чего есть начало, также будет иметь конец. Жизнь, которая начинается во времени, неизбежно во времени и закончится. И наоборот, то, что подошло к концу, должно начаться вновь. Жизнь, завершившись во времени, возобновится во времени. В восприятии мира, где главным свойством изменений является цикличность, день и ночь одинаково значимы, жизнь и смерть равно весомы. Идея цикличности естественно рождается из общения с природой. Осенью опадают листья и сок уходит из ветвей, но мы знаем, что за этим концом обязательно последует новое начало. Солнце и весна вернутся, сок опять заструится по тканям, достигая самых тоненьких веточек, и на месте опавших листьев распустятся новые.
Господствующие на Дальнем Востоке представления о жизни и смерти допускают несколько интерпретаций значимости человеческой жизни. Обратимся сначала к концепции Кун-цзы. Конечно же, Кун-цзы думал об этом, но выражал свои идеи с большой осторожностью. На вопрос его ученика о смерти он сказал: «Не зная жизни, откуда узнать о смерти?»[66] Другой раз, когда один из учеников спросил, есть ли у мертвых сознание, он сказал: «Если я скажу, что у мертвых есть сознание, может возникнуть опасение, что почтительные сыновья и послушные внуки начнут пренебрегать своими живущими родственниками ради мертвых. Если же я скажу, что у мертвых нет сознания, может возникнуть опасение, что не понимающие своего долга сыновья не позаботятся о достойных похоронах родителей. Подожди, пока умрешь, тогда ты узнаешь сам»[67]. То есть Кун-цзы считал, что лучше оставить простых людей в неведении. Не догма и не кредо веры должны определять поведение, но исключительно личные качества человека. Пусть человек поступает так, как велит ему внутренний голос. Поэтому Кун-цзы отказался создать догму, предпочтя вывести мораль и поведение за пределы сферы влияния двух величайших врагов человечества — страха и надежды.
Высказываться о смерти конфуцианство отказывалось далеко не всегда. Наоборот, оно рисует ясную картину отношения человека к жизни и смерти, и только невежество извиняет расхожее мнение о Кун-цзы как о рационалисте, моральный кодекс которого — несколько приземленный, насквозь буржуазный — вот уже многие века довлеет над миллионами китайцев. Такое представление о Кун-цзы повторялось столько раз, что за давностью кажется единственно возможным. Искажение идей Кун-цзы, вероятно, связано с тем, что они попали в Европу на волне Просвещения, когда именно такая фигура вызывала глубокое уважение. Времена изменились, но образ человека уже прочно вошел в историю.
Каковы же, без предвзятости, представления конфуцианства о смерти? В первоначальном виде они излагаются в так называемых «Крыльях», «И», которые приписываются Кун-цзы и его школе и были включены в состав «И цзин» еще до нашей эры. Феноменальный мир строится в текстах «Крыльев» на полярности, которая может быть обозначена как полярность Неба и Земли, света и тьмы. Эти два принципа описаны так: «Смотря вверх, созерцаешь небесный узор (вэиь); смотря вниз, наблюдаешь структуры Земли. Так познаешь причины темного и ясного (ю-мин). Приходишь к истоку и обращаешься к концу, по этому познаешь уроки рождения и смерти Ци[68] и семя, цзин, образуют сущности; уход анимуса[69], хунь, образует изменения, бянь. По этому познаешь состояние духов-бесов, туй, и духов-божеств, шэнь» («Да чжуань» 4.2). Соединение семени, цзин (подобного образу, идее), и силы, ци (подобной субстанции, получающей формы), дает начало живой материи. Но это не все. Еще есть сознание, устремленное вверх (анимус, хунь), в котором уже заложен прообраз человека. Соединение сознания, пред восхищающего будущие образы, или духовного, с природой (силой, ци) дает жизнь душе. Результат этого соединения — не смесь, а структура, построенная на напряжении между полюсами противоположностей, которое, в свою очередь, порождает в созданной структуре вихревое движение. Поэтому жизнь души проходит между этими двумя полюсами — полюсом силы и полюсом сознания. Собственное движение структуры привлекает элементы извне, захватывает и формирует их по своему образу.
Главное свойство жизни — дуальность. Считается, что с первым криком ребенка два основных принципа, единых в утробе матери, разделяются, и до конца человеческой жизни им уже не обрести друг друга. С этого момента сознание становится зрящим и познающим. Глубже расположено воспринимающее, еще глубже находится чувствующее. Максимальная глубина — это царство силы, органического. Но к нему у сознания нет прямого доступа, и поэтому нет возможности превратить эту силу в послушный инструмент. Сфера органического — это инструмент, с которым духу — обладающему большей или меньшей силой — приходится бороться. Итак, ясно, что сознание и сила разделены. «Анимус, хунь, уходит, и анима, по, опускается в глубины», то есть в момент смерти принципы принимают различные формы. Они сосуществуют на протяжении целой жизни в обманчивом единстве внутри тела, так как китайцы отождествляют личность (персону, фактически, маску) с телом. Тело — начало, объединяющее силы, которые проявляются как душа человека. Но в пределах тела функции и действие этих сил очень сильно различаются. Только мудрец может привести их в гармонию, поместив себя в центре движения. Смерть разрушает тело и вместе с ним — обманчивое единство человеческого существа. В «Шан шу»[70], «Книге преданий», смерть правителя описывается как одновременно «восхождение и нисхождение». Принципы, сосуществующие при жизни человеческого тела, таковы, что один — по, анима, душа — опускается а другой — хунь, анимус, подобный духу, — поднимается. После разделения принципов все, что опускается обречено на разрушение. Анима поэтому распадается вместе с телом. Но распадение не означает полного разрушения. Так, европейцы считают, что в процессе разложения телесное подвергается реорганизации. Плоть не исчезает, а поглощается другими органическими соединениями и входит в состав различных органических веществ. А китайцы исходят из того, что телесная душа, хунь, складывается из множества отдельных составляющих, не подверженных полному уничтожению, и хотя все они идут вниз вместе с веществом, которым они когда-то управляли, и поэтому более не образуют личности, они все-таки продолжают существовать в виде стремлений или сил. Рассеивание материальных элементов влечет за собой также и рассеивание элементов психики, которые, покинув одну сущность, тут же готовы возродиться в другой. Этот процесс непрерывен. Мертвые останки поддерживают преемственность жизни, новая жизнь наследует органические и психические элементы старой. Из такого восприятия естественно вытекает широко распространенная в Китае вера в душу Земли, которая становится частью живущего на ней человека. Силы жизни, исходящие от Земли и возвращающиеся в нее, оказывают влияние на развитие человека. Местность можно сравнить с жизнехранилищем, которое создает вокруг определенную, легко узнаваемую, атмосферу. Идея, что мертвые никогда не разрушаются до конца, но продолжают существовать как дух места, настолько эмоционально наполнена, что на ее фоне даже представления европейцев о расе кажутся бледными. Это связано с важностью наследия для китайцев. Каждое поколение наследует великой череде предков, покоящихся ныне в отеческих могилах. И отсюда убежденность, что китаец должен быть похоронен на родине. В место, откуда он родом, он должен возвратиться после — не только его тело, но и его психическая структур3- И поэтому даже те китайцы, которые мало что помнят о своем прошлом, которые давно живут и работают за границей, будут отказывать себе во всем, чтобы скопить деньги на последнее путешествие — возвращение своих останков на землю предков. И по этой же причине китайцы подвержены частым и резким приступам ностальгии, когда они находятся вдалеке от родных мест, разлучены с землей предков. С этим связан и восторг, охватывающий китайца по возвращении на родину. Мне случилось увидеть поэта Сюй Цзи-мо[71], когда он ступил на китайскую землю после года, проведенного в Европе. Я никогда не забуду, как он воскликнул: «Здесь эта земля, здесь эти реки, эти деревья, моя плоть и кровь, отсюда я пришел, отсюда моя жизнь, я опять дома!» Так цикл жизни, упадка и смерти постигается не как теоретическое понятие, а в непосредственном переживании.
Кроме растительной души, по, управляющей плотью, есть другая душа, хунь, которую я называю «анимус». Я ни в коем случае не хочу сказать, что это душа высшего порядка. Качественная оценка в этом случае неприемлема. Анимус, хунь, представляет собой скорее интеллектуальный и духовный аспект, точнее, духовно восприимчивое начало психики. Дух как таковой не есть нечто, что человек получает готовым; духовная сфера создается в течение жизни. Возможно, жизнь для того и существует, чтобы это произошло. Согласно конфуцианской школе, хунь, духовная душа, и после смерти обладает некоторым сознанием. Как тело не сразу разлагается, но еще сохраняет какое-то время прежнюю форму, так и психика не распадается полностью с наступлением смерти. Принципы разделяются, один остается с телом, другой покидает его, но поскольку полностью связь между душой, хунъ, и телом не прерывается, тело сохраняет способность к восприятию. Так, мертвые слышат, о чем говорится вокруг. И потому в Китае принято не говорить ничего дурного в помещении, где лежит умерший. Чтобы разделение души и тела завершилось благополучно, следует вести себя как в присутствии живого.
В целом, в традиционном китайском мировоззрении преобладает динамическое осмысление мира. Например, вещество, «материя» воспринимается китайцами не как инертная масса, а как состояние энергии.
Дух, хотя и не превращается в материальную субстанцию, является формой существования. Существует определенное, духовное направление развития сознания. В этом качестве основание, на котором покоится дух, весьма ненадежно, — если только в течение жизни он не сконцентрируется настолько, что вокруг него образуется тонкое тело — тело мыслей и дел, тело духа, которое может служить опорой, когда наступит время расстаться с материей, не способной более служить приютом сознанию. Это психическое тело поначалу очень хрупко, и только величайшие мудрецы могли использовать его после смерти.
Обычные же люди после смерти нуждаются в помощи живых. Так возникает культ предков. Жертвоприношения предкам дают жизнь психическим элементам умерших в почтительной памяти потомков. Каждая благая мысль, посланная усопшим, укрепляет их существование, не дает им развеяться в ничто.[72] Но и эта посмертная жизнь не может длиться вечно. Она подобна постепенному растворению в сумерках, второй смерти, поскольку потомки помнят предков только до тех пор, пока память является частью живой традиции. Семьи благородного происхождения приносят жертвы большему числу поколений, чем семьи простолюдинов, которые редко держат в памяти рода более чем четыре или пять поколений.
С этим комплексом идей связано еще одно устойчивое убеждение, а именно то, что после жизни в загробном мире предки снова рождаются на этом свете. Вероятно, уже в глубокой древности считалось, что в цепи поколений каждое поколение повторяется через одно. Дед, например, возрождается во внуке. Но это не механическое воспроизведение: внук никогда не повторяет деда в точности, а только частично: что-то от поколения деда, его образа жизни вдруг оживает во внуке, но не сходство конкретных отдельных черт, а скорее часть жизненной силы. Поэтому верят, что предки через какое-то время после смерти возвращаются, образуя в посюстороннем мире своего рода хранилище духа, из которого раньше или позже их — как импульс, стимул к жизни — извлекут тела и души живых.
Таковы общие представления о смерти в конфуцианстве. Но не все люди одинаково бессмертны. Кто гармонизировал свою природу, кто, научившись преображать и претворять, превратил свое существование в источник чистой силы (можем назвать ее магической), тот после смерти уже не возвращается. Он становится не гуй, а шэнь. Шэнь — это сущность, воплощающая активный божественный принцип, — культурный герой. Возраст культуры — его возраст, потому что его жизнь — это часть породившей его культуры. О Кун-цзы и поныне говорят как о живущем среди людей. И не только о Кун-цзы, но и вообще о великих, причисленных к культурному пантеону, например, о Юе Фэйе[73], верном рыцаре без страха и упрека. Но только величайшим удается установить неразрушимую живую связь с телом своей культуры и тем самым перевести существование данной им индивидуальной энтелехии на другой уровень.
Мы продвинемся еще на один шаг, поняв даосский подход к проблеме. Для даосов человек в своей основе не отличается от других живых существ. Человек — л одна из форм жизни, и довольно неудачная, поскольку человеческое существо наделено сомнительным даром сознания и способно на любое безумство, в то время как остальные твари живут и умирают в согласии с природой и своей сутью. Для даосизма проблема не в сознании и его сохранении. Есть вход и выход. Вход — рождение, выход — смерть. Ритм входа и выхода, ритм жизни воспроизводится постоянно. Лао-цзы говорит:
Сущности цветут в неиссякаемом разнообразии,
Все они возвращаются к своему корню.[74]
Корень, который является одновременно и порождающим семенем, и Вечностью, есть жизнь.
В 6-м чжане «Дао Дэ цзин» мы читаем:
Дух долины не умирает,
Он зовется Сокровенным Женским.
Ворота Сокровенного Женского зовутся корнем
Неба и Земли.
Меняется неузнаваемо, существуя всегда,








