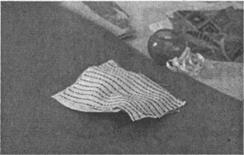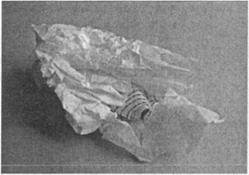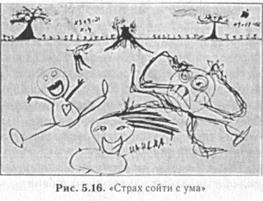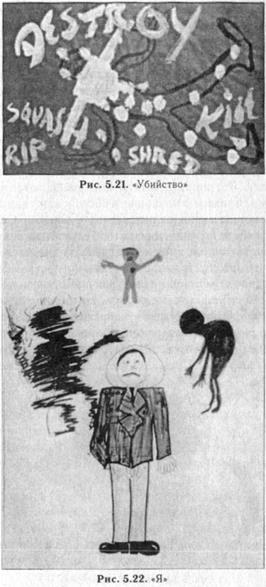1. Группа делится на две части (произвольно или по определенному признаку).
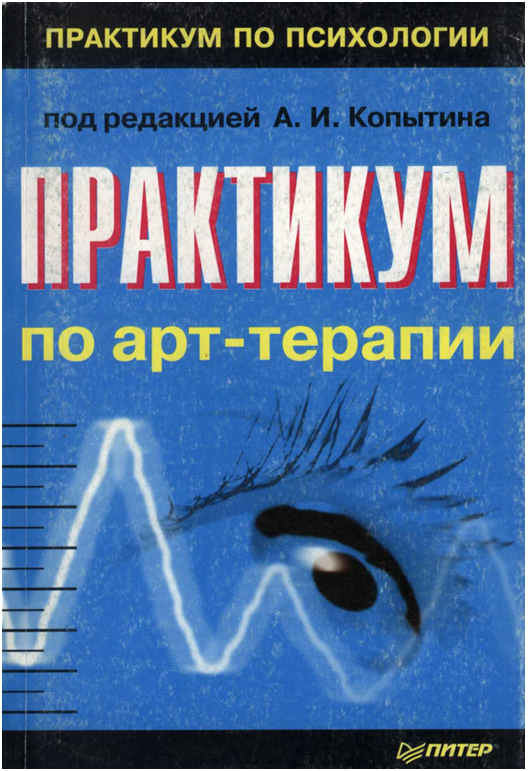
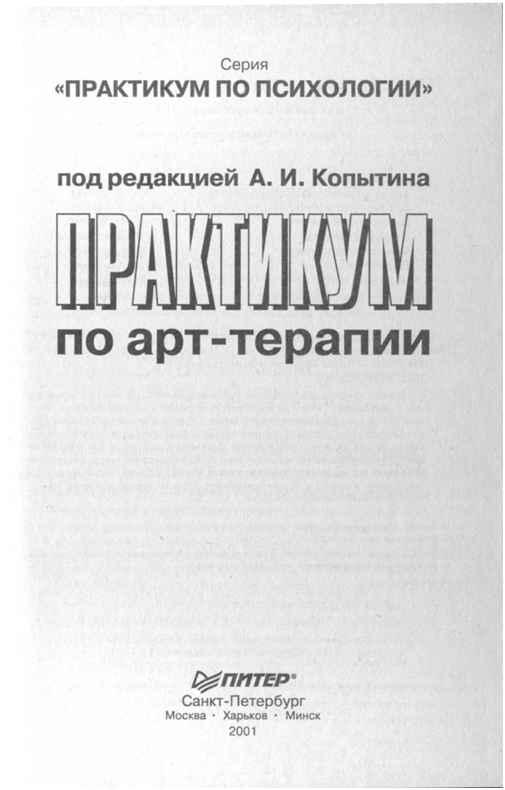
ПРАКТИКУМ ПО АРТ-ТЕРАПИИ .
под редакцией канд. психол. наук А. И. Копытина Серия «Практикум по психологии»
Главный редактор В. Усманов
Зав. психологической редакцией А. Зайцев
Зам. зав. психологической редакцией Н. Мигаловская
Литературный редактор А. Сергеев
Художник обложки В. Шимкевич
Обработка иллюстраций В. Кучукбаев
Корректоры Н. Баталова, Н. Солнцева
Верстка Ж. Григорьева
ББК 53.57 УДК 615.851 П69 Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. — СПб.: Питер, 2001. — 448 с: ил. — (Серия «Практикум по психологии»). ISBN 5-8046-0184-9
В книге представлены различные формы современной арт-терапии, используемые в прикладной психологии, медицине, образовании и социальной сфере. Читатель найдет здесь лаконичные теоретические экскурсы и детальные описания хода индивидуальной и групповой арт-терапевтической работы с клиентами различных возрастов, при различных заболеваниях и социальных и психологических проблемах. Для психотерапевтов, педагогов, врачей, социальных работников, представителей творческих профессий, студентов психологических и других гуманитарных отделений вузов, а также тех, кто интересуется практиками самооздоровления, творческого раскрытия и личностного роста.
© Копытин А. И., составление. 1999 © Издательский дом «Питер», 2001
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
ISBN 5-8046-0184-9
ЗАО «Питер Бук». 196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная. 67. Лицензия ИД № 01940 от 05.06.00. Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, том 2; 953000 — книги и брошюры. Подписано в печать 23.01.01. Формат 60x90/16. Усл. п. л. 2S. Доп. тираж 5000. Заказ № 1508.
Отпечатано с готовых диапозитивов в АООТ «Типография „Правда"». 191119, С.-Петербург, Социалистическая ул., 14.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие........................................................................................................... 5
От составителя...................................................................................................... 7
Глава 1. Исходные арт-терапевтические понятия.................................... 20
Многообразие форм арт-терапевтической работы. А. Копытин... 21
Психодинамический подход и арт-терапия. А. Копытин................. 65
Глава 2. Арт-терапевтическая работа с детьми и подростками... 99
Эстетический элемент переноса. К. Кейз............................................... 106
Оборотень и ринг. Изучение бессознательных процессов
с помощью метафор. Т. Боронска....................................................... 121
Обсуждение и создание детских рисунков. Р. Гудман...................... 136
Арт-терапия в работе с детьми и подростками,
перенесшими сексуальное насилие. Д. Мерфи................................ 158
Использование арт-терапии в формировании идентичности
подростка. М. Мауро................................................................................ 175
Глава 3. Арт-терапевтическая работа с пожилыми людьми .... 197
Арт-терапия в психогериатрической практике. К. Дрюкер ......... 199
Арт-терапия и престарелые пациенты с выраженными
расстройствами памяти. А. Байере 215
Глава 4. Арт-терапевтическая работа с психиатрическими
пациентами....................................................................................................... 227
Краткосрочная арт-терапия в «остром» психиатрическом
отделении (Открытая сессия как вариант студийного
подхода). П. Луззатто............................................................................. 231
Арт-терапия как элемент общинной психиатрической
реабилитации. С. Льюис........................................................................... 248
Работа с психиатрическими пациентами на базе дневною
стационара психоневрологического диспансера.
А. Копытин................................................................................................... 265
Глава 5. Арт-терапия в социальной сфере................................................... 298
История правонарушения в рисунках. М. Либманн.......................... 301
Арт-терапия в работе с осужденными. К. Тисдейл............................ 324
Использование арт-терапии в работе с бездомными.
К. Свенсон ................................................................................................... 343
Невидимые границы — открытые границы:
зарубежная поездка арт-терапевта. Д. Байере.............................. 360
Портативная студия: арт-терапия и политический конфликт.
Д. Калманович, Б. Ллойд....................................................................... 382
Приложение............................................................................................................. 422
ПРЕДИСЛОВИЕ
Новые книги по психологии и психотерапии в нашей стране сегодня подобны потоку, прорвавшему плотину. Их и очень много и они очень разнообразны. И вместе с тем можно уверенно утверждать, что данное издание не затеряется в этом потоке. Вызвано это, во-первых, тем, что книга посвящена новому, но уже признанному направлению психотерапии и шире — гуманитарной деятельности — арт-терапии. Во-вторых, потому что по своему содержанию эта книга может претендовать на название — «все об арт-терапии». Действительно, в издании мы обнаруживаем и теорию, и иллюстрации конкретной практической работы, и описание техник и технологий самой работы, и перечень приемов и упражнений в приложении.
Книга содержит статьи ведущих западноевропейских и североамериканских профессионалов в области арт-терапии и наше национальное осмысление мирового опыта и практики этого увлекательного направления современной психотерапии. Сегодня арт-терапевты принадлежат к разным психотерапевтическим школам. Следовательно, они по-разному понимают и интерпретируют расстройства здоровья и нарушения адаптации у своих клиентов и пациентов. Но это не мешает им использовать методы и технологии арт-терапии. Они работают с клиентами и пациентами как индивидуально, так и в группах. И, судя по описаниям книги, работают в самых трудных условиях, с клиентами и пациентами, требующими особого внимания и не оставляющими возможности рассчитывать на быстрый и легкий результат.
В арт-терапии удается увидеть всего человека, а не только какую-то его систему или орган, как это, к сожалению, сложилось в современной медицине. Арт-терапия полностью соответствует все возрастающей потребности современного человека в мягком, экологическом подходе к его проблемам, неуспешности или неполной самореализации.
Если 1960-1980-е гг. оказались решающими в становлении арт-терапев-тического направления на Западе (именно тогда были созданы первые профессиональные объединения, обобщившие имеющийся опыт и способствовавшие внедрению и более четкому определению роли арт-терапевтических методов в разных областях практической работы), то у нас арт-терапия только переживает период своего становления. Ведь будучи одним из направлений психотерапии, она имела весьма ограниченные возможности развития
в тоталитарном обществе. Поэтому для специалистов в нашей стране сегодня особенно интересна данная книга, которая, по существу, является первой широкой презентацией в России лучших зарубежных моделей арт-терапев-тической работы.
Конечно, занятия арт-терапией являются сложной и многогранной профессиональной деятельностью. А. Копытин пишет в данной книге: «Можно использовать разные подходы к классификации форм арт-терапии, например, выделить клиническую, психодинамическую, гуманистическую, Трансперсональную и другие ее модели». А это значит, что арт-терапевт, кроме узкоспециальной профессиональной подготовки должен получить фундаментальное общее образование в области психотерапии. Такое образование сегодня предлагает программа Европейского Сертификата Психотерапевта — единого профессионального сертификата, задуманного в качестве диплома, конвертируемого во всех странах Европы. Этот диплом выдает Европейская Ассоциация Психотерапии. Официальным представителем Европейской Ассоциации Психотерапии в Российской Федерации является Общероссийская Профессиональная Психотерапевтическая Лига. Надеемся,что и сама арт-терапия вскоре станет важным разделом этого образовательного процесса.
Кроме того, необходимо отметить, что знания в области арт-терапии сегодня полезны и необходимы не только профессионалам-психотерапевтам, но и работникам социальной сферы. И данная книга, написанная ведущими мировыми арт-терапевтами, содержащая теорию и практику этого подхода, окажется полезной всем специалистам, работающим с людьми.
В. В. Макаров
Заведующий кафедрой психотерапии и медицинской психологии
Российской Медицинской Академии, Президент Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, Вице-президент Европейской Ассоциации Психотерапии,
профессор
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Термин «арт-терапия» стал использоваться в нашей стране сравнительно недавно. Относительно молодой возраст имеет и направление лечебно-реабилитационной, педагогической и социальной работы, которое он обозначает. С английского языка1 это понятие можно перевести как «лечение, основанное на занятиях художественным (изобразительным) творчеством...» Однако на практике арт-терапия далеко не всегда связана с лечением в строгом медицинском смысле слова. Хотя лечебные задачи, несомненно, ей свойственны, существует много примеров применения арт-терапии скорее как средства психической гармонизации и развития человека (например, в образовательной практике), как пути к разрешению социальных конфликтов или с другими целями.
Наличествующие в профессиональном лексиконе отечественных специалистов (в первую очередь врачей-психотерапевтов) понятия «художественная терапия» и «терапия творческим самовыражением» отчасти близки предмету данного сборника, но ему нетождественны. Введенные в обиход представителями русской — советской клинико-психиатриче-ской традиции, они закономерно отражают их позицию и не предполагают всего многообразия оттенков современного понятия «арт-терапия».
| 1 Слово «арт-терапия» вошло в научный оборот в англоязычных странах, в первую очередь в Великобритании и США. (Здесь и далее примеч. сост.) |
Все еще существующий в нашей стране вакуум информации об арт-терапевтическом направлении порождает много домыслов и произвольных толкований этого понятия. Так, один художник назвал «арт-терапев-тической» коллекцию своих работ — он был убежден, что она дает зрителю возможность испытать ощущение мира, гармонии, тишины и экстатической радости. Во многих случаях «арт-терапевтическими» называют оздоровительные занятия с использованием физических упражнений, танцев, вдыханием благовоний, чтением сказок и т. д., поскольку считают, что такое определение охватывает все многообразие форм творческой деятельности и может использоваться для описания воздей
ствия тех или иных видов искусства на человека. Действительно, за рубежом, особенно в странах континентальной Европы, термин «арт-терапия» при его использовании во множественном числе (arts therapies) нередко несет именно такой смысл, однако для обозначения частных форм терапии творчеством, как правило, применяются понятия арт-терапия (психотерапия посредством визуального, пластического искусства), дра-матерапия (психотерапия посредством театрального искусства и ролевой игры), музыкальная терапия (психотерапия посредством музыки), танцедвигательная терапия и т. д. Современное понимание арт-терапии предполагает, во-первых, использование языка изобразительной экспрессии1; во-вторых, непосредственное участие человека в изобразительном творчестве.
Быстро растущий в нашей стране интерес к разнообразным направлениям терапии творчеством, в том числе и арт-терапии, вряд ли можно всецело объяснить «экзотичностью» этих направлений или «информационным голодом». Представляется, что наиболее значимыми факторами интереса являются ориентация арт-терапии на присущий каждому человеку внутренний потенциал здоровья и силы, ее акцент на естественном проявлении мыслей, чувств и настроений в творчестве, принятие человека таким, каков он есть, вместе со свойственными ему способами самоисцеления и гармонизации. Кроме того, арт-терапия не навязывает человеку «внешних», «механических» средств лечения или'разрешения его проблем (например, медикаментозное лечение или внушения врача-психотерапевта).
В определенной мере арт-терапия выступает в качестве реального противовеса «технократическим» средствам врачевания, образования и решения социальных противоречий, все чаще обнаруживающим свою несостоятельность. Интерес к арт-терапевтическим методам отражает потребность современного человека в более естественных, комплексных способах лечения и гармонизации, в которых равную роль играют разум и чувства, тело и дух, мужские и женские качества, способность к интроспекции и активному действию.
| 1 Во многих случаях в арт-терапевтической работе могут использоваться музыка, драматическое искусство, движение, танец и другие формы творческой активности человека. При этом, однако, изобразительная деятельность является основополагающей. |
Арт-терапия обладает очевидными преимуществами перед другими — основанными исключительно на вербальной коммуникации — формами психотерапевтической работы. Ниже приведены некоторые наиболее значимые, на взгляд составителя сборника, из этих преимуществ.
1. Практически каждый человек (независимо от своего возраста, культурного опыта и социального положения) может участвовать в арт-терапевтической работе, которая не требует от него каких-либо способностей к изобразительной деятельности или художественных навыков. Каждый, будучи ребенком, рисовал, лепил и играл. Поэтому арт-терапия практически не имеет ограничений в использовании. Нет оснований говорить и о наличии каких-либо противопоказаний к участию тех или иных людей в арт-терапевтическом процессе.
2. Арт-терапия является средством преимущественно невербального общения. Это делает ее особенно ценной для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, затрудняется в словесном описании своих переживаний, либо, напротив, чрезмерно связан с речевым общением (что характерно, например, для представителей западной культуры). Символическая речь является одной из основ изобразительного искусства, позволяет человеку зачастую более точно выразить свои переживания, по-новому взглянуть на ситуацию и житейские проблемы и найти благодаря этому путь к их решению.
3. Изобразительная деятельность является мощным средством сближения людей, своеобразным «мостом» между специалистом (психотерапевтом, психологом, педагогом и т. д.) и клиентом. Это особенно ценно в ситуациях взаимного отчуждения, при затруднении в налаживании контактов, в общении по поводу слишком сложного и деликатного предмета.
4. Изобразительная деятельность во многих случаях позволяет обходить «цензуру сознания», поэтому предоставляет уникальную возможность для исследования бессознательных процессов, выражения и актуализации латентных идей и состояний, тех социальных ролей и форм поведения, которые находятся в «вытесненном» виде либо слабо проявлены в повседневной жизни.
5. Арт-терапия является средством свободного самовыражения и самопознания. Она имеет «инсайт-ориентированный» характер; предполагает атмосферу доверия, высокой терпимости и внимания к внутреннему миру человека.
6. Продукты изобразительного творчества являются объективным свидетельством настроений и мыслей человека, что позволяет использовать их для ретроспективной, динамической оценки состояния, проведения соответствующих исследований и сопоставлений.
7. Арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у людей положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более активную жизненную позицию.
8. Арт-терапия основана на мобилизации творческого потенциала человека, внутренних механизмов саморегуляции и исцеления. Она отвечает фундаментальной потребности в самоактуализации — раскрытии широкого спектра возможностей человека и утверждения им своего индивидуально-неповторимого способа бытия-в-мире.
Как самостоятельное направление в лечебно-реабилитационной, педагогической и социальной работе арт-терапия насчитывает всего несколько десятилетий своей истории. В качестве эмпирического метода арт-терапия начала формироваться с середины XX века, когда получил широкую известность и распространение опыт работы некоторых художников и арт-педагогов (например, А. Хилла в Великобритании), пытавшихся вовлечь пациентов различных лечебных учреждений в занятия изобразительным искусством. Примерно в то же время ряд психотерапевтов с психоаналитической подготовкой начали применять принципиально новые формы интеракций, осуществлявшихся через работу с изобразительной продукцией клиентов (например, М. Наумбурх в США). В тот период пионеры арт-терапевтического направления подчас сочетали в себе разные профессиональные роли, являя пример странного гибрида художника и психотерапевта. Их статус и функции в лечебных и образовательных учреждениях были недостаточно ясны не только окружающим, но и им самим.
1960-1980-е гг. оказались решающими в становлении арт-терапевтического направления. Именно тогда были созданы первые профессиональные объединения, способствовавшие внедрению и более четкому определению роли арт-терапевтических методов в разных областях практической работы. Начали действовать первые центры арт-терапевтического образования, в некоторых странах произошла государственная регистрация арт-терапии как самостоятельной специальности.
Большие изменения в деятельности арт-терапевтов произошли в последние 10-15 лет. Окончание «холодной войны», утверждение принципов информационной открытости и европейская интеграция стимулировали процессы профессионального обмена и распространения наиболее передовых и эффективных форм арт-терапевтической работы. Кроме того, впервые был поставлен вопрос о разработке и введении единых стандартов профессиональной арт-терапевтической подготовки и практики. В лидеры арт-терапевтического образования и работы вышли государства, накопившие богатый опыт в этой области. Это страны, где действуют отработанные механизмы государственного регулирования арттерапевтической деятельности при сохранении высокой степени профессиональной свободы и самостоятельности, где имеется развитая теоретическая база арт-терапии и реализованы системные принципы арт-терапевтического образования, ориентирующегося на «опережение» социально-экономических и культурных процессов.
В 1980-1990-х гг. во многих странах мира произошло заметное изменение культурного климата, вызванное активизацией интегративных процессов, притоком иммигрантов, перемещением значительных групп беженцев, трансформацией тендерных ролей и другими факторами. В сложившихся условиях арт-терапевты столкнулись с новыми проблемами, связанными с существованием человека в культурно разнородной среде, в непосредственном контакте с представителями разных этнических и расовых сообществ. Испытывая на себе влияние различных культур, арт-терапевты ассимилируют их опыт и художественные языки и, естественно, стоят перед необходимостью равного уважения установок, ценностей и верований их представителей.
Экономические условия и изменения в социальной политике явились важными факторами, заметно повлиявшими на эволюцию арт-терапев-тических методов в последние годы. В некоторых развитых странах системы здравоохранения были децентрализованы. Произошло сокращение расходов на федеральные медицинские программы с одновременным развитием сектора негосударственных медицинских услуг. Это особенно сильно сказалось на деятельности арт-терапевтов там, где они традиционно ориентировались на государственную систему здравоохранения с ее принципом доступности медицинских услуг для всех категорий населения. В секторе государственного здравоохранения сократилось количество рабочих мест для арт-терапевтов, но этот процесс сопровождался повышением числа частнопрактикующих специалистов и тех, кто работает в негосударственных учреждениях. Изменение форм медицинского обслуживания населения было связано и с новой социальной политикой. Так, рынок медицинских услуг в, большей степени ориентируется на представителей среднего класса, относительно молодых, трудоспособных и социально динамичных клиентов. В то же время уделяется все больше внимания медицинскому обслуживанию, психотерапевтической и социальной помощи пожилым и престарелым гражданам, детям и подросткам, представителям культурных меньшинств — наименее социально защищенным группам населения. Повышается роль психотерапевтической (в частности, арт-терапевтической) работы с семьями и общинами. При этом предпочтение нередко отдается краткосрочным, групповым формам психо- и арт-терапии.
Важные изменения в деятельности арт-терапевтов выражаются в оформившейся за последние годы ориентации на внегоспитальную сферу: все больше специалистов работает при социальных муниципальных центрах (так называемых «центрах дневного пребывания» и «дневных стационарах»), приближенных к населению, что заставляет учитывать потребности разных социальных групп, проводить работу с амбулаторными психиатрическими пациентами, подростками, бездомными, безработными, лицами с алкогольной и наркотической зависимостью и т. д. Одной из важных областей использования арт-терапевтического метода в последнее время становится работа с правонарушителями, предпринимаются попытки осуществлять ее непосредственно в местах лишения свободы, в условиях надзора и реабилитации. Все это предполагает большую мобильность арт-терапевтов, умение организовать работу и дифференцировать используемые приемы в зависимости от поставленных целей и особенностей контингента клиентов.
Среди многочисленных изменений в деятельности арт-терапевтов за последние годы следует также отметить повышение их роли в социальной и образовательной сферах. Речь идет, главным образом, о работе в специализированных школах и с детьми, посещающими общеобразовательные школы, но имеющими определенные эмоциональные и поведенческие нарушения, отражающиеся на их успеваемости. Иногда арт-тера-певтам приходится совмещать свою работу с работой педагога: даже в развитых странах статус арт-терапевта пока ниже статуса его коллег, занятых в здравоохранении, а его профессиональная роль и нормы оплаты труда четко не определены. Нередко арт-терапевты трудоустраиваются в качестве арт-педагогов, социальных работников или инструкторов по групповой работе. Такое положение вещей вряд ли можно признать нормальным, и в настоящее время профессиональные арт-терапевтиче-ские организации добиваются такого же признания их деятельности в образовательной и социальной сферах, как и в сфере здравоохранения.
Параллельно с вышеупомянутыми изменениями в содержании и характере деятельности арт-терапевтов произошло «созревание» арт-тера-певтических методов, развитие теории и форм практической работы. Арт-терапевтическое направление в течение некоторого времени формировалось, главным образом, как сугубо эмпирическое, и его теоретическая база первоначально была весьма слаба. Немаловажную роль сыграло в этом то, что многие пионеры арт-терапии были художниками или арт-педагогами. Они не были склонны заниматься теоретическим обоснованием своей работы, полагая, что основной лечебно-коррекционный эффект от использования художественного творчества достигается за счет «отвлечения» человека от негативных переживаний и проблем, либо некоего «катарсиса», природу которого они исследовать не стремились.
Первые элементы арт-терапевтической теории стали появляться в 1940-1960-е гг. благодаря использованию достижений психодинамического подхода и попыткам осмысления некоторых его понятий (таких, например, как бессознательное, перенос и контрперенос, символический образ, проекции и некоторые другие) в контексте арт-терапевтической работы. Дальнейшее развитие теоретической базы арт-терапии в 60-90-е гг. происходило путем синтеза многих положений классического психоанализа, аналитической психологии К. Юнга, теории объектных отношений, представлений гуманистической психологии и психотерапии, клинического подхода, психосемантики, психологической теории игр, общей теории систем, динамической психиатрии, социологии, групп-анализа, трансперсонального подхода, искусствоведения и культурологии. В настоящее время можно говорить о том, что арт-терапия обладает достаточно солидной теоретической базой, которую при некоторой ее эклектичности отличает мультидисциплинарный характер и тенденция к интеграции разнородных теоретических влияний.
Растущая зрелость и профессионализация арт-терапии ведут к тому, что этот метод превращается в одну из форм современной психотерапии, сочетающей в себе терапевтические факторы невербальной экспрессии с вербальным взаимодействием специалиста и клиента. Свидетельство тому — все более широкое использование термина «арт-психотерапия» (прежде всего применительно к тем формам арт-терапии, которые имеют реконструктивную, этиопатогенетическую направленность), подчеркивающего качественно новый уровень развития арт-терапии в целом.
Таким образом, можно утверждать, что арт-терапия является активно эволюционирующим и изменяющимся направлением в лечебной, социальной и педагогической работе. Именно с «процессуальным» представлением об арт-терапии связано наше стремление представить в сборнике-практикуме различные сегменты и формы арт-терапевтической деятельности, обращенные как к более традиционным (например, работа с психиатрическими пациентами), так и к совершенно новым (работа с правонарушителями и осужденными, бездомными, беженцами и т. д.) областям ее практического применения.
По существу, сборник является первой широкой презентацией в России лучших зарубежных моделей арт-терапевтической работы. Не умаляя заслуг отечественной психотерапевтической школы, использующей различные виды творческого самовыражения человека для его оздоровления и гармонизации, мы стремились в какой-то мере заполнить информационные «лакуны», образовавшиеся в результате преимущественно клинического характера этой школы, традиционно ориентирующейся на понятие «патологии» (объединяющее широкий континуум расстройств — от тяжелых психических и соматических заболеваний до «пограничных» состояний и неглубоких психосоматических изменений) и ее устранение, но зачастую оставляющих без внимания проблему психического и соматического здоровья в целом. В силу этого, а также по причинам относительной ограниченности ресурсов и авторитарного характера многих социальных институтов, «работающих» на систему, а не на реального человека, отечественная клиническая психотерапия пока оказывается мало приспособленной к решению проблем психического здоровья тех граждан, которые находятся вне поля зрения медицинских служб. Кроме того, не принимая во внимание критерий «качества жизни» и субъективно-феноменологический аспект жизнедеятельности, она оказывается недостаточно эффективной в ситуациях, в которых на первый план выступают интересы отдельной личности или малых социальных групп, фундаментальные потребности человека в счастье и свободном самовыражении, личностном «росте» и творческой инициативе.
Данный «Практикум» демонстрирует яркую (но далеко не полную) палитру возможностей арт-терапевтического подхода в разных областях его практического применения и некоторые пока мало освоенные в России формы арт-терапии. Убедительность приводимых описаний усиливается тем, что авторы сборника являются первопроходцами в своей работе. Они предлагают информацию «из первых рук» и во многих случаях приводят свидетельства живого арт-терапевтического процесса в виде многочисленных иллюстраций.
Большая часть материалов сборника написана британскими и американскими арт-терапевтами. Хотя и в некоторых других странах на сегодняшний день сложились свои арт-терапевтические школы, имеющие немалые достижения, с точки зрения исторической «эволюции» метода британский и американский опыт заслуживает особого внимания. Именно в этих странах арт-терапия развивалась прежде всего как значимая социальная инициатива, проявленная группой прогрессивных художников, арт-педагогов, врачей и психотерапевтов. Именно здесь с 60-х гг. начали действовать первые специализированные программы профессиональной подготовки в области арт-терапии. Высокий уровень профессионализма арт-терапевтов Великобритании и США, их следование лучшим традициям и единым нормам работы при сохранении высокой творческой свободы и готовности к инновациям и решению нестандартных практических задач определили наши предпочтения при составлении сборника.
Немаловажным оказался и опыт работы составителя «Практикума», полученный при редактировании специализированного журнала «Исцеляющее искусство», на страницах которого в течение последних двух с половиной лет было опубликовано большое число статей по разным направлениям арт-терапии и рецензий, посвященных новинкам арт-терапевтической литературы. В нашем распоряжении уже имелся большой спектр публикаций, переведенных на русский язык и получивших отклик специалистов. Предстояло лишь выбрать лучшие, дополнив их некоторыми новыми материалами. Это, в частности, относится к фрагментам сборников «Арт-терапия в практике» (под редакцией М. Либманн) и «Многообразие культурных проблем в арт-терапии» (под редакцией А. Хискокс и А. Калиш), а также большой части книги Д. Калманович и Б. Ллойд «Портативная студия. Арт-терапия и политический конфликт: инициативы в бывшей Югославии и Южной Африке».
На создание окончательной версии сборника оказала влияние международная конференция «Арт-терапия 2000: образование, исследования, политика и практика» (прошедшая 17-20 сентября 1999 г. в Мюнстере, Германия, и организованная Международным Консорциумом Арт-тера-певтического Образования), на которой одной из ключевых тем была проблема использования единых стандартов арт-терапевтического образования и практической работы странами Европейского Союза и другими государствами в целях повышения качества арт-терапевтических услуг. Посещение конференции убедило нас в правильности избранной нами ориентации на создание единой системы понимания предмета, содержания и методов арт-терапевтической работы, несмотря на определенные различия социально-экономических и культурных условий, существующих в разных странах.
Отчасти именно этим объясняется включение в сборник главы 1. В ней кратко представлены методология и техника проведения индивидуальной и групповой арт-терапии, принципы оборудования арт-терапевтического кабинета, способы регистрации и оценки ее эффектов, особенности построения арт-терапевтических занятий и подбора тем и упражнений в соответствии с поставленными задачами и особенностями группы клиентов. Глава готовит читателя к восприятию последующего материала. Ее необходимость в структуре сборника оправдана и пока еще низкой осведомленностью отечественных специалистов о базисных арт-терапевтических понятиях.
Дальнейший материал скомпонован таким образом, чтобы дать читателю представление об основных областях применения арт-терапии и особенностях арт-терапевтической работы с различными группами и категориями клиентов. В главе 2 описывается арт-терапевтическая работа с детьми и подростками. Глава 3 отражает работу с клиентами совершенно иной возрастной группы — людьми пожилого и преклонного возраста. Глава 4 касается арт-терапевтической работы с психиатрическими пациентами, а глава 5 знакомит с опытом применения арт-терапии в социальной сфере. Подобная структура сборника во многом является условной, ибо материалы разных глав имеют множество параллелей и «точек пересечения». Так, например, статья М. Мауро, описывающая работу с девочкой-подростком, могла быть включена в главу 4, так же как и статья К. Тисдейла о его работе с молодым человеком, совершившим тяжкое преступление и проходящим лечение в специализированном психиатрическом отделении закрытого типа. Очевидно и то, что темы, затрагиваемые в главе 5, часто перекликаются с темами других глав.
Восприятие некоторых публикаций может вызвать определенные затруднения, связанные с использованием их авторами малоизвестных отечественным специалистам понятий. Это относится прежде всего к терминам, заимствованным у психодинамических концепций. Часть статей сборника отличается особенно тесной связью с психоанализом и концепцией объектных отношений (например, статьи К. Кейз и Т. Борон-ска). Стремясь в какой-то мере облегчить российскому читателю понимание этих текстов, мы включили в первую главу «Практикума» специальный раздел, посвященный трактовке некоторых психодинамических понятий, использующихся в зарубежной арт-терапевтической практике.
В других частях сборника прослеживается влияние гуманистического, центрированного на клиенте подхода (статьи М. Либманн, К. Дрю-кер, С. Льюис и др.), мультикультурных представлений (статья М. Мауро, Д. Байере) и иных направлений современной психологии и психотерапии. В целом обращает на себя внимание склонность большинства авторов максимально использовать не только трансформирующий потенциал самой изобразительной работы, но и ее коммуникативные аспекты, помогающие установлению «рабочего альянса» со специалистом, исследованию внутреннего мира клиента и осуществлению тех или иных психотерапевтических воздействий. Такие устремления особенно характерны для нынешнего этапа развития арт-терапии, на котором предпочтение все чаще отдается интерактивным формам работы (там, где это возможно и согласуется с коммуникативными возможностями клиента). В этом отношении показательны статьи М. Либманн, П. Луззатто, А. Копытина, К. Тисдейла, А. Байере и других авторов.
С учетом значимости межличностной коммуникации нельзя не подчеркнуть, что арт-терапия не ограничивается формами вербального дискурса, разворачивающегося на материале изобразительной продукции клиента. В центре внимания специалиста на разных этапах арт-терапев-тического процесса могут находиться особенности мимики, движений, невербальной звуковой экспрессии и других реакций клиента. Пристальное внимание к этим сторонам работы особенно наглядно проявляется в статьях К. Кейз, Д. Калманович и Б. Ллойд, Д. Мерфи.
Среди многообразия современных психотерапевтических методов арт-терапия (арт-психотерапия) отличается особой «мягкостью». Ролевые функции распределяются здесь между клиентом и специалистом совершенно иным образом, чем в большинстве ортодоксальных, вербальных психотерапевтических подходов: клиенту предоставляется максимальная степень свободы, он во многих случаях оказывается «ведущим» арт-терапевтический процесс, выражая себя в том стиле и тех формах, которые отвечают его состоянию, особенностям личности и потребностям. По своему характеру арт-терапия в большинстве случаев является недирективной, что, однако, не исключает использования и жестких, структурирующих, директивных моделей арт-терапевтической работы. Это особенно характерно для некоторых видов групповой (особенно краткосрочной) арт-терапии, что можно видеть на примере публикаций М. Либманн, М. Мауро, А. Копытина и некоторых других.
Материалы сборника представляют как индивидуальные, так и групповые формы арт-терапевтической работы. Если для используемых за рубежом вариантов индивидуальной арт-терапии во многих случаях характерна отчетливая психодинамическая ориентация, то групповые формы отличает стремление опереться на более широкий круг представлений и психологических концепций. Для этих форм, в частности, характерно использование ряда принципов групп-анализа, социальной психологии и психиатрии, общей теории систем. Очевидно, что при групповой арт-терапии социальные факторы имеют относительно большее значение, чем при индивидуальной работе. В групповой и индивидуальной арт-терапии разнятся механизмы лечебно-коррекционного воздействия: в частности, перенос и контрперенос имеют в групповой работе относительно меньшее значение. В то же время, в соответствии с теорией И. Ялома, особую значимость при групповой психотерапии (включая и групповую арт-терапию) приобретают такие «исцеляющие» факторы, как групповая сплоченность и поддержка, получение информации, межличностное научение, реализация альтруистической потребности, коррекция психических паттернов, связанных с пребыванием в «первичной семейной группе», имитация поведения, развитие социальных навыков и другие*. Групповая арт-терапия по сравнению с индивидуальной обладает значительно большими возможностями и в плане развития навыков принятия решений, освоения новых ролей и проявления латентных качеств личности, получения обратной связи, а также перераспределения лидерства от психотерапевта к другим участникам группы в условиях особой, демократичной атмосферы, обусловленной равенством прав и ответственности. При всем этом данные факторы лечебно-коррекционного воздействия, проявляющиеся в условиях групповой арт-терапевтической работы, дополняются теми, которые связаны с изобразительным характером деятельности участников, их самостоятельной творческой работой, отвечающей их потребности в сохранении личностной идентичности и независимости.
Глубокий анализ лечебно-коррекционных механизмов, проявляющихся в ходе изобразительной и иной творческой работы и обсуждения рисунков, характерен для представителей отечественной психотерапевтической школы. Р. Б. Хайкин, например, пишет об ассоциативно-коммуникативном уровне адаптации, достигаемом в процессе художественной терапии. По его мнению, это происходит благодаря подключению интеллектуальных операций (проекция, обсуждение и осознание внутри-психического конфликта), облегчению психотерапевтического контакта и доступу врача к психопатологическим переживаниям пациента. Кроме того Р. Б. Хайкин упоминает ряд других уровней, на которых тоже может осуществляться адаптация пациента в ходе художественной терапии.
| * См.: Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. СПб.: Питер, 2000. |
М. Е. Бурно при изложении принципов краткосрочной терапии творческим рисунком — частной формы терапии творческим самовыражением (клинико-психотерапевтический метод) — подчеркивает значимость межличностной коммуникации для достижения психотерапевтических результатов. Осознание пациентом своего душевного склада, закономерностей индивидуальных переживаний и отношения к миру, связанных с характерологическим радикалом определенного типа, достигается в немалой степени благодаря совместному обсуждению участниками группы и их лидером картин известных художников и своих собственных рисунков.
В заключение хотелось бы отметить, что механическое перенесение описанных в настоящем сборнике форм и методов арт-терапевтической работы «на российскую почву» было бы неправильным». Лучшие достижения зарубежных арт-терапевтических школ следует соотносить с русской психотерапевтической традицией, учитывать особенности психического склада и систему ценностей соотечественников, актуальные социально-экономические, политические и культурные условия. Хочется надеяться, что на пути к профессиональной интеграции в международное сообщество арт-терапевтов отечественные специалисты смогут сохранить свое лицо. Богатая история и культура народов Российской Федерации заключают в себе колоссальный потенциал, который может быть использован для создания подлинно гуманных и высокоэффективных в реальных обстоятельствах форм арт-терапевтической работы с самыми разными группами и категориями населения. С этой точки зрения отечественные арт-терапевты могут стать той общественной группой, которая способна трансформировать устаревшую институциональную «культуру», сложившуюся во многих секторах отечественного здравоохранения, образования и социальной работы, и тем самым выступить в качестве одного из факторов социальных изменений. Профессиональная инициатива, помноженная на глубокое внимание к потребностям клиентов и уважение их прав, — вот та основа, опираясь на которую отечественные специалисты в области арт-терапии смогут оказать реальную помощь своим соотечественникам в самых разных жизненных ситуациях.
А. Копытин
Глава1
ИСХОДНЫЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ
Первая глава является своеобразным введением в область основных арт-терапевтических понятий. Она задает ориентиры, помогающие в восприятии материала последующих глав. Данная глава состоит из двух частей. В первой части дается классификация основных форм арт-терапевтической работы, описываются условия ее проведения и способы оценки и регистрации. Думается, что независимо от теоретических предпочтений и своеобразия конкретных моделей, используемых специалистами в их практической работе, все это на сегодняшний день является «классикой» метода, закономерным следствием его развития за последние полвека. Во второй части дается характеристика некоторых наиболее важных психодинамических понятий, без которых трудно себе представить профессиональный лексикон современных, в особенности западных арт-терапевтов. Необходимость в ней тем более очевидна с учетом того, что ряд публикаций последующих глав имеет достаточно сильную связь с психодинамическими представлениями. Не призывая рассматривать их в качестве истины в последней инстанции, мы тем не менее убеждены в том, что психодинамические концепции являются для нынешних арт-терапевтов примерно тем же, что и ритм-энд-блюз для любого современного музыканта.
МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Александр Иопытин
Печатается по изданию: Копытин А. Основы арт-терапии. СПб.: Лань, 1999.
Сведения об авторе: Александр Копытин — психиатр, психотерапевт, председатель Арт-терапевтической Ассоциации, главный редактор журнала «Исцеляющее искусство».
Можно использовать разные подходы к классификации форм арт-терапии, например выделить клиническую, психодинамическую, гуманистическую, трансперсональную и другие ее модели. Содержание и формы арт-терапевтической работы могут различаться в зависимости от той или иной группы клиентов (например, психиатрические больные, лица с пограничными психическими расстройствами, пациенты с соматической патологией, мотивированные к личностному «росту» клинически здоровые лица и т. д.). Формы арт-терапии также различны при работе с детьми, подростками и взрослыми. И тем не менее можно говорить о двух основных вариантах арт-терапевтической работы — индивидуальной и групповой арт-терапии. Каждая из них, в свою очередь, имеет свои разновидности.
1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ
Индивидуальная арт-терапия может использоваться с широким кругом клиентов. Некоторые клиенты, не подлежащие вербальной психотерапии (олигофрены, психотики, лица преклонного возраста с нарушениями памяти и некоторые другие), в ряде случаев могут довольно успешно заниматься с арт-терапевтом как индивидуально, так и в группе: имея нарушенную способность к вербальной коммуникации, они нередко способны выражать свои переживания в изобразительной форме. Даже если некоторые из них и не способны создавать художественные образы, простая манипуляция и игра с материалами порой оказывается очень важным фактором их активизации, тренировки сенсомоторных навыков, мышления, памяти и других функций.
Тем не менее принято считать, что индивидуальная арт-терапия, действующая не только на отдельные проявления, но и механизмы развития заболевания, подходит прежде всего пациентам с неглубокими психическими расстройствами, преимущественно невротического характера. Более серьезные психические нарушения могли бы быть препятствием формированию устойчивых психотерапевтических отношений. Применительно к лицам с грубыми изменениями личности, неустойчивой или нарушенной идентичностью индивидуальная арт-терапевтическая работа была бы сопряжена с риском еще большей личностной диссоциации.
Особую ценность арт-терапевтическая работа может иметь для детей и взрослых, испытывающих определенные затруднения в вербализации своих переживаний, например из-за речевых нарушений, аутизма или малоконтактности, а также сложности этих переживаний и их «невыразимости» (у лиц с посттравматическим стрессовым расстройством). Это не значит, что арт-терапия не может быть успешной в работе с лицами, имеющими хорошо развитую способность к вербальному общению. Для них изобразительная деятельность может являться альтернативным «языком», более точным и выразительным, чем слова.
На развитие индивидуальной арт-терапии (точнее было бы сказать, арт-психотерапии) оказал большое влияние прежде всего психодинамический подход, рассматривающий изобразительную деятельность пациента в качестве инструмента исследования его бессознательного. В последние годы достижения этого подхода были переработаны арт-тера-певтами с учетом новых представлений об интерактивном характере арт-терапевтического процесса и приемов практической работы иных психотерапевтических школ. Однако арт-терапия не стала частной формой психоанализа и сохраняет изначально присущий ей уникальный характер, связанный с художественными основами ее метода.
Направлением клиента на индивидуальную арт-терапию, исходя из его проблем, характера заболевания и особенности личности, занимаются, как правило, врачи. Педагог или школьный психолог, оценив проблемы или характер эмоциональных и поведенческих нарушений ребенка, также могут рекомендовать его для индивидуальной арт-терапевтической работы. В нынешних условиях увеличение числа частнопрактикующих арт-терапевтов ведет к тому, что они могут зачастую сами принимать решение о целесообразности индивидуальной арт-терапевтической работы с обратившимся к ним клиентом. В любом случае необходимым условием для начала индивидуальной работы является установление психотерапевтического контакта. Оно происходит уже при самых первых встречах, когда у пациента и арт-терапевта возникают реакции друг на друга, определяющие неповторимую атмосферу их совместной работы.
Большую роль в формировании устойчивых психотерапевтических отношений играет детальное обсуждение с клиентом целей, характера и условий работы. Любая современная психотерапевтическая практика предполагает заключение психотерапевтического контракта. Контракт «защищает» клиента и самого специалиста, причем не только юридически, но и психологически, формируя определенную меру ответственности обеих сторон за принятые ими обязательства. В частности, специалист (в данном случае арт-терапевт), подписывая контракт, берет на себя ответственность за использование конкретного вида работы, обеспечение для нее надлежащих условий и оснащения, регулярности сессий и т. д. Пациент, в свою очередь, обязуется посещать арт-терапевта в установленное время, определенным образом оплачивать его услуги (если арт-терапевтические услухи предполагают их оплату самим пациентом) и т. д.
В самом начале арт-терапевт объясняет клиенту, в чем будет заключаться их совместная работа, что клиент может и чего не может делать. Как правило, подчеркивается то, что эта работа не предполагает специальных художественных способностей или навыков и не ставит своей целью создание «высокохудожественных произведений», что она делает акцент прежде всего на свободном самовыражении клиента посредством любых материалов и средств, имеющихся в его распоряжении. Поясняется, что «свободное самовыражение» будет необходимо (или весьма желательно), дабы помочь клиенту устранить определенные проявления его болезни, решить «внутренние» (то есть связанные с самочувствием и настроением) или «внешние» (связанные со взаимоотношениями с окружающими) проблемы, улучшить его общее состояние и т. д.
Арт-терапевт учитывает склонность клиента к индивидуальному, ему одному присущему темпу деятельности. Далеко не все клиенты способны сразу включиться в изобразительную работу. Иногда должно пройти несколько сессий, прежде чем клиент сможет преодолеть свою робость и стереотипы привычного поведения, которые зачастую заставляют воспринимать арт-терапевтическую работу как недостойную взрослого человека «детскую игру» либо, напротив, как нечто, весьма напоминающее «художественную деятельность» с необходимым для нее созданием «правильных» или «красивых» рисунков. И та и другая тенденции проявляются у клиентов довольно часто в начале работы.
Постепенно, по мере того как формируются психотерапевтические отношения, у клиента возникает ощущение защищенности, внутреннего комфорта и свободы, а атмосфера арт-терапевтического кабинета начинает восприниматься им как особенная, отличная от той, которая обычно его окружает. Клиент начинает работать все более естественно, смело и увлеченно. В процессе работы возникают самые разнообразные ассоциации, чувства и воспоминания. Могут проявляться сильные переживания, в том числе негативного характера, такие, например, как чувства гнева, вины, утраты и т. д. Но надежные «границы» арт-терапевти-ческого кабинета, глубина психотерапевтического контакта и полное доверие арт-терапевта ко всему, что чувствует и делает его клиент, являются теми факторами, которые «удерживают» переживания клиента от их «выплескивания» в самодеструктивном или агрессивном, направленном на других людей, поведении. Одним из важных факторов «удерживания» является художественный, символический образ. Если пациент работает над ним в течение нескольких сессий или возвращается к нему вновь и вновь, образ «потенцирует» его переживания. Постепенно выражаясь в изобразительной деятельности все более ярко (но не обязательно «высокохудожественно») и облекаясь в емкую, многозначительную форму символических образов, эти переживания начинают осмысляться пациентом. В большинстве случаев осмысление приходит в результате совместного с арт-терапевтом обсуждения изобразительной продукции. Этот процесс напоминает то, как на «переводной картинке», после осторожного скатывания слоев бумаги в конце концов появляется полноцветное изображение. Молчаливый восторг, возглас или вздох обозначают достижение того нежного и тонкого слоя, в котором покоятся детская «красота» и смысл. Этот слой является эфемерным маркером, обозначающим присутствие безыскусного «откровения» на поверхности самых обыденных предметов.
Все это время арт-терапевт находится рядом с клиентом. Он старается не мешать его работе замечаниями или комментариями и стремится не препятствовать проявлению сильных, в том числе негативных эмоций. Лишь в тех случаях, когда они принимают явно деструктивный или самодеструктивный характер, арт-терапевт может обратиться к клиенту с вопросами, призванными помочь осмыслить и контролировать их проявление. Арт-терапевт, время от времени задавая различные вопросы, стремится не объяснять, но «прояснять» все, что клиент делает. Тем самым он обращает внимание клиента на скрытый смысл его собственных действий. Вопросы могут быть направлены на «прояснение» реакций переноса со стороны клиента. В этом случае арт-терапевт и клиент устанавливают закономерную связь между характером изобразительной работы последнего, опытом его детства, актуальными взаимоотношениями с окружающими и проблемами на данном этапе жизни.
В то же время арт-терапевт «работает» и со своими реакциями контрпереноса. Пытаясь осмыслить происхождение чувств, возникающих в нем в ответ на произведения, действия или высказывания клиента, он всегда должен задаваться вопросом, насколько они связаны с его собственными «проблемами».
Работа в целом имеет недирективный характер: арт-терапевт, ставя перед собой задачу помочь клиенту преодолеть болезнь или решить определенные психологические проблемы, не предлагает никаких готовых «рецептов». Он действует гибко, всякий раз настраиваясь на индивидуальный темп и стилевые особенности работы клиента, стараясь следовать за динамикой его состояний. По мере того как клиент переходит от вначале «защитной» позиции к более открытой, арт-терапевт становится «свидетелем» внутренних конфликтов и переживаний. Дальнейшее развитие арт-терапевтического процесса характеризуется тем, что эти конфликты и переживания, отражаясь в изобразительной работе клиента и «проясняясь» через «диалогический дискурс» с арт-терапевтом, становятся для клиента все более осмысленными и понятными. Он приходит к «принятию» и «признанию» в себе ранее отчужденных свойств и проявлений, осознанию их в качестве закономерных и необходимых элементов своей личности, источников своей внутренней силы. Негативные свойства и переживания не подавляются и не предаются забвению, но трансформируются силой заключенного в них смысла, логикой глубокого внутреннего единства, раскрываемого в различных проявлениях психической жизни клиента. Таким образом, динамика происходящих в клиенте изменений в процессе арт-терапевтической работы могла бы быть охарактеризована как движение от бессмысленности к смыслу, от слабости — к силе, от фрагментарности — к единству, от неуверенности в себе — к самодостаточности. Данные изменения находят свое отражение в динамике изобразительной работы и в изменении характера образов, создаваемых клиентом. Вовсе необязательно, что изобразительные работы приобретают качественно новое эстетическое наполнение, хотя переживания клиентом «прекрасного» имеют место и могут означать известный «поворот» в эмоциональной атмосфере, связанный, в частности, с актуализацией раннего опыта «восстановления утраченного объекта» (Кейз К., 1998).
Пациент начинает ощущать определенное «сродство» со своими работами, которые постепенно наполняются для него ценностью и смыслом. Он иногда испытывает чувство удовлетворенности, но не потому, что работы кажутся ему «красивыми» и могут кому-то понравиться, а потому, что ему удалось выразить в них что-то очень важное. Клиент становится более свободным в использовании различных материалов и средств. Более емким и убедительным становится его изобразительный «язык». Образы приобретают «глубину» и «многомерность», органично облекая не то, что клиент «придумал» или «позаимствовал» среди стереотипных символических обозначений конвенциональной культуры, а то, что он действительно переживает внутри себя.
Однако это не значит, что арт-терапевтический процесс идет гладко. Порой могут проявляться состояния растерянности и замешательства, когда клиент не знает, с чего начать работу. Он перебирает и исследует разные изобразительные материалы и средства, некоторое время не находя для себя подходящих. В определенные моменты он может испытывать нежелание и неспособность что-либо создавать. В этом случае арт-терапевт может побеседовать с клиентом, пытаясь, например, обратить его внимание на те внутренние проблемы или определенные аспекты взаимоотношений с окружающими (включая и взаимоотношения с самим арт-терапевтом), которые и могли вызывать замешательство.
Иногда клиент, создав за определенный промежуток времени несколько работ, прекращает дальнейшую деятельность и испытывает потребность обратиться к тому, с чего он начал, или просмотреть последовательно все свои «произведения». Это может быть очень важно для клиента, поскольку является фактором переосмысления и интеграции им своего опыта.
Иногда клиент пытается уничтожить свои работы — как законченные, так и незаконченные. Часто это отражает либо его травматичный опыт, который пока не может быть интегрированным, либо очевидный внутренний конфликт. Арт-терапевт, как правило, не препятствует уничтожению работ, но в то же время пытается выяснить, с чем связано такое желание клиента. Степень допустимости любых эмоциональных и поведенческих проявлений в процессе арт-терапевтической работы, включая и брутальные формы, в целом весьма высока. В то же время она определяется контекстом психотерапевтических отношений и степенью взаимного доверия клиента и арт-терапевта. Иногда выход сильных чувств может быть необходимым этапом, позволяющим клиенту актуализировать весьма важный пласт своего опыта.
Индивидуальная арт-терапевтическая работа может продолжаться довольно долго. Во многих случаях — несколько месяцев или даже лет. В то же время ее продолжительность определяется рядом внешних факторов, например сроком пребывания клиента в стационаре, возможностями финансирования конкретной арт-терапевтической программы или финансовыми возможностями самого клиента, планом реабилитации и т. д. Многие арт-терапевты так или иначе адаптируются к разным условиям, влияющим на сроки их индивидуальной работы с клиентами. В любом случае нежелательно внезапное прекращение работы, оставляющее клиента «незащищенным», один на один с ранее актуализированными проблемами.
Основаниями для завершения индивидуальной работы, наряду с внешними факторами, являются определенные изменения в состоянии и характере изобразительной деятельности клиента, отражающие положительную динамику арт-терапевтического процесса. Клиент должен быть достаточно «консолидирован» для того, чтобы прекратить отношения с арт-терапевтом, то есть уметь самостоятельно справляться со своими переживаниями и проблемами (по крайней мере, в обозримом будущем). В целом, завершение работы (терминация) обозначает некий личностный «рост» клиента за определенный промежуток времени.
Терминация может сопровождаться оживлением сильных чувств (любви, гнева, печали и т. д.), нередко отражающих опыт «расставания», с которыми клиент уже способен справиться. На этапе терминации отношение клиентов к созданным ими работам может быть различным. Некоторые испытывают желание взять одну или несколько работ с собой, что свидетельствует о высокой значимости для них происходившего в арт-терапевтическом процессе. Они, безусловно, имеют на это право. В других случаях клиенты, напротив, «остывают» и становятся равнодушными к своим работам. Это может говорить о том, что они ощущают определенный этап своей жизни завершенным и готовы сделать шаг навстречу новым формам опыта.
Наряду с описанным — недирективным — вариантом индивидуальной арт-терапевтической работы, имеющим во многом психодинамический характер, в настоящее время используются и другие ее варианты. Можно назвать, например, центрированную на клиенте индивидуальную арт-терапию, основанную на гуманистической модели психотерапии по К. Роджерсу; более «традиционные» варианты индивидуальной работы, характерные для последователей К. Юнга, М. Наумбурх, И. Чам-пернон; разновидности более жестко структурированной или имеющей преимущественно диагностическую направленность клинической арт-терапии, а также некоторые другие формы индивидуальной работы.
2. ГРУППОВАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ
Групповые формы арт-терапевтической работы в настоящее время используются очень широко, причем не только в здравоохранении, но и в образовании, социальной сфере, других областях. Существует целый ряд причин, которые заставляют арт-терапевтов и специалистов, занимающихся направлением клиентов на арт-терапевтическую работу, отдавать предпочтение ее групповым формам. Немаловажную роль в этом играет их «экономичный» характер, позволяющий работать с более'широким кругом клиентов. М. Либманн (Liebmann М., 1987), например, указывает, что групповая арт-терапия:
• позволяет развивать ценные социальные навыки;
• связана с оказанием взаимной поддержки членами группы и позволяет решать общие проблемы;
• дает возможность наблюдать результаты своих действий и их влияние на окружающих;
• позволяет осваивать новые роли и проявлять латентные качества личности, а также наблюдать, как модификация ролевого поведения влияет на взаимоотношения с окружающими;
• повышает самооценку и ведет к укреплению личной идентичности;
• развивает навыки принятия решений.
Дополнительные отличия групповой арт-терапии от индивидуальной заключаются также в том, что она:
• предполагает особую «демократичную» атмосферу, связанную с равенством прав и ответственности участников группы, меньшую степень их зависимости от арт-терапевта;
• во многих случаях требует определенных коммуникативных навыков и способности адаптироваться к групповым «нормам».
Все эти отличия и возможности групповой арт-терапии в той же мере свойственны и многим формам вербальной групповой психотерапии. Основные же различия между ними заключаются в том, что любая групповая арт-терапия предполагает не только взаимодействие с другими участниками группы, но и самостоятельную изобразительную работу, что оказывает влияние на динамику общего процесса. Кроме того, сочетаются стремление участников к «слиянию» с группой и сохранению групповой идентичности — с одной стороны, и потребность в независимости и укреплении индивидуальной идентичности — с другой. Групповая арт-терапия в равной мере предполагает взаимодействие между участниками группы посредством вербальной и невербальной коммуникации и погружение внутрь себя, что делает ее чрезвычайно богатой по своим возможностям. Она опирается как на принципы групповой вербальной психотерапии, так и на арт-терапевтические достижения, уникальным образом синтезируя и то и другое.
Как всякий лечебно-коррекционный метод, групповая арт-терапия имеет своей целью определенные изменения в состоянии и социальном поведении участников группы. В то же время она не связана с «лечением» в строгом, медицинском смысле этого слова и в меньшей мере, чем индивидуальная арт-терапия, ориентирована на исследование индивидуальных проблем и воздействие на причины и механизмы развития болезни.
Существует несколько вариантов групповой арт-терапии, различающихся между собой, главным образом, по степени группового взаимодействия и «структурированности»:
а) студийная открытая группа (преимущественно неструктурирован-
ная);
б) аналитическая закрытая группа (разная степень структурирован-
ности);
в) тематически ориентированная группа (разная степень открытости
и структурированности).
М. Либманн (Liebmann М., 1987), используя критерий «структурированности», приводит классификацию различных арт-терапевтических групп, показанную на рис. 1.1.
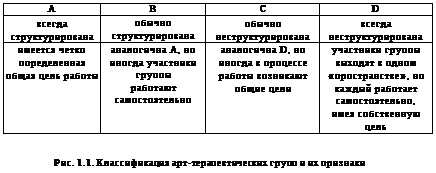
Существуют и «смешанные» варианты арт-терапевтических групп, которые на разных этапах работы могут быть то более, то менее структурированными. Участники неструктурированных арт-терапевтических групп хотя и встречаются в определенное время в общем помещении, работают совершенно самостоятельно. Им не предлагается ни каких-либо общих тем, ни инструкций по выполнению работы. Структурированные группы предполагают наличие инструкций или «правил», которые придают изобразительной работе участников определенную направленность. Инструкции или «правила» могут различаться по степени своей «жесткости». В одних случаях они сводятся к требованию рисовать что захочется, но с использованием лишь трех наиболее предпочтительных цветов или работать вместе с «напарником». В других случаях оговаривается не только способ и условия работы, но и тема; причем в одних случаях она может предполагать выбор вариантов ее исполнения, а в других — нет. Например, если участников группы просят нарисовать наиболее запомнившийся им эпизод детства, то такая инструкция допускает широкие возможности для выбора. Если же их просят передать в рисунке свои воспоминания о первом дне, проведенном в школе, то их выбор гораздо более узок. Рассмотрим последовательно каждый из трех основных видов групповой арт-терапии.
Студийная открытая группа
Слово «открытая» в названии этой группы обозначает отсутствие постоянного состава. На любом этапе к группе могут присоединяться новые участники. «Студийной» эта группа называется потому, что условия ее работы чем-то напоминают художественную студию. Студийная открытая группа является одной из наиболее ранних форм арт-терапевтической работы. Ее использование, в частности, связано с деятельностью А. Хилл и других художников и арт-педагогов, считавших, что положительный эффект изобразительного творчества связан с его «отвлекающим» и «катарсическим» действием. Работа открытых студийных групп, особенно в тех случаях, когда она связана с изготовлением изделий художественных промыслов или включает в себя иной «производственный» элемент, в какой-то мере напоминает терапию занятостью или индустриальную терапию.
В 60-90-е гг. текущего столетия студийные открытые группы были постепенно вытеснены другими формами групповой арт-терапевтической работы, использующими достижения психодинамического подхода, гуманистической психологии и психотерапии, групп-анализа и динамической психиатрии. В настоящее время в странах с сильными арт-тера-певтическими школами используется широкий спектр самых разнообразных форм групповой арт-терапии. Студийные же формы арт-терапевтической работы «рекреационного» и «трудотерапевтического» направления применяются, главным образом, в тех странах, где бытует упрощенный взгляд на арт-терапию. В таких странах, как, например, Франция или Германия, самостоятельная художественная работа больных в условиях открытых студий опирается также на традицию art brut с ее акцентом на культивировании «иного» творчества и «иных» эстетических шаблонов, утверждающих своеобразие мироощущения психически больных людей и их х-удожественную субкультуру.
В последние годы, для того чтобы сочетать самостоятельную работу пациентов с элементами обратной связи посредством арт-терапевта и группы, наметилась определенная тенденция к объединению методологии открытых студийных групп с интерактивной моделью. Однако, несмотря на распространение других форм групповой арт-терапевтической работы, открытым студийным группам до сих пор все еще отдается предпочтение, прежде всего в стационарах с длительным пребыванием пациентов, например в психиатрических или туберкулезных больницах, в специализированных интернатах и школах-интернатах, в дневных социальных центрах и реабилитационных учреждениях.
На работу открытых студийных групп оказали определенное влияние юнгианский и гуманистический подходы. Так, например, юнгианский анализ подчеркивает ценность самостоятельной работы пациента, что в определенной мере отвечает условиям открытой студийной группы. С различными подходами к проведению открытых студийных групп можно познакомиться в работах Б. Варси (Warsi В., 1975), Е. Лиддатт (Lyd-diatt Е., 1971), Э. Адамсон (Adamson Е., 1984), К. Кейз и Т. Делли (Case С, Dalley Т., 1992), К. Киллик (Killick К., 1996), П. Луззатто (Luz-zattoP., 1997).
Б. Варси описывает гуманистический подход к работе открытой студийной группы, основанный на школе К. Роджерса. Е. Лиддатт предлагает вариант студийной работы, при котором применяется юнгианский подход с его акцентом на спонтанном самовыражении и требовании невмешательства арт-терапевта в изобразительную деятельность пациентов. К. Киллик пишет об эффективности сочетания психоаналитической работы, перемежающейся со студийной группой, что позволяет, по ее мнению, интегрировать неосознаваемые переживания пациентов. Э. Адамсон отмечает особую ценность создания атмосферы высокого доверия и терпимости между участниками студийной группы. П. Луззатто описывает краткосрочный вариант открытой студийной группы, организованной для недавно поступивших в стационар больных с острыми психическими расстройствами.
К. Кейз и Т. Делли отмечают, что особенно удачной формой работы с детьми может быть сочетание студийной группы и индивидуального контакта с каждым ребенком. «С детьми можно работать весьма успешно, используя возможности студии для художественной работы и игр. Дети быстро идентифицируют себя с группой, приходя сюда в определенный день и час, однако вскоре погружаются в индивидуальную работу над своей темой, отражающей собственные проблемы. Арт-терапевт двигается от одного ребенка к другому, останавливаясь и разговаривая с каждым. Иногда дети сами обращаются к нему. Дети могут образовывать пары и мелкие группки, формируя хорошую рабочую атмосферу высокой терпимости, что позволяет большинствудетей успешно завершить работу без каких-либо помех. Такая группа может быть весьма ценной для развития социальных навыков детей, поскольку они чутка^воспринима-ют модель отношений и терпимости к различиям, которую демонстрирует арт-терапевт. <...> Очень много дети получают благодаря наличию у каждого "личного пространства", необходимого для исследования своих проблем и переживаний в безопасной атмосфере группы. То высокое доверие, которое формируется при этом, позволяет детям спокойно воспринимать индивидуальные различия, приходить к взаимопониманию и помогать друг другу» (Case С, Delley Т., 1992, р. 199).
При всем этом возможности студийной открытой группы в целом ограничены. Они сводятся, главным образом, к определенному положительному эффекту, достигаемому благодаря тому, что изобразительный процесс обладает отвлекающим, седативным, активизирующим или катарсическим действием. Важную роль играют контакт пациента со своим бессознательным и, в какой-то мере, положительная оценка результатов изобразительной деятельности со стороны окружающих, повышающая самооценку клиента. Такие действенные факторы, как психотерапевтическое взаимодействие пациента с арт-терапевтом и его активная интеракция со своей изобразительной продукцией, здесь практически не участвуют. Действие других факторов, связанных с групповым характером работы, также минимально.
Занятия с открытой студийной группой проводятся в кабинетах-студиях (см. следующий раздел «Оборудование арт-терапевтического кабинета»). Перед началом работы арт-терапевт объясняет общие цели и характер предполагаемой деятельности, правила поведения в студии. Так, например, он может сказать, что посещение студии не приведет к созданию «высокохудожественных» произведений, но что каждый участник может, используя любые материалы по своему выбору, нарисовать или создать из них все, что захочет. Пациентов просят не мешать друг другу разговорами и комментариями в ходе работы. В то же время им предоставляется возможность общаться друг с другом в специально отведенном месте (за столиком с чаем или кофе или в креслах в стороне от рабочих столов).
После этого пациентов приглашают к работе, хотя далеко не все сразу в нее включаются. Арт-терапевт может выяснить причину бездеятельности того или иного пациента и помочь ему начать работу, демонстрируя разные материалы и их потенциал. Однако не следует слишком настойчиво побуждать пациентов к изобразительной деятельности. Студийная группа предполагает использование недирективного подхода, предоставляющего максимум свободы каждому участнику и уважение его индивидуальных особенностей. Необходимо учитывать, что для некоторых пациентов может представлять интерес даже простое пребывание в атмосфере студии и молчаливое «соучастие» в работе других.
Каждый работает в своем темпе. Одни пациенты могут за одну сессию создать несколько работ, другие посвящают выполнению одной работы несколько сессий. Несмотря на то что вербальный контакт в процессе работы минимален, а группа является открытой, в ней всегда через некоторое время формируется своя собственная «культура» — ее неповторимая атмосфера, связанная с динамикой работы, невербальной экспрессией участников, их воздействием друг на друга через свои художественные работы, общением в перерывах, звучанием музыки, нередко используемой в качестве «фона», и другими факторами.
Студийная группа предполагает обратную связь, — главным образом, через экспозицию работ в помещении студии и их краткое обсуждение, контакт между отдельными участниками и индивидуальное общение с арт-терапевтом.
Работы, как правило, хранятся в личных папках. Тем самым защищается право каждого пациента на внутренний мир и формируется (при участии и других факторов) безопасное «психотерапевтическое пространство».
Занятия в открытых студийных группах проводятся от одного до нескольких раз в неделю. Продолжительность сессий варьирует в среднем от полутора до двух с половиной часов. Во многих случаях, в особенности в стационарах длительного пребывания и специальных интернатах, пациенты могут проводить в студии любое время. Тем самым они получают возможность уединиться и погрузиться в свой внутренний мир посредством изобразительной деятельности.
2-1508
Продолжительность работы в открытой студийной группе определяется разными факторами: интересом пациентов, сроком пребывания в стационаре и т. д. Поскольку студийная группа не характеризуется отчетливой групповой динамикой и не имеет того «психотерапевтического оттенка», который свойствен индивидуальной арт-терапии и некоторым другим формам групповой арт-терапии, понятие терминации для обозначения ее окончания не используется.
Аналитическая закрытая группа
Аналитическая закрытая группа ориентирована в основном на работу с неосознаваемыми психическими процессами ее участников. Слово «закрытая» в названии означает, что на протяжении всего времени состав группы остается постоянным. На развитие тех форм арт-терапевтической работы, которые связаны с понятием аналитической группы, оказали влияние разные направления психодинамического подхода (Freud S., 1921; Adler А., 1929; Moreno J., 1948; Main Т., 1946; Foulkes S., 1964).
В работе «Групповая психология и анализ Эго» 3. Фрейд (1921) попытался проанализировать поведение толпы и отношения между группой и лидером. А. Адлер, в отличие от Фрейда, подчеркивал важность социальных факторов и инициировал первые формы групповой работы. Термин «групповая психотерапия» был веден Я. Морено (Moreno J., 1948), который разработал такую ее форму, как психодрама. Т. Мейн (Main Т., 1946) с помощью психодинамических представлений обосновал использование новых форм работы с психически больными и способствовал организации «психотерапевтических сообществ».
Определенный вклад в развитие групповых форм психотерапии внес К. Левин. Он впервые использовал понятие «групповая динамика» и способствовал организации групп, ориентированных на «тренинг сенситив-ности». Кроме того, он применил оригинальную «полевую теорию» для обоснования процессов социального взаимодействия и осуществил уникальный для своего времени эксперимент по изучению влияния разных типов управления на формирование групповой атмосферы.
Свой вклад в разработку методологии групповой психотерапии аналитического типа внесли П. Шильдер (Schilder Р., 1939); А. Вольф и Е. Шварц (Wolf A., Schwartz Е., 1962). При групповой работе основной акцент делался ими на индивидуальном анализе путем изучения переноса и сопротивления у отдельных участников группы.
В отличие от этих авторов, X. Эзриел (Ezriel Н., 1950, 1952) и В. Би-он (Bion W., 1961) занимались преимущественно анализом групповых процессов. X. Эзриел полагал, что они отражают общие мотивы, опасения и способы психической защиты, свойственные участникам группы. В. Бион же систематизировал разные формы коллективного поведения, автоматически проявляющиеся при объединении людей в группу. Его идеи были затем широко использованы при организации «психотерапевтических сообществ» и проведении «тренинговых групп».
Немаловажная роль в развитии групповых форм психодинамической работы принадлежит С. Фолькису (Foulkes S., 1964), который подчеркивал особую важность анализа индивидуальных реакций участников группы и считал, что психотерапевтический эффект связан с совокупным вкладом клиентов в групповую работу. Он выделил четыре основных уровня, на которых происходит функционирование группы:
• уровень актуальных, «взрослых» отношений, на которые оказывают влияние социально-политические, экономические и культурные факторы;
• уровень, связанный с проявлением реакций переноса;
• уровень, связанный с проявлением чувств, фантазий и других внутрипсихических процессов, разделяемых участниками группы;
• уровень архетипических представлений.
Интересны также работы Г. МакНилли (McNeilly G., 1984, 1987, 1989), в которых обсуждалось использование аналитических групп.
Таким образом, библиография по использованию психодинамических представлений в групповой психотерапевтической работе свидетельствует о широком диапазоне разных подходов. Все они так или иначе могут использоваться при проведении арт-терапевтических аналитических групп. Важным является то, что все эти подходы реализуются в контексте арт-терапевтической работы. Поэтому изобразительная деятельность участников является особым предметом анализа и оказывает большое влияние на динамику группы в целом и содержание переживаний ее участников.
Аналитическая группа является комплексным видом работы, сочетающей в себе как изобразительную деятельность клиентов, так и вербальную коммуникацию. Вербальный компонент может варьировать в широком диапазоне: от спонтанных высказываний, комментирующих изобразительный процесс, до групповой дискуссии. Групповые аналитические сессии весьма динамичны и включают в себя на разных стадиях глубокое погружение участников в самостоятельную работу и коллективное обсуждение.
2-
Ход сессии не имеет какой-либо жесткой регламентации, и хотя арт-терапевт наблюдает за ним и время от времени комментирует его, многообразие возможностей этой формы групповой работы делает ее малопредсказуемой и спонтанной. Степень идентификации участников с группой и их взаимодействие друг с другом (возможность физического контакта в форме игр, открытого выражения своих эмоций в двигательных реакциях, парной и коллективной изобразительной работы и т. д.) весьма высоки. В то же время участников такой группы отличает высокий уровень независимости и умение сохранять собственную идентичность. Они имеют возможность самостоятельно контролировать свои действия и отчасти ход групповой работы, самостоятельно решая, в какой форме и когда в нее включиться. Им предоставляется неограниченная свобода поведения.
При этой форме работы играют большую роль как вербальный, так и невербальный каналы коммуникации. Важно и то, что участники могут взаимодействовать посредством своей изобразительной продукции. Они не только активно реагируют на работы своих товарищей во время их создания, но и включаются в групповое обсуждение во время дискуссии.
Такая форма работы очень часто провоцирует чувства и реакции, связанные с переносом: атмосфера группы может будить воспоминания о детстве и тех его моментах, когда сегодняшние участники группы играли или занимались изобразительным творчеством в присутствии взрослых.
Эту форму работы отличает отсутствие жесткого ролевого распределения, которое свойственно, например, тематически ориентированной группе. Участники могут свободно переходить от одной роли к другой, неосознанно реагируя на действия и изобразительную продукцию других. Здесь предоставляется большая возможность для исследования множества смыслов, заключенных в изображениях, для сопоставления и интеграции тех содержаний, которые автор вкладывает в свою работу, и тех смыслов, которые раскрываются в ней при групповом обсуждении.
Аналитическая группа формирует свою особую «культуру», раскрывающуюся в динамике образов и взаимоотношений ее участников. Клиенты начинают ощущать эту «культуру», проецируя свои смыслы и переживания на собственные работы и работы других, являющиеся материальными и живыми свидетельствами собственного и группового прошлого, настоящего и будущего.
На протяжении всего хода сессии арт-терапевт внимательно наблюдает за реакциями и поведением участников и их работой, в частности за характером используемых материалов, особенностями создаваемых образов и т. д. Он комментирует динамику происходящих изменений как в атмосфере группы в целом, так и в характере переживаний и поведении,ее участников.
Аналитическая закрытая группа рассчитана, главным образом, на работу с пациентами, имеющими пограничные психические расстройства (или расстройства невротического уровня), либо с лицами, не имеющими каких-либо клинических нарушений, но испытывающими определенные психологические или социальные проблемы. Аналитические группы могут использоваться в работе с семьями, различными малыми сообществами людей, объединенными по какому-либо признаку (расовому, этническому, половому, возрастному и т. д.), в работе с правонарушителями, в ряде случаев с лицами, проходящими лечение от алкогольной или наркотической зависимости, и другими категориями клиентов. Существует также определенный опыт использования аналитических групп в работе с психиатрическими пациентами (Greenwood Н., Killick К., 1995).
Работа аналитической группы предполагает проведение регулярных сессий продолжительностью два-три часа (иногда больше), в большинстве случаев еженедельно или один раз в две недели. Группа может встречаться в течение того или иного периода времени, который определяется задачами работы и внешними факторами. Так, срок работы группы может быть связан с достижением определенного лечебно-коррекци-онного эффекта или проработкой комплекса проблем (характерного, например, для ситуации в семье, представителей определенного малого сообщества и т. д.). Таким образом, можно говорить об уместности использования понятия терминации для обозначения окончания работы аналитической группы.
Работа аналитической группы характеризуется определенной динамикой, которая выражена сильнее, чем, например, в работе студийной или тематически ориентированной группы. Можно говорить о четырех основных ее этапах (Case С, Dalley Т., 1992).
Первый этап отличается пассивностью участников, которые ориентируются на лидера (арт-терапевта), склонны идентифицировать себя с ролью ведомого и проецировать свои неосознаваемые качества на лидера и других участников. С этим связана тенденция к идеализации одних участников группы и дистанцированию от других. Высокая степень тревожности участников группы отрицается ими или маскируется искусственным оптимизмом и благодушием. Изобразительная продукция выполняет защитную функцию, что проявляется, в частности, в потребности участников в высокой оценке своих работ со стороны лидера и в их стремлении использовать изобразительные клише.
Важная роль на этом этапе принадлежит лидеру, который, дистанцируясь от «соучастия» в «играх» и демонстрируя свою особую функцию и позицию в группе, символизирует для участников «ролевую модель», — тем самым он стимулирует их самостоятельность.
Второй этап характеризуется снижением проекций и повышением тревожности и психического дискомфорта участников. Может проявляться враждебность отдельных клиентов друг к другу так же, как и симпатия и идеализация в результате усиления переносов. Могут наблюдаться импульсивные реакции, агрессивные выпады против лидера и даже попытки отдельных участников покинуть группу. В целом самооценка участников группы понижается, имеет место тенденция к отрицанию ими своих творческих возможностей.
На третьем этапе происходит расширение экспрессивного диапазона участников. Они становятся готовы к аутентичному выражению самых разнообразных чувств, которые постепенно ими осознаются. Параллельно с этим взаимоотношения между участниками приобретают более глубокий и комплексный характер. Идет исследование проекций и переносов, их соответствия реальным «Я» клиентов. Преодолеваются регрессивные тенденции и потребность в зависимости от лидера и отдельных участников. Формируется определенная «культура» группы, способствующая продуктивной работе, происходит идентификация участников с общей целью групповой деятельности.
Четвертый этап нередко характеризуется усилением тревожности, регрессивных и защитных тенденций участников группы. Могут иметь место депрессивные переживания или, напротив, эйфория. Клиенты, стремясь преодолеть страх расставания, формируют пары. Многие испытывают потребность вновь обратиться к ранее выполненным ими или их товарищами работам, пытаются завершить или изменить рисунки определенным образом. Происходит постепенная интернализация опыта групповой работы, позволяющая интегрировать его различные аспекты и достичь высокой степени психологической автономности, необходимой для терминации.
Работа аналитической группы предполагает создание определенных условий, отличающихся, например, от условий работы студийной группы. Важная роль отводится формированию надежных «границ», обеспечивающих «безопасное пространство» для групповой работы. Некоторыми факторами создания такого пространства является закрытый характер группы с постоянным составом участников. Четкая регламентация периодичности и продолжительности сессий с обязательным их посещением (неявка отдельных участников на ту или иную сессию может быть особым предметом для анализа), достаточно четкое формулирование основных целей и задач работы (насколько это возможно при низкой структурированности группы). В отличие от условий студийной группы, с характерным для нее рядом однотипных столов и отсутствием достаточного места для вербальных обсуждений, помещение для работы аналитической группы имеет, как правило,две зоны: «грязную»,предназначенную для изобразительной работы, и «чистую» —для обсуждений. Необходим больший выбор посадочных (рабочих) мест, различающихся по определенным признакам. Необходимо обеспечить свободный доступ участников к различным материалам и средствам работы, к воде. С учетом того, что работа аналитической группы часто предполагает совместную деятельность двух или нескольких человек, передвигающихся в пределах всего кабинета, возможность физического контакта и свободное использование любых материалов с потенциальным «загрязнением» территории или созданием беспорядка, «грязная» зона должна иметь достаточное свободное пространство и легко моющуюся поверхность пола и стен. По крайней мере одна из стен должна быть отведена для закрепления на ней бумаги, что может потребоваться, например, при работе нескольких участников на вертикальной плоскости. Оформление «чистой» зоны соответствует общим требованиям, предъявляемым к арт-терапевтическому кабинету, предназначенному для интерактивных форм работы.
Тематически ориентированная группа
Тематически ориентированная группа по сравнению со студийной и аналитической группами, как правило, предполагает большую степень структурированности, которая достигается, главным образом, за счет использования тем, затрагивающих общие интересы и проблемы участников. В большинстве случаев тематически ориентированные группы являются полуоткрытыми: некоторые участники на определенном этапе могут покидать группу, в любой момент она может пополняться новыми членами. Это допустимо, поскольку работа тематически ориентированной группы не имеет динамики, свойственной аналитической группе. В то же время работа этой группы порой более динамична, чем работа студийной группы. Ее большая структурированность, по сравнению с аналитической группой, оказывает тормозящее воздействие на групповую динамику. Как правило, тематически ориентированная группа работает непродолжительное время, нацеливаясь на определенные аспекты опыта ее участников и решение вполне конкретных задач.
Тематически ориентированную группу отличает значение, которое она придает как социальным условиям, влияющим на работу ее участников, так и действию внутренних исцеляющих факторов, связанных с неосознаваемыми психическими процессами и креативностью.
Методологическим обоснованием тематически ориентированных групп выступает довольно широкий круг различных направлений современной психологии и вербальной групповой психотерапии. Это, в частности, различные психологические подходы, оперирующие понятием игровой деятельности (Piaget J., 1951; Erikson Е., 1978), и теории групповой психотерапии (Yalom I., 1975). Большое влияние на развитие тематически ориентированных групп оказала деятельность «групп встреч», использующих представления гуманистического подхода. В частности, нацеленность на контекст «здесь-и-сейчас» и трехчастная структура характеризуют тематически ориентированные группы в той же мере, в какой и «группы встреч». Тематически ориентированные группы опираются на опыт семейной и кризисной психотерапии, системные и некоторые иные представления.
Все эти влияния синтезируются в специфическом контексте арт-терапевтической работы, что позволяет в равной степени сочетать социально-коммуникативные и интроспективные элементы в деятельности тематически ориентированных групп.
Тематически ориентированные группы получили распространение сравнительно недавно. Из работ последнего времени, посвященных их использованию, можно отметить работы М. Либманн (Liebmann М., 1984, 1987), X. Ландгартен(Ьапа^аг1епН., 1981), Д. Уэллер (Waller D., 1993), Д. Кемпбелл (Campbell J., 1993). На русском языке в последние годы опубликовано несколько работ, в которых описываются методы, напоминающие деятельность тематически ориентированных арт-терапевтических групп (Бурно М., 1989; Хайкин Р., 1992).
Существуют различные причины предпочтения в ряде случаев тематически ориентированных групп. М. Либманн (Liebmann М., 1987), например, называет ситуации,когда:
• люди испытывают явные затруднения и растерянность, особенно в начале работы;
• люди, не имеющие опыта арт-терапевтической работы, ориентируются, главным образом, на свои впечатления от школьных уроков рисования;
• люди чувствуют себя слишком напряженно в группе;
• имеются временные ограничения для арт-терапевтической работы (в силу короткого срока пребывания больного в стационаре, небольшой продолжительности курса арт-терапии или реабилитационной программы и т. д.), заставляющие более четко формулировать задачи и темы работы, отражающие специфические проблемы группы;
• необходимо сплотить группу;
• нужно предоставить группе выбор, для того чтобы настроить ее на решение тех или иных проблем и задач работы;
• требуется активизировать взаимодействие между участниками группы;
• надо вывести людей из погружения в свои проблемы и побудить к более активной совместной работе.
Кроме того, тематически ориентированные группы довольно широко используются специалистами, владеющими методами вербальной групповой психотерапии, но не имеющими серьезной арт-терапевтической подготовки. Хорошая структурированность тематически ориентированных групп и относительно более низкая роль изобразительного элемента, как правило, позволяют таким специалистам успешно справляться с ведением тематически ориентированных групп.
Тематически ориентированные группы работают в течение меньшего промежутка времени, чем, например, аналитические. Нередко они организуются даже как группы однократных встреч, на которых прорабатываются те или иные проблемы участников. Иногда они представляют собой «группы выходного дня», работающие один или два дня по многу часов. В большинстве случаев тематически ориентированные группы имеют определенную периодичность сессий (от одной в две недели до нескольких в неделю). Продолжительность сессий примерно такая же, как и при работе аналитических групп (в среднем полтора-два часа). Оснащение помещения отвечает требованиям кабинета для групповой интерактивной работы.
Цели и содержание занятий тематически ориентированной группы определяются рядом факторов. Так, при работе с группой, состоящей из лиц с недоразвитием интеллекта, основная цель занятия может сводиться к оценке и тренировке их познавательных возможностей и умений;
при работе с группой, состоящей из пожилых людей, целью занятия мо-
жет быть проработка особых проблем — одиночества и беспомощности;
при работе со смешанной группой детей и взрослых — налаживание
коммуникации и достижение лучшего взаимопонимания между участни-
ками и т. д. •
Группа структурируется не только за счет использования тем, имеющих характер индивидуальных или групповых «заданий» с соответствующими инструкциями по их выполнению, но и за счет распределения общего времени сессии на отдельные этапы:
• введение и «разогрев» (занимает примерно от 10 до 25% времени сессии);
• изобразительная работа — «исполнение» темы (от 30 до 40% общего времени сессии);
• обсуждение и завершение сессии (от 35 до 40% общего времени сессии).
Введение и «разогрев» предполагают знакомство и подготовку участников к работе, создание атмосферы доверия и безопасности. Арт-терапевт должен объяснить основные правила поведения в ходе сессий, иногда он может согласовать эти правила с группой. В частности, он просит не опаздывать и посещать все сессии, проявлять взаимное уважение, воздерживаться от разговоров и замечаний, которые могут помешать другим. Он указывает на ответственность участников за то, что будет происходить во время сессий: за чувства и поступки, выбор тем и их раскрытие в изобразительной работе, уборку помещений после завершения сессии и т. д. Арт-терапевт объясняет основной характер арт-терапевтической работы, ее цели и задачи. В частности, он может подчеркнуть, что арт-терапия не связана с созданием «произведений искусства» и использованием каких-либо изобразительных эталонов, что наибольшее значение имеет искренность в выражении переживаний, индивидуальный стиль самовыражения, что участники могут вести себя совершенно естественно и делать из любых материалов все, что им захочется в соответствии с выбранной темой.
Последующий «разогрев» представляет собой разные виды физической активности и способы «настройки» на изобразительную работу. В нем могут использоваться некоторые упражнения из арсенала «групп встреч», упражнения на релаксацию (особенно если последующая изобразительная деятельность предполагает интроспективный характер и связана с активизацией фантазии или исследованием собственных чувств и воспоминаний), а также некоторые несложные изобразительные приемы. В приложении приведены примеры некоторых из них.
Этап изобразительной работы предполагает выбор темы и ее последующую разработку с помощью изобразительных приемов. Выбор темы может осуществляться различным образом и определяться характером группы. Так, арт-терапевт может предложить одну или несколько тем на выбор, ориентируясь на состав группы. В частности, при работе с пожилыми лицами, посещающими социальный центр дневного пребывания, могут быть предложены темы «наиболее яркие события моей жизни», «линия жизни» (см. Приложение) и другие. При работе с детьми, имеющими определенные эмоциональные или поведенческие нарушения, могут использоваться темы, позволяющие выражать и исследовать сильные чувства и привычные способы поведения, например, «жизнь на необитаемом острове», «подводный мир», «джунгли» и т. д. При работе со смешанными группами детей и взрослых могут использоваться такие темы, как, например, «совместный проект», «разговор» и другие.
Обычно темы распределяются по нескольким основным группам. М. Либманн (Liebmann М., 1987) для удобства выбора темы в зависимости от обстоятельств предлагает следующее деление:
• темы, связанные с освоением изобразительных материалов;
• «общие» темы, позволяющие исследовать широкий круг проблем и переживаний участников группы;
• темы, связанные с исследованием системы отношений и образа «Я»;
• темы, имеющие особую значимость при парной работе участников группы, а также темы, предназначенные для работы с семьями;
• темы, предполагающие совместную изобразительную деятельность участников группы, и некоторые другие группы техник (см. Приложение).
В некоторых случаях тема выбирается или предлагается самими участниками группы. Этому может предшествовать небольшая дискуссия, позволяющая выяснить наиболее актуальные и близкие большинству участников проблемы. Некоторые темы могут быть продолжением или «развитием» предыдущих занятий. Иногда можно дать сформулировать участникам некую тему, отражающую основную проблему или потребность, проявившуюся в уже выполненных работах.
Большинство тем предполагает индивидуальную деятельность, однако немало и таких, которые могут быть предназначены для парной или коллективной работы (см. Приложение).
После выбора темы участники приступают к ее «раскрытию» и «разработке» с помощью изобразительных средств. Эффективность работы тематически ориентированной группы зависит от степени вовлеченности в нее и искренности участников. Формальное изображение на заданную тему способно мало что дать участникам группы и не оказывает влияния на групповую динамику. Тематически ориентированные группы иногда становятся объектом критики со стороны некоторых арт-терапевтов, в особенности тех, кто работает с аналитическими группами. Они склонны полагать, что использование тем, особенно предложенных лидером, делает работу более поверхностной, чем в случаях ее полной неструктурированности, когда она затрагивает более глубокие слои опыта, включая неосознаваемые психические процессы. Критики утверждают, что преимущественно «социальный» характер тематически ориентированных групп заставляет их участников ориентироваться на шаблонные реакции и способы изобразительного «ответа» на предлагаемые темы.
«Раскрытие» и «разработка» темы с помощью изобразительных средств происходит, как правило, молча. Преждевременные оценки работ друг друга нежелательны, поскольку могут смутить автора, вывести его из состояния погружения в творческий процесс и помешать искреннему выражению чувств. В то же время некоторые темы могут предполагать ту или иную степень вербальной коммуникации и физического взаимодействия между участниками.
Следует учитывать разную скорость их работы. Те, кто уже завершил свой труд, могут, не мешая другим, внимательно рассмотреть свое «произведение», попить чаю или отдохнуть в «чистой» зоне.
Этап обсуждения и завершение сессии. Обсуждение обычно происходит в «чистой» зоне арт-терапевтического кабинета. Оно представляет собой рассказ участников о своей изобразительной работе или комментарии к ней. Пациенты не просто описывают нарисованное, но стараются раскрыть свои чувства, ассоциации, мысли, связанные с изобразительным продуктом и его содержанием. Иногда автор может лишь показать свою работу или ограничиться всего несколькими словами. В других случаях участники могут сопроводить свой рисунок (или иной «продукт» — скульптуру, трехмерную композицию и т. д.) описанием в форме рассказа или стихотворения.
Существует несколько вариантов обсуждения. В одних случаях каждому предоставляется возможность высказаться, в других — внимание фокусируется на одной или нескольких работах. Иногда на обсуждение выносится и ход групповой работы: каждый делится своими ощущениями и мыслями относительно того, что происходило во время данной сессии или их серии, каковы его впечатления от общей атмосферы в груп-пе, характера вербальной и невербальной коммуникации, роли ведущего
(арт-терапевта) и разных участников, их отношения к теме и т. д. Целесообразно устраивать ретроспективные обсуждения (например, при регулярных занятиях один раз в одну или две недели) с показом и комментариями серии работ того или иного участника, выполненных за определенный период времени. Это может стимулировать группу к выбору очередной темы, а автора — к глубокому осмыслению своего опыта.
При рассказе участника о своей работе другие, как правило, воздерживаются от комментариев и оценок, но могут задавать автору вопросы. Иногда, при общем согласии группы, участники переходят к более подробному обсуждению работ друг друга с высказыванием собственных впечатлений, чувств, мыслей.
Этот этап сессии может быть дополнен комментариями и оценками арт-терапевта, касающимися хода работы, ее результатов, поведения отдельных участников и т. д. Как правило, он избегает делать какие-либо аналитические заключения — это может лишь усилить зависимость от него участников группы и подавить их самостоятельность. Подобные заключения, может быть и уместные в диагностических целях, не отвечают основному характеру арт-терапевтической работы, которая предполагает активный «диалог» авторов со своими «произведениями». Этому «диалогу» способствуют различные приемы, которые использует арт-терапевт, в том числе на этапе обсуждения. Он может задавать автору вопросы, направленные на уточнение содержания работы, его переживаний и мыслей. Нередко используется юнгианская техника «амплификации», направленная на выявление ассоциативных связей между работами участников и различными событиями их жизни, мифологическими, эстетическими, религиозными представлениями и т. д.
Арт-терапевт может использовать технику «гештальта», побуждая участников говорить об отдельных элементах их произведений от первого лица, озвучивать диалоги между этими элементами, а затем составить высказывание от «лица» всего произведения в целом.
Завершение сессии может представлять собой краткое резюме, отражающее ее основные результаты. Арт-терапевт может суммировать общий итог сессии, подчеркнув те или иные ее положительные стороны, и поблагодарить участников за их работу. При более продолжительных сессиях каждый участник может кратко сказать о том, что он «получил» от работы и что ему больше всего понравилось или не понравилось.
Иногда используется некий заключительный «ритуал» или упражнение, призванное обозначить окончание сессии и возвратить участников в реальную жизнь. Этому же служит и самостоятельная уборка помещения участниками группы.
В ходе сессии иногда могут возникать сложные моменты, связанные с замешательством или пассивностью группы, беспокойным поведением отдельных участников, мешающих работать другим, бурным проявлением чувств, ощущением незавершенности работы или сохраняющимися сильными переживаниями, которые «вышли на поверхность» в процессе работы, но не нашли своего разрешения. Арт-терапевту иногда бывает сложно вести группу и в то же время эффективно решать все вопросы, связанные с этими сложными моментами. Поэтому он, как правило, работает с ассистентом.
Иногда используется иная последовательность этапов сессии. Например, изобразительному этапу может предшествовать развернутая дискуссия, особенно тогда, когда участникам требуется больше времени и усилий для включения в изобразительную работу. В других случаях почти вся сессия может состоять в основном из изобразительной работы, обсуждение же переносится на следующий раз. В группах, состоящих из лиц со сниженной способностью к вербальной коммуникации, обсуждение может быть очень кратким или ограничиваться лишь показом работ. В группах, состоящих из лиц со сниженной способностью к концентрации внимания или пожилых пациентов, изобразительный этап может быть непродолжительным. Большая же часть времени сессии отводится на несложные физические упражнения, общение и т. д. Более подробно некоторые формы проведения тематически ориентированных групп рассматриваются в следующих разделах книги.
3. АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ И ЕГО ОСНАЩЕНИЕ
Вместе с развитием арт-терапии и совершенствованием ее методологии формировались и нормы, определяющие условия арт-терапевтической работы. Эти условия в известной мере изменялись вместе с реформами в системе здравоохранения, проникновением арт-терапии в деятельность социальных служб, образование и другие сферы деятельности. Несмотря на многообразие задач и форм арт-терапевтической работы, а также значительные различия между отдельными клиентами и их группами, в настоящее время можно говорить о существовании единых требований к оборудованию арт-терапевтического кабинета.
Эти требования во многом основаны на представлении о так называемом «психотерапевтическом пространстве» — особой среде, которая является местом взаимодействия между психотерапевтом и клиентом. Понятие «психотерапевтического пространства» имеет психоаналитическое происхождение и обозначает не столько конкретную организацию физического пространства психотерапевтического кабинета, сколько ту особую атмосферу, которая создается за счет целого ряда факторов.
Как отмечает М. Хан (Khan М., 1974), «уникальным достижением Фрейда является разработка и использование им психотерапевтического пространства и дистанции между пациентом и аналитиком». «В этом пространстве и при этой дистанции взаимоотношения между ними становятся возможными лишь посредством их способности поддерживать иллюзии и работать с ними. Фрейд сформулировал понятия пространства, времени и того процесса, которые потенцируют иллюзии и тем самым позволяют активизировать символический дискурс». М. Хан также поясняет, что иллюзии являются в данном случае предпосылкой переноса. Следует, по-видимому, добавить, что термин «иллюзии» в психодинамическом смысле обозначает определенные изменения в восприятии клиента, в частности те, которые связаны с регрессом сознания на онтогенетически ранних стадиях развития, что является необходимым условием для актуализации и проявления материала бессознательного.
Таким образом, понятие «психотерапевтического пространства» предполагает высокую степень внутренней защищенности аналитика и пациента, вступающих в психотерапевтические отношения. Это непременное условие создания атмосферы доверия и открытости, необходимой дли" развития психотерапевтического процесса. Предпосылками формирования «психотерапевтического пространства» в аналитической работе традиционно являются:
• заключение психотерапевтического контракта, регламентирующего цели и условия психотерапевтической работы, ее оплату, частоту и продолжительность сессий, другие моменты;
• четкие пространственно-временные границы психотерапевтической работы, которые создаются путем использования по возможности постоянного места для проведения сессий и их регулярностью на протяжении всего психотерапевтического процесса;
• личность психотерапевта.
Арт-терапевтическая работа в отличие от большинства вербальных, в частности психоаналитических форм работы, предполагающих лишь двустороннюю коммуникацию, включает динамическое взаимодействие трех участников или элементов: арт-терапевта, клиента и материала или продукта изобразительной деятельности. В соответствии с этим понятие «психотерапевтического пространства» предполагает некоторые дополнительные условия, в частности определенные требования к оснащению арт-терапевтического кабинета соответствующими материалами и средствами для работы, а также условиям экспонирования и хранения продуктов изобразительной деятельности клиента. К. Кейз и Т. Делли отмечают, что «каждый человек, приходящий в арт-терапевтический кабинет, использует его по-своему и устанавливает уникальные отношения с арт-терапевтом». «И хотя одно и то же пространство будет восприниматься различными клиентами по-разному, оно всегда будет играть одинаковую роль, являясь не только фактическим местом пребывания клиента, арт-терапевта и изобразительных материалов, но и символическим пространством. <...> Арт-терапевтический кабинет предоставляет, по возможности, определенный набор изобразительных материалов и рабочих мест» (Case С, Delley Т., 1992, р. 20).
Понятие «психотерапевтического пространства», применительно к арт-терапевтической работе, охватывает также самого арт-терапевта и художественный образ, создаваемый клиентом. Это связано с тем, что арт-терапевт выполняет несколько иную роль, чем психотерапевт при вербальных формах работы. Через молчаливое, наполненное вниманием присутствие при работе клиента он передает последнему ощущение надежности границ, в пределах которых возможно отреагирование переживаний клиента в художественных образах. Художественный образ обладает свойством к потенцированию и накоплению разнообразных переживаний, проецируемых на него клиентом. В то же время он «безопасен» для клиента в том смысле, что его переживания предстают перед ним в «снятом», «дистанцированном», символическом виде. Поэтому клиент чувствует себя более защищенным, чем если бы он пытался выразить свои переживания непосредственно в поведении или словах. Об арт-терапевтическом кабинете Д. Шавериен пишет: «Что бы здесь ни происходило, оно будет в той или иной степени отделено от повседневной жизни и станет лишь предметом для наблюдения». «Это имеет очень большое значение, так как без ощущения пространства, вынесенного за пределы внешнего мира, будет сохраняться склонность пациента действовать и реагировать неосознанно — то есть так же, как мы ведем себя в повседневной жизни. Наличие же определенных границ обеспечивает возможность для поддержания психотерапевтической дистанции. Это позволяет клиенту отстраниться от внешнего мира, что дает ему возможность психологического регресса и функционирования в качестве наблюдателя за своим собственным поведением» (Schaverien J., 1989, p. 149).
Арт-терапевтическое определение «психотерапевтического пространства» весьма близко понятию «игрового пространства», особенно в том смысле, который связан с представлением о «фасилитирующей среде» Д. Винникотт. Понятием «фасилитирующая среда» Д. Винникотт (Winnicott D., 1998) обозначает ту особую атмосферу, которая создается матерью в ее отношениях с ребенком в первые два года его жизни и позволяет ребенку свободно манипулировать «транзитными объектами», благодаря чему он достигает первичного самоопределения. Арт-терапев-тический кабинет и его оснащение могут рассматриваться поэтому как особое пространство для «символической игры», в которой роль «транзитных объектов» выполняют различные изобразительные материалы и даже предметы интерьера, такие, как, например, репродукция художественной работы на стене кабинета.
В создании игровой атмосферы, столь необходимой для построения «психотерапевтического пространства» арт-терапевтической работы, определенную роль играет недирективность подхода и дополнительно оговариваемые нормы и правила поведения клиента, — в частности, что можно, а чего нельзя делать в процессе работы. Арт-терапевт дает понять клиенту, что тот может свободно пользоваться любыми изобразительными материалами и средствами, создавая из них все, что ему захочется, и что при этом результаты его изобразительной деятельности не будут оцениваться с точки зрения их эстетических достоинств. Арт-терапевт может объяснить клиенту, что тот вовсе не обязан что-либо сразу изображать и что будет приветствоваться каждая попытка отражения чувств и мыслей в любой художественной форме и в любой момент. Все это является дополнительными факторами в создании для клиента атмосферы свободы и защищенности и изменении его восприятия арт-терапевтической ситуации как игровой, позволяющей свободно манипулировать материалами, образами, ролями, наподобие того, как он это делал в детстве, когда рисование или лепка не воспринимались им обязанностью или «художественным занятием».
Как отмечает М. Либманн (Liebmann М., 1987), «ценные достоинства игр, используемых в арт-терапии, заключаются в том, что они обеспечивают иную систему координат, отличную от существующей в реальности современного мира». «В ней могут быть освоены и исследованы новые способы поведения без тех последствий, с которыми связано их использование в жизни. Можно сначала рискнуть малым, не рискуя потерять что-то очень важное. <...> Игры также могут предоставлять возможность для непрямого обращения к актуальным проблемам, непосредственное обсуждение которых было бы слишком болезненным. Они могут быть источником радости и веселья, являясь в то же время весьма серьезным делом».
Различные составляющие понятия «психотерапевтического пространства» применительно к арт-терапевтической работе создают, таким образом, уникальную комбинацию факторов, предоставляющих дополнительные лечебно-коррекционные и развивающие возможности для клиентов. Эта комбинация факторов позволяет Р. Эргил использовать понятие «творческой арены» для обозначения особой атмосферы арт-те-рапевтического кабинета. Работая с детьми, он отметил ту особую роль, которую играет поддержание относительного порядка в арт-терапевти-ческом кабинете (при условии, что детям позволено вести себя совершенно свободно и пользоваться материалами любым образом). Он пишет: «Кабинет находится в чистоте, поэтому если ребенок его запачкает, это будет восприниматься как созданный им самим беспорядок, и это ощущение резко контрастирует с его привычным ощущением общего беспорядка в детском коллективе». «Таким образом ребенок будет учиться создавать порядок из хаоса, реализуя свои творческие возможности. <:..> Все пространство арт-терапевтического кабинета является "творческой ареной", на которой ребенок может преодолеть свои психические травмы и зажечься искрой творчества. Благодаря занятиям он обретает уверенность в себе, что позволяет ему решать проблемы, связанные с обучением, общением с членами семьи и сверстниками» (цит. по: Case С, DalleyT., 1992).
* * *
В настоящее время существуют следующие основные типы арт-терапевтических кабинетов:
а) кабинет-студия,
б) кабинет для индивидуальной работы,
в) кабинет для групповой интерактивной работы,
г) арт-терапевтическое отделение и кабинет универсального назначе-
ния.
Арт-терапевтический кабинет-студия является наиболее ранней формой специализированного помещения для художественных занятий. Слово «студия» в данном случае означает, что этот тип арт-терапевтического кабинета чем-то напоминает помещение, предназначенное для работы художника. В кабинете-студии работают обычно несколько пациентов, которые мало контактируют друг с другом. Каждый из них работает самостоятельно.
По мере развития арт-терапии стали появляться другие типы арт-терапевтических кабинетов, предназначенных для более тесного взаимодействия как между арт-терапевтом и пациентами, так и между отдельными участниками группы. Тем не менее студия до сих пор является наиболее подходящим типом помещения для работы с некоторыми группами пациентов (пациенты психиатрических больниц, лица со сниженным интеллектом и некоторые другие). В отдельных случаях кабинет-студия может служить и местом для арт-терапевтической работы с невротиками, лицами с соматической патологией. Такая работа отличается значительной степенью свободы участников арт-терапевтической группы.
Кабинет-студия имеет несколько мест для самостоятельной работы пациентов. Места представляют собой, как правило, столы со стульями. На каждом рабочем месте — необходимый набор всевозможных материалов (бумага разных форматов, краски, восковые мелки или пастель, карандаши и т. д.). На отдельном столе могут находиться заготовки для коллажа, глина и другие материалы на случай, если кто-то предпочтет оригинальную изобразительную технику. Обязательным для студии, так же как и других типов помещений для арт-терапевтической работы, является наличие одной или — лучше — нескольких раковин, обеспечивающих свободный доступ пациентов к воде.
Кабинет-студия имеет зону отдыха с креслами и столом с чаем. Здесь посетители студии могут общаться, не мешая другим. Наряду с тем, что работа в студии рассчитана всякий раз на определенное время, в течение отдельных сессий пациенты могут работать в присущем каждому темпе, по желанию делать перерывы, выходить в фойе (например, для курения).
Кабинет-студия должен иметь специально отведенное место для работ пациентов (при том, что им позволено забирать некоторые работы с собой). Как правило, работы хранятся в индивидуальных папках на столах или стеллажах.
Арт-терапевтический кабинет для индивидуальной работы обычно предназначен для более продолжительного курса занятий как со взрослыми, так и с детьми и подростками, страдающими негрубыми формами психических расстройств. Работа в таком кабинете предполагает тесное психотерапевтическое взаимодействие между арт-терапевтом и пациентом, в том числе на протяжении всего процесса изобразительной работы. Арт-терапевт молчаливо присутствует при работе и иногда задает уточняющие вопросы.
Для работы пациента имеется стол, стул и весь набор изобразительных средств и различных материалов, расположенных либо на полках, либо на другом столе в непосредственной близости от стола пациента.
Стул арт-терапевта находится рядом со столом пациента. Эта часть помещения называется «рабочей зоной». Здесь иногда может находиться гончарный круг и резервуар с глиной, «песочница». Некоторые арт-терапевты предоставляют своим пациентам и иные, более редкие материалы и средства изобразительной работы. Имеются некоторые особенности в оборудовании кабинета, предназначенного для индивидуальной работы с детьми. Они заключаются в наличии большого свободного пространства для игры с предметами или импровизированного исполнения ролей, а также в присутствии «кукольного дома» и разнообразных игрушек.
В кабинете наряду с «рабочей зоной» имеется «чистая зона» для общения арт-терапевта и пациента после завершения изобразительной работы, проведения вербальной психотерапии.
Арт-терапевтический кабинет для групповой интерактивной работы рассчитан как на самостоятельную работу участников группы, так и на их вербальное взаимодействие на этапе обсуждения продуктов изобразительной деятельности. В соответствии с этим кабинет либо должен допускать быструю перестановку мебели, например для посадки пациентов в круг, либо иметь две по-разному оборудованные зоны — «рабочую» — для изобразительной работы, и «чистую» —для группового обсуждения. От кабинета-студии данное помещение отличается еще и тем, что в нем имеется большое разнообразие различных мест для работы, например несколько вариантов столов и стульев. Ориентация столов в пространстве может быть различной, чтобы предоставить возможность выбора участникам группы, которые занимают то или иное место в соответствии со своими предпочтениями, тем самым обозначая «персональные территории», являющиеся в условиях групповой интерактивной работы элементом «индивидуального психотерапевтического пространства». У каждого пациента имеется индивидуальный набор самых необходимых материалов. Кроме того, на общем столе находятся иные, более редкие материалы. Помещение должно быть рассчитано на возможность совместной изобразительной работы участников группы. Например, для создания общей большой работы бывает необходимо освободить пространство на полу в «рабочей зоне». Одна или две стены должны быть предназначены для развешивания работ перед началом обсуждения. Их можно использовать и при создании «групповой фрески» или «настенной газеты».
Некоторые современные кабинеты для групповой интерактивной арт-терапевтической работы нередко оборудованы микрофонами или видеокамерами для аудио- и видеозаписи разных этапов сессии.
При оборудовании кабинетов для индивидуальной и особенно групповой арт-терапевтической работы следует учитывать высокую степень восприимчивости пациентов к мельчайшим особенностям интерьера (окраска мебели, вид из окна и т. д.). Когда пациенты ходят в кабинет на протяжении довольно длительного времени, у них формируется устойчивая система ассоциаций и реакций на ставшую привычной среду. Любое изменение в ней может восприниматься весьма болезненно и даже нарушать арт-терапевтический процесс. Следует учитывать, что арт-те-рапевтический кабинет является не только реальным физическим пространством для пациента, но и пространством символическим, в котором каждый элемент может иметь свои скрытые смыслы и функции.
Большое значение для пациента имеет ощущение «контроля» происходящего в кабинете, — по крайней мере хода изобразительной работы и ее результатов. Поэтому клиенты должны быть уверены в том, что продукты их творческой деятельности надежно сохраняются в индивидуальных папках или на индивидуальных полках. Следует ограничиться минимальным экспонированием работ и вывешивать их главным образом при групповом обсуждении. Если выполнение работ затягивается на несколько сессий, работы следует закрывать или переворачивать, чтобы они не стали предметом преждевременного обсуждения и замечаний. Художественное оформление кабинета, например репродукциями, должно быть минимальным и продуманным.
Арт-терапевтическое отделение и кабинет универсального назначения являются специализированным комплексом помещений, предназначенных для разных форм арт-терапевтической работы, нередко проводимой параллельно с несколькими пациентами или группами. Арт-терапевтические отделения стали создаваться сравнительно недавно, главным образом для обслуживания пациентов крупных лечебно-реабилитационных учреждений, посетителей социальных центров, а также для осуществления комплекса различных арт-терапевтических программ, рассчитанных на самые разные группы населения. Иногда арт-терапевтические отделения предполагают применение мультидисциплинарного подхода, участие в их работе различных специалистов. Например, параллельно с арт-тера-певтическими сессиями могут проходить занятия по музыко- и драма-терапии, работать вербальные психотерапевтические группы и т. д.
Наряду с несколькими помещениями, предназначенными для групповых и индивидуальных сессий, в арт-терапевтическом отделении имеются административные помещения, комната для длительного хранения работ пациентов, кухня или кафе, место ожидания для прибывающих на занятия пациентов.
* * *
Арт-терапевтическая работа предполагает широкий выбор различных изобразительных материалов. Наряду с красками, карандашами, восковыми мелками или пастелью часто для создания коллажей или объемных композиций используются журналы, цветная бумага, фольга, текстиль; глина, пластилин, дерево, специальное тесто — для лепки, песок с миниатюрными фигурками —для «игры с песочницей», иные материалы. Бумага для рисования должна быть разных форматов и оттенков. Необходимо иметь кисти разных размеров, губки для закрашивания больших пространств, ножницы, нитки, разные типы клеев, скотч и т. д. Качество материалов по возможности должно быть достаточно высоким, так как в противном случае может снизиться ценность самой работы и ее результатов в глазах пациентов.
Следует учитывать, что выбор материала может быть связан с особенностями состояния и личности пациента, с динамикой арт-терапевти-ческого процесса в целом. Пациенту должна быть предоставлена возможность самому выбирать материал и средства для изобразительной работы. Как правило, в начале работы пациенты предпочитают пользоваться карандашами, восковыми мелками или фломастерами. Эти средства работы позволяют им хорошо контролировать процесс рисования, что отвечает потребности больных избегать конфронтации со своими чувствами на начальных этапах работы. Выбор этих средств бывает связан с потребностью больных в психологической защищенности. На последующих этапах арт-терапевтического процесса пациенты постепенно осваивают другие материалы, в том числе краски, предоставляющие им большие возможности для выражения разнообразных переживаний и работы с собственными чувствами. Кроме того, краски, смешиваясь и создавая разнообразные оттенки, делают изобразительный процесс менее предсказуемым, сопряженным с проявлением тонких нюансов эмоциональных состояний пациента и различных аспектов его опыта. Когда преодолены защитные тенденции, краски способны вызывать сильный эмоциональный отклик, ощущения радости открытия, стимулировать воображение. Глина, тесто, песок и иные пластические материалы обладают значительными возможностями для выражения сильных переживаний, в том числе чувства гнева. Работа с ними предполагает большую степень физической вовлеченности и мышечной активности, что делает ее более «энергоемкой», затрагивающей психофизиологические процессы. Поэтому при психосоматических нарушениях и соматовегетативных проявлениях невротических состояний такая работа нередко может иметь положительный эффект.
Техника коллажа нередко помогает пациентам преодолеть робость, связанную с отсутствием «художественного таланта» и умений. Кроме того, использование уже готовых предметов и изображений для создания из них новой композиции дает пациентам чувство защищенности — пациенты не так отождествляют свои переживания с этими предметами и изображениями, как, например, с собственными рисунками, что обеспечивает необходимую степень дистанцированное™ от слишком сильных или деликатных чувств и необходимую степень безопасности при изобразительной работе.
4. СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ И ОЦЕНКИ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В этом разделе рассматриваются различные способы ведения документации, отражающей арт-терапевтическую работу (как индивидуальную, так и групповую), а также способы оценки ее результатов.
Ведение документации необходимо не только для «отчетности» и оценки труда арт-терапевта, но и для динамического анализа работы, позволяющего принимать те или иные решения, связанные с ведением клиентов или групп. Эти документы содержат ценный материал, необходимый для ретроспективного анализа и проведения научных исследований.
В настоящее время существует несколько основных способов регистрации арт-терапевтической работы:
• формализованный бланк;
• развернутое описание по схеме (в основном для тематически ориентированных и аналитических групп);
• хронограмма групповой арт-терапевтической работы;
• некоторые другие.
Формализованный бланк заполняется на каждой сессии как при проведении индивидуальной, так и групповой арт-терапии. Он содержит следующие пункты:
1) Ф. И. О. клиента (или участников группы);
2) дата и время сессии; ■3) тема;
4) используемые клиентом или участниками группы материалы;
5) высказывания клиента или участников группы в ходе работы;
6) особенности невербальной экспрессии («язык тела») в ходе работы;
7) взаимодействие между участниками группы (для групповых форм работы);
8) отношение к работе;
9) процесс изобразительной работы (этапы создания образа) клиента или участников группы;
10) описание изобразительного продукта;
11) предполагаемое содержание изобразительного продукта (с точки зрения арт-терапевта);
12) осознание содержания изобразительного продукта самим клиентом или участниками группы (формальное объяснение или ин-сайт).
Развернутое описание по схеме используется преимущественно при групповых формах работы и содержит следующие пункты:
1) Ф. И. О. участников, отсутствовавшие;
2) ведущие (арт-терапевт, ассистент);
3) дата и время сессии, какая сессия по счету;
4) цель занятия;
5) тема, используемые упражнения, задания;
6) общая атмосфера в группе в начале, в середине, в конце сессии, общий характер взаимодействия, ощущения ведущего;
7) что происходило в группе, как вели себя отдельные участники (что делали, как участвовали в обсуждении);
8) каково было участие арт-терапевта и ассистента в работе группы, их взаимодействие;
9) итоги сессии, план дальнейшей работы.
Хронограмма групповой работы первоначально была использована для регистрации вербальной групповой психотерапевтической работы (Сох М., 1978), но в.последующем адаптирована для групповой арт-терапии. Хронограмма связана с использованием заранее подготовленного бланка, заполняемого на каждой сессии. На бланке имеется несколько кругов, расходящихся от центра (рис. 1.2), их число соответствует количеству участников группы, включая арт-терапевта (и ассистента). Каждый круг разделен на три сектора, обозначающих этапы сессии. Сектор № 1 — начало сессии (введение и «разогрев» — при работе тематически ориентированной группы или начальный этап работы аналитической группы), сектор № 2 ■— основная часть сессии, сектор № 3 — ее завершающий этап. Арт-терапевт обозначает круги именами участников группы и кратко записывает в соответствующих секторах то, что каждый из участников делал или говорил на определенном этапе сессии. Приводится и краткое описание изобразительного продукта. Взаимодействие между участниками группы и арт-терапевтом отражается системой условных обозначений в пространстве между кругами: «плюс» обозначает «положительную» коммуникацию (проявления симпатии, поддержки и т. д.), «минус» — «отрицательную» коммуникацию (проявления агрессии, антипатии, попытки помешать работе и т. д.). Стрелки обозначают направленность коммуникации. Как видно на рисунке, она может быть односторонней или двусторонней. Односторонний характер коммуникации не предполагает отчетливо проявленной ответной реакции. Коммуникация между отдельными участниками может вовсе отсутствовать.
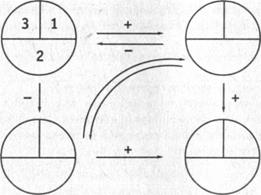
Рис. 1.2. Хронограмма групповой работы
В большинстве случаев перечисленные способы регистрации дополняются небольшими рисунками, выполняемыми арт-терапевтом и имитирующими изобразительную продукцию клиента или участников группы. Очевидно, что это может быть непросто при групповой работе. В настоящее время предпочтение отдается фотографии готовых работ (или даже отдельных этапов, связанных с их созданием). Иногда используется и видеозапись. Вся изобразительная продукция сохраняется в течение нескольких лет (обычно не менее трех лет после завершения работы): на обороте рисунка клиент или участники отмечают свою фамилию и дату выполнения работы.
Помимо приведенных выше форм записи и регистрации арт-терапевтической работы существуют также различные методы ее оценки, в частности:
• совместно с ассистентом;
• совместно с группой;
• совместно с другими специалистами, включая супервизорство.
Оценка арт-терапевтической работы совместно с ассистентом может предполагать обсуждение целого ряда вопросов.
• Было ли проявление положительных эмоций у участников группы, какова была степень их вовлеченности в работу, а также степень их кооперации и откровенности?
• Были ли отрицательные чувства, проявленные в ходе работы, и насколько адекватно они были восприняты лидерами (арт-тера-певтом и ассистентом) и участниками группы?
• Были ли проявления «незавершенных переживаний» у отдельных участников группы и какой способ их «завершения» был использован?
• Насколько успешным было взаимодействие арт-терапевта и ассистента?
• Что получили участники группы от работы?
• Был ли результат работы позитивным, то есть имел ли он определенный лечебно-коррекционный или развивающий эффект?
• Были ли решены основные задачи арт-терапевтической работы с данной группой?
Мнения арт-терапевта и ассистента по отдельным пунктам не всегда совпадают, что может быть связано с субъективным характером их вос-- приятия, разной степенью вовлеченности в групповую динамику, различиями в их ролях и другими причинами. Однако совместное обсуждение способствует, как правило, более объективному и разностороннему пониманию работы и во многих случаях позволяет его скорректировать.
Анализ арт-терапевтической работы совместно с группой предполагает периодический опрос каждого участника (индивидуально или в группе раз в один-два месяца) с выяснением:
• оценки общей атмосферы в группе, характера взаимодействия между участниками, степени их вовлеченности в работу;
• оценки степени собственного интереса к происходящему, основных ощущений и чувств, связанных с работой, достигнутых результатов или отмеченных изменений в собственном состоянии;
• предположений или пожеланий относительно дальнейшей работы.
Иногда арт-терапевт прибегает к использованию анкет, которые заполняются участниками и могут быть применены в дальнейшем для ретроспективной оценки, статистического анализа и иных целей.
Оценка арт-терапевтической работы совместно с другими специалистами используется не только в тех случаях, когда арт-терапевт работает совместно с ними (например, оказывает пациенту одну из форм психотерапевтической помощи наряду с целым комплексом иных — фармакологических, физиотерапевтических, психотерапевтических — воздействий), но и когда он самостоятельно «ведет» клиента (например, в частной практике).
В первом.случае арт-терапевт регулярно обсуждает свои впечатления от работы, возникающие у него проблемы и достигнутые результаты с другими специалистами (врачом, медицинским психологом, социальным работником — в больнице, с педагогом и школьным психологом — в школе и т. д.). Некоторыми формами такого профессионального обсуждения является участие арт-терапевта в больничных обходах и клинических конференциях или консультативных разборах состояния пациентов.
Во втором случае арт-терапевт может прибегать к супервизорской помощи путем частного обращения к авторитетным консультантам, причем такой помощи могут просить не только частнопрактикующие арт-терапевты, но и те, которые работают в государственных или негосударственных учреждениях.
Предметом обсуждения и в первом и во втором случаях могут быть разные стороны арт-терапевтической работы:
• сложности в ведении пациентов или их групп;
• низкая эффективность работы или отсутствие результатов;
• отсутствие адекватного понимания арт-терапевтической работы со стороны других специалистов (например, в случае работы арт-терапевта в учреждении);
• затруднения в оценке работ клиентов;
• сложные чувства, возникающие у самого арт-терапевта в процессе работы с отдельными клиентами и их группами, и многие другие вопросы.
Возможен и менее формализованный подход к совместной оценке арт-терапевтической работы — путем ее обсуждения в кругу коллег, на семинарах, «баллинтовских группах», конференциях, собраниях профессиональных объединений арт-терапевтов и т. д.
Особую сложность представляет оценка эффективности арт-терапев-тичёской работы (как при осуществлении индивидуальной, так и групповой арт-терапии). Как и в случае с любым другим методом психотерапии, это связано, в первую очередь, с тем, что всякие психотерапевтические отношения уникальны. Они определяются не столько характером заболевания и проблемами пациента, не столько конкретными методами, используемыми специалистом, сколько личностями психотерапевта и клиента. Характер и глубина их отношений являются решающими факторами в достижении психотерапевтического результата. Опыт «эффективного» психотерапевтического взаимодействия плохо поддается формализации и механическому воспроизведению, хотя эти процедуры и являются предпосылками для проведения любого сравнительного, основанного на количественном анализе исследования.
Сложность оценки эффективности арт-терапевтической работы связана еще и с тем, что последняя, в отличие от некоторых других психотерапевтических приемов, затрагивает разные сферы и уровни психической деятельности (как сознательные, так и бессознательные психические процессы) и во многих случаях не ставит своей целью коррекцию социального поведения человека или устранение конкретного проявления болезни. Она имеет «инсайт-ориентированный» характер и направлена на изменение мироощущения человека и системы его отношений (включая окружающий мир и самого себя), достижение им лучшего понимания своих переживаний либо такую трансформацию их «качества», которая делает человека более аутентичным, творческим, счастливым. При арт-терапевтической работе изменения происходят во «внутреннем плане» и не всегда имеют своим результатом конкретные, «измеримые» проявления в поведении.
Обсуждая проблему оценки эффективности арт-терапии, А. Гилрой (Gilroy А., 1996) ссылается на опыт психотерапевтической работы, описанный в работах Д. Винникотта, и отмечает, что модель этой работы не имела «планового» характера и не может быть воспроизведена. Но именно благодаря накоплению данных, представленных в описаниях, подобных тем, что выполнены Д. Винникоттом, постепенно стало возможным сформулировать очень важные теоретические представления, а затем, используя процедуру метаанализа разрозненных, единичных наблюдений, подтвердить правильность этих теоретических представлений.
А. Гилрой отмечает важность хорошо документированных, подробных протоколов арт-терапевтической работы, включающих описание клинического и психологического статуса клиента, его психической феноменологии и изобразительной продукции, а также аудио- и видеоматериалов. Он указывает на то, что особый характер арт-терапевтической работы заключается в трехсторонней коммуникации (между клиентом, арт-терапевтом и материалом или продуктом изобразительной деятельности), что обусловливает плохую воспроизводимость арт-терапевтического процесса и его результатов. Их невозможно «смоделировать» и свести к взаимодействию «механических переменных». Поэтому А. Гил-рой предполагает очевидные трудности в попытках идти к обоснованию эффективности арт-терапии путем чисто «количественного» анализа. При этом А. Гилрой указывает на то, что «качественные» методы оценки могут сыграть очень важную роль. Под «качественными» методами он имеет в виду лонгитюдные, комплексные, глубокие описания, не оставляющие без внимания ни один из аспектов работы, включая и «контекстуальный» ракурс, связанный с влиянием культурных, социально-политических и экономических факторов. А. Гилрой признает ценным использование опыта «качественного» анализа, применяемого в гуманитарных науках, исторических исследованиях, эстетике, социологии, антропологии и философии. Хотя арт-терапия и рассматривается в качестве одного из направлений психотерапии, а следовательно, как составная часть медицинской науки и практики, ее мультидисциплинарный характер очевиден. Она возникла в результате синтеза изобразительного и других видов искусств, эстетики, психологии, медицины и иных дисциплин, а поэтому представляется оправданным использование как «количественных», так и «качественных» методов анализа и оценки арт-терапевтической работы. В зарубежных научных исследованиях уже сейчас широко используются так называемые «мягкие методы феноменологического характера», социологический анализ, философский и исторический подходы.
Н. МакКегани (McKeganey N., 1995) по поводу дебатов вокруг «количественных» и «качественных» методов пишет, что «количественные» методы оценки стремятся ответить на вопросы «как много?» или «как часто?», в то время как «качественные» методы — на вопросы «как?» и «почему?», они стремятся разобраться в природе вещей и исследуют взаимосвязи между комплексом переменных. Н. МакКегани считает оправданным «методологический плюрализм» в науке, позволяющий делать гибкий выбор между «количественными» и «качественными» методами оценки.
Завершая свою статью, А. Гилрой выражает надежду на то, что арт-терапевты будут использовать как «количественные», так и «качественные» методы исследования, стремясь ответить прежде всего на те вопросы, которые имеют значение для здоровья и благополучия клиентов и профессиональной «чести» представителей арт-терапевтического направления.
Таким образом, на сегодняшний день, несмотря на очевидную сложность, связанную с оценкой эффективности арт-терапевтической работы, имеется определенный опыт оригинальных исследований, дополняющих традиционно используемые в медицине и «ортодоксальной» психологии методы «количественной» оценки. Из наиболее широко распространенных способов оценки эффективности арт-терапевтической работы можно назвать опрос самого клиента и учет осознания им происходящих изменений в его состоянии и системе отношений. Иногда эти критерии дополняются описанием либо в виде развернутых самоотчетов, либо лаконичных ответов на вопросы анкеты или «аналитического интервью».
Важными, хотя не всегда легко уловимыми, являются разнообразные изменения в системе отношений клиента: улучшение его социального функционирования, формирование новых творческих интересов, устойчивое повышение его самооценки, проявляющееся, в частности, в более радостном, жизнеутверждающем взгляде на мир и вере клиента в свои возможности. Для оценки этих изменений наряду с данными катамнеза (то есть тем, как жил клиент после завершения арт-терапевтической работы) привлекаются результаты экспериментально-психологического исследования, методы социометрии и другие приемы.
Важным источником информации о происходящих изменениях в состоянии и системе отношений клиента является его изобразительная продукция. Большинство арт-терапевтов считают использование эстетических критериев для оценки работ клиента малоприемлемым, поскольку арт-терапия не ставит своей задачей совершенствование его изобразительной техники в соответствии с канонами «академического» искусства. Во многих случаях, наоборот, отказ клиента от жалкого, «ученического» следования этим канонам и ориентации на высокие эстетические ожидания арт-терапевта является благоприятным признаком его «психотерапевтической открытости».
Наиболее существенным, по крайней мере, с точки зрения психодинамического направления в арт-терапии, является усиление «символического» характера работ (не имеются в виду конвенциональные символы, выполняющие функцию «знаков»), говорящее о повышении уровня осознанности клиентом своих переживаний. Другим проявлением позитивной динамики состояния является использование все новых материалов — красок, глины и т. д. — или форм работы — создание трехмерных или движущихся композиций, использование мультимедийных форм творчества. Эти признаки свидетельствуют об определенном успехе клиента в поиске им своего собственного «стиля», способного передать специфику его мироощущения, а также о повышении самооценки клиента и степени доверия к арт-терапевту. Клиент перестает воспринимать свою работу как «исполнение долга» и начинает рассматривать ее как свободную, творческую игру, способную привести в движение его опыт, «мир» его чувств и мыслей. Работа становится сопряжена для него с «открытиями», позволяющими увидеть новый смысл в привычных материалах и предметах и в том, что он воспринимает, чувствует и делает. Повышается самостоятельность и активность клиента, а также его вовлеченность в работу.
ЛИТЕРАТУРА
Бурно М. Терапия творческим самовыражением. М.: Медицина, 1989.
Кейз К. Об эстетическом моменте переноса / / Исцеляющее искусство. 1998. Т. 1.№3. С. 17-30.
Хайкин Р. Художественное творчество глазами врача. СПб.: Наука, 1992. •
Adamson Е. Art as Healing. London: Coventure, 1984.
Adler A. The Practice and Theory of Individual Psychology. 1929.
Bion W. Experiences in Groups. London: Tavistock, 1961.
Campbell J. Creative Art in Groupwork. London: Winslow Press, 1993.
Case C, Dalley T. The Handbook of Art Therapy. London & New York: Tavistock / Routledge, 1992.
Cox M. Coding the Therapeutic Process: Emblems of Encounter. London: Per-gamon, 1978.
Erikson E. Toys and Reasons. London: Marion Boyars, 1978.
Ezriel H. A Psychoanalytic Approach to Group Treatment / / British Journal of Medical Psychology. Vol. 23. 1950. P. 59-74.
Ezriel H. Notes on Psychoanalysis Group Therapy; II: Interpretations and Research // Psychiatry. Vol. 15. 1952. P. 119-126.
Foulkes S. Therapeutic Group Analysis. London: George Allen and Unwin, 1964.
Gilroy A. Our Own Kind of Evidence / / Inscape. Vol. 2. № 2. 1996.
Greenwood H., Killick K. Research in Art Therapy With People Who Have Psychotic Illness. Research in Art and Music Therapy. Gilroy A. and Lee C. (eds.). London: Routledge, 1994.
Khan M. The Role of Illusion in the Analytic Space and Process. The Privacy of the Self. London: The Hogarth Press, 1974.
Landgarten H. Group Art Psychotherapy in Psychiatric Hospitals. Clinical Art Therapy: A Comprehensive Guide. New York: Brunner and Mazel, 1981.
Liebmann M. Art Games and Group Structures. Art as Therapy. Dalley T. (ed.). London: Tavistock, 1984.
Liebmann M. Art Therapy for Groups. London: Croom Helm, 1987.
Luzzatto P. Short-Term Art Therapy on the Acute Psychiatric Ward / / Inscape. Vol. 2. № 2. 1997.
Lyddiatt E.-Spontaneous Painting and Modelling. London: Constable, 1971.
Main T. The Hospital as a Therapeutic Institution / / Bulletin of The Meninger Clinic. Vol. 10. 1946. P. 66-70.
McKeganey N. Quantitative and Qualitative Research in the Addiction: An Unhelpful Divide // Addiction. Vol. 90. 1995. P. 749-751.
McNeilly G. Directive and Non-Directive Approaches in Art Therapy / / The Arts in Psychotherapy. Vol. 10. № 4. 1983.
McNeilly G. Further Contributions to Group Analytic Art Therapy / / Inscape. Summer 1987.
McNeilly G. Group Analytic Art Groups. Pictures at an Exhibition. Gilroy A. and Dalley T. (eds.). London: Tavistock and Routledge, 1989. Moreno J. Psychodrama. New York: Beacon, 1948.
Piaget J. Play, Dreams and Imitation in Childhood. London: Routledge and Ke-gan Paul, 1951.
Schaverien J. The Picture Within the Frame. Pictures at an Exhibition. Gilroy A. and Dalley T. (eds.). London: Tavistock and Routledge, 1989.
Schilder P. Results and Problems of Group Psychotherapy in Severe Neurosis / / Mental Hygiene. Vol. 23. 1939. P. 87-98.
Silverstone S. Art Therapy: The Person Centred Way. London: Jessica Kingsley, 199.7.
Waller D. Group Interactive Art Therapy: Its Use in Training and Treatment. London: Routledge, 1993.
Wolf A., Schwartz E. K. Psychoanalysis in Groups. New York: Grune and Strat-ton, 1962.
Yalom I. The Theory and Practice of Group Psychotherapy. New York: Basic Books, 1975. (Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. СПб.: Питер, 2000).
ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЙ подход И АРТ-ТЕРАПИЯ
Александр Копытин
Печатается по изданию: Копытин А. Основы арт-терапии. СПб.: Лань, 1999.
Роль психоанализа в развитии арт-терапевтической теории очень значима и связана не только с работами самого Фрейда, но и с достижениями других психодинамических школ. Психодинамическое направление в целом обогатило теоретический арсенал арт-терапевтического подхода рядом фундаментальных понятий и позволило разработать важные теоретические представления, касающиеся природы художественного творчества и эстетического опыта, а также восприятия продуктов творческой деятельности самим автором и другими людьми. Принципиально важно и то, что психоаналитическая модель психотерапевтических отношений была взята за основу при разработке разных видов арт-терапевтической работы с различными группами пациентов.
1. МЕХАНИЗМЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
Примечательно, что психоанализ с самого своего появления стал обращаться к анализу изобразительного творчества. Это связано с представлением о том, что спонтанная изобразительная деятельность способна выражать неосознаваемые содержания психической жизни. Для понимания изобразительного творчества в русле ранних психоаналитических представлений характерно использование понятий первичных и вторичных психических процессов, связанных с принципом удовольствия и принципом реальности. По мере взросления ребенка первичные психические процессы заменяются вторичными. Одним из способов преодоления влияния первичных процессов Фрейд считал сублимацию, которая преобразует инстинктивные побуждения в социально-продуктивную деятельность. Изобразительное творчество является частным аспектом сублимации, возникающей, когда инстинктивный импульс заменяется художественно-образным представлением. Согласно Фрей-ДУ, изобразительное творчество имеет много общего с фантазиями и сновидениями, так как, подобно им, выполняет компенсирующую роль и
снимает психическое напряжение, возникающее при фрустрации инстинктивных потребностей. Оно является компромиссной формой их удовлетворения, осуществляющегося не в прямом, а в опосредованном виде, а потому рассматривается Фрейдом как вариант невроза и связывается им с регрессией к инфантильным состояниям сознания. Фрейд пишет, что «психическая конституция художника, по-видимому, включает сильную способность к сублимации и определенную степень пластичности в подавлении желаний, что играет решающую роль в психическом конфликте. В то время как обычные люди не имеют способности удовлетворяться фантазиями, художник знает, как обращаться с ними, для того чтобы они утрачивали личный оттенок и могли радовать других» (Freud S., 1916, р. 376). Другие люди, воспринимая произведение искусства, также способны получить удовлетворение своих неосознаваемых потребностей через механизм сублимации.
Понимание изобразительного творчества как разновидности невроза и инфантильной формы удовлетворения потребностей, естественно, ис-1 ключало его из арсенала психотерапевтических приемов классического; психоанализа. Изобразительное искусство представляло для него интерес лишь с точки зрения возможности увидеть в продуктах творчества, психические конфликты и патологические переживания их авторов. Несмотря на развитие Фрейдом своих представлений о структуре психического аппарата, в частности разработку понятий «Оно», «Я» и «Сверх-Я», это практически не повлияло на его понимание природы и механизмов изобразительного творчества.
Взгляды Фрейда на природу изобразительного искусства отражены в, ряде его работ, однако в наиболее конденсированном виде они представлены в двух его исследованиях: о Леонардо да Винчи (1910) и о «Моисее» Микеланджело (1914). В первой из названных работ Фрейд делает попытку, основываясь на предположениях о детстве Леонардо и фактах-его биографии, сформулировать умозрительную систему, позволяющую раскрыть понятие нарциссизма как основы творчества великого худож-J ника. Он, в частности, утверждает, что Леонардо оставлял многие свои! работы незавершенными, идентифицируя себя со своим отцом, рано оста-] вившим семью. Инфантильный протест против отца проявлялся у Леонардо впоследствии в его характере пытливого исследователя, стремящего--ся бросить вызов привычному взгляду на вещи. Леонардо, по мнению' Фрейда, сублимировал свою сексуальную потребность в познаватель-'і ные, художественные интересы. Фрейд также пытается анализировать работы Леонардо, стремясь прочесть в них проявления его невроза.
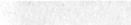
Исходные арт-терапевтические понятия 67
Таким образом, работа о Леонардо да Винчи является психоаналитическим исследованием биографии и работ великого художника. Фрейда интересует прежде всего психопатология его творчества. Почему же оно знаменует собой одну из вершин искусства эпохи Возрождения и каковы глубинные механизмы, скрытые в личности Леонардо, позволившие проявиться его гению, — эти вопросы мало интересуют Фрейда.
В отличие от работы о Леонардо да Винчи с ее спекулятивностью и попытками построить некие гипотетические связи между биографическими фактами и характером творчества художника, работа о «Моисее» Микеланджело основывается на личных впечатлениях от этого произведения. Она демонстрирует жесткий, рационалистический подход Фрейда, пытающегося прочитать смысл скульптуры. Для обеих работ Фрейда характерно стремление к неким интеллектуальным построениям, призванным «поднять» наше восприятие над материалом изобразительного искусства. Их можно рассматривать как пример своеобразного «препарирования» художественного творчества. В этом смысле подход Фрейда идет'в русле интеллектуальной традиции XIX века с характерным для нее утверждением господства разума над чувствами, духа — над телом, нравственных императивов — над индивидуальными потребностями человека. Открывая дверь в психологию XX века, Фрейд в своем отношении к искусству был скорее проводником культурных ценностей века XIX.
Теория Фрейда, предложив новые концептуальные возможности для объяснения психологии изобразительного искусства с позиций представлений о бессознательном и сублимации, оказалась малопродуктивной для объяснения его положительных онтогенетических и социальных моментов. Сам Фрейд признавал, что «психоанализ не может ни прояснить природу художественного таланта, ни объяснить средства, с помощью которых работает художник, — его технику» (Freud S., 1925, р. 65).
Понимая это, последователи Фрейда неоднократно пытались разобраться в природе изобразительного творчества, используя новые способы для его анализа. Э. Крис (Kris Е., 1975) предположил, что есть некие общие особенности, характеризующие творческое воображение. Они включают ограничение функций сознания, высокую эмоциональную заря-женность образов, а также наличие механизма для разрешения проблем на визуальном уровне. Он также считает, что художник способен получать доступ к материалу «Оно» и влиять на протекание первичных психических процессов. Художники, по его мнению, имеют определенные психологические характеристики, способствующие этому: способность к быстрым
3'
перемещениям от одного уровня психической деятельности к другому, а также к активному контролю над первичными психическими процессами. Именно последнее отличает изобразительное творчество от фантазий и сновидений. Художник сам регулирует глубину релаксации и регрессии своего сознания. Э. Крис подчеркивает взаимосвязь творчества и критических способностей, а также более активную и динамичную роль «Я» в творческом процессе, в отличие от спонтанных фантазий и сновидений.
Он отмечает, что «бессознательные процессы с их разрушительными эффектами преобразуются в высокоэффективный инструмент, создающий новые связи и творящий новые формы, прогрессивные концепции и образы. Сознание и бессознательное не только взаимосвязаны, но мышление полностью растворяется в матриксе первичных процессов» (Kris Е., 1953, р. 262).
Другая интересная его мысль касается роли художника в обществе, что идет еще от античного времени. Во времена Древней Греции художников и скульпторов считали мифологическими потомками культурных героев — Прометея, Гефеста и Дедала. Подобно своим мифологическим прародителям, художник является творцом, наделенным могуществом мага и преследуемым богами за свой строптивый нрав. Магические ка-' чества художника связаны с его способностью хранить в памяти и вое-' производить в своем творчестве образы прошлого. Его творения побеждают даже время.
Психоаналитические взгляды на изобразительное творчество были развиты А. Эренцвейгом. Для него характерно глубокое понимание природы творческого процесса. Имея собственный опыт художественного творчества, он сделал удачную попытку пересмотреть взгляды классического психоанализа на изобразительное искусство. А. Эренцвейг (Ehren-zweigA., 1967), анализируя взаимодействие первичных и вторичных психических процессов в творчестве, отмечает высокую степень контроля над первичными процессами со стороны сознания, а также его высоко-дифференцированный и фокусированный характер. Бессознательные процессы синкретичны и охватывают предмет в целом. Сознание же по^ зволяет художнику сфокусироваться на главном, а также на деталях, приводя их в соответствие с целым. При этом сознание не «навязывает» бессознательному свои законы, но позволяет зафиксировать и оттенить тот «скрытый порядок», который присутствует в бессознательных про^ цессах.
А. Эренцвейг обращается к изучению восприятия у ребенка, которое малодифференцированно, однако способно увязывать разнородные формы в окружающем его пространстве. Он считает, что в изобразительном творчестве можно выделить три фазы. Первая фаза (называемая «шизоидной») связана с проекцией фрагментированных частей «Я» художника на материал изображения. Вторая фаза (называемая «маниакальной») связана с активизацией механизма «бессознательного сканирования», с помощью которого обнаруживается бессознательная структура, «скрытый порядок» изображения, что ведет к интеграции работы, взаимопроникновению образа и личности художника. При этом преодолевается фрагментированность внешней, поверхностной структуры изображения, произведение приобретает завершенность и способность к «независимому существованию». Третья стадия (называемая «депрессивной») связана с вторичным пересмотром и переоценкой произведения, его частичной реинтроекцией в более поверхностный слой «Я» художника. Устанавливается обратная связь художника с произведением на ментальном уровне, благодаря чему осознается и принимается разрыв между идеальным и реальным в надежде на их будущую интеграцию. Творческий процесс в целом представляется А. Эренцвейгу совокупностью колебаний «Я» от состояния «океанической недифференцированно-сти» и регрессии к состоянию фокусированного сознания, формирующего эстетический гештальт.
Сходные взгляды высказывает А. Фрейд (Freud А., 1950), когда говорит о необходимости размытости внимания и торможения критического мышления для изобразительного творчества. При этом могут иметь место временные затруднения в восприятии хаоса, неверие в спонтанные, упорядочивающие силы и страх неведомого. Из-за этого художник может попытаться искусственно создать преждевременный порядок, что блокирует творческий процесс. А. Фрейд проводит параллель между изобразительным творчеством и психоаналитической работой. И для того и для другого свойственна стадийность. Начало аналитической работы, как и начало работы художника, отличается присутствием самого разнородного материала, что может вызвать у художника и аналитика ощущение неясности и тревоги. Важно смириться с этим состоянием, чтобы не навязывать материалу преждевременных смыслов и позволить ему раскрыть то потаенное, многообразное содержание, которое заключено в нем.
Идя в русле обозначенных А. Эренцвейгом и А. Фрейд представлений, А. Сторр (Storr А., 1978) обращается к исследованию личности художника. По его мнению, личность художника характеризуется сильным, зрелым «Я», что отличает его от индивидуумов, склонных к фантазиям и уходу от реальности, с неясными границами самосознания, психическая деятельность которых подчинена первичным процессам. Личность художника также отличает независимость, эстетическая восприимчивость и способность переносить высокое психическое напряжение и тревогу, связанные с творческим процессом. А. Сторр отмечает, что «изобразительное творчество — это позитивная адаптация, в то время как невроз — дизадаптация, хотя в творчестве могут проявляться слабости и проблемы личности» (Storr А., 1978, р. 204).
При наличии общих свойств в личности художника разные характерологические радикалы могут определять многообразие мотивов к творчеству. Депрессивная личность воссоздает в творчестве то, что ей кажется разрушенным, шизоидная — ищет скрытый смысл в предметах, а не в отношениях с людьми, обсессивная — защищается в творчестве от навязчивостей и т. д.
М. Клейн принадлежит заслуга в разработке целого ряда важных теоретических представлений, взятых на вооружение арт-терапевтами. Она известна как пионер детского психоанализа. Основываясь на понимании игры ребенка как особого символического языка, она разработала игровую технику, выступающую в качестве важного средства для понимания бессознательных процессов. Хотя в ее теории используются фрейдовские представления об инстинктах жизни и смерти, она отличается от классического психоанализа тем, что в новом качестве использует понятие «объектов» (которыми могут быть и субъекты, и даже отдельные их атрибуты). Понятие объектов М. Клейн связывает с ранними фазами онтогенетического развития, в частности с фазой отделения ребенка от матери и материнской груди. На этой стадии имеет место «расщепление» единого образа матери на две составляющие: одна из них становится объектом для проекции чувства любви, связанного с удовлетворением потребностей ребенка, другая — чувств ненависти и гнева, возникающих в результате фрустрации. По мнению М. Клейн (Klein М., 1948), первичным источником творчества является преодоление расщепления плохих и хороших свойств, а также отрицательных и положительных переживаний, ассоциирующихся с матерью. Расщепление преодолевается через прохождение ребенком параноидно-шизоидного и депрессивного состояния. Переживание утраты, связанное с разрушением целостного образа матери, ведет к его восстановлению на новом уровне развития, когда мать начинает восприниматься ребенком уже не как часть его самого, которую он способен контролировать, а как независимое от него существо. М. Клейн отмечает, что именно в этих ранних ярких переживаниях положительного и отрицательного характера, связанных с периодом отделения от материнской груди, коренятся чувства прекрасного и безобразного, являющиеся основой эстетического опыта и столь важные для творчества. Художник, подобно ребенку, переживает сложные состояния, связанные с разрушением и восстановлением, направляющие и окрашивающие творческий процесс. Мистерия творческой деятельности, таким образом, воссоздает диалектику «самоопределения» объекта и рассматривается как возможность для гармонизации расщепленного внутреннего мира художника в форме продуктов его деятельности.
Э. Шарпе (Sharpe Е., 1950а) — другой автор, развивающий психоаналитические взгляды на искусство с позиций теории М. Клейн. Она считает, что первые формы изобразительного искусства как в онтогенетическом, так и в историческом отношении неотделимы от питания, а следовательно, от проблемы жизни и смерти. Творчество дает жизнь и возникает из молока и семени, они запечатлеваются в ребенке и проецируются на изображение в символике зрелого творчества. Идентификация с родителями на ранних стадиях онтогенеза имеет большое значение для творчества. Э. Шарпе рассматривает ее как «магическое поглощение» родителей, аналог каннибализма. Через этот акт достигается полный контроль над поглощенными предметами и их энергиями. Эта мысль важна и для объяснения творчества. Э. Шарпе (Sharpe Е., 1950b) полагает, что достоверная имитация объекта достигается также через его «магическое поглощение». При этом художник должен быть способен к живому, чувственному реагированию. Подобно тому как в детстве, еще до появления членораздельной речи, ребенок общается посредством звуков и жестов, художник передает свой опыт, основываясь, главным образом, на телесных ощущениях, однако бесконечно более изощренных и имеющих символическую природу.
Нельзя не остановиться и на работах М. Милнер (Milner М., 1950, 1955, 1969), которая весьма успешно реализовала возможности психоаналитической теории применительно к изобразительному творчеству. Она была художником-новатором. Начав свою профессиональную деятельность с педагогической работы с детьми, она получила затем психоаналитическое образование.
Если предыдущие психоаналитики рассматривали творчество с точки зрения «восстановления утраченного объекта», то для М. Милнер воссоздание является вторичной функцией творчества. Первичная его функция — сотворение нового и обретение нового восприятия через взаимодействие сознания и бессознательного. Она полагает, что изобразительное творчество ведет к психической трансформации и освоению новых форм психического опыта.
Занимаясь самостоятельной художественной практикой, она обратила внимание на то, что художественные навыки, такие, например, как развитое чувство цвета и формы, связаны не только с обучением, но и с внутренним опытом художника. Она полагает, что этот опыт является результатом игровой деятельности, напоминающей игру ребенка, когда его фантазии, смешиваясь с элементами реальности, становятся новыми «объектами». В этом она видела определенный риск для психической стабильности художника, поскольку фантазийный мир, смешиваясь с чертами реальности, может выходить из-под его «контроля» и представать в виде совершенно неожиданных и поэтому пугающих образов (MilnerM., 1955).
Она развивает идеи М. Клейн о взаимоотношениях матери и ребенка на стадиях его первоначального отделения от матери и считает, что, подобно ему, художник творит новую реальность из материала своего воображения, для того чтобы преодолеть чувство утраты любимого «объекта».
М. Милнер подчеркивает важность взаимодействия тела и разума для творчества. Лишь такое взаимодействие позволяет соединиться фантазии и действию и запускает спонтанные организующие силы. При этом, однако, в личности художника обнаруживается противостояние двух потребностей: в полном слиянии с объектом, с одной стороны, и в сохранении собственной идентичности — с другой. Из диалектики сосуществования этих двух потребностей рождается опыт, трансформирующий личность художника и ведущий к его психическому «росту».
Благодаря опыту своей работы с детьми М. Милнер пришла к убеждению в том, что занятия художественным творчеством необходимы каждому ребенку не только для формирования его эстетических представлений, но и как инструмент психического развития, способствующий «воспитанию» чувств. Она пишет: «Можно, по-видимому, сказать, что продукты художественного творчества столь же необходимы для сознательной жизни чувств, как словесные понятия необходимы для сознательной интеллектуальной жизни или как внутренние объекты — для бессознательной жизни инстинктов и фантазий. Без них жизнь была бы прожита вслепую» (MilnerM., 1950, р. 159-160).
Книга М. Милнер «Руки живого Бога» (MilnerM., 1969) представляет собой описание аналитической работы автора с одной из ее пациенток. Особенностью книги является то, что М. Милнер привлекает изобразительные работы пациентки как источник разноплановой информации, отражающей содержание и динамику психотерапевтического процесса. Она подробно обсуждает роль психотерапевта, значимость учета телесных реакций и указывает на необходимость во внимании к самым разным проявлениям вербальной и невербальной экспрессии пациента. Она также отмечает столь важное свойство психотерапевта, как его способность находиться в ситуации неопределенности, "неизбежной в творческом процессе.
М. Милнер одной" из первых сформулировала понятие «безопасного пространства», обозначая им особую среду, создаваемую матерью для ребенка в интересах его полноценного психического развития. Такая среда, по мнению М. Милнер, необходима и для психоаналитической работы, а также творчества художника. В ней становится возможной интеграция логического и образного мышления, сознания и бессознательного, что является предпосылкой и для психической трансформации, и создания нового.
В работе «Подавляемое безумие здорового человека» М. Милнер (Milner М., 1989) развивает большинство своих более ранних теоретических представлений. В частности, она предлагает рассматривать изобразительное творчество взрослого человека как один из способов воссоздания состояний, связанных с ранним детским опытом. Эти состояния, в частности, предполагают ослабление контроля сознания и доминирование первичных психических процессов, что позволяет взрослому человеку проявить большую степень свободы и творческого начала в своих отношениях с окружающим миром. Подобные взгляды М. Милнер сильно отличаются от позиции Фрейда, считавшего, что первичные психические процессы, проявляющиеся у взрослого в состояниях регресса на ранние стадии развития, лишены какого-либо конструктивного начала, а связанное с ними символическое мышление — не более чем способ примитивной психической защиты.
Большой вклад в развитие представлений о психологии изобразительного творчества с психоаналитических позиций внес также Д. Вин-никотт (Winnicott D., 1980, 1988). Его идеи о «первичной материнской заботе», «игровой арене», «транзитных объектах» и «транзитных феноменах» представляют особый интерес для арт-терапевтов, применяющих их для разработки тех представлений, которые характеризуют роль арт-терапевта как посредника в динамической коммуникации пациента с продуктами своего творчества и гаранта «безопасного психотерапевтического пространства», необходимого пациенту для психотерапии, творчества и личностного «роста». Поясним кратко содержание этих важных понятий.
Вклад Д. Винникотта связан, в частности, с тем, что он смог разработать теоретический подход к описанию тех форм психического опыта, которые формируются на стыке внутренней и внешней реальности. Эти формы психического опыта имеют принципиальное значение для развития креативности, различных игровых форм деятельности, включая и изобразительное искусство. Их можно определить как результат «встречи» и взаимодействия мышления и чувств, сознания и бессознательного, первичных и вторичных психических процессов. Интерес к этим формам психического опыта закономерно проявился у Д. Винникотта, начавшего свою деятельность в качестве педиатра и получившего вскоре психоаналитическую подготовку. Он пытался разобраться, какую роль имеют отношения матери и ребенка, а также особенности внешней среды, окружающей последнего, для его психического развития.
Одно из важных понятий, которые Д. Винникотт сформулировал в результате своего изучения ранних отношений матери и ребенка, это понятие о «первичной материнской заботе». В течение первых месяцев ■ жизни ребенка у матери формируется способность идентифицировать себя с беспомощным младенцем благодаря актуализации следов своего собственного детского опыта. Мать также является, по мнению Д. Винникотта, первой «средой» в жизни ребенка. Лишь мать, достаточно хорошо справляющаяся со своими функциями заботы о новорожденном, способна обеспечить его нормальное психическое развитие. По мере того как ребенок развивается, роль матери постепенно изменяется, и ее способность к идентификации с потребностями ребенка постепенно редуцируется. При этом начинает формироваться так называемое «игровое пространство». Этим понятием Д. Винникотт обозначает те формы промежуточного психического опыта, которые формируются у ребенка по мере его отделения от матери, когда он не достигает еще достаточно четкого ощущения объективной реальности: она смешивается с иллюзорными феноменами, отражающими первичные психические процессы. При этом большая роль принадлежит «транзитным феноменам» и «транзитным объектам», то есть объектам, к которым у ребенка имеется особо сильная привязанность, из-за того что они, по-видимому, напоминают ему о матери (некоторые игрушки, край одеяла, бутылочка и др.). «Транзитные объекты», по убеждению Д. Винникотта, являются основой для развития символического мышления. Достигая определенной степени контроля над этими объектами, ребенок развивает в себе способность свободно манипулировать ими. Отношения ребенка с этими объектами аффективно насыщены. Используя их, он получает определенное удовольствие.
В связи со своими представлениями о «транзитных объектах» и «транзитных феноменах» как основе для формирования символического мышления и разнообразных форм игровой и творческой деятельности, Д. Винникотт усовершенствовал игровую технику М. Клейн, используя ее для своей психоаналитической работы с детьми. Он также попытался применить эти понятия для теоретического обоснования природы изобразительного творчества и искусства в целом, а также для характеристики психотерапевтических отношений. Он проводит четкую грань между фантазиями и игрой. Первые рассматриваются им как чисто иллюзорный способ удовлетворения потребностей, не предполагающий какого-либо взаимодействия с объективной реальностью. Игра же протекает в пространстве между внутренней и внешней реальностью, а потому ведет к развитию способности взаимодействовать с ними обеими. Игра есть «деятельная» форма психической активности, позволяющая контролировать объекты. Кроме того, она неизбежно ведет к развитию коммуникативных навыков и в значительной мере может рассматриваться как основа для построения психотерапевтических отношений. Д. Винникотт пишет, что «психотерапия протекает в месте соединения двух областей игры. Одна из них является областью для игры психотерапевта, другая — для пациента. Психотерапию поэтому можно определить как совместную игру двух людей» (Winnicott D., 1988, р. 44).
По мнению Д. Винникотта, игровая деятельность является основой для накопления культурного опыта и развития навыков творческой деятельности. Ее можно рассматривать и как свойство жизненного процесса в широком смысле слова. Он полагает, что атмосфера игры присутствует там, где удается достичь состояния «бесформенности», при котором отсутствует четкое сознание цели деятельности.
Таким образом, благодаря работам Д. Винникотта удалось приблизиться к ответу на те вопросы, на которые был неспособен ответить классический психоанализ: что такое культурный опыт, каковы основы для его формирования, в чем заключается природа творческой, в том числе изобразительной, деятельности и некоторые другие.
Хотя Д. Винникотт не пользовался в своей психоаналитической практике с детьми теми приемами, которые можно было бы назвать собственно арт-терапевтическими, его работы стали настольными книгами для многих арт-терапевтов и послужили удачным теоретическим обоснованием механизмов арт-?ерапевтической работы. Так, например, арт-тера-певтами было взято на вооружение представление об изобразительной деятельности как игре. С этой точки зрения представления Д. Винникотта находят дополнение в представлениях Ж. Пиаже (Piaget, 1951) о различных видах игровой деятельности, которые он связывает с разными стадиями психического развития ребенка («сенсомоторные», «символические игры» и «игры с правилами»). Все эти виды игровой деятельности проявляются в арт-терапевтической работе следующим образом. «Сенсомоторные» игры так или иначе используются в изобразительной работе за счет того, что она связана с освоением возможностей того или иного изобразительного материала, формированием исходных навыков обра^ щения с ними. Наиболее существенным этот вид игровой деятельности может быть на начальных этапах арт-терапевтической работы, когда пациент испытывает неловкость и страх перед использованием изобразительных материалов. Он также может быть основным видом деятельности при работе с некоторыми группами пациентов, например пациентами с умственной отсталостью.
«Символические игры» являются обязательным элементом любого изобразительного творчества, поскольку язык изобразительного искусства глубоко символичен, а цвет, формы, линия, объем и другие его изобразительные элементы обладают глубоким и многозначным смыслом, хотя он зачастую может и не осознаваться. Арт-терапия апеллирует к символической функции изобразительного искусства, поскольку она является одним из факторов психотерапевтического процесса, помогая пациенту осмыслить и интегрировать материал бессознательного, а арт-терапевту — судить о динамике этого процесса и происходящих в психике пациента изменениях.
Третий вид игровой деятельности — «социальные игры», или «игры с правилами» — наиболее значим при осуществлении групповых форм арт-терапевтической работы, которые предполагают использование определенных норм группового поведения, в том числе в процессе совместной изобразительной деятельности участников группы.
Наш обзор психоаналитической литературы, касающейся изобразительного творчества, был бы неполным без упоминания К. Юнга. Его теория, хотя и связанная с психоанализом фундаментальным понятием бессознательного, существенно отличается от него. Кратко остановимся на том, каковы отличия психологии К. Юнга от психоанализа в ее подходе к объяснению механизмов и природы изобразительного творчества. Если 3. Фрейд рассматривал изобразительное творчество как область проявления психической патологии и психологических проблем автора, как компромиссный способ удовлетворения его инстинктивных потребностей через использование инфантильных форм психической деятельности, то для К. Юнга изобразительное творчество — чрезвычайно важный инструмент для реализации самоисцеляющих возможностей психики. Он связывает творчество не столько с личным бессознательным в том смысле, который свойствен Фрейду, сколько с коллективным бессознательным. Контакт с архетипическими энергиями и содержаниями посредством изобразительного творчества активизирует компенсаторные процессы в психике, которые не только приводят к разрешению внутри-психических конфликтов, но и способствуют развитию личности. «Самое важное в изобразительном искусстве, — пишет К. Юнг, — это умение подниматься над личной жизнью и говорить от лица духа, от сердца поэта — для духа и сердца человечества. Личное ограничивает и является даже грехом в изобразительном искусстве» (Jung К., 1970, р. 194). Юнг считал, что изобразительное искусство является внутренней потребностью, своего рода инстинктом, который превращает человека в инструмент для выражения опыта коллективного бессознательного. Имея высший смысл, связанный с динамикой коллективного бессознательного, изобразительное творчество может быть источником конфликта между личным и общечеловеческим. Формой же преодоления этого конфликта выступает процесс индивидуации, ведущий ко все большему взаимопроникновению личного и общечеловеческого и максимальной социальной самореализации человека. Поэтому творчество выступает не только как инструмент самоисцеления, но и как важный фактор в достижении всеобщей гармонии и духовного баланса той или иной эпохи. Известно, что сам К. Юнг активно занимался изобразительным творчеством и побуждал к этому своих пациентов. Другое важное отличие К. Юнга от 3. Фрейда касается различного понимания ими символов и их роли в изобразительном творчестве (см. § 3). Одна из известных последовательниц К. Юнга — И. Чампернон, развивая его взгляды на изобразительное творчество, также подчеркивает важную социальную роль изобразительного искусства, реализующего общечеловеческий опыт, основанный на проявлениях коллективного бессознательного, благодаря тому что личность художника переживает процесс индивидуации. Она подчеркивает компенсирующую роль изобразительного искусства не только по отношению к психике самого художника, но и по отношению к существующему порядку вещей в западной культуре с характерным Для нее главенством логики и вербальной коммуникации. Она характеризует отношения арт-терапии и традиционных вербальных форм психотерапии как отношения «напряженного партнерства» (Champernowne I., 1971), в чем также проявляется диалектика взаимодействия коллективного бессознательного и форм массового сознания.
Краткий обзор психоаналитической литературы показывает большое разнообразие взглядов на природу изобразительного творчества и их постепенное изменение на протяжении нескольких последних десятиле1 тий. Представляется, что пересмотр многих положений классического психоанализа может быть связан не только с развитием психоаналитической теории, но и с культурной трансформацией, происходящей в развитых странах Запада и затрагивающей многие ценностные представления, касающиеся природы, места и роли изобразительного искусства в' обществе и жизни современного человека.
2. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Психодинамический подход помог не только осмыслить природу изобразительного творчества, но и обосновать подходы к пониманию от-^ ношений арт-терапевта и пациента. Ранние формы арт-терапевтической. практики уделяли мало внимания осмыслению этих отношений. ДлЯ| них, например, характерно представление о том, что изобразительное творчество может быть исцеляющим благодаря своему отвлекающему действию либо катарсическому эффекту. И в том и в другом случае арт-терапевт был необходим лишь как специалист, помогающий пациенту обучиться основам художественной работы. Другое направление в ранней арт-терапии, связанное с именем Ж. Дебюффе, также делало акцент1 на самостоятельной работе пациента и воспринимало руководителя художественной студии скорее как инструмент художественной «валиди-зации» продуктов творчества больного, чем его партнера в психотерапевтических отношениях, разворачивающихся посредством этого творчества.
Лишь постепенно, благодаря развитию психодинамических представлений, арт-терапевтам удалось сформировать во многом оригинальную теорию психотерапевтических отношений. Ее стержнем является идея о том, что арт-терапевтический процесс —■ это непрерывная трехсторонняя коммуникация и динамическое взаимодействие между тремя основ-*] ными ее элементами или участниками: пациентом, арт-терапевтом и материалом или продуктом изобразительной деятельности. В данном разделе рассматриваются некоторые психодинамические понятия, связанные с этим представлением и характеризующие взаимодействие между первыми двумя участниками арт-терапевтического процесса — паци-; ентом и арт-терапевтом.
Психоаналитическая модель психотерапевтических отношений, как известно, является исторически наиболее ранней и на сегодняшний день всесторонне разработанной. В той или иной степени на нее опирается значительная часть психотерапевтических подходов, напрямую не связанных с психоанализом, но использующих некоторые его достижения. В этом отношении пример арт-терапии весьма показателен: при всем многообразии методологических влияний на арт-терапию психоаналитическая модель психотерапевтических отношений является для нее одной из наиболее авторитетных. Эта модель во многом определяет то, что делает арт-терапевт в ходе своей работы, а также то, в какой мере и каким образом действуют основные психотерапевтические факторы.
В последние годы для большинства арт-терапевтов роль психоаналитической модели отношений между клиентом и психотерапевтом повышается, что отчасти связано с тем, что арт-терапия все в большей степени интегрирует достижения вербальных форм психотерапии. В системе подготовки арт-терапевтов все больше внимания уделяется психоанализу и его различным модификациям. Вместе с тем эта модель имеет определенные ограничения. Ее использование наиболее продуктивно в решении клинических, собственно психотерапевтических задач и, в меньшей степени, — в решении разнообразных проблем в системе образования или социальной сфере.
Применительно к арт-терапии данная модель включает в себя следующие основные положения:
• арт-терапевтическая практика есть особая область проявления переноса и контрпереноса;
• арт-терапевт является активным посредником во взаимодействии клиента с материалом/продуктом его работы.
Понятия переноса и контрпереноса имеют непосредственное отношение к любой психотерапевтической практике, основанной на психодинамическом подходе, включая и работу арт-терапевта. Эти понятия обозначают возникающие в психике клиента осознаваемые и неосознаваемые реакции на личность психотерапевта, с одной стороны, а также возникающие в психике психотерапевта реакции на личность клиента — с другой.
Хотя основные представления о переносе и контрпереносе были разработаны еще 3. Фрейдом и К. Юнгом, в последние годы они становятся предметом активных дискуссий (Carotenuto, 1977, Fordham, 1979, Mach-tiger, 1984, Newman, 1980, Schaverien, 1987, Ulanov, 1984, Winnicott, 1975). В отличие от ранних психодинамических представлений, рассматривавших перенос и контрперенос как неосознаваемые реакции, значительная часть современных авторов придерживается более широкого их толкования, считая, что перенос и контрперенос затрагивают как осо« знаваемый, так и неосознаваемый уровни психической деятельности клиента и психотерапевта. Д. Холл (Hall J., 1977), например, приводит следующий перечень отношений между пациентом и психотерапевтом, проявляющихся при переносе и контрпереносе:
• отношения между эго психотерапевта и пациента (сознательные отношения);
• отношения между бессознательным пациента и сознательной личностью психотерапевта;
• отношения между бессознательным психотерапевта и бессознательным пациента.
Широкое толкование понятий переноса и контрпереноса подчеркивает то, что отношения между клиентом и психотерапевтом являются в первую очередь живым диалогом двух личностей, в котором проявляется все многообразие их человеческих качеств, включая и сознание, № бессознательное. И лишь во вторую очередь они являются коммуникативным выражением инструментальных аспектов в деятельности психотерапевта, то есть того, что связано с той или иной конкретной психоте-рапевтической техникой. В этом смысле можно считать вполне актуаль-. ной мысль К. Юнга о том, что «личности психотерапевта и пациента, вступающих во взаимодействие, бесконечно более значимы для психотерапии, чем то, что доктор говорит или делает» (JungC, 1931, р. 73).
При всем многообразии в трактовке понятий переноса и контрпереноса представителями разных психодинамических школ все они сходятся в следующем. Во-первых, в любых психотерапевтических отношениях сочетание переноса и контрпереноса уникально, что определяется уникальностью личностей клиента и психотерапевта. Во-вторых, реакции переноса и контрпереноса представлены тремя основными категориями. Д. Винникотт (Winnicott D., 1975), например, пишет об «аномальном» контрпереносе, обозначающем те реакции психотерапевта, которые основаны на его внутрипсихических конфликтах, «нормальном» контрпереносе, обозначающем индивидуальный стиль работы психотерапевта и своеобразие его личности, а также об «объективном» контрпереносе, имея при этом в виду те реакции со стороны аналитика, которые отражают своеобразие личности пациента и переживаемого им состояния. Реакции переноса со стороны пациента относятся, главным образом, к первой категории реакций, хотя две другие категории могут также иногда проявляться в его отношениях с психотерапевтом.
Кроме того, большинство современных авторов независимо от представляемой ими психодинамической школы склонны рассматривать перенос и контрперенос как взаимосвязанные реакции, разворачивающиеся во времени с определенной последовательностью, определяемой глубиной и богатством коммуникативного взаимодействия между клиентом и психотерапевтом.
Специфической особенностью переноса и контрпереноса в арт-терапевтической работе-является то, что:
• перенос проявляется не только в эмоциональных реакциях и особенностях поведения и высказываний пациента, но и в его изобразительной деятельности и характеристиках создаваемого им образа, поэтому предметом для анализа переноса является и то и другое;
• контрперенос вызывается как особенностями поведения и высказываний пациента, так и его изобразительной продукцией.
Таким образом, в арт-терапевтической работе перенос и контрперенос осуществляются по трем основным каналам коммуникации: клиент—материал/продукт (изобразительной деятельности), клиент— психотерапевт, психотерапевт—материал/продукт (изобразительной деятельности клиента). Это придает комплексный характер арт-терапев-тическим отношениям, обусловливает их богатство и многогранность и создает дополнительные возможности для психотерапевтического воздействия.
Материал/продукт изобразительной деятельности клиента, являясь третьим элементом в арт-терапевтических отношениях, приобретает особую значимость как дополнительный фактор переноса и контрпереноса. Он становится также специфической областью для проекции переживаний пациента, с одной стороны, и для проективной идентификации психотерапевта с переживаниями клиента — с другой, что может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для арт-терапев-тического процесса.
Арт-терапевтическая работа затрагивает и так называемый «метафизический» аспект переноса и контрпереноса. Он, в частности, связан с тенденцией человека персонифицировать любые формы отношений, включая и взаимодействие с неодушевленными предметами, трансперсональными явлениями и высшими ценностными понятиями индивидов и групп, такими, например, как Бог, жизнь, красота и т. д. Это проявляется в том, что, работая с теми или иными материалами, человек может проецировать на них свой трансперсональный опыт и вышеназванные ценностные понятия в виде образов, имеющих личностные атрибуты тех лиц, с которыми человек был связан, начиная с самых ранних стадий своего онтогенетического развития (прежде всего своих родителей). 3. Фрейд считал, что ни одна область человеческого опыта не свободна от влияния бессознательного, и полагал, что в основе веры в Бога лежит феномен переноса на трансперсональное определение Абсолюта наиболее ранних впечатлений субъекта, связанных с фигурой отца. Метафизический аспект переноса ярко проявляется и при использовании человеком в своей изобразительной деятельности различных цветов и форм и их комбинаций, которые сами по себе не являются персонифицированными сущностями, но часто выражают для автора те или иные личностные свойства.
Перенос и контрперенос являются особым предметом для анализа и интерпретации. Это относится в первую очередь к тем формам индивидуальной работы, которые характеризуются реконструктивной направленностью и имеют дело в основном с пограничными психическими расстройствами. В других случаях, как, например, при работе с душевнобольными, пациентами с умственной отсталостью или относительно грубыми органическими поражениями мозга, а также с детьми, перенос, как правило, не интерпретируется. Однако анализ контрпереноса со стороны психотерапевта может иметь определенную ценность.
Перенос
Фрейдовское понятие переноса обозначает проекцию ранних детских впечатлений, связанных со стадиями психосексуального развития, на личность аналитика (Freud S., 1910). Иными словами, классический психоанализ исходит из того, что перенос — это бессознательные тенденции и фантазии, которые возникают в психике пациента в процессе анализа в виде серии ситуаций, отражающих его детский опыт общения с наиболее близкими ему людьми, но относящимися уже не к прошлому, а к личности аналитика в настоящем. При этом аналитик как бы заменяет наиболее значимых для пациента в прошлом лиц. Это происходит неосознанно для пациента и затрагивает те эмоционально заряженные переживания, которые нередко связаны с фрустрирующими влияниями на него на разных стадиях психосексуального развития и той психической дисгармонией и симптомами невроза, которые имеются у него в настоящем. Образно выражаясь, перенос открывает двери в бессознательное и при адекватной его интерпретации позволяет осуществить реконструктивное воздействие на психику пациента. Прошлый опыт обретает для пациента смысл и становится осознанным и контролируемым достоянием его личности.
В рамках психоаналитической концепции объектных отношений (М. Клейн, М. Милнер, Д. Винникотт) трактовка переноса приобретает несколько иной характер. Эта концепция оказалась весьма продуктивной для теории и практики арт-терапии. Постараемся более подробно остановиться на тех ее положениях, которые имеют отношение к понятию психотерапевтического переноса. В первую очередь имеет смысл уточнить содержание термина «объект». Согласно теории объектных отношений, этот термин обозначает не материальную вещь, а различные содержания психики, отражающие тех или иных лиц. «В психологической литературе, — пишет К. Райкрофт, — объекты — это всегда лица, их атрибуты либо символы того или другого» (Rycroft С, 1977, р. 100). «Объекты могут быть внешними, когда субъект воспринимает их как элементы внешнего пространства, либо внутренними, приобретающими значение внешних объектов» (Rycroft С, 1977). По выражению К. Райкрофта, в этом случае они являются «фантомами» — образами воображения, на которые человек реагирует так же, как на внешние объекты. Это образы, отражающие внешнюю реальность, но перемещенные во внутрипсихиче-ское пространство субъекта за счет механизма интроекции и воспринимающиеся как элементы этого пространства. Теория М. Клейн получила название «объектная», потому что, в отличие от классического психоанализа, базирующегося на понятии инстинкта, она хотя и использует его, но признает взаимодействие ребенка с матерью и материнской грудью в первый год его жизни наиболее значимым фактором в его психосексуальном развитии. По мнению М. Клейн, наибольшую психологическую сложность для ребенка представляет преодоление инстинктивной зависимости от матери и ее груди. Младенец фантазирует о них. При этом фантазии являются ментальным отражением его инстинктивных побуждений и воспринимаются как реальные объекты. Процесс психического развития ребенка предполагает постепенное осознание им того, что мать и ее грудь являются не элементами его внутрипсихического пространства, принадлежащими всецело ему, а самостоятельными сущностями, имеющими независимое от него существование.
Это происходит благодаря параллельно осуществляющимся процессам проекции и интроекции. Ребенок постепенно приобретает способность выделять себя из окружающей его внешней среды и формирует свою автономную внутреннюю реальность с многообразием фантазийных отношений между ее элементами. М. Клейн, в отличие от 3. Фрейда, оперирующего понятиями принципа удовольствия и принципа реальности, использует понятие внешней и внутренней реальности в качестве важнейших концептуальных определений своей теории. Кроме того, она избегает фрейдовской периодизации стадий психосексуального развития и обращает особое внимание на два основных этапа психического развития, которые ребенок проходит на первом году жизни. Первый этап характеризуется «параноидно-шизоидным» состоянием, когда ребенок переживает двойственные чувства по отношению к матери и ее груди. Их единый образ расщепляется на две части (предмета): плохую и хорошую. На одну из них проецируются его чувства любви и наслаждения, на другую часть — чувства фрустрации и гнева. Это предполагает и расщепление его инфантильного «Я» на две части, каждая из которых является носителем взаимоисключающих переживаний. Второй этап характеризуется «депрессивным» состоянием. Ребенок постепенно объединяет взаимоисключающие переживания, приходя к осознанию того, что хорошие и плохие свойства относятся к одному и тому же объекту — матери, которая имеет независимое от него существование. Это состояние сопровождается чувствами утраты и вины оттого, что ребенок ощущает, будто он в своем гневе разрушил первоначальный хороший объект — грудь. Переживание утраты и вины побуждает его к воссозданию утраченного «хорошего объекта» как вне, так и внутри себя. Г. Сегал утверждает, что именно «этот импульс к восстановлению ведет к психическому росту» (Segal Н., 1975, р. 800). Этот импульс продолжает играть активную роль и на протяжении дальнейшей жизни, являясь предпосылкой устойчивых человеческих отношений и творчества, а также помогая человеку справляться с психическими дисгармониями на последующих этапах развития. Нечто подобное можно наблюдать и в психотерапевтической работе. «Пытаясь справиться со своими психическими конфликтами и тревогами, пациент использует те же способы, которые он использовал в прошлом. Иными словами, он дистанцируется от аналитика так же, как он дистанцировался от первичного объекта (матери)» (Klein М., 1952, р. 55). С пациентом происходит то же, что происходило с ним в течение первого года жизни. Однако его ранние детские переживания проецируются уже не на мать и ее грудь, а на психотерапевта и материал изображения (если речь идет об арт-терапии), в результате чего негативные чувства становятся менее острыми и постепенно объединяются с положительными. «Мой опыт убедил меня в том, — пишет М. Клейн, — что мы можем принципиально помочь пациенту, путем интерпретации переноса и его отношений с первичными объектами возвращая его в детство... Вновь переживая эмоции и фантазии той поры и осознавая свои отношения с первичными объектами, пациент может реконструировать эти отношения на уровне первопричины и, следовательно, снизить их остроту» (Klein М., 1955, р. 16).
Взгляды М. Клейн на природу и механизм переноса помогают понять то, что создаваемый пациентом образ может содержать чрезвычайно важный материал для анализа ранних детских переживаний. Вместе с тем, в отличие от 3. Фрейда, М. Клейн считает, что перенос не обязательно связан с актуализацией прошлых ситуаций и отношений психо-травмирующего характера, но может отражать всю совокупность психического опыта пациента — его страхи, любовь, вину, фантазии, отношение к миру, проявляющиеся в контексте «здесь-и-сейчас» психотерапевтических отношений. Такая позиция М. Клейн определялась тем, что она работала с детьми и имела дело с текущими, а не прошлыми переживаниями и психическими травмами.
М. Клейн, как известно, разработала игровую технику, являющуюся незаменимым средством для изучения бессознательных процессов ребенка. Она полагала, что перенос во многих случаях более ярко проявляется в отношениях ребенка с предметами игровой деятельности, нежели с самим психотерапевтом. Это положение имело большое значение для разви/ия представлений о переносе в контексте арт-терапевтической работы. Оно, в частности, помогает осмыслить тот факт, что образ, являясь зеркалом бессознательных процессов, иногда сам по себе может выступать в качестве инструмента начинающейся психической трансформации. Как отмечает Д. Шавериен, «иногда рисунок отражает перенос. Рисунки такого рода обогащают возможности психотерапии, однако отличаются от рисунков, "воплощающих" чувства пациентов. Когда рисунок "воплощает" чувства и пациент начинает активно взаимодействовать с образом, тогда становятся возможными психические изменения посредством самого рисунка. Это напоминает перенос на психотерапевта, но в данном случае в фокусе переноса находится уже сам рисунок» (Schaverien J., 1987, p. 80).
Теория объектных отношений Помогла также сформулировать понятие так называемого «культурного переноса» (Kuhns F., 1983), которое обозначает интеграцию произведения искусства в сознание воспринимающей его аудитории. Как отмечает Ф. Куне, «произведение искусства является зеркалом, отражающим множество разных смыслов, носителем которых является сознание художника, выражающего себя в объекте или через объект искусства. Оно отражает и сознание зрителя, который реагирует на эти смыслы, аккумулируя сознательные и бессознательные ассоциации, включая и глубоко личные переживания, которые во многом совпадают, но не идентичны переживаниям других зрителей» (Kuhns F., 1983, р. 21).
При работе арт-терапевта с переносом большую роль играет учет феномена проекции. Как известно, понятие проекции, введенное Фрейдом, первоначально обозначало неосознанный перенос на лиц и внешние предметы тех переживаний и свойств, носителем которых является сам субъект, по какой-либо причине неспособный принять в себе эти пере: живания и свойства. Положительным моментом проекции в психотерапевтических отношениях, а также при работе пациента с изобразительным материалом является то, что в результате ее субъективный опыт становится доступным для восприятия в качестве изображенного предмета или персонажа (например, образа изображения). Как отмечает С. Лан-гер: «Проекция чувств на внешние объекты — это первый шаг к символизации и признанию этих чувств» (Langer S., 1953, р. 390). Хотя неосознаваемая проекция чувств пациента зачастую является условием символизации и последующего инсайта, решающая роль все же принадлежит анализу и интерпретации переноса психотерапевтом. Таким образом он старается «возвратить» пациенту принадлежащие ему свойства и переживания и тем самым помочь ему в осознании этих свойств и переживаний. «Соединяясь» с ними, пациент укрепляет и расширяет границы своего «Я», интегрируя в него те элементы опыта, которые оказались отчужденными от него на этапах психосексуального развития. Кроме того, анализ переноса может быть и важным фактором личностного роста. В практике аналитической психологии К. Юнга работа с переносом нередко рассматривается как средство индивидуации (Edinger Е., 1957, Fordham М., 1979, Machtiger Н„ 1984).
В юнгианской литературе термин «соединение» тесно связан с анализом переноса и имеет два основных аспекта. Один из них отражает процесс соединения различных неосознаваемых содержаний психики пациента с его Эго-системой, что служит ее укреплению и гармонизации. Второй же аспект отражает объединение Эго с Самостью — сущностным ядром психической жизни, что ведет к позитивной реорганизации всей структуры личности и ее психическому росту. Соединение как внутрипсихический процесс осуществляется параллельно с укреплением и развитием отношений между личностью пациента и психотерапевта. К. Юнг пишет, что процесс соединения «составляет суть феномена переноса, и практически невозможно пренебречь им, поскольку отношения с Самостью являются в то же время отношениями с нашими ближними, и никто не может построить отношения с ними до тех пор, пока не установит отношений с самим собой» (Jung С, 1946, р. 233).
Контрперенос
Как уже отмечалось, термин «контрперенос» обозначает те осознаваемые и неосознаваемые реакции, которые возникают со стороны психотерапевта в ответ на особенности состояния, поведения или высказываний пациента. В арт-терапевтической работе контрперенос вызывается также изобразительной продукцией пациента и особенностями создаваемого им образа. С момента введения понятия контрпереноса Фрейдом его содержание многократно пересматривалось. Известно, что 3. Фрейд считал необходимым сохранение аналитиком некоего бесстрастного состояния, при котором он выполняет роль «чистого экрана», наименее искаженно отражающего переживания пациента. Контрперенос нежелателен, так как мешает этому. К. Юнг писал о контрпереносе в связи с возможностью аналитика подвергнуться негативному психическому воздействию и травматизации со стороны пациента. Он отмечал, что контрперенос является одним из основных осложнений аналитической практики, заставляющим прервать психотерапевтическую работу (Jung С, 1931). Вместе с тем, в отличие от 3. Фрейда, К. Юнг полагал, что контрперенос может играть и положительную роль и что аналитик во многих случаях может им пользоваться как действенным психотерапевтическим инструментом, при том, однако, условии, что он не имеет сколько-нибудь серьезных психологических проблем. Поэтому К. Юнг считал, что психотерапевту целесообразно самому пройти анализ для преодоления собственных психических дисгармоний. Целью при этом является не превращёнт^е-ткгихотерапевта в механический рассудочный инструмент, осуществляющий интерпретацию на основе интеллектуальных процедур, но создание таких условий, которые позволяют аналитику справляться со своими чувствами, не выплескивая их наружу, как пациент (Heimann Р., 1960).
В той мере, в какой аналитику удается справляться со своими чувствами, возможно превращение его в своеобразный «резервуар» (Bion W., 1959), в котором могут накапливаться все новые и новые слои личного опыта пациента, в особенности те из них, которые связаны для него с психотравмирующими, вытесненными переживаниями. Сопоставляя переживаемые им чувства с содержанием ассоциаций пациента, а также особенностями его настроения и поведения, аналитик может определять, насколько адекватен он в понимании своего пациента.
Следует принять во внимание и то обстоятельство, что большинство пациентов способны довольно тонко различать особенности состояния психотерапевта. Если психотерапевт хорошо справляется с тревогой, это является для пациента важным стабилизирующим фактором. Это же относится и к более или менее очевидным для пациента признакам того, что психотерапевт либо «защищает» себя от тягостных для пациента переживаний, либо прикрывает свою неспособность идентифицироваться с ними маской ложной компетентности и понимания. Как отмечает X. Мактайгер, в психотерапевтических отношениях важно сохранять баланс между переносом и контрпереносом, с тем чтобы, с одной стороны, не разрушить эти отношения, а с другой — сохранить высокую степень взаимной восприимчивости (Machtiger Н., 1984).
Перенос и контрперенос связаны с процессами проекции и интроек-ции, протекающими параллельно. В арт-терапевтической работе интро-екция предполагает идентификацию психотерапевта с переживаниями пациента, основанную на эмпатии, антипатии, симпатии и других аффективных проявлениях, возникающих при восприятии состояния пациента, а также продукции его изобразительной деятельности. В последние годы в арт-терапевтической литературе нередко используется термин «проективная идентификация». Он обозначает возникновение в психике аналитика чувств, мыслей или состояний, которые являются содержанием психики пациента. «Психотерапевт как бы осваивает внутренний объектный мир своего пациента, выражая для него те внутренние объекты, которые связаны с качествами его родителей. При этом психотерапевт может на какое-то время отражать позицию, ранее занимаемую пациентом» (Bollas С, 1987, р. 5). В контексте арт-терапевтической работы понятие проективной идентификации приобретает особый смысл, поскольку чаще всего обозначает контрперенос на образ, создаваемый пациентом (Mann D., 1989).
Другим отличием юнгианского понятия контрпереноса от фрейдовского является то, что К. Юнг считал, что контрперенос является отражением не только личного бессознательного аналитика, но и коллективного бессознательного, а потому имеет определенные архетипические проявления. Взаимодействие пациента и психотерапевта на архетипиче-ском уровне посредством переноса и контрпереноса, по мнению К. Юнга и его последователей, начинает более активно проявляться после того, как пациент в достаточной степени интегрировал те неосознаваемые переживания, которые связаны с его биографическим опытом. Лишь после этого отношения пациента и психотерапевта перемещаются в так называемую область «мистического соучастия» (по определению К. Юнга). Д. Винникотт назвал эту область метафорическим, или потенциальным пространством, в котором пациент и психотерапевт переживают «состояние между фантазией и реальностью» (Winnicott D., 1953). В этом состоянии активизируется «трансцендентная функция» психики и начинают проявляться возможности ее гармонизации и исцеления.
Таким образом, контрперенос может включать в себя не только готовые формы опыта психотерапевта, но и те, которые возникают и развиваются при взаимодействии сторон. При этом и пациент и аналитик являются партнерами и находятся в эпицентре динамического процесса, захватывающего всю психику обоих его участников, включая и сознание и бессознательное, и ведущего к психическому росту пациента и самого психотерапевта. При этом психотерапевт опирается не только на свои эмоциональные реакции и состояния, но и на продукцию своего собственного творчества, образы воображения и сновидений и т. д. В процессе психотерапевтического диалога пациент зачастую преображается, переживая и усваивая предоставляемые ему психотерапевтом психические содержания и энергию и постепенно раскрывая в себе внутренние ресурсы самоисцеления. Такое понимание феномена контрпереноса соответствует данному К. Юнгом определению анализа как динамического процесса, который есть «не простой, прямолинейный метод, каким может показаться поначалу, но... диалог и дискуссия между двумя людьми, которые вступают во взаимодействие» (Jung С, 1931, р. 3). Для понимания контрперейоса в арт-терапевтической работе большое значение имеют идеи Д. Винникотта о невербальных отношениях мать—дитя. Согласно Д. Винникотту, язык является лишь продолжением способности ребенка к коммуникации и самоопределению, но не является ведущим в формировании его идентичности. Языку предшествует социализация на невербальном уровне, необходимая для выживания ребенка. Основным же способом коммуникации на невербальном уровне в отношениях мать—дитя является язык материнской заботы. По мнению Биона, эта функция предполагает не только способность к отражению потребностей и нужд ребенка, но и их пониманию. Мать отвечает на них своим пониманием и соответствующими действиями, которые не только удовлетворяют те или иные потребности ребенка, но и являются инструментом, позволяющим ребенку лучше осознавать свои потребности, например то, что означает для него чувство голода. Осознанные же потребности превращаются во внутренние объекты ребенка и являются «исходным моментом психической устойчивости» (Segal Н., 1975, р. 135).
Идеи последователей теории объектных отношений о материнской функции психотерапевта, связанной с контрпереносом, перекликаются с мыслями современных последователей юнгианского анализа, которые считают, что в контрпереносе очень велика роль архетипических ролевых отношений мать—дитя (Carotenuto А., 1977). При этом нередко име-: ется в виду то, что психотерапевт может быть мотивирован потребностью реализовать в своей работе либо избыток, либо дефицит материнской любви, которые он сам имел в детстве. Архетип матери активно проявляется в контрпереносе и включает любовь, заботу, нежность, с одной стороны, и тревогу, фрустрацию, гнев и властность — с другой. Однако отношениями мать—дитя не исчерпывается ролевое содержание контрпереноса. В нем могут проявляться и иные архетипические ролевые комплементарные пары, такие как гуру—ученик, спаситель грешник, хозяин—раб, колдун—подмастерье, целитель—пациент, мудрый старец — дурак и др. Эти пары, как правило, предполагают двустороннюю проекцию, например, когда пациент проецирует на психо-. терапевта роль гуру, а психотерапевт на пациента — роль ученика. Однако данные ролевые содержания контрпереноса осмыслены в арт-терапевтической литературе в гораздо меньшей степени, чем ролевые отношения мать—дитя. Личность психотерапевта заключает в себе неограниченные ролевые возможности, позволяющие использовать контрперенос как гибкий инструмент психотерапевтического воздействия. Независимо от конкретной формы ролевых проявлений контрпереноса его положительная функция заключается в Tojyr, чтобы быть конструктивным элементом в психотерапевтическтготношениях: помогать пси«| хотерапевту лучше понимать то, что переживает его пациент, и создавать для него надежную среду, в которой он может заново пережить и> реконструировать старые и раскрыть новые формы опыта, а затем осмыслить и сделать их осознанным достоянием своей личности. Основанный на здоровых качествах личности психотерапевта и реализованный в индивидуальном стиле его работы, контрперенос в значительной мере onpe-J деляет перспективу психотерапевтического процесса и его результат.
3. ПРИРОДА И ФУНКЦИИ СИМВОЛА
Понятие символа имеет для арт-терапии принципиальное значение. Это связано с тем, что арт-терапия представляет собой процесс динамической коммуникации, осуществляемой посредством символического
«языка» образов. Кроме того, символы выступают и в качестве моста, соединяющего сознательные и бессознательные элементы психической жизни как пациента, так и арт-терапевта. Используя их в своем изобразительном творчестве, пациент достигает все большей интеграции между этими элементами, с чем связаны многие положительные лечебно-коррекционные и развивающие эффекты арт-терапии.
М. Наумбурх, например, подчеркивает, что «арт-терапевтический процесс основан на том, что наиболее важные мысли и переживания человека, являющиеся порождением его бессознательного, могут находить выражение скорее в виде образов, чем слов... Приемы арт-терапии связаны с идеей о том, что в любом человеке, как подготовленном, так и не подготовленном, заложена способность к проецированию своих внутренних конфликтов в визуальной форме. По мере того как пациенты передают свой внутренний опыт в изобразительном творчестве, они очень часто становятся способными описывать его в словах» (NaumburgM., 1958, р. 511).
Представления о символе как инструменте межличностной и внутри-личностной коммуникации первоначально были характерны, главным образом, для тех психотерапевтов, которые получили психоаналитическую подготовку. Постепенно развиваясь, эти представления легли в основу ряда теоретических положений современной арт-терапии. Попытаемся проследить эволюцию этих представлений.
Основы психодинамического понимания символа были заложены Фрейдом, который связывал с символами действие примитивного психического механизма, позволяющего в какой-то мере снимать психическое напряжение, вызванное задержкой в удовлетворении инстинктивных потребностей. Символ, по мнению 3. Фрейда, является результатом иллюзорного совмещения предмета инстинктивной потребности со свойствами внешних объектов. Когда это совмещение происходит, символы могут включаться как в первичные, так и во вторичные психические процессы. Если символы включаются в первичные психические процессы, то их содержание отрывается от свойств внешних объектов и отражает либидинозные фантазии, что характерно, например, для сновиденческих символов или видений невротика. Если же символы включаются во вторичные психические процессы, то их содержание так или иначе привязывается к системе внешних объектов. В этом случае символы способствуют адаптации и являются инструментом воображения.
По мнению 3. Фрейда, служа первичным процессам, символы обеспечивают лишь кратковременное снятие психического напряжения, что характерно для примитивного психического аппарата ребенка, а также различных психических расстройств. Включение символов во вторичные психические процессы ведет к постепенному осознанию человеком своих потребностей, а также развитию навыков коммуникации и взаимодействия с окружающим предметным миром. Тем не менее с символами Фрейд связывает ту или иную степень психического инфантилизма, воспринимая их как проявление примитивного механизма психической ре-і гуляции.
Иной взгляд на природу и функции символов характерен для К. Юнга. Если для 3. Фрейда символы — это деформированные потребности, то для К. Юнга они представляют собой естественный способ психической; экспрессии на самых разных стадиях психического развития, включая и зрелую психику. Символы тесно связаны с динамикой индивидуального! и коллективного бессознательного. Те из них, которые отражают содерч жания коллективного бессознательного, имеют статус так называемы^ архетипических символов, обозначающих врожденные формы психического опыта. Архетипические символы имеют устойчивый, зачастую'; транскультуральный характер и отражают наиболее фундаментальные психические свойства и процессы, а также отработанные эволюцией способы разрешения внутрипсихических конфликтов. С архетипически-ми символами К. Юнг связывал проявления так называемой трансцендентной функции психики, выступающей фактором индивидуации и отражающей ее способность к саморегуляции. Идея К. Юнга о психике как; сложной саморегулирующейся системе предполагала, что психика может сама поддерживать определенное равновесие путем включения на тея или иных стадиях развития определенных компенсаторных процессов^ призванных преодолеть психическую дисгармонию. В символически^ образах, проявляющихся в творческом воображении или сновидениях человека, находит свое выражение энергия бессознательного, времен-; ное блокирование которой является причиной психической нестабильности и нездоровья. Таким образом, в отличие от 3. Фрейда, считавшего, символы проявлением психического инфантилизма, К. Юнг полагал, что символы могут служить не только восстановлению психического баланса, но и личностному «росту». Посредством их человек способен вступать во взаимодействие с блокированными аспектами бессознательного, и их энергией, тем самым постепенно приходя к их осознанию и психической целостности.
Данные различия во взглядах 3. Фрейда и К. Юнга обусловили И* принципиально различные подходы к практической работе. К. Юнг рас-; сматривал различные виды самостоятельной творческой работы своих;
клиентов как очень важные для их лечения и гармонизации. Эта работа протекала в форме спонтанного выражения материала бессознательного в изобразительной деятельности, движениях и танцах, художественных описаниях и других видах творческой работы его клиентов. Одновременно с этим психотерапевт обеспечивал безопасность во взаимодействии пациента с материалом бессознательного через совместный анализ продуктов творческой работы и путем введения определенных правил обращения с ними. К. Юнг пишет: «Психологическое прояснение этих образов, которые нельзя ни молчаливо обойти, ни слепо игнорировать, логически ведет в глубины религиозной феноменологии. История религии, в широком смысле этого слова (то есть включая сюда и мифологию, и фольклор, и первобытные психологические представления), является сокровищницей архетипических символов, из которой врач черпает чрезвычайно ценный материал и проводит сравнения... Совершенно необходимо при появлении этих странных и пугающих образов обеспечить определенный контекст для их восприятия, с тем чтобы сделать их более понятными для пациента» (Jung С, 1980, р. 53).
К. Юнг полагал, что символы, обладая чрезвычайно емким содержанием, не могут быть однозначно истолкованы. Более приемлемым является, по его мнению, работа с заложенной в них энергией путем ее спонтанного «транслирования» через образы, а также использование таких форм обсуждения, которые предполагают множество способов их трактовки. Его подход к практической работе с пациентами характеризуется высокой степенью доверия к их внутренним ресурсам самоисцеления, связанным с гомеостатической функцией коллективного бессознательного. Отсюда та большая роль, которую он отводит самостоятельной творческой работе пациентов, а также постепенный отход от интерпретации переносов, по мере того как пациент выходит в своем творчестве на уровень коллективного бессознательного.
Для К. Юнга также характерно пренебрежение эстетическими качествами художественной продукции пациентов. Более того, он полагает «эстетическую инфляцию» — связанную с отождествлением автора с чисто художественными достоинствами своего произведения — одним из осложнений аналитической практики. Он отмечает, что «хотя время °т времени мои пациенты создают работы высокого художественного Достоинства, которые вполне могли бы украсить выставки современного искусства, я тем не менее обращаюсь с ними как с тем, что не имеет никакой ценности с точки зрения серьезного искусства... Это не вопрос искусства, точнее, это не должно быть вопросом искусства. Это нечто большее, чем просто искусство, — то, что связано с живым влиянием такой работы на самого пациента. Смысл жизни субъекта, столь малозначимый с социальной точки зрения, — вот что имеет высшую цен-; ность, и во имя него пациент работает над тем, чтобы придать, быть может, грубые, детские формы тому, что представляется "невыразимым"» (JungC, 1970, р. 79).
Данная цитата из Юнга может рассматриваться как весьма удачная декларация того, что составляет существо арт-терапевтической работы,: что отличает ее от простых занятий художественным творчеством, с одной стороны, и от традиционных форм психотерапии — с другой. Это, связано с вниманием и к процессу изобразительного творчества, и его результатам, а также с признанием того, что внутренний план художественной работы — то есть разнообразные изменения в психике автора —■ имеет большее значение, чем эстетический продукт.
Влияние К. Юнга на деятельность психотерапевтов, использующих изобразительные методы, было значительным. Показательно следующее высказывание И. Чампернон, в котором прослеживается юнгианский взгляд на символическую природу художественного творчества: «Более 25 лет назад я пришла к убеждению в том, что слова, в частности проза- ] ическая речь, являются слишком сложным способом для передачи наших наиболее глубоких переживаний. Для меня стало очевидным, что визуальные, ауральные и телесные образы — наиболее подходящий cno-.j соб для передачи тех чувств и представлений, которые вряд ли можно выразить каким-либо иным способом. Эти образы являются не только! средством коммуникации между людьми, что чрезвычайно значимо, но и способом коммуникации между неосознаваемыми и более осознанны-1 ми формами опыта в психике человека» (Champernowne I, 1963, р. 97). |
В связи с сопоставлением разных взглядов на природу и роль символ лов следует упомянуть фундаментальную работу Э. Джонса (Jones Е., 1919) «Теория символизма». Он выделяет несколько атрибутивных, свойств понятия «символ», в частности: символ является обозначением: или заменой какого-либо представления; обозначаемое и обозначающее-связаны неким общим свойством или переживанием; символ конкретно-! чувствен, и в то же время обозначаемое им представление емкое и отвле| ченное. Э. Джонс, так же как и 3. Фрейд, рассматривает символическое! мышление как сравнительно примитивное, связанное с ранними стадия-* мипсихического развития. Появление символов характерно также длЯ| утомления психики, психических заболеваний, сновидений, сомнолент-, ности. Он также разделяет два основных типа символов. Первый тип оя называет «истинными» символами, они являются результатом внутри-психического конфликта между инстинктивным импульсом и тенденцией к его подавлению, когда этому импульсу удается вторгнуться в сознание в «снятом» виде. Второй тип символов он называет «функциональными» символами. Они являются результатом неглубокой регрессии и имеют метафорический характер. Э. Джонс полагает, что символы связаны с архаичными представлениями о наиболее фундаментальных переживаниях, таких как переживания рождения, любви и смерти. Он полагает, что вклад «пост-психоаналитической школы» (к которой он причисляет и К. Юнга) связан с ее исследованием символов в разных мистических и религиозных традициях, которые используют символы для обозначения этических представлений. На деле идеалы этих традиций, по мнению Э. Джонса, так и не были ими достигнуты, а символы отражают лишь попытку их утверждения на иллюзорном уровне и являются не более чем результатом сублимации.
Исследованием символов занимался также К. Райкрофт (Rycroft С, 1956). Их универсальный характер, по его мнению, связан не с коллективным бессознательным, а с общностью инстинктивных побуждений разных людей, а также реакций сознания на эти побуждения, формирующих сходные гештальты.
Представления о символическом мышлении были в дальнейшем развиты представителями теории объектных отношений (М. Клейн, М. Милнер, Д. Винникоттом и др.). Для них, в частности, характерно признание того, что первичные психические процессы также имеют определенное приспособительное значение. Изучая отношения матери и ребенка, они обратили внимание на то, что символы, играя большую роль в психической жизни младенца, помогают ему адаптироваться к окружающей среде. В своей работе «О важности символообразования в развитии Эго» М. Клейн утверждает, что символизм является основой для любой сублимации и любого таланта. «Символическое равенство» между внешними объектами и содержанием либидинозных фантазий позволяет ребенку осваивать предметный мир, а художнику — творить новые формы. Она пишет, что «символы не только являются основой фантазирования и сублимации, но благодаря им также развивается способность субъекта к взаимодействию с внешним миром» (Klein М., 1968, р. 238). Она Даже полагает, что способность к символообразованию является предпосылкой для культурной эволюции человечества.
Сходные идеи высказывает и Д. Винникотт. Его понятие «транзитных объектов» тесно связано с представлением о разных формах символического
мышления ребенка. Он рассматривает их как основу для формирования культурного опыта, а также предпосылку для развития подлинного «Я» (Самости). Он подчеркивает большую роль матери в развитии способности ребенка к символообразованию и формировании у него здоровой психической конституции. Здоровая психическая конституция, основанная на подлинном «Я», по его мнению, характерна для тех субъектов, ко-; торые способны к свободному использованию символов в качестве инструментов, обеспечивающих связь между фантазией и реальностью, что позволяет этим субъектам вести интересную и насыщенную культурную жизнь и наделяет их особыми творческими дарованиями. Напротив, лица с неразвитой способностью к символообразованию, с «ложным Я» характеризуются повышенной тревожностью и неспособностью к глубокой концентрации. Они испытывают потребность искать точку опоры во] внешнем мире объектов, а их жизнь является не чем иным, как лишь последовательностью реакций на внешние объекты и события.
Нельзя не упомянуть также о взглядах М. Милнер на природу и роль
символов. Она, как известно, сочетала в себе амплуа оригинальной ху-
дожницы и психотерапевта, что, несомненно, отразилось на ее высокой
оценке роли фантазийной жизни для развития богатого внутрипсихиче-
ского плана творческой личности. Символообразование рассматривает-
ся ею не как способ примитивной психической защиты, но как важный
фактор в создании всего подлинно новога и как предпосылка здорового
психического развития.
Таким образом, работы разных ггредставителей психодинамического направления, касающиеся роли символов в психической жизни, послужили важным теоретическим обоснованием для арт-терапевтической; практики. Они, в частности, позволяют рассматривать арт-терапевта в качестве посредника в коммуникации между внешним и внутренним планами психического опыта пациента, опирающейся прежде всего на символический язык изобразительного искусства. Другим важным след-! ствием психодинамической теории символа является представление об> изобразительной работе как особой деятельности, в которой сочетают-] ся регрессивные тенденции и онтогенетически ранние формы взаимодействия с миром, с одной стороны, и эволюционно-прогрессивные тенденции, связанные с творческой функцией психики, — с другой.
ЛИТЕРАТУРА
Bion W. Attacks on Linking / / International Journal of Psychoanalysis. 1959. Vol. 40. P. 308-325. Republished 1962. Second Thoughts. London: Heinemann.
Bollas С. The Shadow of the Objects. Psychoanalysis of the Unthought Known. London: Free Association Books, 1987.
Carotenuto A. The Psychopathology of the Analyst / / Annual of the Italian Analytical Psychologists. 1977. Vol. 1. P. 53-74.
Champernowne I. Art therapy in the Withymead Centre / / American Bulletin of Art Therapy. Spring. 1963.
Champernowne I. Art and Therapy: An Uneasy Partnership / / Inscape. 1971. Vol. 1.
Ehrenzweig A. The Hidden Order of Art. London: Paladin, 1967.
Fordham M. Analytical Psychology and Countertransference. Epstein L. and FeinerH. (eds.). New York: Jason Aronson, 1979. P. 193-212.
Freud A. Foreward to Marion Milner On Not Being Able to Paint. London: Hei-nemann, 1950.
Freud S. The Future Procpects of Psychoanalytic Therapy / / Standard Edition. 1910a. Vol. 11. P. 139-152. London: Hogarth, 1950.
Freud S. Leonardo da Vinci and a Memory of his Childhood / / Art and Literature. Pelican Trend Library. Vol. 14. Harmondsworth: Penguin, 1910b.
Freud S. The Moses of Michelangelo / / Art and Literature. Pelican Trend Library. Vol. 14. Harmondsworth: Penguin, 1914.
Freud S. Literature XXIII. The Paths of the Formation of Symptoms / / Standard Edition. Vol. 16. London: The Hogarth Press, 1916.
Freud S. An Autobiographical Study // Standard Edition. Vol. 20. London: The Hogarth Press, 1925.
Jones E. The Theory of Symbolism / / British Journal of Psychology. 1919. Vol. 9.
Jung C. Problems of Modern Psychotherapy // Collected Works. 1931. Vol. 16. P. 29-35. 2nd ed. Rev. Princeton: Princeton University Press, 1966.
Jung C. Psychology of the Transference. In Collected Works. 1931. Vol. 16. P. 162-203. 2nd ed. Rev. Princeton: Princeton University Press, 1966.
Jung C. Modern Man in Search of Soul. London: Routledge and Kegan Paul, 1970.
Jung C. Psychology and Alchemy. Princeton: Bollingen Series, 1980.
Hall J. Clinical Uses of Dreams. New York: Grune and Stratton, 1977.
Heimann P. Contertransference / / International Journal of Psychoanalysis. I960. Vol. 31. P. 84-94.
Klein M. Infantile Anxiety Situations Reflected in a Work of Art and in the Creative Impulse 1929 / / Contributions to Psychoanalysis. London: The Hogarth Press and The Institute of Psychoanalysis, 1948.
Klein M. The Origins of Transference / / Works of Melanie Klein. Vol. 3. P. 48-56. London: The Hogarth Press, 1952.
Klein M. The Psychoanalytic Play Technique / / Klein M., Money-Kyrle R. E. & Heimann P. (eds.) New Directions of Psychoanalysis 1977. London: Maresfield Reprints, 1955.
4-1508
Klein M. The Importance of Symbol Formation in the Development of the Ego 1930 / / Contributions to Psychoanalysis 1921-1945. London: The Hogarth Press and The Institute of Psychoanalysis, 1968.
Kris E. Psychoanalytic Explorations of Art. London: Allen and Unwin, 1953.
Kris E. Psychoanalysis and the Study of Creative Imagination 1953 / / The Se lected Papers of Ernst Kris. New Haven: Yale University Press, 1975.
Kuhns F. Psychoanalytic Theory of Art. New York: IUP, 1983.
LangerS. Feeling and Form. Baltimore: J. Hopkins University, 1953.
Machtiger H. Countertransference / Transference //In Jungian Analysis. Stein M. (ed.). P. 86-110. Shambala: Boulder and London, 1984.
Mann D. The Talisman or Proective Identification? / / Inscape. Autumn. 1989.
MilnerM. On Not Being Able to Paint. London: Heinemann, 1950.
Milner M. The Role of Illusion in Symbol Formation // Klein M. et al. (eds." New Directions in Psychoanalysis. London: Maresfield Reprints, 1955.
Milner M. The Hands of the Living God. London: Virago, 1969.
Milner M. The Suppressed Madness of Sane Men. London: Tavistock, 1989.
Naumburg M. Art Therapy: Its Scope and Function / Hamer E. (ed.) / / Clinical Appcication of Projective Drawings. Springfield: Thomas, 1958.
Newman K. Countertransference and Consciousness. New York: Spring Publications, 1980.
Piaget J. Play, Dreams and Imitation in Childhood. London: Routledge and Ke-gan Paul, 1951.
Rycrojt C. Symbolism and Its Relationship to the Primary and Secondary Processes / / Imagination and Reality. Psychoanalytical Essays. London: The Hogarth Press, 1956.
Rycrojt C. A Clinical Dictionary of Psychoanalysis. Harmondsworth, 1977.
Schaverien J. The Scapegote and the Talisman: Transference in Art Therapy /, Dalley T. et al. (eds.) / / Images in Art Therapy. London: Tavistock, 1987.
Segal H. A Psychoanalytic Approach to the Treatment of Schizophrenia / / Studies of Schizophrenia. Ashford: Headley Bros., 1975.
Sharpe E. Certain Aspects of Sublimation and Delusion 1930 / / Collected Papers on Psychoanalysis. London: The Hogarth Press, 1950a.
Sharpe E. Similar and Divergent Unconscious Determinations Underlaying the Sublimations of Pure Art and Pure Science 1935 / / Collected Papers on Psychoanalysis. London: The Hogarth Press, 1950 b.
Storr A. The Dynamics of Creation. London: Seeker and Warburg, 1978.
Ulanov A. Transference / Countertransference / Stein M. (ed.) / / Jungian Analysis. Shambala: Boulder and London, 1984.
Winnicott D. Transitional Objects and Transitional Phenomena / / International Journal of Psychoanalysis. 1953. Vol. 34. P. 89-97.
Winnicott D. Hate in the Countertransference / / Through Paediatrics to Psychoanalysis. P. 194-203. New York: Basic Books, 1975.
Winnicott D. The Piggle. Harmondsworth: Penguin, 1980.
Winnicott D. Playing and Reality. Harmondsworth: Penguin, 1980.
Глава 2
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
Первые попытки использовать в работе с детьми и подростками изобразительные приемы в качестве психотерапевтического и психокоррек-ционного инструмента, а также стимулятора их психического развития имели место еще в первой половине XIX века. На Западе всестороннее обоснование подобная практика получила в работах Г. Рида (Read Н., 1943), Э. Крамер (Kramer Е., 1958, 1971) и др. Имеется определенный опыт такого рода работы и в России.
«Педагогическое» направление в арт-терапии всегда было значимо и развивалось параллельно с «медицинским». Основное их отличие друг от друга заключается в том, что если применительно к «медицинскому» направлению термин «арт-терапия» (therapla переводится с латыни как «лечение») является адекватным основному содержанию работы арт-терапевта, занятого в системе здравоохранения, то в отношении «педагогического» направления он не вполне корректен. Специалисты, работающие в этой области, не склонны считать, что используемые ими формы изобразительной работы ребенка имеют отношение к его «лечению». Они предпочитают пользоваться терминами «эмоциональное воспитание», «эмоциональное образование», «развитие творческого начала» и т. д., как более точно отражающими направленность их деятельности. Эти специалисты, дабы не вызывать у персонала школ и самих детей каких-либо ассоциаций своих форм работы с «лечением», предпочитают называть проводимые ими индивидуальные и групповые занятия уроками или группами «художественного самовыражения».
При всех очевидных различиях в подходах «медицинского» и «педагогического» направлений нельзя не признать, что между ними существует тесная связь. Художественное самовыражение детей в тех формах, которые используются «педагогическим» направлением, так или иначе обращено к укреплению психического здоровья ребенка, а потому может рассматриваться как весомый психогигиенический (психопрофилактический) и психокоррекционный фактор. Это значит, что данные
4'
формы работы являются, по крайней мере, областью профилактической; медицины, хотя и не ставят своей задачей лечение ребенка. Кроме того^ их использование во многих случаях выполняет и психотерапевтическую функцию, помогая ребенку справиться со своими психологическими проблемами, восстановить эмоциональное равновесие или устранить нарушения поведения.
С другой стороны, арт-терапевты «медицинского» направления, работающие с маленькими пациентами, например в детской психиатрической больнице или центре психического здоровья, не могут не выступать в роли педагогов, поскольку во многом способствуют воспитанию детей, их гармоничному эмоциональному и интеллектуальному развитию.
Материалы главы не отражают всего спектра ситуаций и вариантов деятельности арт-терапевта, ориентированного на работу с данной возрастной группой. Однако они наглядно демонстрируют, каким образом, в зависимости от особенностей каждого конкретного случая, работа может строиться. Арт-терапевту приходится учитывать своеобразие клинических, институциональных, культурных и методологических факторов, определяющих задачи и формы его деятельности, специфические модели психотерапевтической интеракции, несомненно, связанные и. с общими особенностями детской психики.
Одна из особенностей маленького пациента заключается в том, что он в большинстве случаев затрудняется в вербализации своих проблем и переживаний. Для него естественна невербальная экспрессия, в том числе изобразительная. Это оказывается особенно значимо, если у ребенка имеются речевые нарушения. Следует принимать во внимание и то, что дети более спонтанны и менее способны к рефлексии своих чувств и поступков. Их переживания непосредственнее и живее, чем в словах, «звучат» в изобразительной продукции. Запечатленные в ней, они легко доступны для восприятия и анализа.
Мышление ребенка образнее и конкретнее мышления большинств взрослых, поэтому он использует изобразительную деятельность как способ осмысления действительности и своих взаимоотношений с нею.,; По рисунку ребенка можно судить об уровне его интеллектуального развития и степени психической зрелости.
Предлагая ребенку сказочные, фантастические сюжеты для «разработки» их в изобразительной форме, следует учитывать живость и богатство детской фантазии. Немаловажна и ролевая пластичность ребенка, его ес4 тественная склонность к игровой деятельности. Всем этим можно пользо-і ваться, создавая в арт-терапевтическом кабинете особую атмосферу игры* и творчества и подбирая вместе с детьми соответствующие сюжеты и темы в качестве основы индивидуальной и групповой арт-терапии.
Существенным обстоятельством оказывается и то, что изобразительные материалы и предметы игровой деятельности являются для ребенка более важными «партнерами» коммуникации, чем психотерапевт. Ребенок проявляет по отношению к ним характерные для себя и связанные с личным опытом способы построения отношений, те или иные эмоциональные реакции, в которых очевидны проявления переноса. Это давно было замечено детскими психотерапевтами и использовано при разработке различных техник, позволяющих наладить контакт с ребенком посредством предметов и материалов его игровой деятельности (М. Клейн, М. Милнер, Д. Винникотт, М. Ловенфельд и др.). С этим же связаны и богатые возможности реконструктивного, психотерапевтического воздействия, опирающегося на самоисцеляющие тенденции детской психики, которая посредством реорганизации окружающего игрового пространства стремится «творчески ответить» на болезнь или имеющиеся у ребенка проблемы.
Следует учитывать и то, что игровое пространство, изобразительный материал и образ являются для ребенка средствами психической защиты и саморегуляции, к которым он прибегает в трудных для себя обстоятельствах. Это, в частности, связано с возможностью изобразительного образа достаточно длительное время «удерживать» аффекты, не давая им «выплеснуться» наружу, а также с его способностью «дистанцировать» переживания за счет механизма проекции и достигаемой таким образом более высокой степени контроля над ними. Поэтому образ может выступать для ребенка своеобразным «контейнером» («накопителем»), внутри которого сложные чувства сохраняются до тех пор, пока детское сознание не сможет их «увидеть» или «принять».
«Защитная» функция игрового пространства, материала и образа предполагает также то, что они обеспечивают возможность регресса психики (в психодинамическом значении этого слова) и тем самым необходимую степень «открытости» ребенка для психотерапевтической работы. Регрессия и отражение регрессивного материала (опыта, ролей, ситуаций) в изобразительном процессе ведут к взаимодействию с предметами и материалами игрового пространства и постепенной реинтеграции опыта.
Это замечательно показано в статье К. Кейз, которая, используя представления психодинамической теории объектных отношений, глубоко анализирует стадии арт-терапевтического процесса и то, каким образом переживание прекрасного, испытываемое ребенком при восприятии им
одной из работ Гольбейна, становится «трансформирующим» моментов ведущим к отреагированию сложных чувств посредством изобразительного творчества. К. Кейз — представитель британской арт-терапевтической; школы, в которой психодинамические теории (в частности, понятия переноса и контрпереноса) играют очень важную роль. Хотя в отечественной! психотерапевтической традиции они не имеют столь широкого признак ния, статья К. Кейз не может не восхищать глубиной анализа внутреннего мира ребенка и его изобразительной продукции в контексте реальных2 психотерапевтических отношений и тех ролей, которые играют арт-тера| певт и элементы «психотерапевтического пространства».
Методологически близкой позиции К. Кейз выглядит и модель арт-терапевтической работы, представленная в статье Т. Боронска. Этот автор также анализирует поведение своего клиента-подростка и содержание его изобразительной продукции с психодинамических позиций: при осмысле нии динамики психотерапевтического процесса и своих отношений с малы чиком по имени Билл Т. Боронска привлекла понятия переноса и контр переноса, а признание «защитной» функции изобразительного образа в с четании с иными предпосылками явилось важным фактором в достижени терапевтического эффекта. К таким предпосылкам необходимо отнест психотерапевтический альянс и надежность пространственно-временны границ арт-терапевтической работы, — Т. Боронска встречалась со своим клиентом в условиях специализированной школы-интерната, где дети редко имеют возможность для уединения и концентрации, столь необходи мых в психотерапевтическом отношении. Арт-терапевтический кабинет его атмосферой «безопасности» и высокой терпимости к любым проявле ниям внутреннего мира ребенка является тем «оазисом», где дети с опре деленными психологическими проблемами могут «перевести дух» и вое становить свое психическое равновесие. Статья Т. Боронска показательна еще и тем, что в ней уделяется большое внимание анализу сексуальных* переживаний подростка, которые автор публикации стремится осмыслит в контексте психотерапевтических отношений и с учетом истории жизн подростка и его внутрисемейных отношений.
Поскольку в статье Т. Боронска описывается более чем двухлетня работа с подростком, становится очевидным тот факт, что на динамик арт-терапевтического процесса оказывает большое влияние естествен ное развитие подростка и сложные метаморфозы, происходящие в его соматической и психической сферах во время пубертакса. Специалисту работающему с ребенком или подростком, очевидно, требуется прини мать во внимание особую пластичность психики и логику возрастны изменений в самых различных аспектах жизнедеятельности пациента, что, несомненно, делает психотерапевтический процесс более живым и динамичным.
С этим же обстоятельством отчасти связано и то, что многие психологические представления, первоначально сформулированные в работе со взрослыми и касающиеся, например, диагностики и психологического содержания отдельных элементов изобразительной продукции, вряд ли могут быть механически перенесены в практику работы с детьми: так, выполненный ребенком ряд известных проективных рисуночных тестов обнаружил крайне низкую предсказательную и диагностическую ценность. Очевидно, что арт-терапевту, стремящемуся разобраться в содержании рисунков ребенка, следует ориентироваться не на умозрительные представления и собственные проекции, а на ассоциации самого автора рисунка и «язык» его тела. Очевидно также, что очень многое еще предстоит сделать в плане доказательства валидности различных техник и приемов изобразительной работы, применяемых с детьми. В этом отношении примечательна статья Робин Гудман, в которой представлены некоторые способы обсуждения и анализа детских рисунков. Статья раскрывает значимость правильно построенной вербальной интеракции с ребенком, помогающей прояснить особенности психологической «нагрузки» его изобразительной продукции и соответствующих ей переживаний.
Статья Р. Гудман представляет особый интерес также в силу того, что в ней описаны некоторые моменты арт-терапевтической работы с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями. Р. Гудман (в недавнем прошлом президент Американской арт-терапевтической ассоциации) в течение ряда лет занимается работой в педиатрическом онко-гематологиче-ском центре Нью-Йоркского университета. Все ее пациенты — дети, проходящие химио- и радиотерапию в условиях онкологического стационара, где арт-терапия используется в качестве средства психологической помощи и оценки психического состояния ребенка. Очевидно, что экстремальная ситуация онкологического заболевания, тяжесть физических и психических страданий, необычность и сложность лечебных процедур затрудняют получение от ребенка сведений о его отношении к своей болезни и лечению, а также оценку его психического состояния посредством вербального канала коммуникации. Невербальным методам (включая изобразительную работу и музыку) во многих случаях отдается предпочтение.
Статья Р. Гудман наглядно показывает, каким образом художественная экспрессия с последующим интервью, касающимся содержания рисунка, позволяет получить доступ к переживаниям ребенка и установить с ним психотерапевтический контакт.
Д. Мерфи знакомит с приемами и разными формами арт-терапевтической работы с детьми, перенесшими сексуальное насилие. Психотерапевтическая помощь детям этой группы в нашей стране пока крайне недостаточна, хотя социальные масштабы проблемы и ее значение для психического здоровья населения весьма значительны. Особую сложность представляет подтверждение факта сексуального насилия, поскольку дети в большинстве случаев не могут или не хотят на словах объяснить то, что с ними произошло. В этих условиях методы арт-терапевтической работы являются тем средством, благодаря которому удается получить доступ к внутреннему миру ребенка и добиться определенного психотерапевтического эффекта.
М. Мауро описывает ход арт-терапевтических встреч с пациенткой психиатрической больницы — 16-летней иммигранткой с личностным расстройством. Этот случай представляет особый интерес с точки зрения учета культурного опыта клиента в психотерапевтической работе, в частности, в формировании более устойчивого образа «Я». Очевидно, что проблема формирования психической идентичности становится особенно актуальной в подростковом возрасте. Однако, как утверждает М. Мауро, используемые в психотерапевтической работе психологические модели развития личности в большинстве случаев «слепы» к культурным различиям, что является причиной ошибочной диагностики, плохого контакта между клиентом и психотерапевтом, преждевременного завершения работы. Демонстрируемые в статье М. Мауро арт-терапевтические приемы, так же, как и используемая ею Шкала формирования идентичности национальных меньшинств, могут представлять особый интерес для отечественных специалистов, работающих с представителями различных этнических групп, но пока еще крайне слабо «оснащенных» понятиями и инструментарием кросс-культурного подхода.
Некоторые области и модели арт-терапевтической работы с детьми и подростками, к сожалению, не представлены в данной главе. К ним относится, например, работа с аутичными детьми, с детьми и подростками с задержкой психического развития и серьезными психическими заболе-. ваниями. Надеемся, что определенное представление о методах такой работы читатель сможет получить при знакомстве с материалами, вошедшими в четвертую главу книги. Эти методы, как правило, заметно отличаются от тех, которые используются в работе с детьми с менее груб ми психическими нарушениями: в частности, задачи реконструктивно психотерапевтического и психокоррекционного воздействия в работе с детьми с высокой степенью умственной отсталости не актуальны, а представления о психотерапевтическом альянсе, переносе и некоторые другие неприменимы. Основной целью деятельности арт-терапевта здесь является общая активизация детей, развитие навыков социального взаимодействия, тренировка практических навыков, мобилизация креативности, самовыражение и развитие когнитивных возможностей (включая навыки принятия решений) и т. д.
Выбор конкретных методов определяется условиями работы и степенью умственной отсталости. При ее легкой степени можно использовать практически весь арсенал арт-терапевтических методов, в том числе большинство тем и упражнений, обычно применяемых в тематически ориентированных группах. При более значительной степени умственной отсталости у детей могут наблюдаться определенные сложности в осмыслении задания, плохое понимание условий групповой раббты и снижение коммуникативных возможностей. Поэтому работа с ними должна проводиться преимущественно в условиях открытых студийных или тематически ориентированных групп с более ограниченным, чем обычно, набором тем и упражнений. Предпочтение отдается упражнениям, предполагающим несложную работу с различными материалами (главным образом, для того, чтобы активизировать детей и развить сенсомоторные навыки), включая песок, глину и другие материалы. Следует учитывать, что у таких детей при встрече с новыми материалами может возникнуть сильная тревога, реакции протеста, поэтому им нередко бывает необходима индивидуальная помощь. В некоторых случаях можно пользоваться определенными техниками, позволяющими детям выразить те чувства, которые при непосредственном проявлении имели бы явно асоциальный характер. Применяются и несложные техники для совместной групповой работы. В этом случае можно использовать систему поощрения и наказания с целью изменения поведения детей.
Арт-терапевтические методы успешны и в работе с аутичными детьми. Вербальный контакт с ними крайне затруднен. Они погружены в себя, а их деятельность носит ритуальный, стереотипный характер. Попытки изменить эти стереотипы, как правило, вызывают сильную тревогу и даже агрессивную реакцию. Арт-терапия позволяет в какой-то мере получить доступ к переживаниям таких детей, активизировать их, а в некоторых случаях и способствовать развитию определенных практических навыков. Следует учитывать и то, что в некоторых случаях аутичные дети проявляют особые способности к рисованию.
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ПЕРЕНОСА
Керолайн Кейз
Печатается по изданию: Case С. On the Aesthetic Moment of the Transference // Inscape. Vol. One. № 2. 1996. P. 39-45.
Сведения об авторе. Керолайн Кейз — частнопрактикующий арт-психотерапевт, в недавнем прошлом ведущий лектор и руководитель курса арт-терапии при Хартфордширском университете, автор широко известной книги «Справочник по арт-терапии» (совместно с Tessa Dalley), один из редакторов сборника «Работа с детьми в арт-терапии».
ВВЕДЕНИЕ
Меня глубоко интересует то, что происходит на разных уровнях внутреннего и внешнего опыта, когда в человеке затрагиваются эстетические чувства. Хотя я собираюсь обсудить так называемое переживание прекрасного, мне кажется, что перенос в психотерапевтических отношениях всегда имеет некоторое эстетическое качество. Мысли, изложенные в статье, возникли в связи с теми переживаниями, которые испытывали мои пациенты-дети при восприятии репродукции портрета Джейн Сеймур работы Гольбейна (рис. 2.1). Эта репродукция висит на стене моего кабинета и является единственным элементом его художественного оформления.
Переживание прекрасного кажется необычным и окрашенным особыми эстетическими свойствами. Ребенок начинает по-новому воспринимать хорошо знакомый ему элемент интерьера. Поскольку я работаю в одних и тех же условиях, я знаю, что предметы в моем кабинете остаются прежними, изменяется лишь их восприятие, и именно это указывает на тесную связь между эстетическими и психологическими элементами в переживаниях моих пациентов. При том что окружающая среда остается неизменной, внутренний мир пациентов и психотерапевта, их отношения являются весьма динамичными.
Для читателей было бы нелишне напомнить, что «перенос происходит, когда пациент проецирует на психотерапевта сильные инфантильные чувства, связанные с детством или своими отношениями с различными людьми в первые годы жизни» (Case С, Dalley Т., 1992). Арт-тера 
певт может работать не только с переносом на себя, но и на различные образы, созданные кем-либо (Scha-verien J., 1992). В этой статье я коснусь переноса на психотерапевта и на объекты, находящиеся в пространстве арт-терапевтического кабинета, в частности, — на женский образ, созданный Гольбейном. Перенос на продукты творчества самого пациента я анализировать не буду. Меня крайне интересует феномен идеализации психотерапевта, связанный с особыми переживаниями, характерными для де-примированных пациентов. Навязанная роль совершенного объекта труднопереносима и не заслуживает признания, особенно начинающим психотерапевтом,который может быть слеп к таким проявлениям переноса и сомневается в своих психотерапевтических возможностях. Однако способность психотерапевта выполнять роль зеркала
для такого рода переживаний очень важна, как и сознание своей ответственности за подобные тонкие чувства пациента.
В первой части данной публикации я напомню читателям о некоторых положениях недавно опубликованной в журнале Inscape статьи «О глухоте, пустоте и немоте в психотерапии» (Case С, 1995). В ней я описала свои психотерапевтические занятия с очень молчаливой пациенткой по имени Кэти, направленной к психотерапевту родственниками. Ее мать переживала депрессию, вызванную нежелательной беременностью. В статье я сравнила молчание девочки с «внутренней пустыней», которую мы вместе обживаем. Во время третьей сессии я пыталась понять особый характер коммуникации, происходящей между нами в полном безмолвии. В определенный момент Кэти направилась к краскам, но остановилась, рассматривая репродукцию работы Гольбейна, висящую на стене. Она прошептала: «Прекрасно, это прекрасно...» Затем она принялась рисовать яйца и в конце сессии подарила мне свой рисунок. В своей предыдущей статье я истолковала молчание Кэти, предшествовавшее рисованию, как основную тему нашего занятия. Сейчас же мне хотелось бы обратить внимание на эстетический элемент переноса, связанный с pel продукцией картины Гольбейна. Я постараюсь при этом проанализиро-ij вать материал своей практической работы.
Область, которую я попытаюсь сейчас исследовать, находится не «между эстетическим и психологическим» (Maclagan D., 1994). В ней эстетическое глубоко психологично, поскольку происходит ПОЧТИ ПОЛ-І ное слияние человека с эстетическим объектом, что заключает в себе значительный потенциал для психической трансформации. Однако, ана! лизируя свою работу с пациенткой, я заметила: прежде чем возникнет^ эстетическое переживание, должен проявиться сильный инфантильный, перенос на психотерапевта при почти полном молчании пациента. В мо-ч мент сильного эстетического переживания Кэти произнесла: «Прекрас-1 но, это прекрасно...» В тот миг она словно слилась с образом восприятия, пребывая в состоянии зачарованности материнским образом. Произо-;! шел перенос на эстетический объект и детское, идеализированное признание его красоты.
Момент эстетического переживания был очень волнующим и позволил моей пациентке воссоздать «хороший внутренний объект», ощутить! реальность психотерапевтических отношений. Она смогла затем сделать і выбор в пользу самопознания, по-видимому найдя в работе Гольбейна нечто, символически выражающее ее детские переживания по поводу;; матери. После Кэти символически изобразила на рисунке свои с ней отношения. Это было изображение треснувшего яйца, лежащего среди множества целых. Мне кажется, что в момент эстетического пережива-1 ния часто имеет место состояние единения, которое затем сменяется^ оценкой и стремлением к разотождествлению с объектом идентификации и признанию своей самодостаточности. Сначала Кэти молчала, но! после пережитого ею слияния с работой Гольбейна она была способна работать самостоятельно, опираясь на «хороший внутренний объект». | Она изобразила черное треснувшее яйцо, которое мне представляется символом того ребенка, которым она себя ощущает. Мне кажется, чтга треснувшее яйцо одновременно символизирует и то старое, что повреж- • дено, и то новое, что лишь появляется. Появление нового связано е| трансформирующими качествами эстетического переживания. Кэти! могла бы оставаться в неподвижной тишине, но она сделала выбор в! пользу жизненного роста и развития. В процессе психотерапии перем
ней стояла дилемма: открыть себя для психотерапевтического общения или в страхе убежать в свои ранние детские отношения. Мне кажется, что выбор в пользу психического роста и развития должен всегда делаться на определенном этапе психотерапевтической работы. Через перенос Кэти смогла создать для себя идеализированный, всегда доступный образ матери. В непосредственном виде этот перенос был рискованным (по причине пережитой мною самой депривации в раннем возрасте), поэтому пациентка предпочла картину Гольбейна. Картина не может быть непредсказуемой, не может переживать депрессию, она более надежна по сравнению с живым человеком.
Эстетическое переживание дает ощущение раппорта с эстетическим объектом, будь то реальный человек, пейзаж, картина, поэма или что-то иное. Зачастую при этом имеет место неожиданно возникающее переживание восторга или благоговения. Происходит слияние с объектом восприятия — «захваченность духом объекта» (Bollas С, 1987). И это есть бытийное, а не умосозерцательное состояние, которое охватывает все человеческое существо и дает ощущение того, что вы и объект взаимодополняете друг друга. Подобное состояние у ребенка, переживающего психическую анестезию, может быть вызвано лишь стимулами особого рода. Случай с Кэти очень показателен и убеждает меня в том, что в процессе психотерапии наиболее существенными являются воспоминания переживаний психической и физической защищенности ребенка со стороны матери. Эти воспоминания очень глубокие и волнующие, они окрашены благоговением. Боллас описывает первые эстетические переживания, как те, которые связаны с «материнской формой отношения». Наиболее ранние эстетические переживания такого рода являются трансформирующими — мать приходит к ребенку, чтобы погасить в нем страх или устранить неприятные физические ощущения: сырость, голод или холод. Мать трансформирует их в приятные ощущения. Боллас описывает то, как мать сопереживает ребенку, оставаясь с ним, — это своеобразная форма диалога, происходящего между ними еще до того, как ребенок обретает способность осмыслять свое существование.
Эстетическое переживание всегда имеет трансформирующие качества. Эстетический же объект, по-видимому, является основой трансформирующего опыта, посредством которого преодолевается психическая фрагментированность и интегрируются разные элементы «Я». Это напоминает момент, в который художник после работы над своим произведением вдруг останавливается и пытается оценить, что он создал. Тогда может возникнуть ощущение завершенности или правильности созданного.
Изучая новорожденных, можно наблюдать элементарное переживание ими прекрасного. Следующие примеры, касающиеся реакций мальчика в возрасте пятнадцати-восемнадцати недель, могут быть иллюстрацией этих переживаний.
1. Мальчик издал какой-то звук, и мать спросила его: «Кто это снова голоден?» Затем она склонилась над ним: «Какой ты большой, какой ты прекрасный большой малыш». Мальчик улыбнулся-матери, извиваясь от удовольствия. Когда мать выпрямилась, мальчик продолжал смотреть туда, где она только что была, а затем сразу погрузился в сон. Его руки запрокинулись вверх над головой.
2. Мать пришла поговорить с ребенком. Она наклонилась над ним, ее локти уперлись в пеленальный столик, а лицо было совсем близко от лица ребенка. Мальчик издал радостный звук и попытался имитировать некоторые звуки материнского голоса. Он словно хотел ей что-то сказать, и его руки протянулись к ней, будто стараясь обхватить ее, но не дотрагиваясь до ее фигуры. Мать сказала: «Ах, как тебе нравится говорить со мной!» Затем она взяла малыша на руки, чтобы начать кормление. Его глаза при этом сияли так, что казалось, вот-вот и они выскочат из орбит от переполнявших его чувств.
3. Мать склонилась над малышом, и он стал приветствовать ее на своем языке. Она же удовлетворенно улыбалась ему, но затем встала и подошла к дивану, чтобы выпить там чашку чая. Лицо малыша тут же приняло равнодушное выражение, словно «погасло», и он принялся исследовать поверхность стола, на котором лежал.
Эти описания демонстрируют яркость, присущую, казалось бы, обы-; денным проявлениям жизни и любви во взаимоотношениях матери и pe-j бенка. Оба участника диалога получают бесконечное удовольствие и ощущают свет, который несет каждому из них жизнь другого. Меня поразило то, что ребенок интернализирует присутствие матери — продолжает смотреть туда, где ее уже нет, и погружается затем в блаженный сон или пытается обнять ее воображаемый образ. Когда же мать отходит от него, его лицо перестает излучать свет. Однако при этом он словно все еще ощущает ее присутствие внутри себя, заинтересованно исследуя пространство вокруг. Ребенок только что потерял ее из вида, но это не удручает его, и он способен воспроизвести положительный опыт, в отличие от множества детей, с которыми мы имеем дело в психотерапии.
Меня очень впечатляет описание психотерапевтической работы с неблагополучным ребенком в возрасте двадцати месяцев, сделанное С. Рейд. С. Рейд приводит примеры переживаний ребенком прекрасного, в его взаимоотношениях с психотерапевтом. Эти переживания являются предпосылкой для развития у ребенка эстетических чувств (Reid S.,
1990). Описываются, например, эстетические переживания ребенка, возникающие при наблюдении за игрушечной бабочкой, порхающей внутри мяча. На следующей неделе после этого ребенок заговорил. Автор подчеркивает важность эстетических переживаний и необходимость полной концентрации внимания ребенка на объекте. Предпосылкой для этого являются те физические и психологические условия, которые создает психотерапевт психологически отягощенным детям. Я описала слияние Кэти с эстетическим объектом (работой Гольбейна). Другой мой юный пациент по имени Райн пережил при созерцании этой работы состояние благоговейного восторга. С. Рейд упоминает П. Фуллера и его понятие эстетического чувства, которое ведет к утрате привычного ощущения своего «Я» при сохранении, однако, ощущения Самости (Fuller Р., 1980). И Кэти, и Райн определили одним словом то, что они пережили. Кэти сказала: «Прекрасно...», а Райн — «Великолепно!» При этом их лица словно осветил внутренний свет, и вскоре они были способны продвигаться вперед в психотерапевтическом процессе. У меня же было впечатление, будто я присутствую при каком-то очень важном событии. Думаю, это может быть своеобразным подтверждением того, что в психотерапевтических отношениях очень важно наличие неких исходных условий в виде надежной и достаточно защищенной психотерапевтической среды, как во внутрипсихическом, так и физическом смысле.
С. Рейд отмечает, что устойчивый положительный опыт общения с матерью на первом году жизни вселяет в нас энтузиазм и любовь к жизни и что ребенок должен сделать этот опыт своим внутренним достоянием. Кэти переживала очень сложный момент в своем развитии, когда ей из-за рождения сестры стали уделять меньше внимания, но она, имея положительный опыт общения с матерью в раннем детстве, смогла актуализировать его в процессе переноса на картину Гольбейна. Я была полностью сконцентрирована на Кэти во время этой сессии. Тишина лишь подчеркивала концентрацию. И я думаю, что Кэти, как всякий ребенок с дисгармонией развития, очень нуждалась в такой концентрации с моей стороны, дающей ей впечатление моего терпеливого присутствия.
В своей предыдущей статье «Образы сердца» я писала об особой яркости в глазах матери и о необходимости для ребенка ощущать в процессе психотерапии, что психотерапевт думает о нем. В этом уже заложен эстетический элемент, связанный со способностью видеть прекрасное (Case С, 1990). Может быть, на картине Гольбейна как раз и отражено то смешанное состояние серьезности и нежности, которое характерно Для матери, смотрящей на своего ребенка?
КЛИНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Следующая сессия, которую мне хотелось бы описать, касается моей работы с двенадцатилетним пациентом по имени Райн. Как и Кэти, он пережил в раннем детстве ряд неприятных семейных ситуаций, хотя и был обеспечен устойчивым материнским вниманием. Он, в частности. стал свидетелем физического насилия, пережил утрату привязанностей, имел в раннем детстве нескольких лиц, заменяющих ему мать, и в конце концов вновь стал жить с матерью и ее сожителем, а также сводными братьями и сестрами. Мать недолюбливала Райна, так как он напоминал ей о его отце. В то же время она использовала его как эмоциональную за-мену отсутствующему у нее в тот или иной момент жизни партнеру. Райн выглядел несколько старше своего возраста. Он обычно сидел за столом психотерапевтического кабинета широко расставив ноги, — с ощущением своего мужского достоинства и стремлением скрыть тре вогу, словно он пришел на интервью к работодателю.
Отец после нескольких лет отсутствия незадолго до этого возобновил общение с Райном. На протяжении шести сессий я слушала рассказы, мальчика о его прошлом и настоящем, о том, как им пренебрегали, изде-вались над ним, как ему не хватало родительского внимания, как он за-менял родителей своим сводным братьям и сестрам, как родители обма-нывали его и как часто он терпел физические и финансовые лишения. Он пытался сопоставить разных мужчин — сожителей своей матери, — заменявших ему время от времени отца. Одного из них, внезапно бросив-шего его мать, Райн вспоминал с особой теплотой и назвал лучшим из отцов, которых он имел. Он рассказал о том, сколь болезненны были для него приходы в их дом детей этого человека — Райну не разрешали с ними встречаться. Он рассказывал обо всем этом, а я слушала, изредка комментируя его слова и задавая вопросы. Во время и после сессий Я чувствовала себя подавленной и раздраженной, пребывая в недоумении ПО поводу достижения какого-либо психотерапевтического результата с таким ограниченным по своим психологическим возможностям пациен- том. Райн не делал никаких попыток к рисованию, хотя материалы для изображения находились рядом с ним. После каждой сессии он жаловался на головную боль, а также на то, что я говорила слишком много, и что он вряд ли придет ко мне опять. Однако он приходил вновь и вновь, хотя часто болел и нередко отсутствовал на занятиях в школе.
На одну из сессий Райн пришел с небольшим опозданием, настойчиво постучал и вошел. На нем была порванная куртка, застегнутая на молнию до самого подбородка. Его одежда была помята и плохо сидела на нем. Мальчик выглядел так, словно не выспался. Примерно в середине занятия он начал говорить о том, как много трудностей в его жизни, а затем — о своем отце. Он выразил беспокойство по поводу своей матери, которая хочет поменять место жительства. Райн не знал, насколько далеко от отца он окажется в результате переезда. Он начал было говорить, но внезапно остановился: забыл, что хотел сказать. Я думаю, это произошло в тот момент, когда он ощутил чувство гнева. Он испытывал явное замешательство в сложившейся атмосфере этой сессии и спросил, не мешает ли мне шум. Я ответила, что нет, и тоже испытала замешательство. Райн наклонился и внезапно встал. Его куртка была расстегнута, и стала видна большая музыкальная брошь в виде медведя, несущего рождественские подарки. В груди медведя горела красная лампочка, и раздался один из рождественских гимнов — «Красноносый Рудольф» — после чего зазвучала мелодия «Санта-Клаус приходит в город». Райн повторно нажимал на кнопку, и гимн звучал вновь и вновь, так что все это вместо эффекта неожиданности создавало довольно нелепое впечатление. Иллюзия игривого отцовского образа Дедушки Мороза в виде сахарно-белой фигуры медведя явно контрастировала со всем предыдущим материалом сессии.
Затем Райн принялся рассказывать о своих потасовках с братом, к которому он сильно ревновал мать. Музыка зазвучала вновь. Потом я узнала, что мой пациент вместе с социальным работником составляет карту своей жизни, отражающую тот ее отрезок, когда он испытывал ненависть к отцу. Затем мальчик сказал, что любит что-нибудь мастерить, и стал осматривать кабинет. Его взгляд в замешательстве остановился на картине Гольбейна. Тогда он посмотрел на краски и иные изобразительные материалы: «Я раньше любил лепить из глины». Я дала понять: он может пользоваться любыми материалами. Райн вновь посмотрел на картину Гольбейна и произнес: «Ох ты!.. Великолепно!» (Потом всякий раз, глядя на картину, он повторял это слово.) Он посмотрел на меня, и в этот момент я ощутила некоторое тепло, возникшее между нами. Райн встал, снял куртку и снова нажал на кнопку броши. Потом взял глину, заявив, что не знает, что из нее делать. Под гимн «Санта-Клаус приходит в город» он расплющил глину в круг. Райн объявил, что хочет изобразить своего отца. Он написал слово «отец» на глиняном круге, а потом замазал надпись. Вновь написал «отец», используя стек, и затем снова замазал написанное. Потом он стеком в третий раз написал «отец» и провел поперечную линию, сказав, что ему нравится глина, поскольку с ней можно делать все, что захочется: можно ее мять или создавать гладкую поверхность. При этом он начал энергично бить глину ребром ладони, как в карате. Ударяя, Райн словно прилагал большие усили к тому, чтобы разделить, с одной стороны, «ненавистного отца» своег прошлого, который чуть не убил мать, и, с другой стороны, новый обр отца, который должен был стать для него «настоящим отцом». Мать н могла помочь Райну в этом и прояснить ему его же сложные чувства она ненавидела своего бывшего мужа и с большим трудом могла выно сить встречи мальчика с отцом.
Затем Райн с большим усилием прекратил бить по глине и разглаживать ее. Ему захотелось сделать яблочный пирог. Я указала на его сме-;^ шанные чувства ненависти и любви, его агрессивные импульсы и вмест с тем его намерение сделать нечто съедобное и вкусное. Во всем этом проявлялась его неприязнь к отцу в прошлом и чувство любви, связанное с отношениями с отцом в настоящем. Он признался, что хотел бы сделать нечто съедобное для отца. Я вновь обратила внимание Райна на его смешанные чувства любви и ненависти.
Райн взял небольшой кусок глины и раскатал его в пирамиду, затем написал на ней «папа» и показал мне. После этого он, сложив руки определенным образом и сказав, что в карате таким образом заряжают организм энергией, ударил изо всех сил по глиняному кругу. Мне показалось, все кончено, но Райн сделал углубление в центре круга и вставил в него пирамиду. Он добавил кусочки глины, изображая из пирамиды игрушечный дом, и провел линии, имитирующие сад. Затем еще раз написал на круге «папа» и изобразил вокруг дома лаву, вытекающую из пирамиды, словно из жерла вулкана. Закончив, мальчик попросил у меня разрешения взять с собой его произведение, названное «папа—дом— вулкан», чтобы подарить его отцу. В этот момент игрушечный медведь, имитирующий веселого рождественского папашу, как бы отошел на второй план, уступая место напряженному противостоянию полярных чувств Райна: одно из них — чувство неприязни к отцу в прошлом, другое — страстное желание иметь отца и дом в настоящем. Райну удалось создать образ, объединяющий и надежды, и страхи, и чувство гнева, связанное с амбивалентным отношением к отцу.
ОБСУЖДЕНИЕ
Какую же роль играли эстетические переживания, относящиеся к картине Гольбейна, в разрешении конфликта между прошлым и настоящим моих пациентов? Мне представляется важным эффект неожиданности, связанный с рождественским медведем. Был ли он своеобразной попыткой Райна внести эстетический элемент в мое восприятие? Мальчик, по-видимому, хотел озадачить и удивить меня. Музыкальная, светящаяся красным светом кнопка, расположенная на фигуре медведя, может символизировать любовь и сексуальные переживания Райна, обращенные ко мне в результате переноса. Эта кнопка напомнила мне светящееся сердце, сосок, а также пенис. Как и Кэти, Райн нуждался в моем полном внимании к его переживаниям, связанным с унижением, жестокостью, пренебрежением и недостатком внимания, о которых он рассказывал мне. Игрушка же привнесла атмосферу игры и тепла, но при этом вряд ли имела какое-либо отношение к реальному опыту Райна и образу «хорошего отца». Этот образ проявился позже, во время работы с глиной, когда Райн обратился к своим надеждам и устремлениям, усилившимся во время Рождества. Райн хотел сделать мне сюрприз, сам страстно желая приятно удивиться любви отца. Этот момент нес в себе сложную смесь направленных на меня чувств. Чуть позже Райн пережил эстетические чувства, замешательство и восторг, связанные с работой Гольбейна. Фактически в первый раз во время сессии Райн воочию переживал внутренний конфликт любви и ненависти. При этом он смог создать образ из глины, и мне кажется, что его творческий акт совпал с моментом психической трансформации. Как и для Кэти, для Райна было, по-видимому, слишком рискованно перенести совершенные свойства на меня, поэтому первоначально перенос их произошел на картину, и лишь потом чувства, связанные с переносом и личностью психотерапевта, стали предметом обсуждения. В работе с этими детьми можно было наблюдать переход от молчаливого, пассивного состояния, перемежающегося жалобными монологами, к более активному взаимодействию со мной, побуждающему их работать самостоятельно. Для обоих пациентов картина Гольбейна связана с инфантильными представлениями о матери. Перенос на психотерапевта сменялся переносом на картину, что во вторую половину сессии освобождало меня для живого присутствия в атмосфере здесь-и-сейчас, а моих пациентов — для творчества. При переносе их жалобные монологи о прошлом и настоящем были одновременно мольбами ко мне оградить их от травм прошлого и настоящего, быть Для них благом. Актуализируя положительные стороны своего опыта, Дети использовали меня и условия арт-терапевтической сессии для исследования своих чувств.
И Кэти, и Райн пережили моменты «слияния» с картиной, после которых были способны работать с материалом и перейти к иным отношениям со мной. Райн, например, перестал жаловаться на то, что моя разговорчивость вызывает у него головную боль, но у него сохранялись жалобы соматического характера, которые я рассматриваю как соматизацию еще не проработанных и не осознанных им переживаний.
Кэти и Райна объединяло и то, что в определенный момент сессии между пациентом и психотерапевтом возникало тепло. В случае с Рай-ном оно стало ощущаться сразу после того, как мальчик посмотрел на работу Гольбейна, а в случае с Кэти, когда она показала нарисованные ею яйца. Райн имел очень значимый для него опыт общения с отцом. Работу Райна можно рассматривать как попытку создать «дом для отца»! внутри себя самого, а также как выражение желания иметь место в доме отца. Райн мог обнародовать свои желания такого рода во время арт-терапевтической сессии, но не дома — его мать не выносила даже упоминания об отце.
Почему же работа Гольбейна столь схоже воспринимается такими разными детьми? Она является единственным предметным изображением на стенах моего кабинета. Часто рассматривая ее, я задаюсь вопросом, не совмещает ли она в себе качества ребенка и взрослого? Обычно считают, что изображенная на портрете женщина воплощает благородство и целомудрие. Она, как известно, была избранницей короля Генриха, которая должна была родить ему наследника, в чем поклялась во время церемонии венчания. Не просматривается ли в облике Джейн Сеймур еще и детскость, запечатленная в тот момент, когда ребенок вдруг осознает свою ответственность. Именно эта ответственность ребенка на картине может бессознательно затрагивать моих юных пациентов, позволяя им сделать шаг в направлении психического роста.
Описанные в статье краткие наблюдения за ребенком показывают, как регулярный положительный опыт контакта с матерью дает ему ощущение того, что он является для нее высшей ценностью. Не случайно для; возникновения переживания прекрасного в момент восприятия портрета Гольбейна маленьким пациентам очень важно было ощущать мое полное внимание.
Существенным представляется и элемент идеализации, присутствующий при переносе. Идеализация рассматривается М. Клейн как форма: защиты от страха и депрессии и одновременно как необходимая предпо-! сылка для развития Эго (1952). Думаю, это может означать то, что эле-; менты опыта ребенка, связанные с положительными моментами в егоі отношениях с матерью, идеализируясь, защищают его личность. Другая же — отрицательная — часть этого опыта отчуждается в виде «плохого;
объекта». Когда гнев и ненависть отчуждены, они воспринимаются как внешние и не угрожающие личности явления. Интернализация идеального объекта придает личности уверенность и ощущение внутренней силы, позволяющей ей защитить себя от темных аспектов фантазийной жизни. В этом смысле идеализация является средством защиты и одновременно необходимой предпосылкой для психического развития.
«В "параноидно-шизоидном" состоянии переживание любви и ненависти по отношению'к одному и тому же предмету порождает невыносимую тревогу и является выражением важнейшей психологической дилеммы, которую необходимо разрешить. Она решается, главным образом, путем разделения любимых и ненавистных свойств себя самого, с одной стороны, и любимых и ненавистных свойств объекта, с другой. Лишь так индивид может полюбить предмет, пребывая в состоянии безопасности, и дать волю своей ненависти, не рискуя разрушить любимый объект» (Ogden Т., 1989).
Как поясняет Т. Огден, когда расщепление свойств объекта является основным способом защиты, человек формирует для себя психологически безопасное состояние. Он разделяет, с одной стороны, то, чему угрожают, и, с другой стороны, то, что угрожает. Таким образом, для Райна идеализация являлась средством защиты его любви, переживаемой при созерцании работы Гольбейна. Ненависть же к отцу была выражена им в его работе с глиной. Затем Райн исследовал свое чувство ненависти и попытался его обуздать, — то сминая глину, то вонзая в нее стек, то разглаживая ее. В каком-то смысле мальчик тем самым пытался нейтрализовать чувство боли и угрозы, вызванное ненавистью. Райн успешно соединил свои амбивалентные переживания в глиняной композиции после того, как его любовь смогла утвердиться при созерцании работы Гольбейна.
В одной из глав своей замечательной статьи А. Альварез очень трогательно пишет о том, что «первое появление идеальных объектов в фантазиях хронически депримированных детей может отражать не только сопротивление депривационным переживаниям и их вытеснение, но и совершающийся психический рост» (Alvarez А., 1992). Она также приводит цитату из работы Г. Розенфельд о том, что «психологически уязвимые пациенты могут испытывать потребность в идеализации психотерапевта для того, чтобы создать для себя благоприятную атмосферу» (Ro-senfeldH., 1987).
В моей работе с обоими детьми определенные стороны переживаний были ими идеализированы, проецируясь на работу Гольбейна. Можно определенно говорить и о том, что некоторые высказывания Райна, ка| сающиеся личности психотерапевта, его бесконечные жалобы на то, что мои разговоры вызывают у него головную боль, отражают отчуждение* негативных свойств и одновременно актуализацию следов положительно-.' го опыта. Это знаменовало исходную позицию для последующего осмысления им своих амбивалентных чувств любви и ненависти к отцу при соз*; даний глиняной композиции.
У Кэти же ее переживания, вызванные эмоциональной холодностью матери, часто ощущаемые ею как состояние внутренней пустоты и стаг-і нации, подверглись отчуждению в момент идеализации, что позволило" девочке начать работу над рисунком. Позднее, в процессе психотерапии переживания, связанные с идеализацией, должны были быть интегрированы с отчужденным гневом и ненавистью. Так или иначе, эти переживания способствовали созданию исходной благоприятной атмосферы, в которой могла начаться сложная работа по психической интеграции. Оба ребенка в определенный момент нуждались в актуализации опыта' идеальных отношений, которых им явно не хватало в реальной жизни. Возможно, идеализация также способствовала появлению у них положительных ожиданий. Приведенное клиническое описание, в котором ярко представлены амбивалентные чувства Райна, иллюстрируют феномен латентной боли, связанный с переживанием прекрасного. Оно быстротечно и нередко покидает нас сразу после того, как мы испытали состояние экстатического растворения в созерцаемом объекте.
Приведенные описания, касающиеся отношений матери и ребенка, показывают, насколько ярки и в то же время преходящи положительные чувства младенца. Они напоминают эстетические переживания, вспыхивающие, как фейерверк, и быстро исчезающие, оставляющие нас под сводами ночного неба. Воспоминания и чувства, связанные с образом матери, могут быть очень живыми, но при этом мы отчуждаем от себя иной образ матери, который не удовлетворяет нас и маячит, словно призрак, пытающийся занять место эстетически привлекательной матери.
Я хотела бы в связи с этим обратиться к работам Д. Мельтзер и М. Вильяме, которые пишут о восхищении красотой и роли эстетического конфликта в психическом развитии (Meltzer D., Williams М., 1988). Д. Мельтзер объединяет свои мысли о природе эстетического конфликта с идеями В. Биона об «отсутствующем объекте»: «Переживание прекрасного по своей природе заключает в себе возможность разрушения». «В терминах Биона объект эстетического созерцания содержит в себе тень отсутствующего разрушителя. Весенняя береза с распускающейся листвой заключает в себе скелет зимнего дерева. То, что в хрупком Эго ребенка было разрушено, должно быть в нем воссоздано на последующих этапах психического развития, с тем чтобы красота предмета могла быть воспринята непосредственно, не причиняя ущерба душе, чего так опасался Сократ» (Bion W., 1988).
Наиболее ранние эстетические переживания формируются на пре-вербальном уровне и не поддаются словесному описанию. Д. Мельтзер пишет о том, что эстетический объект доступен и в то же время загадочен и непознаваем. «Это конфликт, который может быть описан как следствие эстетического влияния привлекательного образа матери, внешне доступного для чувственного восприятия, но в то же время загадочного изнутри и нуждающегося в созидательной работе воображения» (MeltzerD., 1988).
Замешательство Райна при созерцании работы Гольбейна могло быть связано с растворением старых и формированием новых границ его «Я». Мы испытываем нечто подобное в моменты сильных эстетических переживаний, когда сливаемся с объектом, а затем отделяемся от него и ощущаем, что эстетический объект удивительно точно встраивается в наше сознание. В моей работе с детьми очень важным представляется то, что они смогли подобрать слово, точно отражающее характер их эстетических переживаний. С. Боллас полагает, что слово связано со вторым уровнем эстетических переживаний и становится новым трансформационным объектом. Он пишет: «В то время как мать, преображая бытие своего ребенка, формирует первый уровень эстетических переживаний, слово формирует и трансформирует "Я" и является иным инструментом в развитии эстетических переживаний индивида» (Bollas С, 1987).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На материале приведенных клинических описаний я попыталась показать, как переживание детьми слияния с объектом эстетического созерцания делает их способными к взаимодействию с психотерапевтом и созданию символических форм для выражения собственных мыслей и чувств. В статье я лишь кратко коснулась таких сложных понятий, как эстетический опыт и конфликт, идеализация и перенос, перенос на объект в пространстве кабинета, переживание прекрасного, эстетическое и психологическое, а также идеализация, связанная с расщеплением свойств объекта в процессе психического развития. Заинтересованным читателям я рекомендую ознакомиться с используемыми мной литературными источниками.
ЛИТЕРАТУРА
Alvarez A. Live Company: Psychoanalytic Psychotherapy with Autistic, Borderline, Deprived and Abused Children. Routledge, 1992.
Bollas C. The Shadow of the Object. Psychoanalysis of the Unthought Known. London: Free Association Books, 1987.
Case C. Heart Forms: The Image as Mediator / / Inscape. Winter 1990.
Case C. Silence in Progress: On Being Dumb, Empty or Silent in Therapy/ Щ Inscape. Vol. 1. 1995.
Case C, Dalley T. The Handbook of Art Therapy. London & New York: Tavistock / Routledge, 1992.
Closely Observed Infants. L. Miller, M. & M. Rustin, J. Shuttleworth (eds.). Duckworth, 1989.
Fuller P. Art and Psychoanalysis. Writers and Readers. 1980.
Klein M. Some Theoretical Conclusions Regarding the Emotional Life of the Infant. Envy and Gratitude, and Other Works. 1946-1963. London: Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis, 1952.
Maclagan D. Between the Aesthetic and the Psychological / / Inscape. Vol. 2! 1994.
Meltzer D., Williams M. H. The Apprehension of Beauty: The Clunie Press, 1988.
Ogden T. The Primitive Edge of Experience. Karnac: Maresfield Library, 1992. Reid S. The Importance of Beauty in the Psychoanalytic Experience / / Journal of Child Psychotherapy. Vol. 16. № 1. 1990.
Rosenfeld H. Impasse and Interpretation. London: Tavistock, 1987. Schaverien J. The Revealing Image. London: Routledge, 1992.
ОБОРОТЕНЬ И РИНГ. ИЗУЧЕНИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТАФОР
Тереза Боронена
Печатается по изданию: Boronska Т. The Werewolf and the Wrestling Ring: Exploring Unconscious Process through the Use of Metaphor / / Inscape. Vol. 1. 1995, P. 19-25.
Сведения об авторе. Тереза Боронска — арт-терапевт, работает в Wandswarth Education Authority, преподает в колледже Goldsmith, занимается супервизией в рамках проекта «The Peace То Be*.
В настоящей статье рассматривается развитие подростка по имени Билл. Арт-терапевтический курс начался, когда мальчику было 12 лет, продолжался три года и включал 81 занятие.
Занятия проводились при специальной школе-интернате для мальчиков.
Я намерена представить описание своей работы с подростком, останавливаясь на темах занятий и демонстрируя способности Билла в использовании метафор в изобразительной деятельности — при создании рисунков, в которых прослеживалось символическое изображение его бессознательных страхов и фантазий, — ив речевом общении — во время обсуждения фильмов, а также при анализе психотерапевтических отношений. Отличительной чертой данного случая являлось обилие сексуальных переживаний, что было связано не только с подростковым возрастом, но и с неразрешенным эдиповым комплексом, проявлявшимся в отношениях подростка с персоналом и сверстниками.
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
Школа-интернат — специальное учреждение для мальчиков 9-16 лет. В ней содержится около пятидесяти детей, имеющих эмоциональные и поведенческие нарушения. Прежде чем попасть сюда, мальчики проходят длительное психологическое обследование. Некоторые из них имеют показания к психотерапевтической работе. В школе двенадцать учителей и столько же социальных работников. Арт-терапевтическое отделение располагается в старой, отдельно стоящей постройке.
Направление на арт-терапию
Билл проявил активное желание заниматься со мной, хотя был направлен на арт-терапию учителем, обеспокоенным его плохой учебой на фоне достаточно высокого интеллектуального развития (подтвержденного результатами тестирования по Векслеру). Кроме того, Билл плохо ладил со сверстникам, которые нередко над ним издевались. Он выражал потребность во внимании и стремился к общению с работающими в школе женщинами, по-видимому испытав в раннем детстве дефицит мате-, ринского тепла.
ПОРТРЕТ БИЛЛА
Билл поступил в школу в девятилетнем возрасте. С первых лет жизни он рос в неблагоприятном семейном окружении. У него был старший брат и младшая сестра, а также почти стершаяся с годами из памяти старшая сводная сестра. Хотя мать была привязана к детям, она не была способна ухаживать за ними из-за психического заболевания. Билл понимал это. Предполагалось, что при возможности находиться дома по выходным и праздничным дням условия школы-интерната будут более благоприятными для его развития.
Когда ему исполнилось 6 лет, семья распалась, а брат и сестра были взяты на попечение государственными учреждениями, поскольку вскрылись факты сексуального насилия со стороны отца по отношению к дочери. Билл обладал симпатичным лицом с выразительными глазами, был высокого роста и крепкого телосложения. Его голос отличался мягкостью. Мальчик имел привычку близко становиться к работающим в школе женщинам; те, как правило, испытывали при этом смущение, явно чувствуя сексуальный характер такой близости. Мальчик плохо соблюдал правила гигиены и нередко забывал мыться. Билл был одинок в школе и не имел близких друзей, предпочитая общаться со взрослыми. В первые месяцы моей работы в школе Билл вступил со мной в разговор во время обеда, рассказав о том, как он скучает по сестре, которую давно не видел. Через неделю он показал письмо от нее и фотографию, заявив, что его сестра очень красива и что если он не увидит ее в ближайшее время, до того, как ей исполнится 16 лет, то упустит очень важный мо-! мент.
ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БИЛЛА
Важной темой в работе с Биллом было его психосексуальное развитие. Для мальчика пробуждение сексуальности имело особый характер и сопровождалось фантазиями, испытанными в шестилетнем возрасте, когда родители только развелись. К. Фридлендер дает следующий комментарий: «Хотя ребенок по-прежнему живет в своих фантазиях, по меньшей мере до шести лет, очень важно, чтобы эти фантазии координировались со знанием реальности». «Первые сексуальные впечатления ребенок получает дома, поскольку его интерес к субъекту пробуждается уже в три года, а не тогда, когда ребенок идет в школу» (Freidlander К., 1967, р. 277). Она указывает на то, что ребенок чутко реагирует на события, происходящие вокруг него с самого раннего возраста, поэтому важно, чтобы он не становился свидетелем ссор и сексуальных сцен. В первые годы жизни Билл наблюдал такие сцены в чрезмерном количестве. Он приступил к арт-терапевтическим занятиям с начала подросткового возраста, и материал занятий отражал причудливую смесь сексуальных фантазий и реальности.
ОБОРОТЕНЬ И ВОИН-ПОБЕДИТЕЛЬ
В начале арт-терапевтической работы Билл признался в том, что сверстники издеваются над ним, и он из-за этого несчастен. В качестве примера мальчик привел такой случай: ему дали стакан лимонада и после того, как он его выпил, сказали, что это была смесь лимонада с мочой. Хотя Билл был выше большинства других сверстников, он не чувствовал, что может себя защитить. Он пересказал мне сюжет фильма «Оборотень в Лондоне», признался в страхе, который вызвало в нем чудовище-оборотень, и спросил, действительно ли такие оборотни существуют. Фантазии, связанные с оборотнем, становились для Билла реальностью, и ему казалось, что оборотень может его убить. Фильм обнаружил внутреннее психическое смятение мальчика. На одной из сессий Билл поделился со мной впечатлениями и от других картин. Одна из них называлась «Назад в будущее». Рассказывая о фильме, Билл поведал мне о своей потребности вернуться в прошлое — для того, чтобы понять смысл настоящего. Другой фильм назывался «Чакки» и в пересказе отражал агрессивные переживания Билла (рис. 2.2 и 2.3). В «Книге оборотней» С. Бэринггоулд описывает вервольфа как человеческое существо, кото-Рое преображается в волка, чтобы удовлетворить свою ненасытную
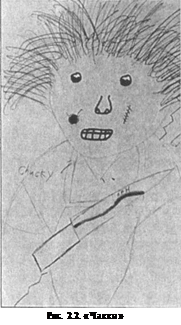 потребность во вкусе человеческой плоти. Преображение осуществляется магическим образом, как своеобразное наказание, вызванное гневом богов.
потребность во вкусе человеческой плоти. Преображение осуществляется магическим образом, как своеобразное наказание, вызванное гневом богов.
Билл, начав рассказывать о своих чувствах, попытался создать серию рисунков с изображением ринга. На первом рисунке в правом верхнем углу он изобразил себя в качестве наблюдателя за поединком, происходящим ниже. Крупная фигура в центре ринга наносила удар в лицо своему сопернику. Затем Билл нарисовал, как другие персонажи избивали этого человека до тех пор, пока сам Билл не почувствовал себя вне всякой опасности для того, чтобы выйти из угла и добить второго участника схватки. Безопасная атака на ринге дала Биллу возможность символически выразить свой гнев, который он испытывал, когда весь класс над ним издевался. Ринг был часто повторяющейся темой в рисунках Билла, отражая его потребность в безопасном месте, где он был бы способен совершать возмездие за причиненные ему обиды и защищать себя (рис. 2.4 а, б, в, г). На последующих занятиях Билл изобразил себя в облике
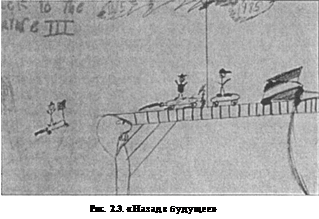 |
воина-победителя, стоящего на ринге с поднятыми руками над поверженным соперником. Он добавил фигуру судьи, а также зрителей и двух помощников, находящихся рядом с ведром и губками. Затем Билл нарисовал себя покидающим по красному ковру ринг. Метафоры, бессознательно выразившие гнев мальчика, мы попытались исследовать для разделения фантазии и реальности, также мы использовали рисунки, изображавшие Билла в образе тех, кем он хотел бы быть. Билл употреблял символ ринга вновь и вновь в качестве способа признания своей агрессивности, постепенно осознававшейся им через рисунки и общение со мной.
СЕМЬЯ Утрата
Билл объяснил мне, что его семья больше не существует и что он сейчас единственный ее полноправный представитель: мать психически больна, а отец очень стар (при изображении своего дома он разместил отца в верхнем окне — пьющим пиво и в изоляции от других). Билл выразил свое ощущение утраты и отсутствия контакта с братом и сестрой, а также грусть из-за «ненормальности» своей семьи: все в ней с тех пор, как ему исполнилось 6 лет, шло не так. Он обвинял отца в развале семьи. Я сказала, что в 6 лет ему, наверное, трудно было понять, что происходило в семье, и что его восприятие реальности смешивалось с фантазиями. Билл расплакался от острого переживания утраты.
Отсутствующий отец
Билл был способен выразить гнев лишь в отношении более слабых мальчиков из его класса. Он хотел «раскроить им голову». Я обратила внимание на то, что отсутствию отца Билл придает большое значение: изображает его в верхнем окне дома. Его отец был преклонного возраста, мало находился в семье и никогда не являлся защитой для сына. Самоидентификация Билла со слабыми мальчиками формировала в нем чувство неспособности защищаться. Он объяснял мне, что ощущает в себе ангела и дьявола одновременно и боится, как бы гнев не выплеснулся наружу. Персонал школы поощрял в Билле самостоятельность и способность постоять за себя. В течение нескольких месяцев Билл пытался Решить, стоит ли отвечать на нападки силой. Ринг был частой темой
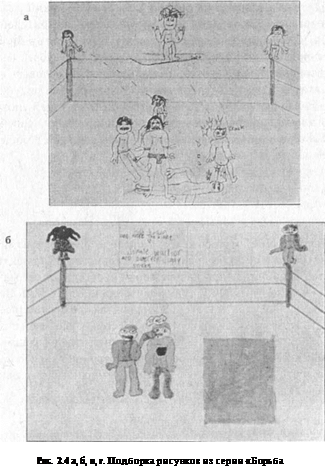 |
в его рисунках, и он рисовал себя бойцом, убивающим одноклассников,! От персонала школы я узнала о том, что Билл стал пытаться защититься физически-, и издевательства над ним стали реже. У него даже появились друзья в классе. Он быстро рос и становился одним из самых высоких^ мальчиков во всей школе. Он чувствовал: рост дает определенное физи| ческое превосходство. Билл говорил мне, что одноклассники его немно| го боятся и провоцируют, лишь объединившись в группу, но только не| один на один. Воображение мальчика красноречиво говорило о его по!
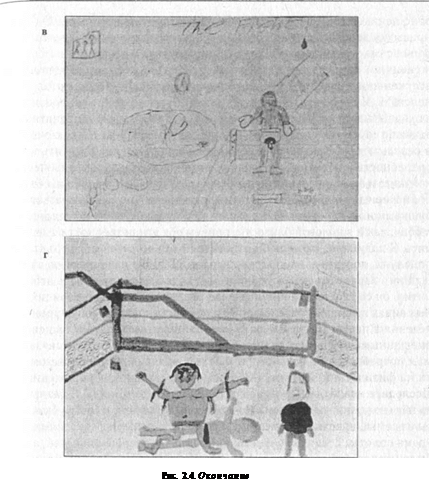
требности направить гнев на обидчиков. Используя тему ринга, он пытался выяснить для себя, что в выражении гнева является допустимым, а что нет.
Сексуальность
За время нашей работы в общении с ним произошли постепенные изменения, и Билл начал фокусировать свое внимание на отношениях со мной. Я уловила, насколько его восприятие искажено переносом: к его
отношению ко мне примешивалось его отношение к матери. Он имел привычку делиться со мной своими сексуальными переживаниями и говорил с сексуальным оттенком о своих чувствах к работающим в школе женщинам. Одна из них была тезкой его сводной сестры. Он заявил, что! эта женщина кажется ему очень привлекательной и что он хотел бы ее I целовать. Я спросила, какие чувства он питает ко мне, и он признался, і что испытывает потребность в физическом контакте в конце занятия. Он .1 заявил о своем желании обнять и поцеловать меня. Я же, в свою очередь, | в результате контрпереноса ощутила сильное желание ответить на его | потребность в объятиях, которая объяснялась дефицитом физического 1 контакта и эмоциональной поддержки в детстве. Он продолжил: объятия J его матери для него были неприятны, и он предпочел бы обниматься с де-Я вушками и женщинами. Билл выражал потребность как в материнской 1 любви, так и в половой близости, причем обе эти потребности смешива-1 лись. Я подумала, что если бы ответила на его потребность в объятиях и 1 поцелуях, доверие в наших отношениях было бы подорвано из-за смеЯ шанного характера его потребностей. Уходя из комнаты после этого за-Я нятия, он со злостью хлопнул дверью. В дальнейшем мы говорили о раз-Я ных видах любовных переживаний и обсудили границы допустимого поЯ ведения в наших отношениях. Биллу пришлось задуматься над своими! смешанными чувствами ко мне: положительными чувствами, связанньь-Я ми с потребностью в близости, и злостью, вызванной моим отказом пой-Я ти на физический контакт, — он усмотрел в этом пренебрежение им Я Последнее могло быть связано с домашним опытом Билла. Я размышляЯ ла над его прошлым, над тем, что в детстве, когда брат и сестра были взяЯ ты из семьи, чувства его смешивались с сексуальными фантазиями. В тої время его отец позволял себе слишком много в отношении детей, а мать! была неспособна к достаточному физическому и эмоциональному конЯ такту с ними. Тот факт, что Билл психологически выжил в этих условиЯ ях, говорит о его сильной внутренней защищенности. При этом, однакоЯ пострадало его психосексуальное развитие.
Бессознательное отреагирование
Однажды ночью, после арт-терапевтического занятия, Билл обна-Я жился перед одной из женщин, работающих в школе. Он подробно расЯ сказал мне об этом на следующем занятии. Сначала он сказал, что якоД бы бродил во сне, однако в конце концов признался, что все сознавал. Он испытал чувство стыда и позднее извинился перед женщиной. СитуациЯИ
была разрешена работниками школы, и Билл чувствовал, что его принимают даже в худших проявлениях. Этот случай привел к высвобождению важного психологического материала на последующих занятиях. Рисунки Билла становились все более заряженными сексуальной энергией, что продолжалось на протяжении долгого времени. При работе над первым рисунком этой серии он использовал свои руки для смешивания красок и испытывал при этом чувственное удовлетворение. Казалось, изобразительная деятельность становится для него средством сублимации сексуальных переживаний. На многих занятиях при помощи бутылочек с белой и красной краской он создавал скульптурные изображения фигур с пенисами, столь же крупными, как и сами фигуры. Он выдавливал краску, имитируя семяизвержение. В тот же период наших занятий Билл лепил пищу из пластилина, обычно сопровождая свои действия разговорами о желании целовать работающих в школе женщин. Я предположила, что такое желание может быть вызвано недополучением от меня того, чего ему хотелось бы. Однажды он посмотрел на меня и сказал: «Вы, наверное, мало едите?» После этого он попросил дать ему еще пластилина.
Казалось, что в результате переноса он воспринимал меня как депри-мирующую мать-психотерапевта, отстраняющуюся от него. Затем ему удалось выразить свой страх матери — личности эмоционально слабой и неспособной о нем позаботиться. Он хотел знать, почему его направили на арт-терапию, и я объяснила, что его учителю показалось, будто Билл несчастен и недостаточно успешен в учебе. Возник хороший повод проанализировать арт-терапевтическую работу и мои сомнения в том, способна ли я контролировать появившиеся взрывоопасные чувства. До этого момента тревожно-депрессивное состояние Билла говорило об удержании им агрессии, воспринимаемой угрозой для «хорошего внутреннего объекта». Если бы ему удалось выразить свою агрессию по отношению ко мне, он смог бы пережить и хорошие, и плохие чувства в качестве важных интегрирующих элементов себя самого. Я сознавала, что он не был вполне способен к этому в отношении своей матери и использовал фильмы как способ обращения со своими агрессивными фантазиями, как средство для их экстериолизации, а это не позволяло ему принять свою агрессивность. Заимствованная из фильмов образность была для него способом компенсировать недостаток ярких чувств во время пребывания дома (там он лишь смотрел множество видеофильмов) — я чувствовала, как Билл страдает от недостаточного человеческого контакта. Мальчик был убежден, что должен оберегать мать от любых конфликтов
s~isos
и информации, которые рисовали бы его с плохой стороны, а в результате ему было трудно принимать эти стороны в себе.
В своей книге «Живая компания» А. Альварез пишет: «М. Клейн была уверена, что новорожденные нуждаются в любви и понимании, а не только в питании. Кроме того, В. Бион отмечал, что с самого начала жизни у ребенка есть потребность в знании, которая до известной степени не зависима от эмоциональных и телесных потребностей. Он пояснял, что психика нуждается в "питании" в виде знания другого человека в той же степени, как тело нуждается в пище, и если психика "голодна", последствия могут оказаться самыми негативными» (Alvarez А., 1992, р. 9).
А. Альварез также указывает на возможность «сильного, подавляющего влияния со стороны матери на развитие познавательных способностей ребенка» (Alvarez А., 1992, р. 72). Эти цитаты могут характеризовать один из аспектов депривации Билла и пролить свет на ощущаемую мной потребность мальчика в полноценном контакте со мной. Возвращаясь к семейной теме, Билл начал использовать меня в роли исповедника. Он признался, что начиная с десяти лет крал, что мать регулярно заставляла его воровать, — персоналу школы это было известно. Мы обсуждали с ним роль его матери, и Билл признался, что она его подавляла и «не была нормальной матерью», «она визжала и кричала». Он нарисовал свою спальню, дверь, которую нельзя было закрыть из-за мешавшей «горы» старых газет, оставлявших место лишь для кровати и шкафа. Он рассказал, как хотел отодвинуть их, но был напуган реакцией матери. Билл фантазировал о том, что такое «нормальная семья»: «Люди одеваются по утрам, приветствуют друг друга, вместе садятся завтракать, затем отправляются на работу и вновь встречаются за ужином». Затем он нарисовал идеальную для себя комнату — просторную, с достаточным местом для кровати и музыкального центра.
На 39-й сессии в середине нашей работы Билл рассказал мне об изменениях, произошедших в классе, — его уже почти не обижали. Он также признался в отсутствии воспоминаний первых четырех лет жизни и сказал, что его мать не выразила никаких чувств по поводу ухода из семьи его брата и сестры: «Словно ей все равно». Билл хотел установить контакт со своей сестрой, но не знал, как это сделать. Он нарисовал, отца, причем мельче, чем себя, и затем добавил ринг, на котором отца побеждал. Я указала на его воинственные чувства: они отражали сожа-ление мальчика об отце, неспособном быть отцом так, как этого хотелосш Биллу. Когда я в связи с предстоящими летними каникулами предлож» ла Биллу тему расставания, он принес магнитофонные записи, и мы слу шали их на протяжении всего занятия. Я пояснила, какое большое значение имеют расставания, и провела параллель между рассказом Билла о его семье того времени, когда ему было 6 лет, и чувствами, которые он может переживать сейчас. Я подумала, что прослушивание магнитофонных записей может быть его попыткой вытеснить меня из своего сознания, чтобы не переживать горьких чувств, связанных с расставанием.
ВОЗВРАЩЕНИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ
После перерыва в наших занятиях рисунки Билла вновь отражали его эротические фантазии. Сделав несколько глиняных шаров, а затем фаллические изображения всех форм и размеров, он попытался проверить, будут ли они приняты. Это продолжалось на протяжении нескольких сессий. Билл пытался манипулировать глиной в процессе изготовления этих фигур. Он также сделал женские гениталии и имитировал половой акт, используя глиняные формы. Меня поразил мастурбационный характер этой игры. Д. Манн в работе «Эротическая субъективность психотерапевта» (Mann D., 1985) в связи с «эротическим ужасом» цитирует Кумин, по которому этот термин обозначает мощную психическую защиту психотерапевта от эротического переноса со стороны клиента. Три раза, когда я по просьбе Билла держала глиняный пенис, меня охватывал ужас. Билл с особым интересом наблюдал за моей реакцией, но я сознавала, сколь невозмутимой должна казаться. Я сказала, что ему, наверное, очень хочется, чтобы я приняла его личность во всех ее проявлениях. Я указала ему на разницу между фантазией и реальностью и то, что достаточно безопасное для работы на арт-терапевтических занятиях, недопустимо демонстрировать в других местах. В упомянутой мной работе Д. Манн обращает внимание на мысль Сирл (Searl, 1959) о том, что здоровое развитие личности является следствием утверждения ее способности экспериментировать с внешней и внутренней реальностью. Билл же экспериментировал, пытаясь прощупать границу между собой и мной. Манн объясняет, что психотерапевт должен достаточно ясно обозначить границы между собой и пациентом, и они начинаются с определения того, что принадлежит психотерапевту, а что — клиенту.
ОБОРОТЕНЬ
Страх Билла перед оборотнями вновь проявился при его попытке понять, что оборотень может для него значить. Подобно «Джекилу и Хайлу», оборотень в рисунках Билла обычно был пассивен и неагрессивен,
5"
хотя иногда испытывал гнев. Билла пугала возможность того, что гнев вырвется наружу и это приведет к убийству. Он прослеживал здесь определенную связь с матерью, которая из здоровой женщины превратилась в психически больную, а также с мальчиками из своей школы, которых он знал как своих товарищей, но которые иногда, издеваясь над ним, превращались в монстров. Эта противоречивость их образов представляла сложность для Билла. Днем он чувствовал себя в безопасности, но его пугала ночь. Билл говорил о страхе возможного нападения, который он испытывал, возвращаясь ночью домой. Он закончил занятие, рассказав о творении мира: «Земля была едина с солнцем, но потом произошел страшный взрыв». На этой и последующих встречах Билл, казалось, выражал свое бессознательное желание продвинуться вперед по пути индивидуализации, стремился найти свой личный способ бытия и обрести автономность. Я ощущала в нем некую надежду на то, что вещи не будут вовсе ему бесконтрольны. Он даже испытывал иногда оптимизм по поводу окончания своего обучения в школе. Но однажды он добавил, что иногда чувствует себя так, словно его сносит течение, словно он — это колода карт, которые перемешали и рассыпали, как придется.
Сновидения
Билл рассказал о двух снах, в которых он был оборотнем. Он описал свое ощущение «пустоты внутри» и сильного голода во время сна. Другой сон разворачивался на болоте. «Стоял туман, но я различил три холма. Я был на среднем холме и упал в болото. Меня подобрала женщина, сидевшая в старой деревянной лодке. Она привезла меня в очень старую гавань. Вокруг не было ни людей, ни машин — только деревья. По дорожке мы приблизились к ветхому дому из грязно-желтого кирпича. Затем мы вошли в этот дом и спустились в подвал, где обнаружили ящик, крышка которого была забита гвоздями, а сам ящик обвит цепью с навесным замком. Нам удалось открыть его. Когда женщина просунула в него руку, из ящика показался скелет с оскаленными зубами. Я выскочил из подвала в одну из комнат. Скелет бросился за мной. Ему почти удалось проникнуть в мою комнату, в которой не было окон. Я прижался к стене, и она отодвинулась, выпуская меня наружу. В это время подоспела полиция, и я показал ей остатки тела человека, которого съел скелет».
Меня поразило сходство описываемого Биллом дома со зданием, где проходили наши занятия. Это была очень старая, отдельно стоящая постройка. От школы к ней шла аллея. Билл чувствовал себя лучше в тече-
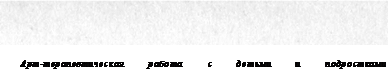 |
ние той недели, так как «плохих мальчиков» временно не было в школе, и он готовился уйти на каникулы. Он не дал мне возможности обсудить его сон, словно сам знал его смысл и не желал, чтобы кто-либо вторгался в него. Я ощутила его потребность отделиться от меня и в то же время страх этого отделения. Я словно была остатками тела того человека, который был «съеден» потребностями Билла.
ПОСЛЕДНЕЕ ЗАНЯТИЕ
Наша работа подходила к концу. Билл говорил о депрессивном настроении своей матери. Теперь у него была возможность провести грань между матерью и мной, ее депрессией и моим грустным, как ему показалось, лицом. Мы попытались обсудить его впечатления, переговорили о том, что он, по-видимому, несет в себе образ матери, а это затрудняет для него разделение его собственных и ее чувств.
На 78-м занятии он выразил сильное негодование по поводу работницы школы, которую он хотел когда-то поцеловать: она запретила ему идти в город на дискотеку. Билл сказал, что чувствовал себя, словно вулкан, и на протяжении почти всей нашей встречи едва сдерживал гнев. К концу занятия я попросила его нарисовать вулкан. Он выполнил мою просьбу и изобразил вырывавшуюся из жерла лаву. Мне показалось, что этот образ передавал также и его ощущения, связанные с завершением нашей работы. Билл забрал рисунок с собой и сказал, что если кто-нибудь остановит его и спросит, что это такое, он ответит: «Картина, изображающая мои чувства». Покинул он комнату в спокойном расположении духа. Размышляя над занятиями, я ощущаю внутренний мир Билла — обжитой им мир страха и депрессии. Он уже был в состоянии описать свои переживания, которые больше не ставили его в полное замешательство. Билл оказался способен, исследуя собственную психическую реальность, отыскать смысл в своем внутреннем мире и окружающей его действительности — так он приближался к осмыслению психического конфликта. На предпоследнем занятии он нарисовал меня и написал: «Будем сотрудничать и останемся друзьями», а сверху вывел свое имя. Билл сильно злился из-за завершения нашей работы и был способен проявить свой гнев. При.нашей последней встрече он просмотрел свои работы, пытаясь выбрать те, которые ему хотелось бы забрать с собой. В конце занятия он рассказал о последнем увиденном им фильме про оборотня, о том, что оборотень больше не пугает его. Мы обсудили ВОПРОС, сколь важен для него был образ оборотня как символ, совмещающий
в себе хорошие и плохие чувства Билла. У меня появилось ощущение происходящей в нем интеграции. Билл мог признать, что его сильное чувство гнева принадлежит ему самому и что оно не обязательно должно разрушать действительность. Наоборот, это чувство можно использовать для того, чтобы вызывать вокруг положительные изменения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Арт-терапевтические занятия с Биллом происходили в очень важный для мальчика период: он был открыт самопознанию, использовал образы как путь для расширения своих представлений о мире. В раннем детстве он оказался обделен эмоциональной и физической заботой и очень нуждался в том, чтобы найти внутреннюю опору. Такой опорой стала энергия, которую Билл привнес в арт-терапевтические занятия. Он словно знал, каким образом ему необходимо помочь самому себе, и стремился к этому невзирая на препятствия. Способность использовать метафорический язык образов позволила ему осознавать природу внутреннего напряжения и привела к преодолению проблем и страхов, преследовавших его длительное время. Продолжительный характер арт-терапевтической работы дал ему возможность постепенно осознать свои потребности, и он смог увидеть глубокий смысл, скрытый в собственных мыслях и переживаниях. А. Альварез (Alvarez А., 1992, р. 8) описывает трудности, связанные с выражением очень сильного психического напряжения. Биллу мир вокруг него и его семьи представлялся неподвластным контролю, ненадежным местом для материализации его фантазии. Акцент на воображаемых качествах был особенно для него важен, поскольку способствовал символизации и выражению материала бессознательного. Он мог прочувствовать и удержать в метафорах подавляемые аспекты своего «Я» до тех пор, пока не обрел способность признать их в себе. Используя термины М. Клейн, можно сказать, что депрессивная фаза была проработана Биллом. Я нахожу образ оборотня очень интересным, поскольку он явился универсальным символом для Билла. Думаю, дети неизбежно платят за грехи своих родителей, и Билл, будучи весьма чувствительным и умным подростком, должен был пережить сложные чувства, вызванные распадом семьи. Он был единственным ребенком, оставленным дома, воспринимал этот факт как свое бремя и мечтал о счастливой, нормальной семье, где он вновь встретится со своими родственниками. Обретая место, в котором прошлое и будущее получали возможность соединиться, Билл мог приблизиться к пониманию своего внутреннего ми-
ра и постепенно освоить его, раскрываясь эмоционально и интеллектуально. Прояснение смысла через повторение одних и тех же тем и образов отражает бессознательную попытку восстановить «утраченный объект». Я думаю, что основой психической интеграции и психического равновесия является свободное выражение бессознательного. Способность Билла к раскрытию смысла бессознательного через активную работу воображения и изобразительную деятельность позволила совершиться здоровым метаморфозам в его психике.
ЛИТЕРАТУРА
Alvarez A. Live Company Psychotherapy with Autistic, Borderline, Deprived and Abused Children. London, Routlege, 1992.
Baring-Gould S. The book of Werewolves. Senate, 1995
Freidlander K. The Psycho-Analytical Approach To Juvenile Delinquency Theory. Case Studies. Treatment: Routlege & Kegan Paul, 1967.
Mann D. The Psychotherapist's Erotic Subjectivity. A revised paper first read at The Guild of Psychotherapists, Summer Conference, 1992.
Opportunity and Challenge. The National Curriculum Council, 1993.
ОБСУЖДЕНИЕ И СОЗДАНИЕ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ
Робин Гудман
Печатается по изданию: Goodman R. Talk, Talk, Talk, When Do We Draw / / American Journal of Art Therapy. Vol. 37, № 2. November 1998. P. 39-49. Выражаем свою признательность автору и редакционному совету «Американского журнала арт-терапии» за предоставленную возможность опубликовать данный материал.
Сведения об авторе. Робин Гудман — арт-терапевт и ведущий психолог педиатрической онкологической службы медицинского центра Нью-Йоркского университета, профессор психиатрии, директор национальной программы психического здоровья детей и подростков; в недавнем прошлом ведущая курса последипломной подготовки по арт-терапии при Нью-Йоркском университете, президент Американской арт-терапевтической ассоциации.
Автор настоящей статьи обращается к проблеме интерпретации и вербального обсуждения изобразительной деятельности, которые, по его мнению, являются обязательными элементами арт-терапевтической практики и требуют сочетания двух различных подходов. Вместо использования линейных интерпретаций или отказа от вербального обсуждения рисунков арт-терапевтам следует пользоваться речевой коммуникацией, чтобы объективировать изображение и понять заключенный в нем смысл. В статье даются конкретные рекомендации для обсуждения изобразительных работ детей и подростков и приводятся примеры того, каким образом могут использоваться разговорные стратегии.
ВВЕДЕНИЕ
Наше профессиональное сообщество арт-терапевтов объединяется общим «чувством» изобразительного искусства — неким «сродством» с образами, материалами, связанными с ними переживаниями и тем удовлетворением, которое мы испытываем, отдаваясь изобразительному творчеству. Когда мы употребляем термин «арт», мы не думаем о словах, но представляем себе образы, цвета, сложные ощущения — все то, что трудно выразить с помощью языка. В этом заключается прелесть и сложность нашей профессии, то, что побуждает нас к утверждению изобразительного искусства в качестве достойного занятия на поприще психотерапии, имеющего определенную культурную миссию. Нам нравится заниматься изобразительным искусством, потому что оно невыразимо в словах. Всякая попытка говорить о нем связана с его профанацией, слова кажутся столь же неадекватными, как и при описании сильного переживания или чувства боли. Поскольку слова не могут этого сделать, мы предпочитаем пользоваться языком изобразительного искусства — так мы объективируем сво'и переживания. Однако без слов трудно передать понятия, а без понятий мы испытываем неопределенность. Когда же чувства неопределенны, нам не хватает доверия к тому, что очевидно имеет смысл.
Изобразительное искусство — это прежде всего диалог: либо между творцом и его самостью, либо между творцом и другим человеком. А если это диалог, то на каком языке он проходит? Как пишет Д. Роуз, «искусство не передает тот или иной смысл, оно порождает его в сознании восприимчивого человека» (цит. по: Laub D., Podell D., 1995, p. 992).
Даже начинающий арт-терапевт способен повторить максимы, сформулированные Э. Крамер и М. Наумбурх для того, чтобы охарактеризовать сущность своего дела. Мы часто полагаемся на авторитет, однако чем мы все-таки занимаемся? Как передать словами суть нашей профессии? Над этими вопросами ломают головы все арт-терапевты без исключения. В этой статье я намерена обратиться к этим вопросам, аналогично тому, как, например, нейропсихологи пытаются решить, насколько мозг человека способен познавать самое себя. Отправной точкой моих рассуждений будет служить идея об обсуждении рисунка (с клиентом, коллегами или иными специалистами) как очень важном элементе арт-терапевтической деятельности, хотя и обескураживающем арт-терапевта. Мы используем изобразительное творчество с целью «докопаться» до смысла, ускользающего от слов, и в то же время мы используем слова для того, чтобы раскрыть смысл изобразительного искусства. Не парадокс ли это?
Мой интерес к этим вопросам впервые возник по завершении моего арт-терапевтического образования. В тот период я проходила усовершенствование по клинической психологии. Несколько раньше я прошла курсы по психологическому тестированию. Естественно, преподаватели знакомили нас с тестом «дом, дерево, человек» (человек без мозгов, рог moi). Произошло то, что вряд ли можно считать неожиданным: во-первых, я поняла, что люди, которые не имеют ни особого интереса, ни понимания изобразительного искусства и символов, склонны при интерпретации изображений использовать «технологию поваренной книги», во-вторых, я отметила, что мои знакомые обращаются ко мне в надежде узнать мое мнение о рисунках, созданных их клиентами. Я вспоминаю также о другом важном эпизоде, связанном с опытом проведения вербальной психотерапии. Обучаясь в интернатуре, я занималась с пациентом, ставшим жертвой инцеста. Когда мы разговаривали с ним, мне было трудно подобрать слова, и я поняла, что многолетний опыт арт-терапевтической подготовки и художественной практики сделал меня хорошим наблюдателем, тем, кто способен помочь клиенту в процессе создания изображения, но и тем, кто вовсе необязательно является хорошим собеседником. Вспоминая свою работу с этим пациентом, я пыталась представить, что бы я говорила, находись между нами его рисунок, какие вопросы, касающиеся деталей этого рисунка, я бы ему задавала. И я поняла, сколь важно наблюдать за вербальной экспрессией клиента, уметь правильно подбирать слова и не относиться к ним как к чему-то второстепенному.
О ЧЕМ ЖЕ МЫ ВСЕ-ТАКИ ГОВОРИМ?
Я полагаю, наша профессия связана с иным подходом, нежели обычная линейная интерпретация (например, не допускающая совсем иного и очевидного содержания интерпретация солнца как символа родительской фигуры) (Glaister J. A., McGuinness Т., 1992). Это не значит, что подобные раскрытия образов не могут быть верными, просто они далеко не всегда верны. Меня смущают, например, строки о том, что «низкая самооценка проявляется в малом размере фигуры, ограниченном наборе цветов и бедности деталей», или что «отсутствие в изображении рук, ртов, ног или глаз отражает переживание собственной неадекватности и бессилия» (Glaister J., 1996, p. 313). Подобные суждения могут быть как верными, так и неверными применительно к конкретному моменту времени и конкретному лицу. Даже если они верны, как мы можем это проверить? Арт-терапевт является экспертом, оценивающим справедливость выводов, сделанных на основе анализа того или иного изобразительного материала. При этом он не должен полагаться лишь на обстоятельства, в которых дается такая оценка. Делая обобщающие заключения, мы стремимся к объективности, возможно игнорируя при этом содержание, вкладываемое в образ его создателем. Так утрачивается связь между символом и тем, что он символизирует. К сожалению, безоглядно используя словари символов, мы предаем основы своей деятельности. Мы всегда должны оглядываться назад и, пытаясь сформулиро-
Арт-терапевтическая работа с детьми и подростками 139
вать оценочные суждения, постараться увидеть глубинный смысл изображения. К примеру, действительно ли солнце следует ассоциировать с авторитетом, потому что оно «царит» на небе, дарит всем свет и тепло и связано с представлением о Боге? Лишь принимая во внимание все многообразие ассоциаций, вызываемых этим образом, мы можем сделать более верную интерпретацию. Изобразительный образ отражает совокупность тех или иных представлений и является наиболее экономичным инструментом коммуникации. Нам порой требуется тысяча слов, чтобы описать лишь один образ, а потому мы должны тщательно подбирать слова, когда пытаемся что-то узнать об изображении или интерпретировать его.
Работая с пациентами, пострадавшими от инцеста, я задавала им ряд вопросов после выполнения ими теста «рисование человеческой фигуры». Я просила их представить, что нарисованные фигуры — это реальные лица, и предлагала ответить на 52 вопроса, 26 из которых касались лицженского, а 26 — мужского пола (Waldman Т. L., Silber D. Е., Holm-strom R. W., Karp S. A., 1994, p. 100). Я обнаружила, что пациенты данной категории характеризовались более низкими показателями базисного доверия по сравнению с контрольной группой. Кроме того, они были склонны к проекции депрессивных переживаний на изображение. Хотя опросник в принципе был построен правильно, многие вопросы расходились с содержанием рисунков. Особенности рисунков опросником в расчет не принимались, сам рисуночный тест оказывался на втором плане. Можно было бы, наверное, лишь попросить клиентов представить себя в виде каких-либо людей, а затем ответить на вопросы.
Иной подход, при котором формальные элементы изображения рассматриваются в качестве критериев, характеризующих бессознательные процессы, представляется более корректным (Gantt L. М., 1990; Hacking S., Foreman D., Belcher, J., 1996). В одном исследовании, например, авторы изучали то, как размер изображения и расстояние между его элементами связаны с отношениями между детьми и их родителями-алкоголиками. Авторы определили, что, во-первых, дети из семей алкоголиков в отличие от детей контрольной группы, рисуя себя и своих отцов на одном листе, для своего изображения использовали круги малого диаметра; во-вторых, круги, изображающие авторов рисунков и их родителей, находились на большем расстоянии друг от друга (Grasha A. F., Homan М., 1995). Авторы исследования сделали вывод о том, что дети из семей алкоголиков имели более низкий межличностный статус и чувствовали себя приниженными в отношениях с отцами. Большое расстояние между элементами изображения означало, по мнению авторов, отрицательный эмоциональный климат, преобладающий в этих отношениях, и безропотное подчинение.
Некоторые из нас склонны к интуитивным выводам. Для других же приведенные результаты исследования покажутся не более чем очевидными истинами, подкрепленными статистическими данными. Заслуживает внимания, тем не менее, рисуночный тест, использованный в данном исследовании. Испытуемых просили изобразить с помощью кругов того или иного размера себя самих и своих родителей, расположить круги в том или ином месте на листе и на определенном расстоянии друг от друга. Испытуемых просили отразить с помощью размера кругов значимость того или иного человека. Кроме того, они должны были оценить свое состояние согласно предложенной шкале из 22 позиций. Исследователи могли быть более или менее уверенными в том, что, выбирая размер кругов и расстояние между ними, испытуемые ориентировались на правила, оговоренные в инструкции. Тем самым использование четко сформулированного задания более корректно помогало анализировать изображение. Однако в этом случае рисунок вряд ли отражал бессознательные процессы. Очевидно, что подобный директивный подход далеко не всегда оправдан.
ПОЧЕМУ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ЯВЛЯЕТСЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ, И ПОЧЕМУ ЕГО СТОИТ ДЕЛАТЬ ПРЕДМЕТОМ ОБСУЖДЕНИЯ?
Независимо от того, верим мы или нет в целесообразность вербального контакта в изобразительном процессе, есть основания полагать, что в арт-терапии имеет место дуализм субъекта и объекта. Арт-терапия исходит из того, что клиент может выступать в качестве «свидетеля» и «непосредственного участника» изобразительного процесса. Как отмечают Д. Лауб и Д. Подель, «изобразительное искусство обладает способностью оживлять травматичный опыт прошлого посредством диалога, разворачивающегося в настоящий момент времени». «Выступая в качестве «свидетеля» — того «иного», кто подтверждает реальность травматичного события — художник обеспечивает определенную структуру для своих переживаний и придает некую форму хаотическим процессам» (La-ub D., Podell D., 1995, p. 993). А. Мишара пишет о том, что «при обсуждении прошлых травм субъект изменяет свое отношение к ним,, соответственно изменяется и тот смысл, который они имеют для субъек-
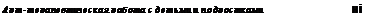 |
та в настоящем» (Mishara А., 1995, р. 184). Все это является предпосылкой формирования обратной связи между сознанием и опытом, автором и аудиторией. Можно использовать различные дихотомии для определения подобного механизма, например внутреннего и внешнего, аффективных и когнитивных процессов, разума и тела.
Исследование взаимоотношений между разумом и телом приобретает особое значение. Существуют многочисленные свидетельства того, что сознание оказывает определенное влияние на состояние тела и наоборот, поэтому можно предположить возможность упорядочивания сознания посредством определенных телесных приемов либо оздоровления тела путем воздействия на сознание. Наблюдения Д. Пеннебакер и соавторов (Pennebaker J. W., Hughes С. F., O'Heeron R. C, 1987) о том, что литературная деятельность помогает преодолеть последствия психических травм, в какой-то мере справедливы в отношении изобразительного искусства. Люди, описывавшие свой травматичный опыт, «характеризовались заметным улучшением в состоянии иммунной системы, общем физическом состоянии, а также успешно избавлялись от психосоматических нарушений, хотя вначале их состояние было довольно тяжелым» (Mishara А., 1995, р. 182). А. Мишара объясняет это, в частности, тем, что «литературное творчество оказывает лечебное воздействие, поскольку оно помогает упорядочить психосоматические процессы и обеспечивает "перевод" с "языка" чувств на "язык" когнитивных, вербальных процессов» (Mishara А., р. 182). Думаю, эта мысль может быть близка арт-терапевтам.
Многие эмпирические наблюдения и теоретические положения, касающиеся того, что я назвала бы «психотерапией, вызывающей катарсис», основаны на изучении реакций людей, перенесших тяжелые испытания, — в частности, жертв холокоста. Д. Пеннебакер и соавторы полагают, что человеку зачастую проще рассказать о пережитых им ужасах, чем слушать, как об этом рассказывают другие — психотерапевтический эффект, по-видимому, связан с выражением травматичного опыта. Эти авторы обнаружили, что электрическая проводимость кожи и частота сердечного ритма у жертв холокоста заметно снижались, когда бывшие узники начинали рассказывать об ужасах, пережитых ими в концентрационных лагерях. При этом соответствующие показатели у их слушателей, наоборот, повышались. Это наблюдение в какой-то мере может объяснять то состояние крайнего утомления и эмоциональной опустошенности, которое часто испытывают психотерапевты в конце сессий.
Изобразительное творчество позволяет достичь состояния психического комфорта, при этом художник превращается в «зрителя». Независимо от того, занимается человек литературным творчеством, рисует или рассказывает, он осуществляет «перевод» информации с эмоционального на когнитивный уровень. Одновременно с этим изменяется его отношение к прошлому, травматичному опыту и своим психическим недостаткам (Mishara A. L., 1995).
Именно к этому мы пытаемся подвести наших клиентов, и нам следует хорошо сознавать то, как мы это делаем. Д. Пеннебакер и соавторы полагают, что вытесненный либо отрицаемый клиентом травматичный опыт в процессе психотерапии преобразуется через экспрессию и «перекодировку» в иную систему знаков, отличную от той, которая основана на чувствах. Можно предположить, что серьезная травма блокирует ко-пинговые способности психики, в частности, ее когнитивные возможности. Например, в случае насилия человеку может быть приказано молчать. Маловероятно, что он будет рассказывать о своих переживаниях (Bowers J. J., 1992). Более того, «если человек принижает свою ценность, ощущает себя беззащитным и склонен к самообвинению в связи с пережитой травмой, он вряд ли будет делиться своими воспоминаниями о ней» (Mishara A. L., 1995, р. 193). Квалифицированным арт-терапев-том, по-видимому, может считаться тот, кто способен отслеживать, насколько благотворен для клиента выбранный аспект изобразительного процесса, насколько клиент захвачен им, либо же, насколько он, оживляя воспоминания, становится для клиента травматичным. Колетт, например, описывая свою арт-терапевтическую работу, отмечает: «Клиент уклоняется от рисования, опасаясь, что рисунок окажется слишком красноречивым и даст выход тому, встретиться с чем клиент еще не готов». «После создания портрета <...> он был настолько поражен его правдоподобием, что, взяв все свои работы, порвал их на куски» (Col-lette, 1991, р. 81).
Таким образом, следует ли воздерживаться от обсуждения работы, или необходимо обсуждать каждую ее деталь? «Нередко наиболее важный смысл заключен в пустом пространстве рисунка, в его "молчании" либо недосказанности (включая паузы в рассказе клиента о своем рисунке, отверстия или вырезание отдельных частей изображения)» (Laub D., Podell D., 1995, p. 993). Вряд ли можно назвать высокопрофессиональным арт-терапевта, пытающегося убедить клиента в справедливости своих оценок, опережающего самого клиента в интерпретации изобразительных работ. Неуверенный жест, откладывание рисунка, изменение характера линий и т. д. — все это может нести очень важный смысл, и мы должны быть крайне осторожны в использовании своих навыков интерпретации.
КАК СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ОБСУЖДЕНИЕ?
Хотя я считаю, что не следует спрашивать клиента слишком о многом и делать это слишком быстро, тем не менее нам надо его расспрашивать. Если вы сомневаетесь в этом, подумайте о причине своих сомнений. Как правило, арт-терапевтов больше интересует, какой вывод можно сделать на основе работы, чем сам процесс обсуждения. Они стремятся поскорее поставить «диагноз», не думая о том, что подлинное открытие всегда требует достаточного времени. Мы склонны выискивать в работах клиентов свидетельства, подтверждающие наши диагностические предположения, основанные зачастую лишь на интуиции. Это означает, что мы можем игнорировать или отрицать любые факты, противоречащие нашим предположениям. Нас должно в первую очередь интересовать то, что не согласуется с диагностической логикой и той истиной, которая лежит на поверхности. Этому может помочь обсуждение работы с клиентом, который одновременно выступает в качестве и автора, и «аудитории».
По мнению Л. Льюис и К. Лангер (Lewis L., Langer К., 1994), слово «символ» в переводе с греческого означает, прежде всего, соединение. Большинство арт-терапевтов полагает, что «символы позволяют перевести скрытое, слишком приватное, находящееся в зачаточном состоянии в нечто более зримое, членораздельное и понятное другим». «Символы восстанавливают утраченное единство путем объединения и сопоставления чувств, феноменов восприятия и мыслей. <...> Они формируют комплексное переживание, глубоко волнующее и очищающее человека» (Lewis L., Langer К. G., 1994, р. 232). Одно из преимуществ арт-терапии связано как раз с символообразованием и использованием символов в качестве своеобразных метафор, позволяющих получить доступ к скрытому материалу психической жизни. Можем ли мы знать при этом, что клиент пытается скрыть? Что можно считать визуальными, изобразительными эквивалентами «загадочных метафор, головоломок и противоречивых вербальных сигналов, используемых клиентом, <...> когда он пытается запутать или исказить подлинный смысл» (Horowitz М. J., Mil-hrath С, Stinson С. Н., 1995, р. 1041-1042). Стремясь прояснить этот смысл и следуя за предположениями, мы подобны канатоходцам. В качестве же инструментов балансировки мы использует вопросы, ни на минуту не переставая наблюдать и слушать клиента.
Я обнаружила довольно удачные инструкции по технике обсуждения изобразительного материала в статье Я. Боверс (Bowers J., 1992), которая ссылается на работы В. Окландер. Хотя эти инструкции, на первый взгляд, элементарны, они кратко отражают самую суть арт-терапевти-ческого обсуждения изобразительного материала.
1. «Дайте клиенту рассказать о своей работе так, как он этого хочет» (р. 22). Это основополагающее, «золотое» правило, которым всегда нелишне руководствоваться.
2. «Попросите клиента прокомментировать те или иные части рисунка, прояснить их значение, описать определенные формы, предметы или персонажи» (р. 22). Это правило также является основополагающим. Следование ему поможет избежать преждевременных предположений относительно содержания работы.
3. «Попросите клиента описать работу от первого лица и, возможно, сделать это для каждого из элементов изображения. Клиент может построить диалоги между отдельными частями работы, независимо от того, являются ли эти части персонажами, геометрическими формами или объектами» (р. 22). Следует принять во внимание, что это иногда может пугать клиентов, поэтому необходимо различать «эго»-и «объект»-ориентированные вопросы; формулировать их в широком континууме от «объект»-ориентированных до «эго»-ориентирован-ных. Комментарии клиента при этом могут касаться внешних или внутренних свойств предмета. Если, скажем, клиент вылепил из глины какой-либо пищевой продукт, вы можете спросить его, что он ел на завтрак, или что ему нравится больше всего из блюд, которые готовит его мать? Первый вопрос более «объект»-ориентированный, второй — более «эго»-ориентированный. Эти вопросы зачастую связаны между собой, однако арт-терапевт, выбирая тот или иной вопрос, должен решить, на каком уровне следует сначала вести обсуждение.
4. «Если клиент не знает, что означает та или иная часть изображения, арт-терапевт может дать свое объяснение, однако следует спросить клиента, насколько это объяснение представляется ему верным» (р. 22). Верность интерпретации проверяется как по вербальным, так и невербальным реакциям клиента. Когда объяснение не вызывает никакой реакции, следует подумать, связано ли это с его неверностью или неготовностью клиента.
5. «Побуждайте клиента фокусировать внимание на цветах. О чем они говорят ему? Даже если он не знает, что цвет означает, фокусируясь на цвете, он может что-то осознать» (р. 23). Следует учесть, однако, что цвета могут использоваться в разное время по-разному: в одних случаях они отражают свойства объектов, в других — отношение автора к этим объектам.
6. «Старайтесь фиксировать особенности интонации, положение тела, выражение лица, ритм дыхания клиента. Используйте эти наблюдения для дальнейшего расспроса клиента либо, если Вы заметили, что клиент испытывает сильное напряжение, для переключения на другую тему» (р. 23). Очевидно, что изобразительный процесс сопряжен с выраженными физическими и эмоциональными реакциями, и все они должны быть предметом для наблюдения со стороны арт-терапевта.
7. «Помогайте клиенту осознать связь между его высказываниями о работе или ее частях и его жизненной ситуацией, осторожно задавая ему вопросы о том, что в его жизни и как может отражать его работа» (р. 23). Следует понимать то, насколько клиент способен интегрировать интерпретации. Даже если ваши объяснения справедливы, клиент может им сопротивляться. Но если вы правы, а клиент еще не готов принять их, помните, что у вас еще будет возможность предложить ему эти объяснения.
8. «Обратите особое внимание на отсутствующие части изображения и пустые пространства на рисунке» (р. 23). Вовсе необязательно, что отсутствие той или иной части должно иметь символическую нагрузку. Иногда изображение может иметь «стенографический характер». Я. Боверс, например, отмечает, что при изображении человеческой фигуры лицами, перенесшими насилие, отсутствие нижней части тела в одних случаях может говорить о подавленной сексуальности, а в других — об искаженном образе «Я».
9. «Иногда следует принять изображение буквально, иногда следует искать нечто противоположное изображенному, в особенности, если есть основания для такого предположения» (р. 23). Работы Эдит Крамер, в частности, изобилуют примерами изображения фантастических героев детьми с сильным Эго, уверенно чувствующими себя. В то же время она указывает на то, что столь же часто подобные изображения создаются детьми, стремящимися сформировать для себя идеальный, нереалистический образ «Я», в результате чего они всякий раз болезненно переживают крушение этого идеала.
10. «Просите клиента рассказать о том, что он чувствовал в процессе создания работы, до ее начала, а также после ее завершения»
(p. 23). Вовсе нелишне справляться о его состоянии в процессе создания рисунка, спрашивать, насколько комфортно он себя чувствует, изменяя форму вопросов в зависимости от ситуации. Можно избежать многих защитных реакций со стороны клиента или смягчить их, если прислушаться к его психологическому «пульсу».
11. «Предоставьте клиенту возможность работать в удобном для него темпе и с сознанием того, что он будет изображать нечто, что может изобразить, и отражать те состояния, к исследованию которых готов» (р. 23). Независимо от того, используем мы директивный или недирективный подходы, мы должны давать клиенту возможность почувствовать, что он сам контролирует изобразительный процесс и его результаты.
12. «Стремитесь выделять в работах клиента наиболее устойчивые темы и образы» (р. 23). С течением времени, по мере того как будут опре-
■ деляться смысловые связи, в них многое может проясниться и «заговорить». Кроме того, со временем клиент будет готов к тому, чтобы увидеть в своих изображениях единые смысловые линии в контексте всей проделанной работы.
ДЕТИ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЯЗЫК
Многие наши суждения об изобразительном творчестве пока еще недостаточно подтверждены (Johnson В. Н., 1990; Carpenter М., Kennedy М., Armstrong A. L., Moore Е., 1997). В особенности это касается изобразительного творчества детей. Из-за значительных различий в индивидуальных способностях и уровнях психического развития детей интерпретация детских работ может представлять особую сложность. Следует принимать во внимание и ограниченную способность детей к словесному выражению своих переживаний на фоне свойственного им немалого артистизма. Наблюдение за поведением детей и использование стандартных тестов часто не позволяет оценить их глубинные переживания. Интерпретации же, связанные с применением проективных техник, очень часто грешат тенденциозностью и субъективизмом (Baumann S. L., 1996, р. 28). Одна из наиболее грубых ошибок при рассмотрении детских работ заключается в применении тех интерпретативных подходов, которые обычно используются в работе со взрослыми. Нам следует быть особенно осторожными для того, чтобы избежать различных ловушек всякий раз, когда мы рассматриваем или обсуждаем работы детей и подростков. Мы должны, например, принимать во внимание влияние тех или иных событий в жизни ребенка на создаваемые им образы и то, как психотерапевтическая работа отражается на процессе его развития в целом. Наши собственные проекции и психоаналитические объяснения, основанные на теоретических положениях, касаются психики взрослых и вряд ли уместны в работе с детьми (Hagood М. М., 1992).
С. Бауманн (Baumann S., 1996) предостерегает против недооценки особенностей детской психики. Дети должны рассматриваться нами как высшие авторитеты"В своем мире, когда речь заходит об их собственных представлениях. Речь детей гораздо более выразительна и точна, чем нам часто кажется.
Изобразительное творчество детей и подростков может использоваться с психотерапевтической целью различным образом. В зависимости от целей работы, соотношение изобразительного этапа и обсуждения рисунка может быть различным. С. Валкер (Walker С, 1989), ссылаясь на Амстер, перечисляет пять основных форм игры, которые справедливы применительно к арт-терапии и могут использоваться с разной целью:
• психологической оценки и постановки диагноза;
• установления отношений с ребенком;
• помощи ребенку вербализовать осознанный материал и связанные с ним переживания;
• помощи осмыслить тот символический материал, который воспринимается им как опасный;
• сформировать у ребенка новые интересы, на которые тот сможет затем опираться в повседневной жизни и которые могут помочь его дальнейшему психосоциальному развитию (Walker С, 1989, р. 122).
Хотя нередко изобразительная работа ребенка или подростка сочетается в арт-терапии с ее обсуждением, существует немало случаев, когда психотерапевтические факторы действуют без какой-либо связи с вербализацией.
Б. Соуркис, имеющая большой опыт работы с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями, утверждает, что «прося ребенка нарисовать что-нибудь в ответ на поставленный вопрос, мы создаем возможность для того, чтобы ребенок затем сам объяснил свой рисунок». «В этом случае интерпретация рисунка основывается на системе значений, предлагаемой самим ребенком, и арт-терЭпевт исходит именно из нее» (Sour-kcs В., 1991, р. 83-84). Некоторые употребляемые Б. Соуркис техники предоставляют инициативу самому ребенку. Так, например, используя кинетический рисунок семьи, она спрашивает: «Что изменилось в твоей семье, когда ты заболел? Покажи это на своем рисунке или скажи об этом» (р. 88). Она также просит ребенка подумать о самом страшном, что связано у него с представлением о его болезни, и затем нарисовать это (р. 90).
Существуют работы, ставящие своей целью определение взаимосвязей между проективными рисунками детей, материалом их обсуждения и данными психологического обследования. В исследовании Д. Милуше-ва и соавторов (Milousheva J. et al., 1996) детям рассказывали историю о ребенке, страдающем хроническим заболеванием. Затем детей просили нарисовать этого ребенка после того, как он узнал о своем заболевании. Исследователи классифицировали различные копинговые стратегии, основываясь на особенностях рисунков, а также разделении «фокусированных на чувствах» и «фокусированных на проблеме» реакций. Я согласна с тем, что изображение медицинского оборудования является примером «фокусированных на проблеме» реакций, хотя оно может свидетельствовать и о страхе перед медицинскими процедурами. В этом случае рисунок может указывать на наличие «фокусированных на чувствах» реакций. Если не прояснять это соответствующими вопросами, можно сделать неверный вывод.
В моей работе с детьми, страдающими соматическими заболеваниями, я исхожу из того, что изобразительное творчество может корригировать как аффективные, так и когнитивные процессы. Во многих случаях оно требует достаточных когнитивных возможностей, в частности, способности к принятию решений, хороших моторных навыков, способности к оценочным суждениям. В ряде случаев изобразительное творчество не идет дальше этого и не затрагивает потенциала более тонких психических процессов. В других случаях работа разворачивается вокруг содержания изображения, при этом аффект осознается и преобразуется в поступки.
Рис. 2.5 был выполнен восьмилетним мальчиком с острой лимфобла-стической лейкемией. Рисунок отражает страх, и это очевидно — ведь ребенок уже узнал о своем заболевании. Такой вывод подтверждают и наблюдения за поведением мальчика: находясь в постели, он все время сосал большой палец, крепко удерживая другими пальцами край одеяла. Когда его спрашивали, почему он сосет палец, он отвечал, что в этом нет ничего особенного. На вопрос о том, что означает его рисунок, отрицал связь изображения с тревогой. Он с легкостью комментировал страшные детали, добавляя, что всегда любил делать такие рисунки, задолго до того, как узнал о своем заболевании, что подтвердили его мать и брат.
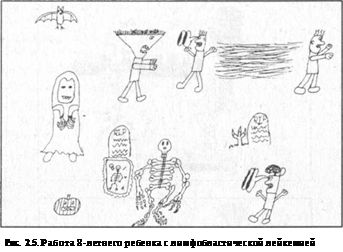 |
Он признал, что испытывал страх лишь тогда, когда должен был идти на пункцию костного мозга. Он был настолько напуган предстоящей процедурой, что согласился освоить направленную визуализацию для того, чтобы избавиться от страха. На первой сессии он научился внушать себе, что может подавлять боль, связанную с вхождением иглы в свое тело, а затем спокойно перенес процедуру. Я не могу сказать, отражает ли этот рисунок бессознательный страх и гнев ребенка, свидетельствует ли он о его склонности рисовать страшные сцены либо о том, что в процессе создания рисунка мальчик смог преодолеть свой страх.
В медицинской практике, где преимущественное значение придается внешним проявлениям болезни и поведению пациента, изобразительный материал может представлять особую ценность. На рисунках 2.6 а и 2.6 б приведены работы четырнадцатилетней девочки, страдающей саркомой ноги. Я попросила ее создать иллюстрации для азбуки, в частности, для ее инициалов. Хотя рисункам присуще наличие множества деталей (например, изображение аппарата искусственной вентиляции легких и аппарата для переливания крови), позволяющих обсуждать опыт ее пребывания в больнице, есть основания для того, чтобы обратиться к ее скрытым переживаниям. Без осознания значимости опыта пребывания этой девочки,в стационаре и получения ею химиотерапии, по-видимому, трудно разобраться в этих переживаниях. Думаю, что при работе с детьми, страдающими соматическими заболеваниями, очень важно иметь
 | |||
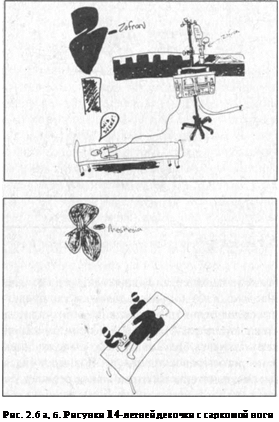 | |||
как можно более полное представление об этих заболеваниях и формах проводимого лечения.
Четырнадцатилетний мальчик, страдающий лимфомой, изобразил себя с аппаратом для переливания крови (рис. 2.7). Очевидно, что,прося ребенка рассказать о своих переживаниях, связанных с пребыванием в больнице, мы получили бы лишь скупой ответ. Рисунок же говорит о многом. Хотя он отражает вполне реалистическую сцену, благодаря ему мне удалось обстоятельно обсудить с мальчиком все то, что связано с его необычной болезнью, новыми формами проводимого лечения и его опасениями относительно будущего.
Его следующий рисунок был выполнен спустя полтора года, в период рецидива заболевания. Он вновь реалистичен, хотя сюжет рисунка уже
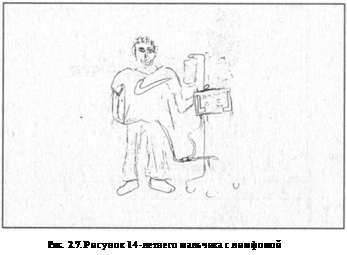 |
иной. Он отражает попытку мальчика осмыслить свою жизнь, то, что он из-за болезни и необходимости прохождения радиационной терапии должен расстаться со своей школьной ролью выдающегося баскетболиста. Рисунок явился красноречивым выражением переживаний мальчика и послужил основой для обсуждения с ним тех проблем, которые связаны с изменением восприятия им своего тела и идентичности в целом. Мальчик объяснил, что баскетболист на его рисунке должен теперь уйти на пенсию, и добавил, что это временный уход. Таким образом мы постепенно перешли к обсуждению его инвалидности и того, как он воспринимает свое будущее.
Четырнадцатилетняя девочка, страдающая остеогенной саркомой, нарисовала лысых людей, отдыхающих на пляже (рис. 2.8). Создание рисунка вызвало у нее положительные эмоции. На вопрос о том, не связывает ли она изображение лысых людей с тем, что в результате химиотерапии сама облысела, она всякий раз отвечала отрицательно и говорила, что ей нравится, как выглядят эти человечки. Она отрицала какой-либо скрытый смысл в своем рисунке и то, что изображенная сцена счастливой жизни может быть контрастом по отношению к той ситуации, в которой она сама оказалась. Хотя эта девочка находилась в состоянии психического равновесия, ее отец высказал озабоченность тем, что, по его мнению, она игнорирует свое заболевание, и поэтому ей стоит посещать сеансы визуализации, отражающие ситуацию болезни. Она
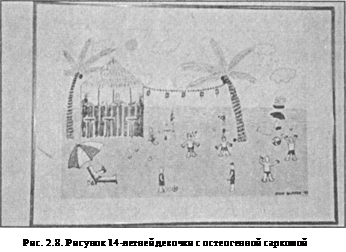 |
была одной из тех детей, которые никогда ни на что не жалуются, принимают ситуацию как должное и избегают проводить какие-либо параллели между своими рисунками и переживаниями. Иногда она рассказывала о своих ассоциациях, вызванных рисунками, но всякий раз они имели конкретный характер и никак не отражали переживаний, связанных с онкологическим заболеванием. Лишь в беседах, никак не относящихся к рисункам, она рассказывала об ощущаемых ею побочных эффектах лечения и проявлениях заболевания. Вряд ли можно говорить о том, что совершенствование вербальных и художественных способностей, наблюдающееся по мере взросления ребенка, само по себе является гарантом раскрытия его духовных качеств. Хотя в приведенном примере имеются достаточные основания предполагать связь рисунка с актуальными переживаниями девочки, она сама ее отрицала. В то же время нельзя не признать, что работа над рисунком сопровождалась терапевтическим эффектом и определенно нравилась ей.
Двенадцатилетнюю девочку, больную лимфомой, я попросила создать рисунок на тему «мое настоящее и будущее». Она нарисовала две фигуры, являющиеся копией друг друга, за исключением того, что фигура девочки в будущем была более мелкая, а на ногах у нее были роликовые коньки (рис. 2.9 а). Рисунок в целом отражал связанное с будущим ощущение неопределенности. Девочка перенесла очень тяжелую реакцию в начале химиотерапии, ей давался кислород, и она была частично парализована. На момент выполнения рисунка она потеряла почти все
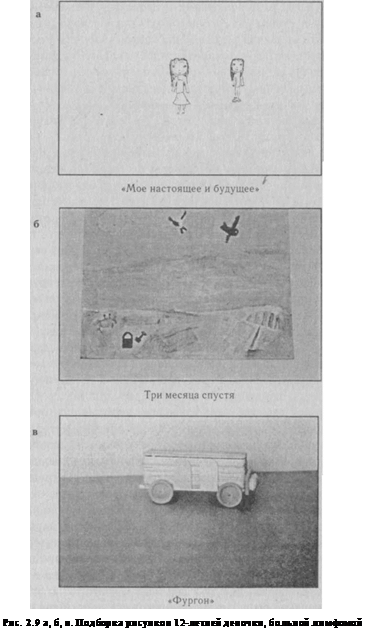
волосы и, хотя могла работать руками и говорить, все еще передвигалась на коляске. Из-за страха упасть она сопротивлялась попыткам физиотерапевта научить ее заново ходить, была часто озлоблена и испытывала явную растерянность из-за неопределенности своего будущего. Учитывая то, что девочка до болезни отличалась очень живым темпераментом, мелкая фигурка на ее рисунке могла показаться безжизненной. Однако если принять во внимание недавно пережитое ею коматозное состояние и то, что она уже могла самостоятельно рисовать, эта фигурка могла, скорее, восприниматься как своеобразный успех.
Три месяца спустя, находясь под амбулаторным наблюдением, на мою просьбу нарисовать место, где ей хотелось бы быть, девочка изобразила пустынный пляж (рис. 2.96). И хотя он выглядел почти идиллически, девочка заявила, что ей не хотелось бы туда идти, так как ей пришлось бы передвигаться в коляске и она стеснялась бы своего внешнего вида.
Примерно месяц спустя на мое предложение изобразить транспортное средство она создала фургон (рис. 2.9 в). В этот период по указанию психиатра, занимающегося ее реабилитацией, мы составляли совместно с девочкой реабилитационную программу. Она дала согласие на занятия физическими упражнениями для того, чтобы развить двигательные навыки и уменьшить свою зависимость от родственников. Создавая фургон, она уже могла без страха самостоятельно передвигаться и испытывала зависть к своей здоровой сестре. Не думаю, что при создании первого рисунка она могла предвидеть подобный прогресс, однако фигурка девочки на роликовых коньках очевидно отражала ее надежду и волю к жизни.
Рисунок другой девочки, изображающий летящих над городом птиц (рис. 2.10), показывает, что важный психологический материал не может быть получен механическим образом. Аналитик, использующий «технологию поваренной книги», обратил бы внимание прежде всего на тяжеловесные здания, прочно стоящее дерево, птиц, устремленных к земле. Он предположил бы, что девочка ощущает «обездвиженность», подобную изображенному ею дереву, и это предположение подкреплялось бы имеющимися у нее двигательными нарушениями. Он, возможно, расценил бы черные силуэты домов как отражение ее депрессивного состояния либо ощущения себя заточенной в стенах больницы. Однако когда я попросила ее прокомментировать свой рисунок, она дала следующее описание. «В первый день, когда я начала работать над этим рисунком, я действительно была в подавленном состоянии. Меня словно не существовало. Но по мере того как я наполняла свой рисунок чувствами
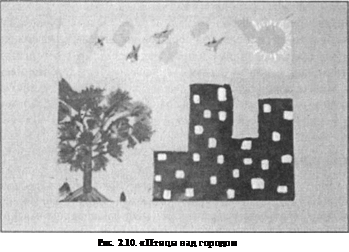 |
и красками, я почувствовала себя намного лучше. Я поняла, что для меня в жизни есть шанс. Никогда не следует опускать руки и недооценивать свои возможности, как я сама до этого делала. Когда я начинала рисовать, мне казалось, что я никогда не смогу создать ничего стоящего. Но Робин сказала мне: "Добейся своего!" И я действительно сделала красивый рисунок и почувствовала уважение к себе самой. Когда я смотрю на свой рисунок, я ощущаю желание уйти туда и никогда не возвращаться обратно. Птицы вызывают радость, а солнце на рисунке оживляет мир вокруг меня. Именно так я себя чувствую, и мне очень нравится мой рисунок».
Наше понимание рисунка изменяется, когда мы узнаем о том; какой смысл вкладывает в него его автор, как в приведенном примере, где ассоциации девочки со своим рисунком и процессом его создания выходят за рамки внешнего изображения. Таким образом, обсуждение работы становится исповедью, в которой проявляется надежда, а вовсе не покорность судьбе..
Все эти примеры свидетельствуют о том, что различные рисунки способны вызывать разные вопросы и, соответственно, давать самую разную информацию. И конечно же, в одной беседе невозможно узнать все, что вы хотите узнать о человеке. Подобно тому как в беседе мы задаем человеку вопросы для того, чтобы прояснить для себя что-либо или разгадать некую загадку, при обсуждении его рисунков мы должны быть предельно бдительны. Арт-терапевтическая деятельность требует умения перерабатывать информацию и делать на основе ее определенные заключения. В вербальном диалоге мы используем общепринятый язык для того, чтобы обмениваться представлениями и прояснять смысл. В арт-терапии клиент рисует или лепит, мы же не отвечаем ему посредством того же. Поэтому мы должны пользоваться речью, с тем чтобы объективировать изображение и, что наиболее важно, понять заключенный в нем смысл, неизменно соблюдая должную меру уважения к его автору.
ЛИТЕРАТУРА
Ваитапп S. L. Parse's Research Methodology and the Nurse Researcher-Child Process // Nursing Science Quarterly. Vol. 9. № 1. 1996. P. 27-32.
Bowers J. J. Therapy through Art: Facilitating Treatment of Sexual Abuse / / Journal of Psychosocial Nursing. Vol. 30. № 6. 1992. P. 15-24.
Carpenter M., Kennedy M., Armstrong A. L., Moore E. Indicators of Abuse or Neglect in Preschool Children's Drawings / / Journal of Psychosocial Nursing. Vol.35. № 4. 1997. P. 10-17.
Colette. The Sick Child. The Collected Stories of Colette. Phelps R. (ed.). New York: Farra, Strauss <& Giroux, 1991.
Gantt L. M. A Validity Study of the Formal Elements Art Therapy Scale (FEATS) for Diagnostic Information in Patients' Drawings. Unpublished doctoral dissertation, University of Pittsburg, Pensylvania, 1990.
Glaister J. A. Serial Self-Portrait: A Technique to Monitor Changes in Self-Concept //Archives of Psychiatric Nursing. № 5. 1996. P. 311-318.
Glaister J. A., McGuinness T. Helping Chronic Trauma Survivors / / Journal of Psychosocial Nursing. Vol. 30. № 5. 1992. P. 9-17.
Grasha A. F'., Homan M. Psychological Size and Distance in the Relationships of Adult Children of Alcoholics with Their Parents / / Psychological Reports. 76. 1995. P. 595-606.
Hacking S., Foreman D., Belcher J. The Descriptive Assessment for Psychiatric Art // Journal of Nervous and Mental Disease. Vol. 184. № 7. 1996. P. 425-430.
Hagood M. M. Diagnosis or Dilemma: Drawings of Sexually Abused Children / / British Journal of Projective Psychology. Vol. 37. № 1. 1992. P. 22-33-
Horowitz M. J., Milbrath C, Stinson С. H. Signs of Defensive Control Locate Conflicted Topics in Discourse / / Archives of General Psychiatry. № 52. 1995. P. 1040-1047.
Johnson В. H. Children's Drawings as a Projective Technique / / Pediatric Nursing. Vol 16. № 1. 1990. P. 11-17.
Laub D., Podell D. Art and Trauma / / International Journal of Psychoanalysis. № 76. 1995. P. 991-1005.
Lewis L., Langer К. G. Symbolization in Psychotherapy with Patients Who are Disabled // American Journal of Psychotherapy. Vol. 48. № 2. 1994. P. 231-239.
Mathews G. B. Tje Philosophy of Childhood. Cambridge: Harward University Press, 1994.
Milousheva J., Kobayashi N.. Matsui I. Psychosocial Problems of Children and Adolescents with a Chronic Disease: Coping Strategies / / Acta Paediatric Japoni-ca.№38. 1996. P. 41-45.
Mishara A. L. Narrative and Psychotherapy — the Phenomenology of Healing / / American Journal of Psychotherapy. Vol. 49. № 2. 1995. P. 180-195.
Pennebaker J. W., Hughes C. F., O'Heeron R. C. The Psychophysiology of Confession: Linking Inhibitory and Psychosomatic Processes / / Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 52. № 4. 1987. P. 782-793.
Rose G. J. Necessary Illusion: Art as 'Witness'. New York: International University Press, 1995.
Sourkess B. Truth to Life: Art Therapy with Pediatric Oncology Patients and Their Siblings // Journal of Psychosocial Oncology. Vol. 9. № 2. 1991. P. 81-96.
Waldman T. L„ SilberD. E., Holmstrom R. W.,Karp S. A. Personality Characteristics of Incest Survivors on the Draw-a-Person Questionnaire // Journal of Personality Assessment. Vol. 63. № 1. 1994. P. 97-104.
Walker C. Use of Art and Play Therapy // Pediatric Oncology. Vol. 6. №4. 1989. P. 121-126.
АРТ-ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ, ПЕРЕНЕСШИМИ СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
Дженни Мерфи
Статья печатается по изданию: Murphy J. Art Therapy with Sexually Abused Children and Young People // Inscape. Vol. 3. № 1. 1998. P. 10-16.
Сведения об авторе. Дженни Мерфи работает в качестве арт-терапевта в специализированном центре по оказанию психологической помощи детям и семьям в г. Плимут (Великобритания). Статья подготовлена на основе исследования, проведенного в рамках ее дипломной работы в период арт-терапевтической подготовки в Goldsmith's College.
ВВЕДЕНИЕ
За последние двадцать лет стали очевидны масштабы сексуального насилия над детьми и его долговременные последствия для их психического здоровья. Специалисты системы здравоохранения и других служб пытаются помочь жертвам в преодолении осложнений перенесенной травмы. Поскольку сексуальное насилие является сложным для обсуждения предметом (в частности, из-за того, что жертвы насилия часто подвергаются шантажу во избежание разглашения обстоятельств преступления), арт-терапевтический подход является для ребенка менее травматичной формой установления диалога. По моему личному опыту, арт-терапия предоставляет дополнительные возможности, связанные с использованием материалов и фасилитирующих приемов, способствующих успешному преодолению психической травмы вне зависимости от качества вербального контакта.
Публикация М. Хагуд (Hagood М., 1992) поднимает вопросы использования арт-терапии в работе с британскими детьми, перенесшими сексуальное насилие. Эта статья побудила меня к исследованию диагностических и лечебно-коррекционных возможностей применения арт-терапии в данной группе детей, наиболее эффективных форм арт-терапевтической работы, особенностей самого изобразительного процесса и оценки арт-терапевтами собственной работы. Кроме того, я попыталась выяснить, насколько британские арт-терапевты нацелены на изучение той специфики изобразительной продукции перенесших сексуальное насилие детей, которую возможно привлечь в качестве доказательств совершения преступления.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Сексуальное насилие и его последствия
Понятие сексуального насилия, независимо от того, совершается ли оно однократно или повторяется на протяжении некоторого времени, обозначает совокупность определенных преступлений — от демонстрации перед ребенком половых органов и до совершения с ним орального, анального или вагинального полового акта. В наиболее тяжелых случаях оно может сопровождаться угрозами или садистскими действиями. Как правило, насильник знаком ребенку (часто является его родственником) и использует свой авторитет для принуждения к половому контакту. Таким образом ребенку наносится физическая и психическая травма, страдает система его социальных отношений.
Непосредственными следствиями насилия является переживание ребенком чувств страха, тревоги, депрессии, гнева, враждебности, заниженной самооценки, нередко сопровождающиеся нарушениями сексуального поведения. Долгосрочные последствия насилия могут выражаться в психических расстройствах, сопряженных с самодеструктивными тенденциями, токсикоманией, расстройствами питания, депрессией, тревогой, чувствами социальной изоляции и стигматизации, высокой вероятностью ревиктимизации, затруднениями в установлении доверительных отношений с окружающими и сексуальных отношений (Browne А., FinkelhorD., 1988).
Л. Янг (Young L., 1992) описывает характерный для посттравматического стрессового расстройства симптомокомплекс, трактуя психическую травму как «угрозу жизни или физической целостности». Целостность телесного образа «Я» может рассматриваться как основополагающий фактор идентичности. Следствием нарушения этой целостности становится глубокий отпечаток травматического опыта в телесных ощущениях и восприятие пострадавшим своего тела и окружающего мира как «опасного, поврежденного или мертвого» (Young L., 1992).
Компенсаторные процессы могут возникать непосредственно после совершения акта насилия и становиться устойчивым механизмом выживания, ценой чего оказывается утрата приятных, чувственных, проприоцептивных ощущений (Young L., 1992). Они также снижают способность пострадавшего к словесному описанию своих чувств, символообразованию и воображению. Психотерапевтические приемы имеют целью свести к минимуму долговременные эффекты травмы в психическом здоровье ребенка, предупредить ревиктимизацию и преобразовать «интрузивное, повторное переживание насилия» в простой «факт воспоминаний» (Johnson D. R., 1987).
Работа с изобразительными материалами
Использование визуального канала коммуникации имеет целый ряд достоинств. Исследования показывают, что травматичный опыт запечатлевается онтогенетически примитивными визуальными механизмами как единое целое, поэтому создание изобразительных образов помогает получить к ним доступ (Johnson D. R., 1987). Его словесное описание по различным причинам часто представляет серьезную проблему: ребенок может не иметь соответствующего запаса слов для выражения того, что относится к сфере сексуальных отношений взрослого (Kelley S. J., 1984), сексуальное насилие могло быть совершено на превербальной стадии психического развития (Young L., 1992), насильник мог напугать ребенка расправой за разглашение преступления (Sagar С, 1990).
Изобразительное творчество помогает восстановить чувство собственного достоинства (Franklin М., 1992; Stember С, 1980), оживить сферу физических ощущений, заблокированных в результате травмы (Carozza Р. М., Heirsteiner G.L., 1982), и способствовать выражению подавленных чувств (Sagar С, 1990). Восстановление образа «Я» может стимулироваться физическими свойствами изобразительных материалов, которые являются невербальными инструментами для определения относящегося и не относящегося к сфере «Я» (Cody М., 1987).
С. Сагар описывает то, как перенесшие сексуальное насилие дети нередко стараются смешать разные краски и материалы, а затем размазывают их по плоскости или помещают в какую-либо емкость для того, чтобы арт-терапевт сохранил эти «работы» в надежном месте. Подобного рода артефакты могут выражать некую «тайну», которую ребенок должен был до этого держать в себе самом (Sagar С, 1990).
Работа с материалами способствует интеграции личности ребенка и имеет подчас весьма конкретное и ритуальное выражение. С. Сагар (Sagar С, 1990) связывает свои наблюдения за особенностями психических процессов у перенесших сексуальное насилие детей с идеей художественного образа как талисмана. Художественный образ может быть предметом для избирательной проекции чувств ребенка и выполнять роль «козла отпущения». Образ может сохраняться либо разрушаться без причинения ущерба другим людям (Schaverien J., 1987). В противном случае гнев и желание возмездия могли бы выплескиваться на окружающих, порождая тем самым новый цикл насилия (Naitove С. Е., 1988). В тоже время С. Сагар (Sagar С, 1990) и П. Левинсон (Levinson Р., 1986) рассматривают отреагирование агрессивных чувств пострадавшего ребенка как один из факторов его долгосрочной психотерапии.
Индивидуальная и групповая арт-терапия
Интенсивный характер отношений при индивидуальной психотерапии создает для клиента потенциально опасную ситуацию, способную провоцировать травматичный опыт (DeYoung М., Corbin В. А., 1994). Доверие ребенка к психотерапевту может возникнуть при наличии четких границ и структуры психотерапевтических отношений, а также при безусловном принятии детских переживаний и изобразительной продукции (Malchiodi С, 1990). Изобразительную работу можно рассматривать как безопасный и естественный для ребенка вид деятельности (Stember С, 1980; Carozza Р. М., Heirsteiner С. L., 1982; Kelley S. J., 1984), который служит для него «транзитным пространством», более надежным, чем слишком личные по своему характеру отношения переноса (Johnson D. R., 1987).
Подходы к индивидуальной терапии могут быть различными. Б. Пик (Реаке В., 1987), например, видит свою работу «настолько неинтрузивной и недирективной, насколько это возможно». Такой подход обусловлен потребностью клиента ощутить полный контроль над ситуацией. М. Хагуд (Hagood М., 1992), наоборот, утверждает, что до тех пор, пока не будет использована та или иная форма директивной терапии, ребенок будет избегать обсуждения вызванных сексуальным насилием переживаний. П. Левинсон (Levinson Р., 1986) описывает «высвобождающую чувства терапию» в форме структурированной определенным образом игровой деятельности, способствующей отреагированию чувств, связанных с перенесенной травмой.
В отличие от индивидуальной терапии, групповая терапия лишена осложнений от дисбаланса ролевых функций. Поэтому большинство клиницистов рекомендует использовать ее в работе в первую очередь с жертвами сексуального насилия (Knille В. J., Tuana S. J.. 1980; Steward М. S.
6-1508
et al., 1986). Эта форма терапии позволяет преодолеть чувства социальной изоляции и стигматизированности, переживаемые многими жертвами сексуального насилия (Knille В. J., Tuana S. J., 1980; Carozza P. M., HeirsteinerC. L., 1982; Berliner L., Ernst E., 1984; WolfV. В., 1993), а также детьми из дисфункциональных семей. Групповое взаимодействие со сверстниками в присутствии двух психотерапевтов в какой-то мере способствует формированию у них опыта семейных отношений (Steward М. S. et al., 1986, DeYoung М., Corbin В. А., 1994). Для подростков индивидуальная арт-терапия может быть малопригодной из-за присущего им негативного отношения ко взрослым и социальным авторитетам, поэтому работа в группе сверстников подходит им в большей степени (Knille В. J., Tuana S. J., 1980).
В группах перенесших сексуальное насилие детей для вербализации чувств пациентов можно использовать разнообразные изобразительные материалы. Арт-терапевты, работающие с такими детьми, рассматривают художественные образы в качестве основополагающего инструмента коммуникации. Данная невербальная коммуникация в сочетании с переживаемыми ребенком творческими процессами способствует преодолению психической травмы и восстановлению его положительной самооценки (Carozza Р. М., HeirsteinerC. L., 1982; Brooke S. L., 1995). Параллельно с этими формами работы могут проводиться групповые занятия с матерями и иными близкими ребенку лицами, о чем пишет, например, М. Xaryfl(HagoodM., 1991).
Рисунки в качестве инструмента диагностики сексуального насилия
В США уделяется большое внимание разработке таких арт-терапевтических методик, которые могли бы служить инструментом подтверждения фактов сексуального насилия. Основой для работы является предположение о том, что художественные образы, созданные не признающимися в совершении над ними сексуального насилия детьми, могут содержать очень важную информацию об учиненном преступлении. Делаются попытки разработать «графические индикаторы» сексуального насилия (Cohen F. W., Phelps R. Е., 1985; Sidun N. М., Rosenthal R. H., 1987; Hibbard R. A., Hartman G., 1990). Хотя в рисунках перенесших сексуальное насилие детей были выявлены некоторые особенности, имеющие определенную клиническую значимость, исследователи предостерегают от безоговорочного использования этих особенностей для обоснования диагноза сексуального насилия. Специалисты полагают, что эти особенности могут лишь указывать на его вероятность.
Если бы все-таки удалось обнаружить некие «графические индикаторы» сексуального насилия, психотерапевты и социальные работники были бы вооружены эффективным средством как для постановки диагноза, так и проведения судебного расследования (Kelley S. J., 1985; Hagood М. М., 1992). В США, например, были случаи использования детских рисунков в суде в качестве свидетельств, а арт-терапевты неоднократно привлекались к расследованию в качестве экспертов (Malchiody С, 1990).
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
Для того чтобы охватить исследованием многочисленную группу арт-терапевтов, работающих с детьми в разных частях Соединенного Королевства, я решила использовать специальный опросник. Всего было разослано по почте 129 анкет. Ответы были получены примерно от 52% опрошенных, главным образом тех, кто имел определенный опыт работы с перенесшими сексуальное насилие детьми и подростками.
Некоторые вопросы предполагали готовые варианты ответов, другие — ответы в свободной форме: стояла задача получить статистические данные и в то же время качественные описания, характеризующие работу арт-терапевтов с клиентами данной категории. Первая группа вопросов предполагала калибровку и возможность компьютерной обработки информации. Оценка ответов на вопросы второй группы, содержавших разнообразные сведения о чувствах, а также наблюдения и комментарии респондентов были объединены в несколько кластеров со сходными темами и переживаниями. В приведенном ниже описании результатов исследования содержится лишь статистическая информация на 1996 г. Я намеренно исключила из статьи значительную часть статистических данных — так она более удобна для восприятия. Информация дополняется данными моих собственных наблюдений, иллюстрирующих ответы респондентов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Пятьдесят два респондента являлись арт-терапевтами, работающими в системах здравоохранения и образования, в социальной службе и волонтерских организациях. Лишь четыре специалиста полный день работали с перенесшими сексуальное насилие детьми. Большая часть
еспециалистов начинала проводить арт-терапию после выявления фактов насилия. В то же время некоторые из них занимались профилактической, диагностической и экспертно-следственной работой.
Соотношение индивидуальной и групповой арт-терапии
В 1996 г. 358 детей и подростков (201 девочка и 157 мальчиков), перенесших сексуальное насилие, проходили индивидуальную арт-терапию. Примерно четверть респондентов проводила также групповую арт-терапию, и 89 детей участвовали в группах, по крайней мере в течение одного года (67 девочек и 22 мальчика). В тех случаях, когда индивидуальная и групповая арт-терапия сочетались, ребенок включался в группу через некоторое время после начала индивидуальной арт-терапии.
Анализ показывает, что дети до пяти лет участвовали главным образом в индивидуальной арт-терапии, подростки, напротив, занимались в основном в группах. Групповая арт-терапия, как правило, была рассчитана на относительно короткий срок и продолжалась не более девяти месяцев. 61,4% подростков, направленных на индивидуальную арт-терапию, занимались ею более одного года, причем четверть из этого числа — более трех лет. Лишь в некоторых случаях индивидуальная арт-терапия была рассчитана на короткий срок.
Я проанализировала применяемые модели арт-терапевтической работы, имея в виду мысль М. Хагуда (Hagood М., 1992) о том, что в случаях сексуального насилия арт-терапевт должен использовать более директивный подход, чем обычно. Почти все респонденты заявили, что они продолжали использовать обычные подходы, из них 60% подчеркнули, что применяют недирективный подход. Это было аргументировано тем, что перенесший сексуальное насилие ребенок особенно нуждается в хорошем контроле за ситуацией, поэтому директивность со стороны арт-терапевта болезненно им воспринимается. Свободный выбор изобразительных материалов усиливает веру ребенка в свои силы и контроль за ситуацией, является важным психотерапевтическим фактором. Специалисты, занимающиеся как индивидуальной, так и групповой арт-терапией, подчеркивали, что границы и структура психотерапевтических отношений (время, пространство, начало и окончание занятий, доверительность, предоставление ребенку права забирать свои работы или уничтожать их и т. д.) должны быть особенно четкими для того, чтобы сформировать у ребенка чувство «безопасного пространства». При проведении групповой арт-терапии эти границы постоянно контролировались, каждая сессия имела определенную структуру, но участникам группы предоставлялось право свободного выбора материалов, а также использования определенных ритуальных действий, усиливающих ощущение безопасности. Однако некоторые респонденты отмечали, что определенная директивность в начале индивидуальных занятий способствовала снижению тревоги у детей, дискомфортно ощущающих себя один на один со взрослым либо в случаях замешательства со стороны ребенка. Директивность подразумевала, в частности, чтение какой-либо истории или сказки либо предложение использовать новые изобразительные средства. Некоторые респонденты высказывали предположение, что в ряде случаев самим жертвам сексуального насилия свойственны насильственные действия, и они нуждаются в более директивном подходе, поскольку их склонность к идентификации с агрессором ведет к отрицанию как роли агрессора, так и его жертвы.
Психотерапевтические отношения
Очевидно, что фигура арт-терапевта может восприниматься некоторыми детьми как угрожающая, поэтому его роль должна быть четко определена с тем, чтобы сохранить доверие ребенка. Яркие эмоциональные реакции негативного характера могут выплескиваться на арт-терапевта, и он должен хорошо осознавать меру допустимости деструктивных тенденций ребенка. Один арт-терапевт, например, описал, как ребенок при нападении на него использовал краски: «Через 45 минут игры с грязной, влажной массой красок девятилетняя девочка прикоснулась своими испачканными руками к своему лицу. Наблюдая за отражением в окне, она увидела, что ее неясный образ стал походить на чью-то бородатую голову (в тот период я носил бороду и, как узнал в дальнейшем, ее насильник тоже был с бородой). В тот же момент она выплеснула на меня краску».
Иногда арт-терапевт выступает в роли жертвы. Но посредством механизма переноса он, с одной стороны, может восприниматься как лицо, несущее угрозу или незаслуживающее доверия, а с другой — подвергаться идеализации и наделяться магическими свойствами. Избежание оценок в психотерапевтических отношениях признавалось респондентами важной предпосылкой для преодоления ребенком последствий психической травмы. Арт-терапевту, как правило, отводилась роль свидетеля, уважающего личность ребенка и побуждающего его к диалогу. Четкое ощущение несексуального характера интимных взаимоотношений было очень значимо, а анализ реакций переноса приобретал особую важность в тех случаях, когда арт-терапевтом являлся мужчина. По мнению респондентов, при проведении групповой арт-терапии для создания у детей ощущения определенно безопасного пространства желательно участие двух специалистов.
Респонденты отмечали, что дети испытывали потребность в выражении чувств, обусловленных их отношениями с членами семьи. Эти отношения нередко нарушались после того, как родственники узнавали о факте насилия. Кроме того, члены семьи иногда сами были источником насилия. Дети нередко происходили из неблагополучных семей, страдали эмоционально и физически. Для успешного проведения арт-терапии необходимо было не только поддерживать тесные контакты с родителями ребенка, но и представителями социальной службы и иными специалистами, ставя об этом в известность самого ребенка и оговаривая с ним границы конфиденциальности психотерапевтических отношений.
Тревога, связанная с фактором безопасного пространства и надежности личности арт-терапевта в глазах ребенка, нередко проявлялась в отмечаемых детьми изменениях в арт-терапевтическом кабинете. В качестве иллюстрации высокой тревожности ребенка один из арт-терапевтов привел следующее описание: «Он испытывал страхи, связанные с призраками <...> — образами, которые вселяют ужас и которые, по его словам, входят в дом без предупреждения». «Другой ребенок рассказывал о своих фантазиях, в которых совы влетали в комнату, когда он спал».
Возможность вести себя свободно в условиях арт-терапевтического кабинета и ощущение ребенком контроля психотерапевтических отношений и изобразительного процесса рассматривались специалистами как важные условия снижения тревожности у пациента.
Изобразительный процесс
и преодоление психической травмы
Многие арт-терапевты отмечали, что возможность создавать беспорядок, используя изобразительные материалы, очень важна для перенесших сексуальное насилие детей. Временами беспорядочное поведение может выражаться в нападении на арт-терапевта или в стремлении испачкать кабинет. Очень часто отмечается смешивание красок, обильное использование воды или иной жидкости, а также добавление к ним других материалов. Ребенок, как правило, стремится сохранить подобный раствор или «кашу» в течение нескольких недель, закрывая такую смесь
/
в какой-либо емкости. Иногда дети заявляют, что этот раствор является «ядом» или «лекарством».
Дети могут использовать изобразительные материалы необычным образом: накладывать один слой краски на другой, заворачивать материалы в бумагу или ткань, а затем разворачивать их. Кроме того, они иногда имеют склонность выбирать любые доступные материалы и предметы, не применяемые обычно в художественной работе. Они нередко обнаруживают высокую чувствительность в работе с материалами. Это проявляется не только в том, что, например, запах фломастеров имеет для них большое значение, а клей ПВА может вызвать отвращение, но и в том, что они с удовольствием используют глину, мыло, воду или краску, нередко нанося их на свою кожу. Один арт-терапевт привел следующий пример. «Я занимался раскрашиванием лица с пятнадцатилетней девочкой по имени Стеси. Она была плотного телосложения и выглядела очень закрепощенной. Мы сидели лицом к лицу, сначала она раскрасила мое лицо, затем я — ее. Мне запомнилась поразительно нежная атмосфера этого занятия. Я до этого нередко использовал технику раскрашивания лица в своей работе с детьми начальных классов. Однако на этом занятии я пережил ошеломивший меня непосредственный контакт со своим "внутренним ребенком"».
Раскрашивание ладоней и рук, а также лица, по-видимому, передает переживаемое ребенком состояние «внутренней загрязненности» и «хаоса». По этой же причине некоторые дети весьма настороженно относятся к нанесению краски на свою кожу, и процедура ее смывания представляет для них особую значимость. Они нередко просят арт-терапевта помочь им помыться, очевидно для пущей уверенности в том, что они «чистые».
Дети находят различные способы для передачи своего чувства внутренней ущербности, часто прибегают к метафорам. Например, одна из моих клиенток — шестилетняя девочка — создала «рассказ в картинках», героем которого являлась маленькая свинка. Ее ранил охотник, и после этого она должна была лечь в больницу. Всякий раз, когда свинку привозили на рентген, врачи видели внутри ее тела занозы и камни, которыми мужчина избивал свинку. Девочка считала, что эта свинка, которая чуть не умерла, должна поправиться от рентгеновского облучения, но не от хирургической операции.
Две девочки играли в «беременность». Они собирались пройти обследование и нарисовали экран аппарата, который должен был показать, «что находится у них внутри». Эта игра позволила подойти затем к обсуждению чувства тревоги, вызванного их опасениями из-за возможной беременности в результате насилия».
Многие респонденты отмечали стремление детей портить «хорошие» или «чистые» рисунки, закрашивая, сжигая или протыкая их. Эта тенденция определенным образом связывалась с тем, что жертвы насилия сами склонны его совершать.
Гнев и желание наказать обидчика направляются на изобразительные материалы и являются причиной повреждения уже созданных образов. Глиняные фигурки протыкаются или сминаются. Дети могут бросить сырую глину в изображение обидчика, скомкать готовые рисунки и бросить их в мусорное ведро, топтать или рвать их на куски (рис. 2.11а, б, в).
Некоторые рисунки свидетельствуют о попытках детей преодолеть психическую травму посредством механизма «расщепления»: изображение поляризуется на две отражающие разные грани переживаний части (рис. 2.12).
Положительные стороны изобразительного процесса, связанные, в частности, с ощущением ребенком контроля над ним, повышением самооценки и изменением восприятия своего «Я», прояснением непонятных переживаний и их осознанием в доступной ребенку степени и с удовлетворяющей его скоростью, являются очень значимыми.
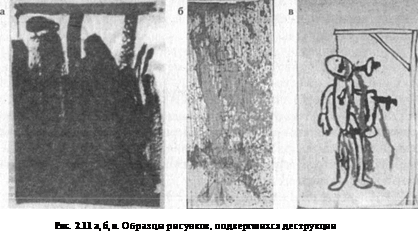
Изобразительная работа предоставляет необходимый «словарь» для отражения травматичного опыта и его аналитической переработки, хотя ребенок может этому сопротивляться. Если у ребенка имеются позна
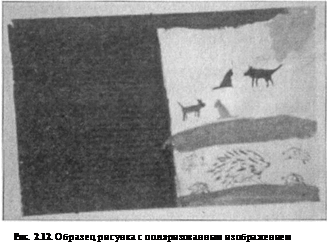 |
вательные нарушения, арт-терапия может в какой-то мере способствовать формированию его идентичности.
С изобразительным процессом связана возможность обретения ребенком чувства жизненной перспективы. Нередко образы передают движение и рост. Дети сочетают изобразительную деятельность с игрой, подобно тому как это представлено в следующем описании, иллюстрирующем арт-терапевтическую работу в группе девочек. «Девочки решили, что будут изображать новорожденных. Они прижимались к животу женщйны-арт-терапевта, изображая ребенка в утробе матери. Затем они изображали, как новорожденные пьют из бутылочек и плачут, требуя, чтобы им поменяли подгузники. Некоторые девочки совместно пытались раскрасить разными красками лист бумаги, изображающий внутренние стенки матки, используя вместо кисточек руки (рис. 2.13). Чуть позже одна из девочек показала каракули, изображающие «первый рисунок ребенка» (рис. 2.14).
Многие респонденты отмечали определенное влияние работы с пережившими сексуальное насилие детьми на свое эмоциональное состояние. Они констатировали ощущение упадка сил, психического напряжения или депрессии. Нередко появлялся страх, в особенности когда ребенок воспроизводил комплекс эмоциональных переживаний, вызванных насилием. Особенно тяжелыми были моменты, в которые арт-терапевт пытался разделить с ребенком его чувство горя и непереносимые
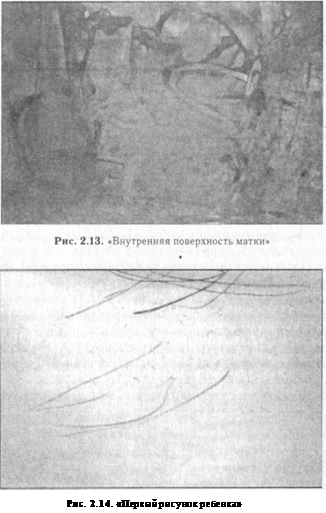 |
для маленького человека воспоминания. Ряд специалистов подчеркивал необходимость ясных границ психотерапевтического альянса для самого арт-терапевта, а также желательность регулярных супервизий и поддержки со стороны коллег. Отмечалось и то, что в качестве своих клиентов арт-терапевт должен иметь ограниченное число детей, перенесших сексуальное насилие.
Арт-терапия как источник свидетельств преступления
Примерно 50% опрошенных арт-терапевтов были знакомы с американскими публикациями, в которых описывается практика использования изобразительной продукции детей для выявления «графических индикаторов» сексуального насилия. Лишь треть из этого числа считала подобную практику оправданной. Большинство полагало, что «графические индикаторы» являются слишком жесткими и «культурально детерминированными», в то время как изобразительный язык детей отличается индивидуальностью и связан с контекстом психотерапевтических отношений. Британские арт-терапевты считают, что существует слишком мало оснований для рассмотрения тех или иных универсальных символов в качестве индикаторов сексуального насилия, и поэтому их использование в следственной практике преждевременно.
Небольшая часть опрошенных арт-терапевтов полагала, что изобразительная продукция может быть признана свидетельством при условии согласия самого ребенка, а также при том, что арт-терапевт будет рассматривать ее в определенном контексте.
Респонденты отмечали субъективный характер образов и сложность их однозначного толкования, с чем связывалась нецелесообразность их использования для получения свидетельств насилия. В частности, образы сексуального характера вовсе не обязательно должны подтверждать насилие. Большинство арт-терапевтов считало, что образы должны быть столь же конфиденциальным материалом, как и вербальные отчеты клиентов, их привлечение к материалам следствия может нарушить доверительный характер психотерапевтических отношений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сексуальное насилие над детьми — это грубое вторжение в суверенную область их хрупкого психологического и физического «Я». Поэтому закономерно, что участники опроса подчеркивали важность формирования четких границ психотерапевтических отношений в плане их пространственно-временной организации, содержания сессий, высокого взаимного доверия, предоставления ребенку права уносить с собой или уничтожать свои работы, «удерживания» разрушительных и агрессивных тенденций, а также тщательного планирования начала и завершения сессий.
\ Респонденты отмечали, что надежность границ психотерапевтических отношений — необходимый фактор арт-терапевтического процесса, позволяющий создать «безопасное пространство» для выражения ребенком своих чувств и укрепления его идентичности. Арт-терапевт должен избегать критических оценок и быть готовым к безусловному принятию переживаний ребенка. В то же время ему необходимо формировать определенную систему норм, предотвращающую «выплескивание» чувств.
Изобразительные материалы и процесс художественного творчества являются дополнительными факторами в восстановлении и укреплении идентичности ребенка. Физические качества материалов обеспечивают разнообразные формы манипуляций, такие как смешивание и разбрызгивание красок и иных жидкостей. Работа с материалами зачастую отражает повторное переживание ребенком нанесенной ему травмы и обеспечивает восстановление психической чувствительности. Иногда подобные переживания воплощаются в образах. Это может предупреждать их навязчивое «выплескивание» в дальнейшей жизни ребенка в различных агрессивных и аутоагрессивных формах (в частности, в форме расстройств питания). Аналогичным образом отреагирование гнева и реализация стремления наказать обидчика посредством определенных манипуляций с изобразительными материалами и образами снижает вероятность насильственных действий со стороны ребенка. Однако это подтверждают лишь лонгитюдные наблюдения.
Арт-терапевты могут переживать высокое психическое напряжение, упадок сил, тревогу и депрессию. Это определяет необходимость в их психологической поддержке и супервизиях, а также в ограничении числа клиентов. Четкие границы психотерапевтических отношений, по-видимому, необходимы не только в интересах клиента, но и самого арт-терапевта.
\
ЛИТЕРАТУРА
Berliner L., Ernst Е. Group Work with Pre-Adolescent Sexual Assault Victims. Victims of Sexual Aggression. Stuart I. R., Greer J. G. (eds.). New York: Van Nos-trand Rheinhold, 1984.
Brooke S. L. Art Therapy: An Approach to Working with Sexual Abuse Survivors // The Arts in Psychotherapy. Vol. 22. № 5. 1995. P. 447-466.
Browne A., Finkelhor D. Impact of Child Sexual Abuse: A Review of the Research // Psychological Bulletin. Vol. 99. № 1. 1986. P. 66-77.
Carozza Р. М., Heirsteiner С. L. Young Female Incest Victims in Treatment: Stages of Growth Seen with a Group Art Therapy Model / / Clinical Social Work Journal. Vol. 10. № 3. 1982. P. 165-175.
Cody M. Art Therapy within a General Hospital Paediatric Unit, Image and Enactment in Childhood. Conference proceedings, Hertfordshire College of Art and Design, 1987. P. 40-43.
Cohen F. W., Phelps R. E. Incest Markers in Children's Artwork / / The Arts in Psychotherapy. № 12. 1985. P. 265-283.
DeYoung M., Corbin B. A. Helping Early Adolescents Tell: A Guided Exercise for Trauma Focused Sexual Abused Treatment Groups / / Child Welfare. Vol. LXXIII (2). 1994. P. 141-153. '
Franklin M. Art Therapy and Self-esteem // Art Therapy. Vol. 9. № 2. 1992. P. 78-84.
Hagood M. M. Group Art Therapy with Mothers of Victims of Child Sexual Abuse //The Arts in Psychotherapy. № 18. 1991. P. 17-27.
Hagood M. M. The Status of Child Sexual Abuse in the United Kingdom and Implications for Art Therapists / / Inscape. Spring 1992. P. 27-33.
Hibbard R. A., Hartman G. Genitalia in Human Figure Drawings: Child-rearing Practices and Child Sexual Abuse / / Paediatrics. Vol. 116. № 5. 1990. P. 822-828.
Johnson D. R. The Role of the Creative Arts Therapies in the Diagnosis and Treatment of Psychological Trauma / / The Arts in Psychotherapy. № 14. 1987. P. 7-13.
Kelley S. J. Drawings: Critical Communications for Sexually Abused Children / / Paediatric Nursing. № 11 (Nov./Dec/). 1985. P. 421-426.
Kelley S. J. The Use of Art Therapy with Sexually Abused Children / / Journal of Psychosocial Nursing. Vol. 22. № 12. 1984. P. 12-18.
Knille B. J., Tuana S. J. Group Therapy as Primary Treatment for Adolescent Victims of Intrafamilial Sexual Abuse / / Clinical Social Work Journal. № 8. 1980. P. 236-242.
Levinson P. Identification of Child Abuse in the Art and Play Products of the Paediatric Burn Patients / /Art Therapy. July 1986. P. 61-66.
Malchiody C. Breaking the Silence. New York: Brunner / Mazel, 1990.
Naitove С. E. Arts Therapy with Child Molesters: An Historical Perspective on the Act and an Approach to Treatment / / The Arts in Psychotherapy. № 15. 1988. P. 151-160.
Peake B. A. Child's Odyssey toward Wholeness through Art Therapy / / The Arts in Psychotherapy. № 14. 1987. P. 41-58.
Sagar C. Working with Cases of Child Sexual Abuse. Working with Children in Art Therapy. Case C, Dalley T. (eds.), London and New York: Routledge, 1990. P. 89-114.
Schaverien J. The Scapegoat and the Talisman: Transference in Art Therapy. Images of Art Therapy. London and New York: Tavistock, 1987.
Sidun N. М., Rosenthal R. H. Graphic Indicators of Sexual Abuse in Draw-a-Person Tests of Psychiatrically-hospitalised Adolescents / / The Arts in Psychotherapy. № 14. 1987. P. 25-33.
Stember C. Art Therapy: A New Use in the Diagnosis and Treatment of Sexually Abused Children. Sexual Abuse of Children: Selected Readings. Washington, DC: US Department of Health and Human Services, 1980.
Steward M. S., Farquar L. C, Dicharry D. C, Glick D. R., Martin P. W. Group Therapy: A Treatment of Choice for Young Victims of Child Abuse / / International Journal of Group Psychotherapy. Vol. 36. № 2. 1986. P. 261-275.
Wolf V. B. Group Therapy of Young Latency Age Sexually Abused Girls // Journal of Child and Adolescent Group Therapy. Vol. 3. № 1. 1993. P. 25-39.
Young L. Sexual Abuse and the Problem of Embodiment // Child Abuse and Neglect. № 16. 1992. P. 89-100.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ В ФОРМИРОВАНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
Мари Мауро
Статья печатается по изданию: Mauro М. К. The Use of Art Therapy in Identity Formation: A Latino Case Study. Tapestry of Cultural Issues in Art Therapy / Hiscox A. R., Calisch A. C. (eds.). London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 1998. P. 134-153.
Сведения об авторе. Мари Мауро — дипломированный арт-терапевт, работает в США с подростками и взрослыми, являющимися амбулаторными и стационарными психиатрическими пациентами.
«Культура является коллективным выражением совокупной "личности" той или иной группы людей — ее потребностей, ценностей и идей. Она представляет собой сумму знаний и установок, особенностей мышления, действий и эмоциональных проявлений» (Tseng, McDermont, цит. по: CattaneoM., 1994, р. 184). Кросс-культурные исследования свидетельствуют о том, что культура формирует определенные модели восприятия действительности, обусловливающие человеческое поведение (Kagawa-SingerM., ChungR., 1994). Религиозные верования, расовая принадлежность и национальность влияют на модели взаимодействия людей друг с другом (Chiu Т., 1994). Таким образом, окружающая среда и своеобразие социального и политического опыта во многом определяют способы контакта специалистов, работающих в сфере психического здоровья, с их клиентами.
Методы психологической оценки, а также установки, действующие в этой сфере, призваны защитить интересы прежде всего белых представителей американского среднего класса, что нельзя не счесть признаком сохраняющейся в обществе «культурной слепоты» (Pinderhughes Е., 1989). Ее можно рассматривать как форму институционализированного расизма, ведущего к формированию пониженной самооценки у представителей культурных меньшинств (Martinez R., Dukes R., 1991). П. Пе-дерсен (Pedersen Р., 1991) определяет мультикультурализм как «четвертую силу» в психологии наряду с психоаналитическим, бихсвиоральным и гуманистическим подходами. Мультикультурализм связан с признанием культурных различий, с одной стороны, и человеческой общности вне зависимости от культурной среды — с другой. Для того чтобы по достоинству оценить культурную идентичность того или иного клиента, занятые в сфере охраны психического здоровья специалисты должны понимать культурные вариации и то, каким образом культура может развиваться и изменять свое лицо. Система услуг в этой сфере должна допускать возможность получения клиентом тех или иных видов помощи в соответствии с присущим ему уровнем аккультуризации или ассимиляции, с тем чтобы обеспечить уважение его культурной идентичности (Pinderhugh.es Е., 1989).
Культура влияет на восприятие человеком биологических и психических процессов и тем самым оказывает воздействие на проявления психического расстройства и реакций на его лечение (Chiu Т., 1994; Furnham A., Malik R., 1994). Было отмечено, например, что представители латиноамериканской культуры склонны связывать психические расстройства с имеющейся у человека физической «хилостью» или «слабостью» его нервной системы (Chiu Т., 1994).
Необходимость в подготовке сенситивных в культурном отношении специалистов (в частности, психологов) в настоящее время признается Американской психологической ассоциацией и Американской ассоциацией консультирования. Тем не менее программы подготовки психологов за последние годы изменились мало. Культурные факторы, влияющие на психологическую идентичность и поведение людей, в практике подготовки специалистов служб психологического консультирования часто попросту игнорируются (Atkinson D., Morten G., Sue D., 1993). В 1998 г. Американская психологическая ассоциация поставила перед собой задачу активизировать работу, направленную на учет потребностей представителей различных культурных и этнических групп населения, а также совершенствование служб, оказывающих им психолого-психотерапевтическую помощь. Кроме того, Американской психиатрической ассоциацией было признано, что ныне действующее Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (DSM-III-R) основано на изучении представителей западной популяции, в связи с чем психиатрам было рекомендовано адаптировать Руководство к условиям работы с представителями других — незападных — культур, с тем чтобы учесть различие в языке, ценностях и нормах их поведения (Hag-highatR., 1994).
Культура определяет своеобразие чувства «Я» и является одним из факторов формирования психической целостности. В соответствии с идеями Э. Эриксой (Erikson Е., 1968), одним из признаков здоровой самооценки является культурное чувство «Я». Акцент на культурной идентичности позволяет укрепить положительное представление человека о себе самом и тем самым способствует его психической интеграции (Ріп-derhughes Е., 1989, р. 18). «Оптимальная психическая идентичность связана с чувством психосоциального благополучия. Ее слагаемыми являются: устойчивый телесный образ "Я", знание человеком направления, в котором он движется по жизни, а также внутренняя уверенность в том, что он будет признан в кругу значимых для него лиц» (Erikson Е., 1968, р. 165).
Э. Эриксон характеризует подростковую фазу психического развития как период стремления субъекта разрешить конфликты, связанные с его психической идентичностью. Эриксон предполагал, что для формирования идентичности характерно наличие либо отсутствие кризисных состояний, а также в той или иной степени проявленной приверженности определенной системе ценностей, верований и стандартов. Ограниченность его концепции связана с тем, что она основана на исследовании белых представителей западной культуры. Члены некоторых «цветных» этнических групп очевидно отличаются от них по типу формирования психической идентичности. Антропологи и социологи, работающие преимущественно с представителями азиатской, африканской и латиноамериканской популяций, указывают на то, что психическая зрелость этих лиц имеет несколько иное содержание в том, что касается их чувства принадлежности к семье и роду, психологической независимости и взаимной ответственности. Психологи, работающие в основном с белыми представителями среднего класса, скорее будут склонны связывать психическую зрелость с индивидуализмом, автономностью и независимостью (Markstrom-Adams С, Adams G., 1995). Выходцев же из Латинской Америки характеризует то, что семья является для них очень важным понятием, определяющим отношение к ценностям индивидуализма (Moreno G., Wadeson Н., 1986). Представление о человеке в какой-то мере опосредуется социальными и культурными нормами. Психическая идентичность в значительной мере определяется внешними нормами независимо от того, вписывается человек в эти нормы или нет (Wieser J., 1994).
Д. Аткйнсон, Г. Мортен и Д. Сью (Atkinson D., Morten G., Sue D., 1993) разработали пятиступенчатую модель развития представителей культурных и этнических меньшинств. Эта модель (см. табл. 2.1) представляет собой схему, помогающую специалистам в области психологического консультирования и психотерапии осознать особенности установок и поведения их клиентов, представляющих культурные меньшинства.
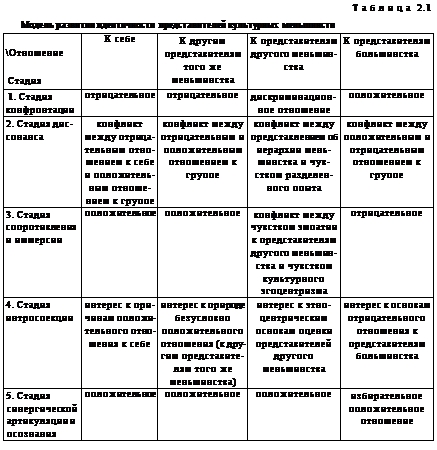
Аткинсон и соавторы считают, что далеко не все представители меньшинств проходят на протяжении своей жизни все пять стадий. Кроме того, стадии не всегда проходятся последовательно. Основная задача этой модели — помочь специалистам в осознании того, какую роль играет дискриминация представителей меньшинств в процессе формирования их психической идентичности, равно как и различий, существующих между отдельными представителями одной и той же малой культурной группы. Кроме того, эта модель подводит к пониманию того, что психическая идентичность представителей меньшинств может изменяться на протяжении их жизни (р. 33). М. Катанео (Cattaneo М., 1994) отмечает, что для оценки правильности мыслительных процессов клиента, его проблем и верований специалист должен знать, каким образом его собственные ценности, культурный опыт и установки могут влиять на формирование конструктивных психотерапевтических отношений. Негативные эмоции и амбивалентное отношение могут быть результатом культурных различий (Pinderhugh.es Е., 1989). Этническая идентичность и уровень аккультуризации, семейная динамика, полоролевая социализация, религиозный и духовный опыт, а также опыт иммиграции являются теми переменными, которые следует учитывать при оказании психолого-психотерапевтических услуг (Lee С. С, 1991). Клиент, ощущающий свое отличие от психотерапевта, очевидно, будет склонен подозревать последнего в неискренности и неспособности понять проблемы своего социального бытия (Davis L., Proctor Е., 1989).
Культурный опыт во многом определяет, что именно клиент считает своей проблемой, к кому он склонен обращаться за помощью и каким образом он представляет эту проблему в общении со специалистом (Pin-derhughes Е., 1989). Культурный барьер может осложнять психотерапевтический процесс и вести к преждевременной терминации и ошибочной диагностике. В качестве составляющих этого барьера в кросс-культурной психотерапии можно считать различия языка, форм полового поведения, игнорирование системы поддержки клиента, неверно построенную процедуру психологического обследования, а также опору специалиста исключительно на линейное мышление (Westrich С, 1994). Так, язык очень часто создает препятствие для психотерапевтической коммуникации и может быть причиной неверного понимания ее участниками друг друга. Клиент может не владеть языком в той степени, которая необходима для того, чтобы использование вербальной психотерапии было эффективным, особенно в тех случаях, когда психотерапевт опирается на комплексные когнитивные представления, необходимые для достижения ин-сайта (Atkinson D., Morten G., Sue D., 1993).
Как отмечают К. Кервин и соавторы (Kerwin С, et al, 1993), лица смешанной расы не склонны воспринимать себя в качестве «маргиналов» ни в одной из культурных сред, с которыми они связаны по своему происхождению. Однако, согласно Н. Винн и Р. Прист (Winn N., Priest R., 1993), дети смешанной расы очень часто поставлены перед дилеммой выбора культурной идентичности одного из своих родителей в качестве доминирующей. Многие пациенты смешанной расы, участвующие в психотерапевтической работе, обнаруживают сниженную самооценку, социальную изоляцию, депрессивные переживания и плохую социальную приспособляемость. Расовая идентичность, по-видимому, является одной из главных компонент, которую следует учитывать для достижения лучшего понимания клиентом самого себя (Winn N., Priest R., 1993).
Латиноамериканцы являются вторым по численности меньшинством в Соединенных Штатах Америки. Они значительно отличаются друг от друга по степени аккультуризации и, следовательно, по типу своих проблем. Последние могут включать переживание вины из-за неспособности полноценного осуществления материнских функций и отрыва от семьи в результате переезда на новое место жительства, а также устойчивое ощущение себя в качестве гражданина «второго сорта» (Lee С. С, 1991). Религиозный и духовный опыт неотделим от культуры и является важным фактором, влияющим на верования и состояние психического здоровья. Так, например, в одних случаях заболевание может связываться с особенностями поведения человека, в других же, — главным образом с внешними факторами, такими как грязный воздух или резкие перепады температуры (Sue D., Ivey A., Pedersen P., 1996). Учитывая все это, следует признать, что корректные в культурном, духовном и социальном отношениях формы психотерапевтической интервенции имеют первостепенную значимость(Lee С. С, 1991).
Изобразительное искусство является альтернативой вербальной коммуникации, с ним связаны иные модели психотерапевтической интеракции (Burt Н., 1993). Ш. МакНифф утверждает, что арт-терапия обладает «уникальным потенциалом в плане создания кросс-культуральной теории психотерапевтической работы, основанной на признании универсального характера творческих процессов <...>, поскольку воображение является значимым фактором изобразительной работы» (цит. по: Wes-trich С, 1994, р. 188). Все люди без исключения, независимо от возраста, расового и национального происхождения, обладают способностью к творчеству. В то же время форма художественной экспрессии во многом связана с культурой. В художественном творчестве проявляются культурные установки (Cattaneo М., 1994). Через визуальные образы люди передают представления о самих себе, свои чувства и то, в какой мере они идентифицируют себя с конкретной культурой. Важно осознать, что диагностическая функция изобразительного творчества может быть адекватно реализована лишь в условиях учета культурной среды (Сат-panelli М., 1991). Так, например, для рисунков мексиканца могу быть характерны жирные контуры фигур, в то время как в рисунках японца обнаруживается много свободного пространства. Оба этих примера демонстрируют связь изобразительной экспрессии с определенной культур-ной-традицией.
Художественные образы могут, как известно, выступать в качестве своеобразных метафор, позволяющих оценивать различные аспекты психической жизни или условий существования их автора (Riley S., 1994). Исследования, проведенные Т. Тиббетс и Б. Стоун (Tibbetts Т., Stone В., 1990), свидетельствуют о том, что краткосрочная арт-терапия является особенно эффективной в работе с подростками, имеющими эмоциональные или поведенческие нарушения. Арт-терапия, как правило, способствует укреплению их психической идентичности, что в свою очередь помогает достичь более реалистичного и менее дефензивного взгляда клиентов на ситуацию и самих себя.
По данным X. Квятковска (Kwiatkowska Н., 1978), использование техники «портрет семьи» помогает понять роли ее членов и их взаимоотношения. Семья является носителем определенных «истин», которыми руководствуются ее члены, по мере того как каждое поколение сталкивается с новой для себя социальной реальностью (Riley S., 1994). Поскольку культура оказывает влияние на модели семьи, очень важно понять условия воспитания и происхождения клиента. Кроме того, реакции клиента на психотерапевтическую интервенцию могут во многом определяться семейной динамикой. Так, например, для выходцев из Латинской Америки характерно стремление искать психологическую поддержку в первую очередь у членов своей семьи. К психиатрии и психотерапевтической работе они обращаются лишь в исключительных случаях (Moreno G., Wadeson Н., 1986).
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: СЛУЧАЙ С МЕГАН
Меган — 16-летняя иммигрантка из Панамы. Она была помещена в психиатрическую больницу в связи с неправильным поведением. С 12 до 14 лет она, живя в Панаме, злоупотребляла алкоголем. Накануне госпитализации Меган выпила четырнадцать унций рома и затем отрезала голову кошке. Ее сестра сообщила, что Меган сделала это потому, что молодой человек, в которого она была влюблена, не обращал на нее никакого внимания. Родственники отмечали у нее периодические внезапные перепады настроения. В момент поступления в психиатрическую больницу она отрицала намерение покончить жизнь самоубийством.
Меган была самой младшей из четырех детей. Она родилась в Панаме, где и жила со своей матерью и отчимом до 13 лет. В детстве она нередко подвергалась унижениям и физическому насилию. Ее мать часто работала по ночам. Отчим же злоупотреблял алкоголем. Когда матери не было дома, отчим неоднократно домогался девочки. Когда Меган исполнилось 13 лет, мать отправила ее в США к старшей сестре. На момент поступления в психиатрическую больницу Меган проживала с несшими за нее ответственность сестрой (31 год) и деверем (32 года).
Меган училась в одиннадцатом классе школы и получала в основном хорошие и удовлетворительные оценки. Годом раньше ее успеваемость была хуже. В школе ей удалось подружиться с некоторыми девочками и мальчиками. Она была довольно общительной, хорошо танцевала и занималась в драматическом кружке. Интерес к каким-либо другим видам увлечений и внеклассной работе у нее был низкий.
В шестилетнем возрасте она однажды подожгла матрас, а в четырнадцатилетнем, считая себя излишне полной, в течение месяца вызывала у себя рвоту. Однажды она перерезала себе вены на запястье, а в другой раз приняла большую дозу ибупрофена (почувствовав себя плохо, она не смогла выпить весь флакон). В школе Меган посещала групповые занятия с психологом один раз в неделю.
Данная госпитализация Меган в психиатрическую клинику была для нее первой. В прошлом она никогда не лечилась в больницах и не подвергалась хирургическим операциям, хотя опыт общения с врачами имела — она страдала бронхиальной астмой и контрактурой бронхов. Во время нашей первой беседы, организованной для сбора анамнестических данных и объяснения задач совместной работы, Меган выглядела опрятно и была одета по сезону. Она смотрела на собеседника и задавала вопросы по существу — о целях нашей работы. Она не испытывала каких-либо трудностей в выборе английских слов и могла вполне эффективно общаться со мной.
Меган была достаточно ориентирована во времени, месте, собственной личности и ситуации. Ее отличала яркость эмоциональных проявлений. Ей были, очевидно, небезразличны род исследования или вид работы, которые я была намерена с ней проводить. Она попросила меня дать время обдумать мое предложение провести с ней арт-терапевтические занятия и решить, стоит ли соглашаться. Прежде чем пойти на участие в арт-терапевтических занятиях, Меган задала мне несколько вопросов: «Кто Вы по национальности? Сколько Вам лет? Как долго Вы здесь работаете?» Тем самым она пыталась определить для себя, стоит ли мне доверять, и в какой степени она может идентифицироваться со мной.
Первое занятие
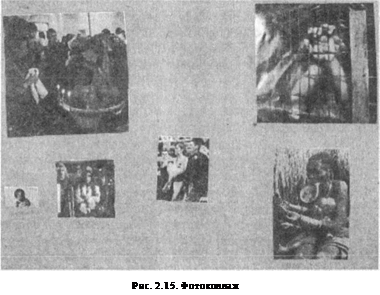 |
Техника журнального фотоколлажа, разработанная X. Ландгартен (Landgarten Н., 1994), является «эффективной методикой, обладающей большими возможностями при работе в мультикультурной среде, с разными по этническому происхождению клиентами» (р. 219). Она может быть использована как с психотерапевтической, так и с диагностической целью. Выбираемые клиентом картинки способны выявить темы и проблемы, остающиеся нераскрытыми в вербальном общении с ними. Кроме того, эта техника позволяет преодолевать культурные различия между клиентом и психотерапевтом. X. Ландгартен отмечает, что использование техники журнального фотоколлажа позволило ей работать с некоторыми «закрытыми» темами, значимыми для выходцев из Азии, а также способствовало налаживанию эффективной коммуникации с иммигрантами из Латинской Америки. Меган начала работу с большим воодушевлением. Она действовала в соответствии с инструкцией и проявляла самостоятельность. Выбирая картинки для своего коллажа, она то и дело обменивалась со мной фразами. Закончив работу, она дала названия каждому из фрагментов композиции (рис. 2.15), связав их с наиболее яркими впечатлениями своей жизни: «Крещение»,'«Изоляция», «Невинность», «Успех», «Сила» и «Традиция».
Наиболее значимым для Меган оказался фрагмент «Изоляция». Девушка прокомментировала его следующим образом: «Это одинокая маленькая девочка; ее обидели, и ее глаза печальны». Меган пояснила, что ей трудно жить, поскольку она иммигрантка, не имеет разрешения на работу, говорит с акцентом и люди нередко смеются над ней. По поводу фрагмента «Традиция» она сказала, что он ассоциируется у нее с латиноамериканцами, «раздающими детям тумаки»: на ее родине люди строго обращаются с детьми, и мать Меган, воспитывая ее, регулярно прибегала к физической силе. Фрагмент «Крещение» Меган связала с ощущением своей греховности — она не ходит в церковь, и в ее жизни «происходило слишком много плохого».
По поводу фрагмента, названного «Невинность», она заявила: «Это то, что я потеряла», — а по поводу картинки «Сила» сказала, что это та сила, позволяющая переносить пребывание в психиатрической больнице. Картинка «Успех» означала для нее качество, которое она хотела бы иметь и которым она, по-видимому, сможет обладать, если будет хорошо трудиться.
На этом занятии Меган рассказала мне о своей жизни в Панаме и школьных проблемах, связанных с ее принадлежностью к меньшинству. Она была искренней, хотя ее манеры производили впечатление некоторой театральности. Временами она возвращалась к отношениям со своим бывшим другом. Меган говорила, что никто не знает о том, кем она является на самом деле. Так, например, школьные учителя видят в ней лишь «пуэрториканку», и их представления о ней не выходят за рамки стереотипов.
Второе занятие
По утверждению Л. Гольдшейдер (Five Hundred self-portraits, 1937), самым первым в истории автопортретом является изображение Пта-Хо-тепа, найденное при раскопках в районе, прилегающем к пустыне Сахара. В дальнейшем разными художниками были созданы сотни автопортретов. Особо следует упомянуть Рембрандта, который на протяжении своей жизни написал их великое множество. X. Чапман (Chapman Н., 1990) замечает, что наиболее ранние автопортреты Рембрандта отражают становление его самосознания. Создание автопортретов во все времена служило самоутверждению и укреплению психической идентичности (Wade-son Н., Durkin J., Perach D., 1989).
Подростки нередко создают изображения автопортретного характера, которые можно считать средством постижения ими своего «Я» (Mal-chiodi С, 1990). Создание автопортретов в арт-терапевтической работе помогает выявить способность клиентов к принятию иного образа «Я» и их наиболее значимые проблемы (Wadeson Н., Durkin J., Perach D., 1989). Кроме того, как утверждает В. Окландер (Oaklander V., 1988), «телесный образ "Я" выступает в качестве значимого показателя принятия человеком самого себя» (р. 284).
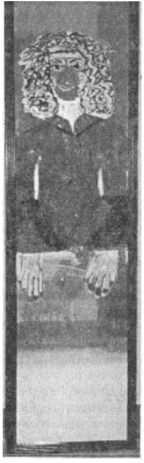 |
На втором занятии Меган была довольно активной и много говорила. Она рассказывала о себе, своей семье, друзьях, о том, что ее отчим пытался трогать ее за грудь, а мальчики в школе испытывают к ней лишь сексуальный интерес. Она призналась, что накануне поступления в психиатрическую больницу даже хотела отрезать себе грудь, но вместо этого отрезала голову кошке. Она также сказала, что учителя в школе видят лишь ее внешнюю сторону, не воспринимая ее подлинное «Я». По ее мнению, для них она является лишь «пуэрториканской потаскушкой».
Когда я спросила Меган, кем она является на самом деле, она ответила, что воспринимает себя в роли печальной, одинокой девушки, после чего перешла к изложению своих положительных качеств. Она поделилась со мной тем, что у нее всегда вызывают возмущение и гнев попытки людей воспринимать ее в соответствии со стереотипами. Затем она рассказала о бывшем друге, который оставил ее и стал дружить с другой девушкой из-за того, что Меган отказалась вступить с ним в половой контакт, а также о своих отношениях с лицами мужского пола — их общение обычно оказывалось непродолжительными из-за ее неспособности к эмоциональной близости с ними и того, что они хотели лишь ее тела.
К работе над автопортретом ОНа ОТНеСЛаСЬ рис. 2.16. «Автопортрет
с энтузиазмом: вначале обвела контуры своего в зеркале»
лица, тщательно выверяя пропорции, затем стала подбирать оттенки, соответствующие цвету ее волос и кожи. Эти оттенки действительно соответствовали оригинальным. Создавая иссиня-черный оттенок для изображения волос, она сказала, что хотела бы иметь светлые волосы, и хотя естественный цвет ее волос ей нравится, светлые волосы, по ее мнению, наиболее красивы. Изображая торс, она вначале закрасила его контур телесным цветом, создав тем самым свое обнаженное (однако лишенное половых признаков) изображение, а потом стала накладывать второй слой красок, соответствующий одежде. В конце концов на рисунке предстала девушка в ярком, декорированном платье (рис. 2.16).
Сексуальные переживания Меган имели двойственный характер. Образ «пуэрториканской потаскушки» вызывал у нее явное неприятие. То, что на автопортрете ее тело и запястья закрыты платьем, можно рассматривать как отражение защитной реакции и в то же время попытку скрыть следы сделанных ею ранее порезов. Обращает на себя внимание и то, что она не изобразила свое тело целиком. Отсутствие его нижней части можно расценить, как стремление скрыть свою сексуальность.
Третье занятие
По мнению Р. Берне и X. Кауфман (Burns R., Kaufman Н., 1972), кинетический рисунок семьи «отражает внутренние дисгармонии гораздо более точно, чем вербальный опрос клиента или использование иных методов» (р. 2). Эта техника позволяет выявить чувства гнева и депрессии, бессилия и страха, а также дефицит доверия клиента к специалисту (Wohl, Kaufman, цит. по: Malchiodi С, 1990).
Меган нарисовала свою семью в гостях у деверя (рис. 2.17). Она изобразила родственников, проживающих в США, но не изобразила мать и отчима. Себя она поместила рядом с двадцатилетней сестрой, с которой часто делилась своими переживаниями. Она особо остановилась на весьма напряженных отношениях со старшей сестрой и призналась, что та трижды порывалась задушить ее, и попыталась объяснить мне причины, по которым сестра могла испытывать к ней столь отрицательные чувства. Работа над рисунком и его обсуждение позволили выявить определенные семейные проблемы, среди которых одни имели культурный, а другие — дисфункциональный характер.
Меган сказала, что боится быть депортированной обратно в Панаму. Судя по рисунку и словам она переживала сложные отношения в семье: старшая сестра хотела отправить ее на родину, а деверь стремился удер 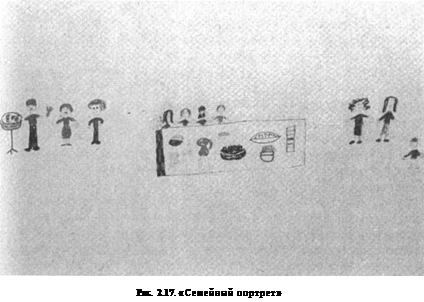
жать в США. Меган ощущала чувства вины и стыда из-за того, что открыла постороннему человеку — мне — семейные тайны, и в то же время испытывала гордость в связи с тем, что ей удалось проделать определенную внутреннюю работу, чтобы обеспечить стабильность своего положения в будущем.
Четвертое занятие
Во второй половине XV века крестоносцы в Европе стали использовать специальные эмблемы для обозначения своего положения в обществе. Эти эмблемы в виде гербов помещались на сбруе коней и щитах. Символы, используемые при создании гербов, были разнообразными и включали изображения животных, растений, звезд и т. д. Люди знатного происхождения гордились своими гербами и никому не позволяли их использовать. Гербы не только обозначали идентичность того или иного человека и привилегии его семьи, но и говорили о его происхождении (HornD., 1983).
При создании рисунка на тему «мой герб» (рис. 2.18) Меган проявила большую активность. Делая паузы в работе, она смотрела на меня.
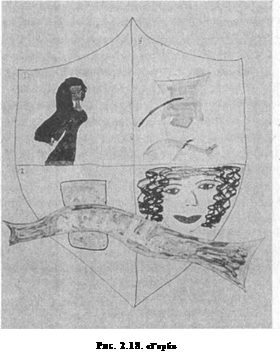 |
Девушка испытывала гордость в связи с тем, что одна из ее прабабушек являлась принцессой индейского племени. По словам Меган, у этой прабабушки было много денег и драгоценностей. Затем Меган перечислила все то, что является предметом ее гордости, включая отличные оценки по испанскому языку, хорошее владение английским и красивые глаза. Она также сказала, что ее цель — поступить в колледж и получить диплом.
Хотя Меган перечислила целый ряд своих достоинств, ее настрой оставлял желать лучшего. Она призналась, что сомневается в своих способностях достичь намеченной цели раньше 21 года. Ее жизнь, как ей казалось, складывалась плохо, якобы потому, что на ее семье лежит проклятье — многие из женщин ее рода были изнасилованы или стали жертвами издевательств, а собственность семьи была проиграна мужчинами в азартных играх. Меган не была уверена в том, что в будущем ей удастся избежать печальной участи своих родственниц. По поводу же своего рисунка она испытывала гордость и повесила его на стене своей палаты.
Пятое занятие
По мнению К. Юнга, мандала является отражением Самости — организующего центра личности (JungC, 1959; FincherS., 1991). Он пишет: «Этот центр не связан с тем, что называется "Эго"; он связан с Самостью» (Jung С, 1959, р. 73). Самость воплощает полноту психической жизни и включает в себя как сознание, так и бессознательное (JungC, von Franz М., 1964). Во многих культурах мандалы предстают в качестве музыкальных инструментов, используемых для решения задач психического роста (Jung С, von Franz М., 1964). Эти циркулярные символы нередко отражают состояние просветления и духовной свободы, например в системе представлений дзен-буддизма. В христианской традиции разновидностью мандалы можно считать изображение нимба, а в языческой — солнца. В культурах народов Европы, Африки и островов Тихого Океана циркулярные символы очень часто связаны с мифами творения. Являясь украшением священных мест, мандала способна оказывать определенное лечебное, гармонизирующее воздействие. «Мандала связана с определенным влиянием со стороны Самости — исходного паттерна порядка и целостности, той "паутины жизни", которая поддерживает и питает нас. Создавая мандалы, мы творим наше личное жизненное пространство, то пространство, в котором мы чувствуем себя защищенными и которое служит концентрации нашей психической энергии» (FincherS., 1991, р. 24). Спонтанная изобразительная деятельность, направленная на заполнение пространства в круге разными цветами и формами, может сопровождаться исцеляющими эффектами и расширением системы самосознания, а также вести к личностному росту (Fincher S., 1991).
Рисуя собственную мандалу, Меган молчала и казалась глубоко погруженной в свои мысли. Закончив работу, она заявила, что рисунок ассоциируется у нее с жизненным опытом, любящими ее людьми, ее будущим, а также целомудрием, составляющим сильные стороны ее личности (рис. 2.19). Девушка особенно выделила это качество и пояснила, что в ее культуре девственность священна. Определенные изменения, отмечаемые в поведении моей клиентки, являлись, на мой взгляд, результатом борьбы противоречивых чувств, связанных с курирующим отделение мужчиной-психиатром. Меган рассказала мне, что накануне у чее произошел с ним конфликт, и она опасается, не будет ли он из-за этого уволен. Казалось, она находилась в эмоциональной зависимости от него. С этим я связала ее страх возможной утраты в случае его увольнения. Сейчас она переживала нечто подобное тому, что испытывала при

разрыве отношений со своим бывшим другом. Она не объяснила мне до конца причину своих переживаний, но сказала, что если бы находилась дома, то обязательно бы напилась. Меган призналась, что утрачивает способность трезво мыслить, если на кого-нибудв1 сердится, и что ей частно бывает трудно контролировать свое поведение. Она согласилась с тем, что ее приспособительные способности снижены, но не решилась обсуждать со мной более эффективные способы преодоления эмоционального стресса, чем те, которые для нее были обычно характерны (в частности, нанесение порезов). Ее настроение оставалось все еще подавленным. Она продолжала считать, что присущие ей положительные качества не позволяют преодолевать жизненные трудности.
Шестое занятие
По мнению X. Квятковска (Kwiatkowska Н., 1978), последний рисунок всей серии работ клиента не только имеет большое диагностическое значение, но и выражает его сокровенные мысли, которые он пытается донести до окружающих. Завершающая работа является средством подведения итогов психотерапевтического процесса и позволяет клиенту обратиться к своим мечтам и надеждам. М. Наумбурх (Naumburg М., 1973) отмечает, что спонтанный рисунок часто отражает работу воображения, направленную на удовлетворение глубинных потребностей человека. На последнем занятии не только суммируется все то, что происходило с клиентом на предыдущих стадиях психотерапевтического процесса, но и закладывается фундамент нового этапа его жизни (Wadeson Н., Durkin J., Perach D„ 1989).
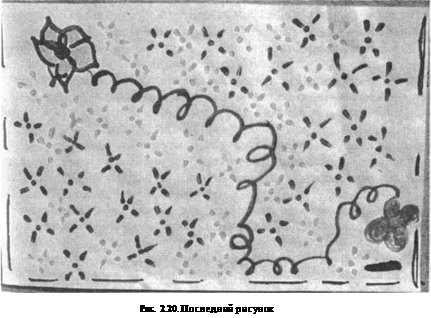
Придя на последнее занятие, Меган попросила перенести его на более поздний срок. Придя во вновь назначенный час, она высказала целый ряд малоубедительных доводов в пользу еще одного изменения времени. Создавая свой последний рисунок (рис. 2.20), Меган вела со мной разговор в излишне эмоциональной, несколько развязной манере, похлопывала себя по ноге. Она призналась, что испытывает тревогу, связанную с предстоящим сеансом семейной психотерапии. Она сказала, что испытывает страх и в то же время определенное возбуждение, предвидя возвращение в школу. Меган выполнила свой рисунок довольно быстро, не вкладывая в него больших усилий и обсуждая со мной по ходу работы результаты психиатрического обследования и лечения. Она скрепила два листа бумаги с помощью нити и нарисовала на обеих частях большие яркие цветы. Завершив рисунок, она призналась, что ее первоначальное нежелание идти на эту встречу было связано с тем, что ей предстояло говорить о грядущих школьных экзаменах и встрече с родственниками. Она поблагодарила меня за то, что я настояла на последнем занятии.
Обсуждение
На протяжение всего процесса лечения Меган неоднократно обращалась к теме психической идентичности и своего культурного наследия. Так, на первом занятии она сконцентрировала внимание на том фрагменте своей работы (названном ею «Традиция»), на котором помещена фотография матери и ребенка. По поводу этой фотографии она сказала: «Так нас воспитывают». Она заявила, что баскетболист и ребенок, сидящие за решеткой (на другом фрагменте ее коллажа) — латиноамериканцы, и что она чувствует себя в изоляции, потому что является иммигранткой и говорит с акцентом. На втором занятии она в основном говорила о том, что окружающие воспринимают ее как пуэрториканку в соответствии со сложившимися стереотипами. На третьем занятии — о своем нежелании возвращаться в Панаму, а на четвертом — о своем культурном наследии и достоинстве. Наконец она обратилась к понятию целомудрия и связала его с культурой своего народа.
Тема сексуальности оказалась для Меган значимой. Накануне госпитализации она даже хотела отрезать себе грудь. В начале процесса лечения она неоднократно заявляла, что учителя считают ее «пуэрториканской потаскушкой». Связанные с этим переживания усугублялись ее воспоминаниями о перенесенных в детстве эпизодах сексуального наси-' лия. Она считала, что учителя-мужчины испытывают к ней лишь физический интерес. В ее отношении к теме сексуальности просматривалась, амбивалентность: наряду с отрицательными чувствами в ее высказываниях звучало сожаление о разрыве с бывшим другом и желание его вер-і нуть. К концу лечения Меган признала целомудрие проявлением личностной силы и больше не возвращалась к возникавшим у нее ранее переживаниям, связанным с ее сексуальной «доступностью».
Эффект лечения Меган был довольно высоким. Она смогла определить для себя понятие своего культурного наследия и осознать его в кон-* тексте повседневной жизни — оно оказалось многомерным, включаю-; щим не только восприятие ее окружающими в соответствии со сложив-] шимися стереотипами, но и чувство гордости, обусловленное осознанием ценностей, которые несло в себе ее происхождение. В соответствии с моделью развития идентичности представителей меньшинств Меган смогла продвинуться со стадии 2 («диссонанс») на стадию 3 («сопротивление и иммерсия») (Atkinson D., Morten G., Sue D., 1993). В начале лечения она жаловалась на то, что чувствует себя в роли аутсайдера. Она скептически оценивала практику воспитания, характерную для Панамской традиции, и выражала неприятие собственного образа, формировавшегося в глазах представителей доминирующей белой группы населения. К концу лечения Меган смогла интегрировать положительные качества, связанные со своим культурным наследием, в образ «Я» и абстрагироваться от чувства стыда. Ей удалось идентифицироваться с целомудрием и выразить свое отрицательное отношение к физическому наказанию. Изобразительная продукция Меган включала целый ряд образов, связанных с ее родной культурой: латиноамериканцев на коллаже, смуглую кожу и иссиня-черные волосы на автопортрете, образ индейской принцессы — прародительницы Меган. Кроме того ее автопортрет обнаруживает определенное сходство с этой принцессой, изображенной на гербе. Данный факт сам по себе свидетельствует о положительной идентификации Меган со своей культурной традицией.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой статье было показано использование арт-терапевтического подхода с целью исследования культурного опыта клиента в процессе психиатрического лечения. Как следует из приведенного описания, арт-терапия может играть значимую роль в укреплении культурной идентичности клиента и способствовать его личностному росту. Она может быть ценным инструментом в решении тех проблем, которые так или иначе связаны с понятием культуры. В то же время ее возможности, несомненно, выходят далеко за пределы тем, относящихся к культурному багажу и культурной идентичности.
Подобно тому как значение картины трудно осознать без представлений о ее происхождении и влиянии на последующее развитие изобразительного искусства, формирование идентичности в подростковом возрасте невозможно понять, не имея сведений о детских годах жизни клиента и том, что происходит с ним, когда он становится взрослым (Kroger J., 1989). Работа с клиентами разного культурного происхождения требует от специалиста готовности расширять диапазон своих представлений о системе верований, особенностей поведения и ценностей определенной малой группы. Он должен обратить особое внимание на то, как культурные различия влияют на психотерапевтические отношения (West-rich С, 1994). «Специалист, игнорирующий своеобразие культурного багажа своих клиентов, вряд ли сможет найти с ними общий язык» (Ка-gawa-Singer М., Chung R., 1994, р. 200). Следует задавать себе вопросы, касающиеся верований, ценностей и норм, спрашивать себя: «Что такое идеальное "Я"? Каким образом можно достичь психической интеграции и целостности? Каковы правила, регулирующие человеческие отношения?» (Kagawa-Singer М., Chung R., 1994). «Оценка собственного культурного багажа является основой уважения иного культурного опыта других людей» (Cattaneo М. 1994, р. 186). Для того чтобы не предъявлять неадекватных требований клиентам, психотерапевты должны хорошо осознавать свои ценности. Они должны признавать культурные различия и сходства. Культурные барьеры могут быть причиной постановки ошибочного диагноза и преждевременного завершения психотерапевтического процесса. Понимая культурные различия, мы проявляем уважение к нашим клиентам и укрепляем в них гордость и чувство собственного достоинства.
ЛИТЕРАТУРА
Atkinson D., Morten G., Sue D. Counseling American Minorities: A Cross-cultural Perspective. (41h ed.). Dubuque, IA: Wm. C. Brown Communications, 1993.
Burns R., Kaufman H. Actions, Styles and Symbols in Kinetic Family Drawings (KFD). New York: Brunner / Mazel, 1972.
Burt H. Issues in art therapy with the culturally displaced American Indian youth / / The Arts in Psychotherapy. № 20. 1993. P. 143-151.
Campanelli M. Art therapy and ethno-cultural issues / / The American Journal of Art Therapy. №30. 1991. P. 34-35.
Cattaneo M. Addressing culture and values in the training of art researchers. Art Therapy / / Journal of the American Art Therapy Association. Vol. 11. № 3. 1994. P. 184-186.
Chapman H. Rembrandt's Self-portraits. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990.
Chiu T. The unique challenges faced by psychiatrists and other mental health professionals working in a multicultural setting / / The International Journal of Social Psychology. Vol. 40. № 1. P. 61-74.
Davis L., Proctor E. Race, Cender and Class. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989.
Erikson E. Identity Youth and Crisis. New York: W. W. Norton Company Inc., 1968.
FincherS. Creating Mandalas. Boston, MA: Shambhala Publications, 1991. Five Hundred self-portraits. Goldscheider L. (ed.). London: George Allen and Unwin Ltd., 1937.
Furnham A., Malik R. Cross-cultural beliefs about depression / / The International Journal of Social Psychiatry. Vol. 40. № 2. P. 106-123.
Haghighat R. Cultural sensitivity: ICD-10 versus DSM-III-R // The International Journal of Social Psychiatry. Vol. 40. № 3. P. 189-193.
Horn D. The Crusades Arms and Armor: Story Hour [1983]. Unpublished manuscript, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, PA.
Jung C. Mandala symbolism (R. F. C. Hull, Trans.). Princeton, NJ: Princeton University Press, 1959.
Jung C, von Franz M. Man and his Symbols. New York: J. G. Ferguson, 1964.
Kagawa-Singer M., Chung R. A paradigm of culturally based care in ethnic minority populations / / Journal of Community Psychology. № 22. 1994. P. '192-208.
Kerwin C, PontesottoJ., Jackson В., Harrys A. Racial identity in biracial children: a qualitative investigation / / Journal of Counseling Psychology. Vol. 40. № 2. P. 221-231.
Kroger J. Identity in Adolescence: The Balance Between Self and Other. New York: Routledge, 1989.
Kwiatkowska H. Family Therapy and Evaluation Through Art. Springfield, IL: Charles С Thomas Publisher, 1978.
Landgarten H. Magazine photo collage as a multicultural treatment and assessment technique. Art Therapy / / Journal of the American Art Therapy Association. Vol. 11. №3. P. 218-219.
Lee С. C. Cultural dynamics: their importance in multicultural counseling. Multicultural Issues in Counseling: New Approaches to Diversity. Lee С. C, Richardson В. E. (eds.). Alexandria, VA: American Association for Counseling and Development, 1991.
Malchiodi C. Breaking the Silence: Art Therapy with Children from Violent Homes. New York: Brunner / Mazel, 1990.
Markstrom-Adams C, Adams G. Gender, ethnic group, and grade differences in psychosocial functioning during middle adolescence / / Journal of Youth and Adolescence. Vol. 24. № 4. P. 397-417.
Martinez R., Dukes R. Ethnic and gender differences in self-esteem // Youth and Society. Vol. 22. № 3. P. 318-338.
Moreno G., Wadeson H. Art therapy for acculturation problems of Hispanic clients. Art Therapy / / Journal of the American Art Therapy Association. № 3. 1986. P. 122-130.
Naumburg M. An Introduction to Art Therapy. New York: Teachers College Press, 1973.
Oaklander V. Windows of our Children. Highland, NY: The Gestalt Journal Press, 1988
Pedersen P. Multiculturalism as a generic approach to counseling / / Journal of Counseling and Development. № 70. 1991. P. 6-12.
Pinderhughes Е. Understanding Race, Ethnicity, and Power: The Key to efficacy in clinical Practice. New York: The Free Press, 1989.
Riley S. Integrative Approaches to Family Art Therapy. Chicago, IL: Magnolia Street Publishers, 1994.
Sue D., Ivey A., Pedersen P. A Theory of Multicultural Counseling and Therapy. Pacific Grove, CA: Brooks / Cole Publishing Company, 1996.
Tibbetts Т., Stone B. Short-term art therapy with seriously emotionally disturbed adolescents//The Arts in Psychotherapy. № 17. 1990. P. 139-146.
Wadeson H., Durkin J., Perach D. Advances in Art Therapy. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1989.
Westrich C. Art therapy with culturally different clients. Art Therapy / / Journal of the American Art Therapy Association. Vol. 11. № 3. P. 187-190.
WieserJ. Being different: A Theoretical perspective. Art Therapy / / Journal of the American Art Therapy Association. Vol. ll.№3. 1994. P. 224-228.
Winn N., Priest R. Counseling biracial children: A Forgotten component of multicultural counseling / / Family Therapy. Vol. 20. № LP. 29-36.
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
Взаимодействие психотерапевта с престарелыми клиентами требует учета целого ряда психологических, социальных и физиологических факторов. Специфическими задачами арт-терапевтической работы в этом случае являются преодоление социальной изоляции, повышение самооценки пожилого человека, создание условий для актуализации его жизненного опыта, признание его ценностей, реализация им своего творческого потенциала и другие. Несомненную значимость имеет социальный контекст, в котором реализуется работа такого рода, в частности, нередкое одиночество и изолированность пожилых людей, их беспомощность, относительная ограниченность материальных ресурсов общества для помощи им. В нашей стране к этому добавляется пока крайне слабое развитие системы гериатрических и психогериатрических услуг, общинных форм работы, существующие социально-психологические стереотипы восприятия старых людей как «балласта» общества, нуждающихся, в лучшем случае, в снисходительной опеке и покровительстве.
Арт-терапевтическая работа с лицами этой группы может проводиться в социальных центрах, центрах психического здоровья или стационарах дневного пребывания, больницах, интернатах и других медицинских и социальных учреждениях. Пожилые люди в большинстве случаев имеют соматические заболевания и, конечно же, нуждаются в предварительной тщательной оценке своего физического состояния. Арт-терапевтическая работа с ними может строиться по-разному, но, как правило, предпочтение отдается ее групповым формам. Допускается участие пожилых лиц в смешанных (по возрастному составу) группах, однако в ряде случаев целесообразно формировать группы исключительно из пожилых людей — так можно сосредоточиться на их специфических потребностях или проблемах и учесть возрастные требования. Особенностью престарелых клиентов является, в частности, их быстрая утомляемость. Поэтому групповые занятия должны быть непродолжительными, проводиться, по возможности, по утрам и иметь длительные перерывы. Необходимо учитывать и такие вероятные факторы, как слабость зрения и слуха, тугоподвижность суставов и т. д. Компенсировать эти недостатки в какой-то мере могут дополнительное освещение, крупные кисти или мелки. Следует принимать во внимание и выраженное в различной степени снижение памяти и интеллекта, возможное нарушение речи. Хотя все это делает затрудненным, а иногда и невозможным участие пожилых людей в групповой работе, не исключено использование отдельных методик, связанных, например, с преимущественной работой с материалами, аранжировкой предметов и другими видами деятельности.
Представленные в этой главе материалы позволяют уяснить основные принципы и особенности арт-терапевтической работы с пожилыми людьми. В первой статье (автор — К. Дрюкер) речь идет об использовании арт-терапии в работе с пациентами, не имеющими очевидного снижения памяти и интеллекта. Они оказываются в состоянии включиться в групповой процесс, наладить коммуникацию с членами группы и арт-те-рапевтом, проявить довольно высокий уровень творческой инициативы.
Во второй статье (автор — А. Байере) описывается работа с пациентами со значительным снижением интеллектуально-мнестических и коммуникативных возможностей, что делает нецелесообразным их участие в большинстве известных видов индивидуальной и групповой арт-терапии. В реальной жизни эти люди, как правило, обречены на почти полную социальную изоляцию, забвение их психологических и душевных потребностей и имеют в лучшем случае лишь элементарный уход. В отсутствии заботы со стороны любящих членов семьи их существование представляется лишенным какой-либо ценности и смысла. Статья А. Байере тем более интересна, что в ней описывается попытка, на первый взгляд, «отчаянной» и почти «бесполезной», но фактически мудрой и гуманной инициативы по установлению основанного на возможностях арт-терапевтического подхода контакта с глубоко дементными пациентами. Данный пример свидетельствует о неисчерпанности возможностей арт-терапии в этом направлении, о ее скрытом потенциале, который при наличии у специалиста творческой инициативы может быть реализован в самых нестандартных ситуациях и совершенно новых областях практического применения.
В какой-то мере следующая глава («Арт-терапевтическая работа с психиатрическими пациентами») дает дополнительный материал для осмысления особенностей арт-терапевтической работы с пожилыми людьми, особенно в случаях наличия выраженного снижения коммуникативных и интеллектуально-мнестических возможностей, а также острых психических расстройств.
АРТ-ТЕРАПИЯ В ПСИХОГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Карен Дрюкер
Печатается по изданию: Drucker К. L. Swimming Upstream: Art Therapy with the Psychogeriatric Population in One Health District. Art Therapy in Practice / Liebmann M. (ed.). London: Jessica Kingsley Publishers, 1990. P. 89-103.
Сведения об авторе. Карен Дрюкер — выпускница Pratt Institute в Нью-Йорке, работает старшим арт-терапевтом в амбулаторном общинном подразделении Southmead Health Authority на базе психогериатрического дневного стационара и стационарного отделения.
В этой статье я поделюсь опытом работы в психогериатрическом центре дневного пребывания и расскажу о некоторых услугах, оказываемых людям преклонного возраста с определенными психическими нарушениями (в частности, сниженным настроением, тревогой, той или иной степенью дезориентировки). В настоящей публикации не будет описана работа с пациентами, страдающими старческим слабоумием, — этому вопросу следует уделить отдельное внимание. Я намерена охарактеризовать отношение персонала центра дневного пребывания к арт-терапии и подробно рассмотреть случай одной из пациенток, посещавших арт-терапевтические занятия. В заключение будут сделаны некоторые выводы.
МЕТОДЫ РАБОТЫ
Доктор И. Манн, консультант по психогериатрии при Southmead Health District, считает (Mian I., 1985), что психогериатрическая помощь должна предполагать:
а) по возможности, раннее квалифицированное обследование на дому;
б) мультидисциплинарность;
в) кооперацию с другими службами;
г) поддержку родственников и иных групп;
д) привлечение членов общины и добровольцев;
е) обучение персонала и изменение отношения общества к пожилым
людям;
ж) проведение специальных исследований.
В сферу моей деятельности как районного арт-терапевта попадает три центра дневного пребывания: Dorrian Day Hospital, Severnnview Day Hospital и Riverside Day Hospital. Все они предназначены для оказания помощи людям преклонного возраста с определенными психическими нарушениями. В своей практике я использую как индивидуальную, так и групповую арт-терапию. В настоящее время основным моим местом работы является Riverside Day Hospital, в частности палата для тяжелобольных. Там же я веду арт-терапевтические занятия с группой амбулаторных пациентов, большая часть которых страдает депрессией и депрессивными реакциями. При направлении на арт-терапию предпочтение отдается пациентам именно с этими расстройствами.
В работе с этой группой больных я делаю основной акцент на воспоминаниях, обзоре жизненного пути, положительных и отрицательных моментах их существования в настоящий момент. Как на индивидуальных, так и на групповых занятиях я обязательно использую определенные упражнения для подготовки пациентов к работе, чтобы мобилизовать их внимание, а в группе — сблизить ее членов совместными действиями. Я, например, использую такие техники, как «передача листа» и «завершение каракулей». Упражнение «передача листа» ценно тем, что рисунок не имеет одного автора, а потому не может стать предметом для критики (рис. 3.1). Я прошу участников группы что-нибудь нарисовать. (Это может быть композиция или знакомый всем образ.) Через десять минут каждый должен передать свой рисунок соседу справа. Тот что-нибудь добавляет к изображению и передает его дальше по кругу до тех пор, пока оно не возвратится к своему первому автору.
Техника «завершения каракулей» удобна тем, что позволяет людям начать работу не «с белого листа». На отдельных листах я рисую разные извилистые линии, среди которых нет повторяющихся, а затем передаю изображения участникам группы и прошу их превратить линию в образ. Затем пациенты показывают друг другу свои рисунки и обсуждают их.
Приступать к работе лучше с простого задания, например, «напиши свое имя» — пациентам предлагается изобразить свои имена в произвольно выбранных стиле и форме. Большинство людей не испытывает при этом никакого напряжения и может проявить себя творчески уже в самом начале занятия.
Обычно сюжеты для групповой работы возникают на основе тем предыдущей недели: «свадьба», «дети», «семейное дерево» и т. д. Для стимуляции общения весьма ценна техника коллажа из цветной бумаги и ткани.
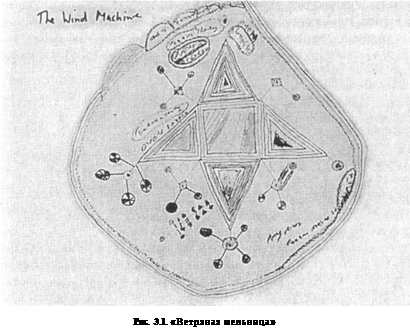
Использование изобразительных техник в индивидуальной работе предполагает меньшую структурированность занятий. Здесь я прошу пациентов отразить в рисунке тот или иной сюжет из их жизни. Нередко для установления доверительных отношений с арт-терапевтом я использую технику совместного рисования. Многие пожилые люди испытывают в рисовании определенные затруднения: оно напоминает им о детских годах и кажется «несерьезным занятием». Иногда они думают, что таким изощренным образом арт-терапевт проверяет степень их «глупости», поскольку знают о слабости своей памяти. Некоторым пациентам участие в арт-терапевтической работе чем-то напоминает процедуру психологического тестирования. Однако многие все же находят изобразительную работу очень важной для себя, так как она предоставляет им возможность реализовать то, что они долго в себе «заглушали», всю жизнь занимаясь «практически значимыми делами», не давая выхода своим чувствам и не придавая значения такому понятию, как «личностный рост». Ранее уже было отмечено, что люди этой возрастной группы особенно нуждаются в обращении к прошлому для того, чтобы увидеть смысл в событиях собственной жизни.
ЦЕНТРЫ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ (ДНЕВНЫЕ СТАЦИОНАРЫ)
Riverside Day Hospital находится в южной части обслуживаемой мной территории; он был открыт в 1979 г. для диагностики и лечения пациентов с нарушениями «функционального характера» и больных демен-цией. Под нарушениями «функционального характера» имеются в виду депрессивные расстройства, вызванные утратой близких или иными ситуативными факторами, а также параноидальные состояния и неврозы. Этот центр рассчитан на шестнадцать приходящих пациентов. При нем имеется палата еще на девять человек для проведения обследований. Средняя продолжительность пребывания в дневном стационаре составляет один месяц, хотя большинство больных находится здесь, как правило, дольше.
Dorrian Day Hospital располагается в глубине «моей» территории. Он открыт сравнительно недавно — в октябре 1984 г. — и имеет все необходимое для ежедневного приема двадцати пациентов.
Severnnview Day Hospital функционирует с 1981 г. Он предназначен для пациентов, проживающих в северной части территории, и первоначально был рассчитан на двадцать человек, но затем это число сократилось до шести; при центре имеется определенное количество коек.
Клиенты могут посещать дневной стационар два или три раза в день; находясь там, они заняты различными видами индивидуальной или групповой работы. Групповые формы включают в себя: «группы воспоминаний», группу физической гимнастики, кулинарную, музыкальную, юмористическую, дискуссионную группы, группу по работе с горем, а также группу общения. Групповая арт-терапия входит в программу еженедельных мероприятий. Кроме того, для некоторых пациентов по одному разу в неделю (утром или вечером) проводятся индивидуальные арт-терапевтические занятия.
Большинство пациентов направляется в арт-терапевтическую группу либо потому, что она является обязательной частью лечебно-реабилитационной программы, либо потому, что у человека обнаруживают расстройства «функционального характера». Многие дневные стационары имеют смешанный состав посетителей — как пациентов с нарушениями «функционального характера», так и больных с деменцией. Мне кажется, что дневные стационары должны быть рассчитаны, главным образом, на первую категорию клиентов.
По собственному опыту знаю, что дементные больные испытывают значительные затруднения в концентрации внимания, им трудно работать с изображениями, обсуждать темы, связанные с их собственными проблемами и проблемами других клиентов. В отличие от них пациентам с нарушениями функционального характера (включая и негрубое снижение памяти и интеллекта) вполне по силам все это, они способны к рефлексии своих переживаний и, несмотря на часто встречающуюся убежденность в невозможности что-либо изменить в своем состоянии, достигают определенных положительных (хотя бы и минимальных!) результатов.
Коллектив сотрудников дневных стационаров состоит из медицинских сестер, специалистов по терапии занятостью, психотерапевта, врача-диетолога, психолога, социального работника, медицинских консультантов, клинического ассистента, регистратора, шофера, уборщицы и добровольцев.
Кроме того, на обслуживаемой территории действуют другие службы, оказывающие помощь пожилым людям.
Мне пришлось принимать участие в осуществлении Trefgarne Initiative — финансируемом социальной службой и системой здравоохранения пилотном проекте, позволившем вовлечь больных, страдающих се-нильной деменцией, в разные формы социальной и творческой активности. Арт-терапия явилась одной из этих форм.
В 1977 г. была начата работа в рамках проекта SEMI (Support [or the Eldery Mentally Infirm), рассчитанного на помощь родственникам и опекунам престарелых пациентов. Эта помощь включала в себя услуги сиделок и организацию сети дневных стационаров. Кроме того, на каждой обслуживаемой территории расположились дневные стационары, организованные на базе интернатов для престарелых. В них работали специалисты по терапии занятостью и медицинские сестры общинной психиатрии, которым помогали другой персонал и добровольцы.
В настоящее время один раз в неделю, по утрам я продолжаю вести арт-терапевтическую группу для пожилых амбулаторных пациентов. Группа собирается в Glocester House, амбулаторном психиатрическом подразделении для взрослых. Клиенты направляются сюда специалистами дневных стационаров, общинными медицинскими сестрами, психологами, врачами общего профиля (GP) и т. д. Участники моей группы — это, как правило, люди, нуждающиеся в безопасном пространстве для реализации своих творческих возможностей, а также в социальной поддержке после выписки из дневного стационара. Группа является своеобразной семьей, состоящей из шести, семи или восьми человек, которые имеют возможность, опираясь на взаимную поддержку и интерес, совместно заниматься художественным творчеством. Группа работает отдельно от других дневных стационаров, хотя в нее входят те, кто ранее посещал их и затем был выписан. Некоторые участники группы время от времени вновь поступают в дневной стационар. В этом случае они включаются в работающую на его базе соответствующую арт-терапевтиче-скую группу.
ОТНОШЕНИЕ К СТАРИКАМ
Сейчас я хотела бы обсудить необходимость изменить отношение общества и персонала больниц к людям преклонного возраста. Эти изменения входят в перечень принципов, сформулированных доктором И. Миан и приведенных в начале главы. В годы моей арт-терапевтической подготовки, когда я только начинала работать с пожилыми людьми, мне запомнились слова одной из моих сокурсниц: «Я бы никогда не хотела работать со стариками, они мне совсем неинтересны». Помню, как я внутренне возразила ей: «Разве они неинтересны? Как могут быть неинтересны люди, пережившие мировые войны, воспитание детей, работавшие в самых разных отраслях, видевшие стремительное развитие технологии, испытавшие боль и радость, любовь и горечь?» Я была лишена возможности общения со своими бабушкой и дедушкой, но меня всегда привлекали старики. Я заметила, что они способны гораздо естественнее, чем, например, я, выражать свой гнев и недовольство перед тем, кто наделен властью. В то же время они зависят от обслуживающих их специалистов, своих родственников, и это всегда вызывало во мне чувство протеста.
В книге «Психотерапия: введение в психиатрию преклонного возраста» Б. Питт (Pitt В., 1982) перечисляет предрассудки общества, связанные с представлениями о стариках. Эти предрассудки, в частности, включают в себя «пораженчество», доминирование и опекунство. «Пораженчеством» названо распространенное мнение о том, что старику уже нечего ожидать от жизни. Многие врачи подвержены этому предрассудку: за исключением крайних случаев они воздерживаются от лечения стариков. Тем самым имеющиеся ресурсы медицины не задействуются в достаточной степени. Больные старики поступают в основном в специализированные интернаты, а социальные проблемы, связанные со старостью, решаются путем помещения престарелых в отделения неотложной терапии. Соматическим нарушениям, представляющимся врачам более курабельными, там уделяется гораздо больше внимания, чем психологическим проблемам. Физически беспомощные, страдающие тяжелой патологией старики часто помещаются в больницы, где они лишены возможности удовлетворять свои социальные и духовные потребности.
Доминирование проявляется в двух основных формах: первая связана с демонстрацией враждебности и превосходства. Многие специалисты, работающие со стариками, хотели бы видеть очевидные приметы улучшения состояния своих пациентов. Мне неоднократно приходилось замечать это в моих коллегах, представляющих арт-терапию как процесс создания красивых картинок для украшения стен. Если пациенты, занимаясь арт-терапией, не обнаруживают признаков воодушевления и счастья, такие специалисты проявляют явную неудовлетворенность и раздражение. Неудовлетворенность постепенно приводит к враждебности. Им не приходит в голову, что стариков следует принимать такими, как они есть, и не ожидать от них обязательного отражения в рисунках счастливых воспоминаний и чувств. Старики могут быть наполнены горечью и сожалением. Мне бывает трудно убедить моих коллег в том, что старые люди далеко не всегда будут готовы показывать свои работы другим: они, возможно, захотят скрыть их от окружающих или даже уничтожить, поскольку в этих работах отражается их беспомощность.
Сентиментальное умиление и стремление опекать — еще одна, в сущности, глубоко деструктивная форма отношения к старикам (Pitt В., 1982). Она унижает их достоинство и усиливает зависимость от окружающих. Примером этому могут быть случаи, когда кто-либо из персонала дневного стационара, заглядывая на наши занятия, говорил: «Ой, какая красивая картинка! Не могли бы вы нарисовать для меня домик?»
Часто приходится сталкиваться с тем, что разные специалисты, обслуживающие людей преклонного возраста, не координируют своих действий: правая рука не знает, что творит левая. Врач общего профиля, сестра-обследовательница, службы, обеспечивающие стариков продуктами питания, социальный работник нередко никак не взаимодействуют друг с другом. Это ведет к дублированию видов помощи. Когда я работала в одном из дневных стационаров, я, например, обнаружила, что медицинские сестры и специалисты по терапии занятостью вели арт-терапевтические группы, причем иногда собирали их в то же самое время, что и я, либо в те же дни, но в другие часы. Хотя их подход к использованию изобразительных методов отличался от моего, отсутствие контакта между нами не могло не вызвать сожаления. Кроме того, различия между осуществляемыми нами видами художественной работы с пациентами не были достаточно четко обозначены. В результате один из участников моей группы однажды попросил разрешения закричить коллаж, начатый накануне во время занятия в другой группе.
Конечно, так происходит не везде и не всегда, однако на протяжении многих лет работы арт-терапевта я становилась свидетелем того, как мои коллеги, несмотря на супервизии и инструктаж, испытывали определенные затруднения в работе с людьми преклонного возраста. Очень часто, к сожалению, акцент делается на деятельной стороне работы со стариками, а вовсе не на предоставлении им возможности быть самими собой и заниматься тем, чем они хотят, — свободно выражать себя в рисунках в присущем каждому индивидуальном стиле и темпе. Очень важно, чтобы престарелые пациенты следовали своим внутренним потребностям, а не ожиданиям персонала. Лишь при соблюдении этого требования персонал начинал участвовать в работе арт-терапевтической группы, его отношение к арт-терапии менялось, возникало взаимодействие с пациентами (медсестра могла стать, например, и моим ассистентом). Я считаю полезным рассказывать персоналу об истории арт-терапии и моем собственном пути к этой работе, объяснять ее принципы и формы, то, с какими группами пациентов различные варианты арт-терапии могут применяться, какие темы нашли отражение в работах пациентов и какие задачи ставятся при проведении занятий. Я подчеркиваю, что участники группы вовсе не обязательно должны иметь художественные потребности. Это же необходимо оговорить, и начиная работу с группой. Участие медицинских сестер или специалистов по терапии занятостью в арт-терапевтических занятиях на протяжении достаточно продолжительного времени позволяет им лучше узнать пациентов, процессы, происходящие в группе, а также избавиться от своих опасений по поводу того, что групповая работа, не ориентирующаяся на решение «практических задач», может быть неэффективной.
Участие персонала в арт-терапевтических занятиях способствовало улучшению профессионального взаимодействия и устраняло предрассудки и непонимание. Я, в свою очередь, начинала лучше осознавать, что медицинские сестры, клинические ассистенты, социальные работники и другие специалисты слишком погружены в выполнение своих узкопрофессиональных задач и часто не имеют достаточных возможностей для ознакомления с иными формами работы. Когда медики участвовали в арт-терапевтических занятиях, у меня порой возникало ощущение, будто я плыву против течения. Мне приходилось прилагать немалые усилия для того, чтобы изменить их восприятие арт-терапии и убедить в том, что старики нуждаются в определенных формах творческого самовыражения. Когда убеждения достигали цели, рабочая атмосфера заметно менялась и старики начинали чувствовать себя более комфортно и естественно. Уходила тревога, связанная с необходимостью отвечать завышенным ожиданиям персонала.
МИССИС г.
Когда я работала в центре Riverside, в мою группу была направлена миссис Г. Она впервые поступила в дневной стационар — у нее обнаружились депрессивные симптомы, появившиеся после операции на глазах. Миссис Г. перестала общаться с членами своей семьи и друзьями, временами подолгу смотрела в одну точку и крайне неохотно отвечала на вопросы. Параклинические обследования не подтвердили наличия у нее деменции, поэтому был поставлен диагноз депрессивного расстройства.
Обсудив состояние миссис Г., врачи дневного стационара решили использовать в отношении нее сочетание медикаментозного лечения с какой-либо из форм невербальной психотерапии. Из последних предпочтение было отдано арт-терапии, поскольку пациентка была плохо доступна вербальному контакту и даже не смотрела на собеседника. Кроме того, мне сообщили, что муж миссис Г. был неравнодушен к изобразительному искусству и считал его своим основным увлечением.
У меня были опасения, что миссис Г. будет склонна следовать определенным ожиданиям в художественной работе, поэтому я предпочла уступить инициативу ей, обеспечивая необходимую помощь и поддержку в случае необходимости. Я дала престарелой клиентке понять, что она вправе творчески использовать время занятий и имеющиеся возможности по своему усмотрению.
В начале нашей работы я обратила внимание на обусловленный плохим аппетитом низкий вес миссис Г.
Начало работы
Я попыталась структурировать деятельность миссис Г., используя технику «каракулей». На первом занятии пациентка чувствовала себя более свободно, чем на последующих, что было необычно. Лишь постепенно она стала более спонтанной. Я узнала, что миссис Г. в прошлом была педагогом и по своему складу могла быть отнесена к «перфекциони-стам», хотя, очевидно, далеко не все учителя могут быть охарактеризованы таким образом. Словно в подтверждение моего мнения о ней миссис Г. стремилась быть «хозяйкой положения». Я предложила ей использовать технику коллажа, в частности, создать из цветной бумаги какую-нибудь композицию. Она очень тщательно подбирала цвета и форму фигур, организуя их в единый образ. Этот труд занял у нее четыре недели. Затем, когда я предложила ей воспользоваться набором из фигур разного цвета и размера, миссис Г. создала весьма сложную и четко организованную композицию (рис. 3.2). Правая часть изображения напомнила мне светофор с зажженным красным светом, левая же ассоциировалась с движением через ограниченное пространство. За время создания этой работы миссис Г. рассказала мне о своих дочерях, в частности, об их детских годах. Таким образом, впервые за шесть недель встреч она поделилась со мной сведениями о своей семейной жизни.
Развитие
Через восемь недель миссис Г. попыталась взять инициативу в свои руки и принесла транспортир, чтобы рисовать разные формы. После этого она начала составлять из журнальных вырезок «рассказы в картинках». Ей доставляло удовольствие накладывать одну картинку на другую, создавая «трехмерные» изображения. В процессе этой работы она рассказывала мне о своих прошлых зарубежных поездках и увлечениях, ныне оставленных ею (в частности, коллекционирование картинок с изображением флагов, кораблей и лошадей). Она поделилась опасениями относительно своего здоровья и все больше обнаруживающейся зависимости от мужа. Примерно в это время врачи изменили ей лекарственные назначения, и ее депрессивные симптомы заметно ослабли.
По поводу своего рисунка под названием «Рыба, вытащенная из воды» (рис. 3.3) миссис Г. сказала, что она ощущает себя рыбой, выброшенной на сушу, и что в последнее время из-за болезни и определенных затруднений в общении ей трудно принимать гостей.
Рост самоуважения
На протяжении восьми недель пребывания в дневном стационаре и посещения арт-терапевтических занятий самооценка миссис Г. ощутимо повышалась. К концу второго месяца пациентка уже с гордостью говорила о состоявшемся праздновании «золотой свадьбы» и даже решила создать на эту тему коллаж. В свою работу она включила некоторые украшения из праздничного торта, явно имевшие для нее большое значение.
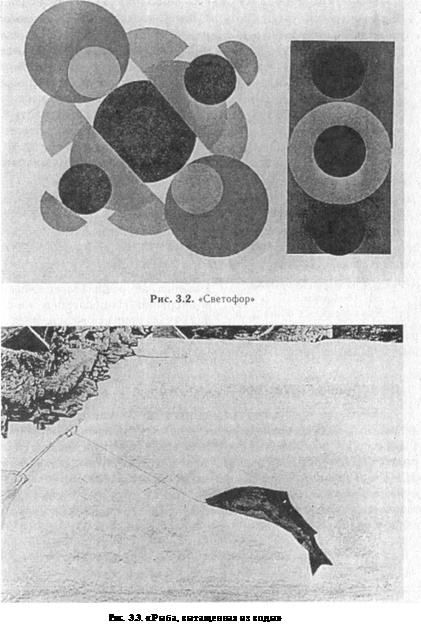
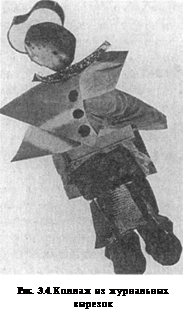 Постепенно к ней возвращались прежние интересы, а ее общее состояние улучшалось. Вскоре она была выписана из дневного стационара,но по ее просьбе еще некоторое время я продолжала с ней заниматься. Она уже не была так насторожена, как раньше, а в ее взгляде появились теплота и юмор. Нередко, задумавшись, она смотрела в пространство, но в этом не было попытки избежать общения.
Постепенно к ней возвращались прежние интересы, а ее общее состояние улучшалось. Вскоре она была выписана из дневного стационара,но по ее просьбе еще некоторое время я продолжала с ней заниматься. Она уже не была так насторожена, как раньше, а в ее взгляде появились теплота и юмор. Нередко, задумавшись, она смотрела в пространство, но в этом не было попытки избежать общения.
Теперь она создавала довольно крупные коллажи из журнальных вырезок, которые отличались выразительностью, энергией и яркостью красок (рис. 3.4).
Прежде чем отправиться на отдых, миссис Г. решила завершить курс арт-терапии. На последнем занятии она обняла меня и пожелала всего хорошего, а мистер Г., поджидавший жену в холле, заявил мне, что они собираются вместе рисовать акварельными красками.
ГРУППОВАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ
Длительность пребывания пациентов в дневном стационаре различна, поэтому было совершенно естественным вести открытые группы — в них в любое время могли включаться новые пациенты. В такой форме работы обычно трудно обозначить начало, середину и окончание процесса. Но одна группа отличилась от прочих: все восемь ее участников (двое мужчин и шесть женщин) посещали занятия с начала и до конца на протяжении шести месяцев. Я постараюсь описать групповую динамику, не концентрируя внимания на отдельных пациентах.
Начало работы
В самом начале работы обнаружились три женщины, проявившие живой интерес к занятиям изобразительным творчеством и не испытывавшие затруднений в рисовании. Остальные же чувствовали себя напряженно и выражали сомнение в том, что групповая арт-терапия сможет им в чем-либо помочь. Я объяснила группе, что владение художественными навыками не является обязательным, что задача создать «шедевры» не стоит и что я не буду делить рисунки на «плохие» и «хорошие». Я постаралась донести до пациентов' собственное понимание смысла групповой работы — лучше узнать себя и других. Каждый из участников группы (если не считать трех упомянутых мной женщин, решивших, что им предстоит рисовать цветы) слушал меня с довольно напряженным выражением лица. В этих условиях от меня требовалась определенная директивность, по крайней мере, в первые два-три занятия для того, чтобы помочь престарелым пациентам справиться с тревогой.
Я предложила им воспользоваться техниками «изображение имени», «каракули» и «завершение рисунков» как наиболее способствующими снижению тревоги и устранению страха перед рисованием и дающими ощущение большей творческой свободы. «Изображение имени» сопровождалось комментариями вроде этого: «Как, оказывается, здорово изображать свое имя крупно и ярко!» А одна женщина заявила, что раньше никогда не обращала внимания на свое прозвище, которое много лет употреблял ее муж.
Техника «каракули» способствовала оживлению воспоминаний. Другая участница на основе своих каракулей изобразила книгу, заявив, что в последнее время ей стало трудно сосредоточиться во время чтения. Еще одна женщина (в дальнейшем я буду называть ее миссис П.) поделилась своими воспоминаниями о жизни на острове Ямайка. После этого группа решила создать коллективное панно и включить в него изображение ямайского дома этой женщины. Мисс П. руководила рисованием и подсказывала, как выглядит ее дом. Эта работа, несомненно, способствовала сближению участников группы.
Несколько женщин выразили обеспокоенность перспективой помещения в интернат и утраты своих домов, в которых они жили с начала замужества. Никто из них в последнее время уже не мог уследить за своим достаточно большим хозяйством. Один мужчина рассказал о былой работе в торговом флоте и о том, как изменилась его жизнь после возвращения в Бристоль.
Мы обращались к темам семейных отношений (в частности, использовали технику «семейное дерево»), брака (рисуя сцену венчания), детей и внуков. Для отражения чувств и мыслей, связанных с жизнью пациентов в настоящий момент, использовалась техника коллажа. Одна женщина создала «винегрет» из разных материалов и сказала, что он иллюстрирует состояние растерянности, свойственное ей в последнее время. Другая призналась нам, что не может находиться одна дома и поэтому старается больше гулять, но на улице чувство одиночества захватывает ее только сильнее, — во время рассказа она выстраивала коллаж, который в законченном виде отражал радость общения с людьми.
Середина работы
На этом этапе группа сплотилась, пациенты стали чутки к отсутствию того или другого человека на занятии. Меня, например, спрашивали: «Где же Агнес, с ней все в порядке?» Они заботились друг о друге и демонстрировали приверженность совместной работе. В этот период использовалась техника коллективной росписи: каждому отводилась определенная часть общего листа. Я начертила большой круг и разделена его на сегменты — по числу участников группы. Затем я пояснила: каждый может рисовать в пределах своего сегмента что ему заблагорассудится, в центре же круга могут рисовать все. В процессе работы участники внимательно относились к тому, что делают соседи слева и справа, и стремились, чтобы создаваемая ими часть изображения «вписывалась» в общую композицию. Исключением был единственный в тот день в группе мужчина. Он старался работать обособленно и изобразил корабль, на котором плавал в годы своей работы в торговом флоте. Посмотрев на законченное изображение, участники отметили, что каждому удалось сохранить на рисунке свое «Я» и в то же время всем вместе — создать единое целое.
Завершение работы
Через шесть месяцев после начала занятий, когда работа группы подходила к концу, один из участников заявил, что ощущает себя здесь как в родной семье. Три женщины были представлены на клинической конференции, на которой присутствовали разные специалисты. Было признано, что все эти женщины уже готовы к выписке. Кроме того, комиссия сочла целесообразным обеспечить дальнейшую поддержку пациентов, используя возможности социальных центров. Несколько женщин, посещавших эту группу, выразили интерес к продолжению арт-терапевтических занятий, поэтому после выписки из дневного стационара они были включены в новую группу, состоящую из амбулаторных пациентов.
Состав группы заметно изменился, и мной было принято решение закончить работу с ней и начать новую.
Я положила на стол три большие коробки с материалами для коллажа и предложила участникам, разделившись по парам, создать из этих материалов совместную композицию. Один из них обозначил границы рисунка, создав подобие рамки, другой работал в середине (рис. 3.5). Первый заявил, что его действия отражают стремление следовать за вторым, и признал, что никогда в жизни не являлся лидером. В конце занятия участники сказали, что эта работа сблизила их друг с другом. На последней встрече вновь использовалась совместная работа: участники группы обводили на листе каждый свою ладонь, что символизировало акт прощания.
Я попросила группу поделиться впечатлениями от арт-терапевтиче-ских занятий и сказать, чем наша работа отличалась от «рисования цветов» или «создания высокохудожественных произведений», предназначенных для последующего экспонирования или украшения помещений. Одна женщина заявила, что все равно не научилась рисовать и что ее внук рисует даже лучше. Остальные же признали, что теперь чувствуют себя значительно свободнее: они смогли сблизиться с другими людьми и получить удовольствие от то-
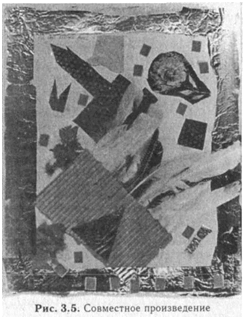 |
го, что изобразительные материалы использовались ими самым различным образом.
За эти месяцы я тоже сблизилась с участниками группы и сожалела о завершении работы.
Как уже было отмечено, вскоре пациенты выписались из дневного стационара и стали получать помощь на базе социальных центров. Одна женщина включилась в работу с новой группой, состоящей из амбулаторных пациентов. Выходя из кабинета, она повернулась и, обращаясь ко мне, произнесла: «Увидимся на следующей неделе, все было здорово!»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работа с людьми преклонного возраста была непростой, но интересной. Многим старикам было непросто преодолеть определенные сложности в работе, связанные с пониженностью их физических возможностей и эмоциональными проблемами. Однако они смогли увидеть смысл в событиях своей жизни. Словно лосось, плывущий против течения во время нереста, они двигались вверх, к истокам реки...
Структурированные арт-терапевтические занятия оказались для них весьма подходящей формой работы; позволившей выразить мысли и проблемы, связанные с возрастом. По мере того как мне удавалось преодолеть их страх перед рисованием, положительные и отрицательные переживания все более ярко и полно отражались в работах. Участие в арт-терапевтических занятиях вызывало у пациентов чувство сплоченности, и мне было лестно ощущать себя членом этого коллектива.
Поначалу мне было непросто работать рядом с другими специалистами, и это заставляло меня рассказывать им об арт-терапии и регулярно оценивать результаты своей деятельности. Постепенно число пациентов, направляемых на арт-терапию, росло.
Хотелось бы надеяться на то, что подходы к работе с психогериатрическими пациентами будут меняться. На мой взгляд, возможность творческого самовыражения для людей преклонного возраста столь же важна, как забота об их физическом состоянии и помощь в бытовых и социальных вопросах.
ЛИТЕРАТУРА
Mian I. И. Psythiatry of Old Age Strvict. Bristol: Southmead Health Authority, 1985.
Pitt B. Psychogeriatrics — an Introduction to the Psychiatry of Old Age. London: Churchill, Livingstone, 1982.
АРТ-ТЕРАПИЯ И ПРЕСТАРЕЛЫЕ ПАЦИЕНТЫ С ВЫРАЖЕННЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ ПАМЯТИ
Анжела Банере
Печатается по изданию: Byers A. Beyond Marks: On Working with Elderly People with Severe Memory Loss//Inscape. Vol. 1.1995.P. 13-18.
Сведения об авторе. Анжела Байере — получила диплом в области искусства и дизайна по керамике. С 1984 по 1985 г. прошла подготовку по арт-терапии при Goldsmith's College (Лондон). В течение ряда лет работает в основном с пожилыми и престарелыми пациентами в Южном округе Лондона и других городах Великобритании.
Данная статья основана на наблюдениях за работой престарелых пациентов с выраженными расстройствами памяти, имеющих склонность к сортировке и организации различных материалов. В ней описывается, каким образом использование материалов и предметов в арт-терапевтической работе может способствовать стабилизации эмоционального состояния пациентов данной группы. Анализируются моменты переноса и контрпереноса.
<...>
Термин «выраженные расстройства памяти» обозначает наличие у человека лишь крайне непродолжительной, кратковременной памяти. В этом случае мысли покидают сознание настолько быстро, что утрачивается логика нормального мышления. Тем не менее многие фрагменты долговременной памяти остаются сохраненными и смешиваются с образами восприятия. Чувства могут возникать и угасать быстрее, чем при нормальной памяти, но их интенсивность остается прежней. Часто человек с такими нарушениями не способен подобрать правильные слова и использует иные определения, из-за чего его речь невразумительна и малопонятна.
Работать с такими пациентами непросто. Высказывания окружающих надолго не удерживаются в их памяти и не осмысляются в достаточной степени. Однако физические объекты, которые можно видеть, обонять или трогать, воспринимаются ими более устойчиво. Если человек утрачивает сознание объекта, он может посмотреть на него, понюхать или потрогать, чтобы вернуть ускользающее понимание. Объект, возможно, активизирует воспоминания и ассоциации, которые могут дольше сохраняться в сознании. Аналогичным образом мазки, линии, цвета и формы могут часто напоминать художнику о мыслях и чувствах, наполнявших его во время создания произведения.
Данные наблюдения, касающиеся работы с престарелыми пациентами, отражены в работе Вилке и Байере (Wilks, Byers, 1992). Там говорится, что «устойчивый характер художественных форм может иметь осо-і бенно конструктивное и стабилизирующее влияние на психотерапевтический процесс в случаях затрудненного осознания клиентом своего "Я"». «Для больного продукт изобразительного творчества выступает в роли элемента определенной системы координат, имеющей постоянный характер» (р. 98). И. Ослер (Osier I., 1990) описывает свою работу с относительно молодым пациентом, страдающим болезнью Альцгеймера, | также снижающей кратковременную память. И. Ослер отмечает, что по мере того как клиент погружается в изобразительную деятельность,^ «происходит концентрация внимания, его уже не отвлекают беспокой-: ные мысли и иллюзии». «Уходят замешательство и тревога» (Osier I., 1990, р. 21). Когда больной смотрит на свой рисунок неделю спустя, «независимо от оценки собственной работы, настроение его меняется, он становится умиротворенным». «И это изменение в настроении связано не просто с воспоминанием о процессе работы над образом, а с чем-то' иным» (Ibid, р. 22).
В арт-терапевтической практике многие престарелые люди с выраженными нарушениями памяти не проявляют интереса к рисованию. Они больше расположены к игре с материалами, что указывает на осо! бый смысл, который имеет для них это занятие. Как и при создании образов, такая деятельность протекает в «пространстве» между пациентом. и арт-терапевтом. В этом процессе можно наблюдать повторяющиеся элементы. Поскольку пациент не в состоянии сохранить образ в своем сознании надолго, его работа не развивается. В нормальных условиях создание образа имеет прогрессивный характер: один мазок или штрих ведет к другому, новым образам и идеям, а в финале процесса может воз-1 никнуть законченное произведение. У пациента же с выраженными рас-, стройствами памяти работа имеет стереотипный характер и продолжа--ется до тех пор, пока психотерапевт не закончит сессию либо пока внимание пациента не будет отвлечено от материалов.
Психотерапевт или группа не всегда воспринимаются пациентом, находящимися за пределами его «Я». Они вплетаются в его работу. Такое
Арт-терапевтическая работа с пожилыми людьми 217
слияние всего и вся вокруг и внутри человека описано Вилке и Байере (Wilks, Byers, 1992). Оно напоминает происходящее с наделенными нормальной памятью пациентами при арт-терапевтическом переносе — психотерапевт с группой воспринимаются ими как давние знакомые, к которым когда-то ощущалась привязанность, и сиюминутные чувства к ним отражаются в создаваемых в данный момент образах. Однако это происходит на сознательном или полусознательном уровне. Клиент понимает, что психотерапевт и группа имеют свою собственную идентичность. Напротив, человек с выраженными расстройствами памяти к подобной дифференциации не способен.
ПРОЕКТ
Меня заинтересовала деятельность пациентов с выраженными расстройствами памяти. Я имела возможность наблюдать ее при самых разных обстоятельствах. С помощью моего менеджера я подготовила проект исследования данного феномена в условиях крупного психиатрического стационара. Целью исследования было изучение особенностей работы с материалами на сессиях, напоминающих сеансы индивидуальной арт-терапии, но с большим разнообразием материалов. Психиатрическая клиника, в которой я работала, предоставила два помещения на полдня каждую неделю в течение шести месяцев для проведения исследования.
Мне было очевидно, что такая работа пациентов больше напоминает игровую терапию, чем арт-терапию, — их деятельность не ведет к созданию законченного продукта творчества. Поэтому я проконсультировалась с драматерапевтом Энн Каттенах, которая подтвердила, что она и другие ее коллеги, работая с пациентам, имеющими выраженные расстройства памяти, пользуются материалами аналогичным образом.
Наши занятия проходили в столовой, в перерывах между приемами пищи, и небольшой комнате, в которой стояли стол и стулья, а также индивидуальные шкафчики персонала. Оба помещения не были специально предназначены для арт-терапевтических сессий, но имели несомненное достоинство: удовлетворительную изоляцию.
Обычно я располагала материалы на столе: разные виды бумаги,, куски текстиля, небольшие пластиковые емкости с пробками и без них, проволоку, шерсть, липкую ленту, оберточную бумагу, карандаш, линейку и ножницы. В дальнейшем я добавила отвертку, куски древесины и сумку с материалами, отобранными из-за их интересной фактуры (камни, губка и т. д.). По возможности я приносила нетоксичную глину для моделирования и тарелку с желе.
Я предлагала пациентам пройти в комнату. Иногда некоторые из них отказывались выйти из коляски, — по-видимому, не понимали, что от них требуют. Мне казалось, что они были не в состоянии осознанно согласиться на наши занятия. В таком случае я помещала некоторые материалы на подносе перед пациентом. Обычно он начинал изучать их. Думаю, условия были далеки от идеальных. Я нередко испытывала затруднения и ощущение открытости, располагаясь напротив пациентов. Однако это их не смущало, поскольку их внутренний мир сливался с окружающим пространством.
Мне удалось поработать с десятью мужчинами и женщинами. В палатах мужчин было меньше, и их родственники реже давали согласие на арт-терапевтическую работу. Из десятерых я выбрала пару женщин и пару мужчин. С каждым я занималась дважды в неделю по 45 минут. Я остановила на них свой выбор, поскольку они более активно реагировали на предложенные им при первой встрече материалы. Чтобы лучше запомнить и понять, что пациенты говорили, когда это было возможно, я записывала занятие на аудиокассету.
РЕАКЦИИ
Миссис С, 82 года, диагноз «болезнь Альцгеймера». На момент исследования пережила ряд тяжелых утрат: смерть родителей, единственных брата и сестры, развод. Пять лет назад умер бывший муж, после чего у миссис С. было отмечено быстрое ухудшение состояния. Больной требовалось некоторое время, чтобы погрузиться в изучение материалов. После этого она полностью уходила в работу: прикрывала объекты кусочком ткани, как бы пряча их, либо заворачивала предметы в бумагу или ткань. Иногда она разглаживала бумагу, проводила много времени, собирая в складки юбку, порой пряча в них рулон липкой ленты, ножницы или свои тапочки. Несколько раз она выразила желание взять липкую ленту для своего сына. Большую часть времени миссис С. что-то говорила, но понять ее было трудно. Я смогла лишь разобрать, что она хотела бы отправиться к своей матери, сыну или брату. Когда ей разрешалось вернуться в помещение, она предпочитала остаться и продолжать манипуляции с материалами. Работа с ними продолжалась у нее от 10 до 30 минут.
Раньше миссис С. занималась шитьем, и порой казалось, что она представляет себя за этим занятием. Однажды она заявила мне, что просит оплатить ее труд из расчета два фунта стерлингов в час. Когда я делала какие-либо замечания, она говорила «нет», возможно демонстрируя этим свою потребность в независимости. Интерес к заворачиванию и прятанью предметов выдавал ее желание держать вещи при себе, а стремление идти к матери или брату указывало на обращенность к наиболее важным отношениям жизни. Будучи оставленной наедине с собой, она выражала волнение по поводу своего сына и матери. Казалось, что в ее представлении мать и сын зависели от нее. В обеспокоенности старой женщины сквозила потребность быть кому-то нужной. Был очевиден конфликт с собственной беспомощностью и зависимостью от других.
Однажды миссис С. пришла на занятие в слезах. Она не проявляла интереса к материалам в течение 20-30 минут, но затем погрузилась в работу, ее настроение изменилось, и она перестала плакать. Кроме этого случая я не заметила каких-либо изменений ее настроения во время занятий.
Другая пациентка — миссис Д., 90 лет, диагноз «сенильная демен-ция». Жила со своим сыном до того, как оказалась совсем беспомощной и была помещена в стационар. Имела дочь. Эта пациентка приходила ко мне трижды. Еще один раз она не смогла прийти, и я сама принесла ей предметы на подносе (рис. 3.6).
Она обычно проводила со мной от 30 до 50 минут. Миссис Д. сворачивала бумагу, произнося: «Сложи ее, сложи ее...» Она изучала предметы, заглядывала в емкости, иногда показывала их мне. Иногда, подобно миссис С, прятала предметы под бумагу или ткань (рис. 3.7).
|
|
Однажды, будучи неспособной распутать резиновую ленту, спрятала
ее, тем самым убрав проблему из собственного поля зрения, а из поля
зрения окружающих —
свою неспособность ре-
шить задачу самостоя-
тельно. Она заворачива-
ла ножницы в бумагу, из-
готавливая «посылку» и
пряча ее под свой карди-
ган, чтобы затем взять с
собой в палату.Я забра-
ла сверток и развернула
его, лишь когда она поза-
была о нем. На следую-
щей неделе я вновь пока-
зала ей НОЖНИЦЫ, И она Рис. 3.6. Поднос с предметами, аранжированными
опять стала заворачивать миссис Д. в конце сессии
|
|
их в бумагу еще более туго и аккуратно. Создавалось впечатление, что эти «посылки» очень важны для нее. Я рассматриваю их как транзитные объекты, сохраняющие опыт занятий в то время, когда ее память не позволяла этого сделать (рис. 3.8).
МИССИС С. говорила боль-Рис. 3.7. Нечто спрятанное под куском ткани шую часть времени, но понять ее было трудно. Она, казалось, комментировала предметы и выражала реакции на то, чем они ей представлялись. Пациентка включала в свои высказывания фрагменты, отражающие ее прошлую жизнь. Например, она говорила: «О, здесь довольно красиво... Куда же мы пойдем?.. Я, кажется, забыла, что мне нужно... Можно я возьму часть?» Она называла меня «дорогая» или «непослушная девочка», и временами казалось, что она делится со мной своими секретами. Иногда она, помня обо мне, комментировала свои действия. Мне представлялось, я являюсь частью драмы, разворачивающейся в ее сознании и проецирующейся во внешний мир, однако не столь важной частью, как это могло бы быть при переносе у людей с ненарушенной памятью. В ходе занятий миссис С. становилась более активной, при этом значимость моей персоны в том, что она делала, снижалась.
Мистер Э., 87 лет, диагноз «многоочаговая деменция». Мистер Э. вырос в провинции. Его отец был полицейским. Все его восемь братьев и
|
|
сестер к моменту исследова-
ния уже умерли. У него са-
мого было пятеро детей. Мис-
тер Э. лишь один раз при-
шел на занятие, и я трижды
приносила ему материалы в
помещение дневного пребы-
вания — либо потому, что
он не очень хорошо себя чув-
ствовал, либо потому, что
он не мог встать с кресла.
Придя на занятие, мистер Э.
Рис. 3.8. «Посылка» начал исследовать простран-
ство и вещи. Он провел некоторое время за столом, выбирая предметы, засовывая пальцы в емкости, отрывая кусочки вощеной бумаги от рулона и скатывая из них трубочку, которую потом помещал в различные полости. Затем мистер Э. встал и начал исследовать комнату, толкать дверь, двигать мебель. Он находился со мной около тридцати минут.
Следующее занятие продолжалось лишь 15 минут и проходило в комнате дневного пребывания. Здесь предстояло празднование чьего-то дня рождения. Мистеру Э: было интересно. Он начал подносить вещи ко рту и тактильно их исследовать. На третьем занятии он чувствовал себя не очень хорошо, но реагировал на предметы, либо засовывая их в рот, либо двигая ими вокруг губ. Я предложила ему блюдо с большим количеством желе. Мистер Э. начал изучать блюдо. Обнаружив желе, пациент взял его в рот и зарыдал. Его чувства были очень яркими, но вскоре он успокоился, и на его лице появилось выражение удовлетворенности, а затем — любви.
Четвертое — последнее — занятие вновь проходило в комнате дневного пребывания, поскольку мистер Э. не мог встать с кресла. Вначале он изобразил жестом крест, а затем — лишь начало этого жеста. Он также указал на персонал, мои серьги, юбку и пуговицы. Затем он поместил небольшой круглый контейнер в глину, выпил чашку чая и попытался ощупать ее изнутри. Он был очень обрадован, я думаю, из-за моего присутствия, — все время обращался ко мне. Он существовал в реальности, определяемой переносами, и мне казалось, что я представлялась мистеру Э. кем-то из дорогих ему людей. Мое присутствие оживляло в нем воспоминания о том, по поводу чего он испытывал чувство вины. Он произнес: «О, Господи, Господь Всемогущий... я люблю тебя, я люблю тебя...» Иногда он почти переходил на рыдания. Затем он сказал: «Бедняга, я не сделаю тебе больно... прости меня... прости меня». Создавалось впечатление какого-то самобичевания, которое производило над ним его супер-эго. Это занятие продолжалось три четверти часа. За исключением нашей первой встречи, когда мистер Э. обследовал новое для себя помещение, работа с материалами вызывала у него оральную реакцию, выраженности которой соответствовала интенсивность переживаний.
Мистер Ф., 77 лет, диагноз «многоочаговая деменция». В прошлом водопроводчик. Двадцать лет назад перенес черепно-мозговую травму. С этого времени у него стали проявляться импульсивность, агрессивность и неусидчивость. Он действительно был непоседлив. Зачастую его было трудно заставить выполнить простые просьбы. Во время занятий он был очень активен, смотрел на материалы с большим интересом, выбирал вещи и клал их в разные места, изучал предметы, переворачивал и снова ставил их в исходное положение, просовывал пальцы в отверстие внутри рулона вощеной бумаги, даже попытался вытащить поролон из старого кресла, что потребовало от него больших усилий. Кусочек поролона, завернутый в край своего джемпера, он дал мне. На третьем занятии, делая вид, что пьет, мистер Ф. поднес контейнер к губам, а также попытался обернуть бумагой свою ступню. Он надавливал на вены на ноге, слов-і но это был неодушевленный предмет, потом взял меня за руку: «Положи сюда», — будто это была часть его собственного тела. Он проводил много времени, двигаясь по комнате, изучая все на своем пути, трогая вещи и пытаясь с силой открыть дверь. Часто, обращаясь ко мне, говорил: «Пошли», — словно я была партнершей в его занятии. Иногда он просил моей помощи.
При четвертой встрече мистер Ф. был очень беспокоен и отказался идти в помещение для работы, поэтому я решила остаться с ним. Он ходил вперед и назад, с силой толкая стены, двигая мебель и пытаясь открыть дверь. Он даже попытался сломать радиатор, а затем снял свои шлепанцы и лег на кровать. Взяв меня за руку, он сказал: «Отдай мне», — и затем попробовал передвинуть мою ногу. Эти действия вызывали у меня беспокойство, и я пыталась контролировать его движения. Он много говорил, но понять его было трудно. Занятие продолжалось сорок пять минут. Обычно настроение мистера Ф. не менялось на протяжении занятий. Он часто не мог разобраться, что было его собственным телом, а что принадлежало мне или окружающему пространству. Аналогичным образом, он не мог смириться с внешними ограничениями. Недо1' статочное осознание границ своего тела было для него очевидной проблемой.
ОБСУЖДЕНИЕ
На основе проведенных исследований можно констатировать наличие следующих видов деятельности пациентов: выбор, изучение, прикрывание, прятанье, заворачивание, помещение в рот и перемещение вокруг губ предметов, обследование емкостей изнутри, в том числе помещение внутрь них пальцев, разглаживание и складывание бумаги и ткани, обследование комнат, перемещение мебели, толкание дверей и стен. Некоторые из этих действий имели определенное отношение к жизненному опыту пациентов. Другие, как, например, изготовление посылок, были наделены, по-видимому, символическим смыслом. Пациенты проявляли большой интерес к физическим свойствам предметов в попытке определить, каковы эти предметы и что с ними можно делать. Возможно, имеет место ранняя стадия регрессии, что связано с потребностью заново пережить забытое: у детей на определенном этапе развития формируется ощущение своей физической отделенности от родителей и окружающего пространства. Я имела возможность наблюдать, как нарушенная кратковременная память изменяет сознание, результатом чего становится искаженное восприятие пространства, времени и собственной личности. Описанные четыре пациента проявили склонность к определенным видам деятельности: первые три реагировали в основном на материалы, четвертый — на окружающее пространство. Они не создавали образов, которые могли бы служить им инструментом для координации. Тем не менее в двух описанных случаях женщинам удалось достичь определенной устойчивости в восприятии материалов, которые относительно долго удерживали их внимание, — у пациенток возникли ассоциации с тем, что они делают. Мужчины использовали объекты разным образом, исследуя их орально и пространственно. По-видимому, они переживали регресс на ранней стадии развития. Их внимание, однако, удерживалось на предметах дольше, чем обычно. Работа пациентов, когда им удавалось войти в нее, была относительно устойчивой и продолжительной. Все окружающие люди и предметы, не являвшиеся материалами занятий, осмыслялись пациентами в контексте собственных действий. В случае с мистером Ф. это проявлялось в том, что я воспринималась им не как другое лицо, а лишь как один из предметов в мире его вещей, в котором внутреннее сливалось с внешним. Однако мне кажется, что я была частью трехсторонних отношений, в которых помимо меня и пациента существенное значение имела игровая среда между нами. Не было какого-либо развития процесса от начала до конца. Не было осознания пациентами регулярного характера занятий — они не понимали, ни кто я, ни почему мы встречаемся каждую неделю. Наблюдалось смешение осознаваемых и неосознаваемых элементов психической деятельности. Нарушения памяти приводили к утрате ощущения реальности, необходимого для осознания ситуации. В связи с этим действие большинства конструктивных факторов арт-терапевтической работы (изобразительного процесса, его протяженности во времени, интеграции неосознаваемых элементов в сознание и других) оказывалось невозможным.
Однако работа с материалами давала пациентам шанс погрузиться в себя и, если принять во внимание присутствие арт-терапевта, делала переживание пациентами своего «Я» более валидным, что поддерживало их индивидуальности. Для престарелых людей это особенно важно.
Д. Винникотт (Winnicott D., 1960) описывает «удерживание» как существенную характеристику первичной стадии развития ребенка. Оно имеет место до появления ощущения своей собственной психической реальности и отделенности от окружающей среды. Ребенок, однако, не знает, что хорошо, а что плохо в окружающем его пространстве, поэтому лишь поддержка со стороны матери позволяет ему выжить. Именно ее эмпатия и способность понимать и адекватно реагировать на потребности ребенка обеспечивают устойчивость его психического развития. «Удерживание» является и конструктивным фактором психотерапевтических отношений. Психотерапевт защищает ситуацию от внешнего вторжения и создает атмосферу терпимости, наполненную заинтересованным вниманием к пациенту. Он пытается понять его и соответствующим образом реагировать на его действия. Это создает устойчивость контакта между встречами. В описанных случаях страх наказания и неясность границ физического тела достаточно ярко выставлялись как потребность близости к матери. Я пыталась понять то, что наблюдала, и думаю, происходящее во время занятий имело определенный смысл. Поэтому я хотела бы привнести в них возможность для «удерживания». Отсутствовала лишь его устойчивость — пациенты были неспособны связать опыт предыдущих и последующих занятий. Все это предъявляет особые требования к установкам тех, кто проводит работу с престарелыми пациентами.
КОНТРПЕРЕНОС
Думаю, что в работе с больными, имеющими выраженные расстройства памяти, фактор веры имеет очень большое значение. Недавно я спросила женщину, посещающую еженедельную арт-терапевтическую группу для пожилых людей с расстройствами памяти, как она себя чувствует. И хотя эта женщина никогда не знала, ни где она оказалась, ни кто члены ее группы, она ответила, что чувствует себя нормально, так как находится со своими «сослуживцами». Я поняла это так: женщина ощущает тесную связь с группой. Думаю, даже при грубых нарушениях памяти превербальными средствами можно достичь осознания.
Зачастую бывает трудно оценить достоинства работы со стариками. Пациенты данной группы способны вызвать ощущение тщетности усилий специалиста и его беспомощности, поэтому большинство профессионалов рассматривает пожилых больных с выраженными расстройствами памяти как наименее для себя привлекательных. Л. Треливинг (Тгеliving L., 1988) описывает свои наблюдения во время работы в психиатрическом отделении для престарелых. Она отмечает, что персонал молодого возраста чувствует себя беспомощнее в этом отделении, чем при работе с более молодыми пациентами. Она обращается к понятию психосоциального кризиса Э. Эриксон (Erikson Е., 1963) и сравнивает последнюю стадию, называемую «целостность—отчаяние», со стадией «интимности—изоляции», которой соответствует развитие ее самой и ее коллег. Она пишет: «Данное несоответствие стадий само по себе может быть причиной трудностей, связанных с необходимостью сопереживания пациенту» (р. 226). Л. Треливинг описывает психологическое сопротивление персонала чувствам утраты и увядания, а также его трудности в восприятии смерти. Названные проблемы у некоторых людей в какой-то степени могут быть связаны с дефицитом мотивации, что нередко встречается в работе с престарелыми пациентами, нуждающимися в посторонней помощи. Б. Мартиндейл (Martindale В., 1989) обсуждает проблему нарастающей беспомощности пациентов и тех реакций, которые она вызывает у персонала. Он отмечает, что среди персонала есть люди разных возрастов с преобладающей потребностью достичь отделения (индивидуализации) в семьях, из которых они происходят. Они могут испытывать тревогу по поводу потребностей собственных стареющих родителей. Автор считает, что такого рода тревога может определять избегание проблем, связанных с беспомощностью и зависимостью от окружающих, а это, вполне вероятно, ведет к затруднениям, обусловленным конфликтом между контрпереносом и чувствами, порожденными реальной жизнью.
Никто из названных авторов не описывает, однако, фрустрации и гнева, которые я нередко испытывала и которые, как мне кажется, нередко испытывает персонал. Этот гнев часто направляется на других, возможно, в попытке отрицания того, что он является результатом собственного переживания фрустрации и беспомощности перед лицом наблюдаемого плачевного состояния престарелых пациентов. Психотерапевт сталкивается со многими проблемами, вытекающими, в частности, из неустойчивого эмоционального состояния пациентов, их речевых нарушений и даже встречающегося иногда отрицания реальности присутствия специалиста. Несмотря на это, психотерапевт должен сохранять ощущение своего «Я», проникая в переживания пациента и пытаясь их понять.
Работа с людьми, прожившими намного больше вас, не может не производить глубокого впечатления и не обогащать личность психотерапевта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мною показано, что использование различных материалов и предметов в качестве моста от пациента к психотерапевту имеет много общего с арт-терапевтическим процессом. Однако между ними есть и существенные различия, обусловленные расстройствами памяти и отсутствием развития процесса. Предметы позволяют удерживать проекции пациента и помогают ему «войти» в работу с материалами.
Пациенты данной группы недостаточно хорошо понимаются окружающими. С ними трудно работать, но такая работа способна принести и удовлетворение, связанное с осознанием того, что вы можете им дать. Истинным вознаграждением являются моменты человеческого контакта, во время которых психотерапевт понимает своего пациента, а пациент чувствует себя понятым.
ЛИТЕРАТУРА
Erikson Е. Childhood and Society. 2nd ed. New York: Norton, 1963.
Martindale B. Becoming Dependent Again: The Fears of Some Eldery Persons and Their Younger Therapists / / Psychoanalytical Psychotherapy. Vol. 4. № 1. 1989. P. 67-73.
Osier /. Creativity's Influence on a Case Jn Dementia / / Inscape. Summer 1988. P. 20-22.
7'reliving L. The Use of Psychodynamics in Understanding Eldery In-Patients / / Psychoanalytic Psychotherapy. Vol. 3. № 3. 1988. P. 225-233.
Wilks, Byers. Art Therapy with Eldery People in Statuary Care. Art Therapy: A Handbook / Waller D., Gilroy A. (eds.). Buckingham: Open University Press, 1992.
Winnicott D. W. The Theory of The Parent Infant Relationship [1960]. The Ma-turational Processes and The Facilitating Environment. Hogarth Press, 1965.
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПСИХИАТРИЧЕСКИМИ ПАЦИЕНТАМИ
Арт-терапевтический подход впервые был применен на практике в психиатрии. Именно здесь произошло объединение опыта вдохновленных движением «арт-брют» художников и арт-педагогов с достижениями психиатров, пытавшихся использовать стремление многих больных к оригинальным формам художественного творчества. Определенное зна-чение для проникновения первых аналогов арт-терапевтической работы в психиатрические клиники имела, по-видимому, неудовлетворенность многих специалистов «ограничивающими» и «подавляющими» подходами, длительное время доминировавшими в психиатрии. В скромном арсенале психиатрических методов лечения конца XIX — начала XX веков терапия отвлекающими впечатлениями, использовавшая изобразительное искусство, различные ремесла, чтение литературы и другие области творческой деятельности, традиционно .занимала не последнее место. В 1930-1940-е гг. в период господства бихевиоральных, механистических подходов к лечебно-воспитательной и социальной работе с психическими больными различные виды изобразительной и декоративно-прикладной деятельности были использованы, главным образом, в русле «индустриальной» терапии и терапии занятостью. Положительные эффекты такой деятельности объяснялись ее отвлекающим и обучающим (в смысле формирования ценных социальных навыков) действием.
Одновременно с этим, благодаря инициативам Г. Принсхорна, Ж. Де-бюффе и других, приобрели определенную популярность формы художественного творчества, основанные на признании эстетически оригинальной «субкультуры» больных, отражающих в творчестве свой взгляд на мир. В результате синтеза этих двух направлений сформировались «классические» формы студийной арт-терапевтической работы, осуществлявшейся, главным образом, в крупных психиатрических больницах Запада до 1950-1960-х гг. (во многих клиниках эти формы применяются и сегодня). Для арт-терапевтических студий середины XX века характерен акцент на таких видах изобразительной работы больных, которые игнорируют ее интерактивный характер, обусловленный идеей «психотерапевтического альянса» и возможностью осознания больным содержания собственных переживаний, нашедших отражение в его творчестве. В то время специалисты по использованию художественного творчества больных оказывали им в основном дидактическую помощь, обучая «азам» изобразительного искусства, и до известной степени «морально» поддерживали своих пациентов.
1960-1970-е гг. характеризовались первыми попытками использовать формы художественной работы психиатрических пациентов, которые бы опирались на психодинамические представления (И. Чампернон), и первыми опытами внедрения аналогов арт-терапии в деятельность амбулаторных психиатрических учреждений и социальных центров по работе с психическими больными (Р. Саймон). Постепенно, благодаря успеху этих инициатив и последовавшей в тот период крупной реорганизации психиатрических служб развитых стран, связанной с активным использованием психофармакологии, в психиатрии начали распространяться новые формы арт-терапевтической работы. Обнаружилось стремление учитывать динамичный клинический и социальный статус больных, перемещающихся по мере лечения из стационаров во внебольничную среду, поэтому формы работы с ними становились все более дифференцированными.
Подлинный «прорыв» в использовании передовых методов социальной и психотерапевтической работы с психически больными, включающих в себя арт-, музыко- и драма-терапию, терапию движением и танцем, другие подходы, в развитых странах произошел в 1980-1990-х гг. Дальнейшее разукрупнение стационаров, развитие сети внебольничной помощи, введение бригадных форм совместной работы психиатров, психологов, арт-, музыко- и драма-терапевтов, социальных работников, клинических педагогов и других специалистов позволили значительно гуманизировать практику лечения и социального «сопровождения» психически больных людей, повысить качество их жизни и во многих случаях достичь их более стойкой социальной и клинической компенсации.
В настоящее время имеются самые разные формы арт-терапевтической работы с психическими больными, учитывающие особенности пациентов и этапы лечебно-реабилитационного процесса и преследующие, исходя из этого, различные цели. Их можно разделить на две основные группы:
а) арт-терапия на начальных этапах лечения (в остром и подостром
психотическом состоянии, как правило, в условиях психиатриче-
ского стационара);
б) арт-терапия на последующих этапах лечения и реабилитации (при-
меняемые как в психиатрических стационарах, так и в амбулатор-
ных условиях).
Арт-терапия психически больных на начальных этапах лечения имеет своей основной целью стабилизацию состояния пациента и его адаптацию к условиям психиатрического стационара. Изобразительная деятельность позволяет больному выразить свои переживания и в какой-то мере осознать их. Иногда на этом этапе в арт-терапевтическую работу включаются и родственники больного, поскольку помещение их близкого в психиатрический стационар является для них большим стрессом. Совместная деятельность больного и родственников во многих случаях способствует более адекватному пониманию ими его состояния.
Арт-терапевтическая работа с острыми психиатрическими пациентами организуется по-разному и может проводиться в формах индивидуальных или групповых занятий, построенных по студийному либо тематически ориентированному принципу. В статье П. Луззатто описывается один из вариантов групповой .арт-терапии, сочетающий принципы традиционной студийной работы с элементами психодинамического подхода и интерактивности.
Арт-терапия на последующих этапах лечения и реабилитации имеет своими основными задачами дальнейшую стабилизацию психического состояния пациента, предупреждение новых обострений болезни, а также преодоление негативных психологических последствий его социальной изоляции, вызванной длительным пребыванием в психиатрическом стационаре, потерей работы, утратой социальных связей и т. д. Особое внимание уделяется восстановлению ценных практических навыков и интересов больного, повышению его самооценки, преодолению «стигматизации» и другим проблемам.
Применяемые для этого формы работы могут включать в себя как индивидуальную, так и групповую арт-терапию в ее трех основных вариантах (открытая студийная, аналитическая и тематически ориентированная группы). Выбор определяется степенью остаточных психических расстройств, индивидуальными потребностями пациента, его специфическими проблемами. Такая арт-терапия может проводиться еще в период пребывания больного в психиатрическом стационаре, в условиях амбулаторного психиатрического учреждения («дневного» стационара),
в психоневрологическом интернате, общинном центре и в других условиях.
В статьях С. Льюис и А. Копытина описывается практика арт-терапевтической работы именно этого типа. Основными участниками арт-терапевтических групп в обоих случаях являются больные с различными психическими расстройствами, находящиеся в состоянии относительной «компенсации» или в процессе становления ремиссии. Оба автора отдают предпочтение тематически ориентированным группам с большей или меньшей «структурированностью» сессий. В статье А. Копытина также приводится пример использования тематически ориентированной, интерактивной работы пациентов с использованием техники «драматическая арена», предполагающей большую групповую динамику и коммуникацию пациентов.
Непосредственное отношение к проблемам арт-терапевтической работы с психиатрическим пациентами имеют статьи М. Мауро и К. Тис-дейл, включенные в другие главы книги. Своеобразие этих публикаций заключается в стремлении их авторов учесть культурные и социальные факторы, влияющие на характер переживаний пациентов и их отношения с психотерапевтом.
КРАТКОСРОЧНАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ В «ОСТРОМ» ПСИХИАТРИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
(Открытая сессия как вариант студийного подхода) Паола Луззатто
Статья печатается по изданию: Luzzatto P. Short-term Art Therapy on the Acute Psychiatric Ward: The Open Session as a Psychodinamic Development of the Studio-based Approach / / Inscape. Vol. 2. № 1. 1997.
P. 2-10.
Сведения об авторе. Паола Луззатто — дипломированный арт-терапевт с большим опытом работы в области психиатрии, в настоящее время сотрудник Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Нью-Йорк.
ВВЕДЕНИЕ
Вид арт-терапевтической работы, делающий акцент на создании образов при сохранении значения процесса изобразительного творчества и групповой динамики, называется открытой сессией. Обозначенное сочетание приоритетов отличает ее от традиционной студийной открытой группы, ставящей создание образов и приватный характер творчества клиентов во главу угла, но почти полностью игнорирующей групповую динамику (Adamson Е., 1984; Bach S., 1990; Hill А., 1948; Lyddiatt Е. М., 1971). В статье описывается вариант студийного подхода, дополненный некоторыми элементами интерактивной модели. Демонстрируется ряд практических и теоретических моментов работы.
Историческая ценность студийного подхода общепризнана. Однако развитие арт-терапии в качестве разновидности психотерапии способствовало вытеснению студийного подхода психодинамическими моделями, подчеркивающими важность группового взаимодействия и феномена переноса (McNeilly G., 1987; Skaife S., 1990; Waller D., 1991, 1993). Тем не менее в определенных областях психиатрии и психотерапии студийный подход сохраняет свое значение и сегодня. В первую очередь это касается работы с пациентами, страдающими хроническими психическими расстройствами и длительное время находящимися в психиатрических стационарах, а также работы в условиях психотерапевтических сообществ (McLagan D., 1985). В среде арт-терапевтов в последнее время повышается интерес к потенциальным возможности студийного подхода: многие подчеркивают особую значимость таких его особенностей, как, например, гибкость пространственно-временных Границ и возможность глубокого опыта художественного творчества; появляются публикации, допускающие создание новых вариантов арт-терапевтической работы в результате синтеза студийного и психодинамического подходов (Allen Р., 1995; Levine S. К., 1992; Malchiodi С, 1995; McGrow М., 1995; McNiff S., 1995; WixL., 1995).
К. Killick (1996) сообщает об эффективности подобной комбинации, имеющей психодинамическую доминанту: студийный подход предполагает значительные возможности для удерживания и интеграции дезинтегрированных переживаний, психодинамический элемент представлен еженедельными индивидуальными сессиями с регулярно посещающими студию пациентами.
При студийном подходе диалог пациента с художественным образом является исцеляющим фактором, но требует значительного времени. Я же предлагаю форму краткосрочной арт-терапии, которая может использоваться в работе с пациентами, находящимися в «остром» психиатрическом отделении всего несколько недель, а иногда и дней. Краткосрочные формы арт-терапии пока описаны мало, поэтому арт-терапев-там, желающим их использовать или уже их применяющим, приходится опираться на литературу по вертикальной краткосрочной психотерапии (MalanD. Н., OsimoF., 1992; Mandel Н. Р., 1981; MolnosA., 1995; Ryle А., 1990; Ursano A. I., Hales R. Е., 1986; Yalom I., 1975, 1983). Положительные эффекты краткосрочной арт-терапии пациентов, страдающих острыми психическими расстройствами, были описаны в некоторых работах (McClelland S., 1992, Wood М., 1990 и Filip С, 1994). Эти авторы подчеркивают значение для пациентов даже единичных сессий. Американка П. Аллен (Allen Р., 1983) описала свой вариант краткосрочной групповой интервенции в условиях непродолжительного курса психиатрического лечения, получивший у нее название «открытая сессия». Он очень похож на тот, что предлагается в данной публикации. Одной из наиболее значимых характеристик подхода П. Аллен, по ее собственному определению, была гибкость: группа состояла из пациентов с самыми различными потребностями и формами поведения. Среди участников были те, кто приходил на сессию лишь наблюдать или общаться, — и всем предоставлялась возможность пребывания в общем «пространстве». «Гибкость» и «адаптивность» были названы С. Фолькис — основоположником групповой аналитической психотерапии — необходимыми условиями развития групповой психотерапевтической работы.
Очевидно, что эволюция психотерапии осуществляется за счет появления самых разных, в том числе новаторских приемов и форм работы. Никакие из них не должны игнорироваться, поскольку могут оказаться ценными при работе с теми или иными пациентами. Больные, находящиеся в «острых» психиатрический отделениях, относятся к весьма сложной группе и требуют новых подходов к арт-терапевтической работе.
УСЛОВИЯ «ОСТРОГО» ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМА ПСИХОТЕРАПИИ
Предлагаемые мной открытые сессии являются результатом работы в «остром» отделении при психиатрической больнице Св. Томаса в Лондоне в период с 1989 по 1994 г. В них также учтен опыт моей предшествующей работы, в которой применялся студийный подход к традиционному контингенту больных из Tooting Вес Hospital.
В больнице Св. Томаса не было специального помещения для художественных занятий, равно как и пациентов с длительным пребыванием в стационаре. Новый контингент больных и моя психодинамическая подготовка определили стиль работы. Я решила использовать находящееся в отделении помещение столовой. Заведующий отделением разрешил мне повесить на одной из стен большую доску, чтобы размещать там работы пациентов. Таким образом больные получали возможность видеть свои рисунки каждый день во время приема пищи.
Двадцать четыре койки отделения предназначались для пациентов с самыми разными заболеваниями, включая моно- и биполярные аффективные расстройства, шизофрению и личностные расстройства. Здесь были люди, недавно совершившие суицидную попытку, лица, проходящие противоалкогольную дезинтоксикацию, пациенты в психотическом состояниями, вызванном приемом наркотических веществ. Несколько коек занимали больные с психосоматическими расстройствами и анорек-сией. Средняя продолжительность пребывания в отделении составляла около двух недель. Некоторые пациенты находились здесь дольше, некоторые — поступили повторно.
Вопрос о том, какого рода помощь, кроме медикаментозной, должна оказываться пациентам психиатрических отделений, до сих пор является актуальным для британской системы здравоохранения. В данном отделении использовались формы рекреационной работы и терапия занятостью.
Кроме того, некоторые больные в дальнейшем направлялись на психотерапию. Мне предстояло самой убедить специалистов и руководство отделения в достоинствах арт-терапии. Я решила использовать, с одной стороны, индивидуальную и групповую арт-психотерапию для амбулаторных пациентов (совместно с психологической и психотерапевтической службами, образующими психотерапевтический блок) и, с другой стороны, особую форму арт-терапии для находящихся на стационарном лечении в «остром» отделении. Короткие сроки пребывания больных в отделении и неясность дат их выписки заставили меня сделать арт-терапевтические сессии открытыми.
При проведении сессий я руководствовалась тем же принципом, что и при любой психодинамически ориентированной терапии: если пациент способен объективировать содержания своей психической жизни и проанализировать их с помощью психотерапевта, он тем самым дистанцируется от них, они становятся для него менее угрожающими, более понятными и подверженными положительным изменениям (Bolls С, 1995). Работа в «остром» психиатрическом отделении была связана с тремя основными сложностями: гетерогенним составом групп пациентов, краткостью их пребывания в отделении и высоким процентом неспособных к инсайту больных (прежде всего, больных острыми психическими расстройствами, грубыми поведенческими нарушениями и психосоматическими заболеваниями). Мне предстояло определить, насколько возможно сочетать открытый характер сессий с необходимостью создания безопасной атмосферы, обязательной для любой психотерапевтической работы.
БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТЫХ СЕССИЙ
Перечисленные ниже положения часто и плодотворно обсуждаются арт-терапевтами, студентами и волонтерами, стремящимися адаптировать свою работу к тем или иным условиям.
1. Постоянство. Атмосфера безопасности в группе нередко разрушается появлением «случайных» членов. Для поддержания стабильных условий работы необходимо по возможности одно неизменное помещение (мы, например, использовали столовую, расположенную недалеко от палат), проведение сессий в определенные дни недели в одно и то же время (мы проводили их с 10 до 12 часов), постоянство ведущего группу специалиста, применение определенного набора изобразительных материалов и столов, соблюдение оговоренных правил поведения.
2. Правила поведения. Они касались прежде всего приема пищи и
напитков во время работы (пациентам разрешалось приносить на заня-
тия кофе, но запрещалось еду) и музыки (не допускалось использование
личных радиоприемников и магнитофонов). Мы условились о том/что
участники сессий не будут мешать друг другу — портить материалы или
уже созданные и вывешенные на доске работы.
Я никогда не использовала музыку в работе с группой психиатрических пациентов, и мне'было бы интересно знать мнение других арт-терапевтов относительно возможности использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Я заметила, что некоторые из пациентов плохо переносят музыку, которую подбирают арт-терапевты или другие больные, а это может создать лишние проблемы.
3. Расположение изобразительных материалов. Мы помещали все материалы на один стол и просили пациентов выбирать понравившиеся, либо раскладывали материалы на индивидуальных столах. Наблюдения показали, что второй способ предпочтительнее. Перед каждой сессией на столах участников группы лежали: белая бумага, фломастеры, восковые мелки, пастель, акварельные краски, клей и журналы для коллажей. В помещении было семь круглых столов. Готовились также некоторые дополнительные материалы и инструменты (в частности, ножницы находились под постоянным наблюдением), часть из которых я держала на своем столе.
4. Тишина. Тишина — одно из требований студийного подхода. Поддержание баланса между ней и возможностью вербального контакта составляло определенную сложность. Обычно мы в начале сессий обращали внимание пациентов на то, что тишина является знаком взаимного уважения и позволяет сконцентрироваться на своем деле. Разговоры о повседневных проблемах были нежелательны в ходе занятий, однако беседы с отдельными пациентами в начале встречи иногда помогали им включиться в работу и преодолеть растерянность, связанную с отсутствием образов или, наоборот, их избытком.
5. Соотношение вербального общения и изобразительной работы. Вербальное обсуждение обычно касалось уже завершенных рисунков и предполагало согласие авторов. Мы просили пациентов высказывать суждения о своих работах и работах других; если кто-то продолжал рисовать, ему не препятствовали. Меня всегда удивляло, что пациенты, предпочитавшие рисовать во время обсуждений, не ощущали каких-либо помех для своей работы. Либо они были настолько глубоко погружены в свою деятельность, что не обращали никакого внимания на происходящее вокруг, либо, наоборот, понимали всю серьезность обсуждения и сознательно не принимали в нем участия. И первый, и второй варианты, вероятно, имели место.
Обсуждения строились в форме высказывания пациентами своих ассоциаций с выполненными работам. После этого могло наступить затишье, когда уже проговоренное побуждало пациентов к созданию новы рисунков. Такой момент мог оказаться очень важным в ходе всей сессии — отражающим готовность пациентов к свободной творческой игре и изменениям.
6. Достаточно ли участия одного арт-терапевта? Я всегда была рада тому, что вместе со мной работал кто-либо из студентов, проходящих стажировку по арт-терапии, либо волонтер, либо тот и другой одновременно. Они присутствовали на всех сессиях в течение всего года. Нередко ситуация требовала того, чтобы кто-то из нас оказал особое внимание определенному пациенту, в то время как другой продолжал «держать» группу. Такое распределение ролей было желательно во избежание эксцессов, связанных с внезапными бурными реакциями находящихся в измененном психотическом состоянии пациентов. Если срыв все же случался, мы, сказав пациенту, что он сможет продолжить работу через некоторое время, старались вывести его из помещения и передать медицинским сестрам.
7. Проблема «открытых дверей». «Открытые двери» — признак свободы входить в помещение и покидать его, он несет положительный смысл. «Открытые двери» особенно важны для тех пациентов, кому трудно сконцентрировать свое внимание, для тех, кто боится входить в помещение и, прежде чем присоединиться к группе, предпочитает постоять и понаблюдать, чем занимаются другие. Некоторые студенты-практиканты предлагали работать с закрытыми дверями, и мы иногда так поступали, — главным образом в конце каждой сессии, чтобы создать пациентам, готовым к групповому взаимодействию, условия для более активного участия в вербальном обсуждении работ.
8. Участие персонала. Персоналу было разрешено присутствовать на сессиях, однако всякий раз не более чем одному человеку. Регистраторы и медицинские сестры проявляли интерес к арт-терапевтическим занятиям. Я понимала, что для них личное присутствие — наилучший способ убедиться в терапевтических возможностях этих занятий.
Обычно я уделяла гостям время до и после каждой сессии. Я объясняла им различия между их ролью, ролью арт-терапевта и пациента: я находила, что наилучшим определением их роли является словосочетание «участник-наблюдатель» (они могли наблюдать за тем, что делают пациенты, и могли сами участвовать в изобразительной работе). Я также объясняла им суть обсуждений, подчеркивая, в частности, то, что нашей задачей является не оценка эстетических достоинств изображений или их интерпретация, а выяснение чувств, которые испытывают члены группы, глядя на свои работы. Гостей предупреждали, что высказывать свои суждения они могут, лишь если сам автор просит об этом. По моим наблюдениям, этих пояснений обычно было достаточно, и участие персонала не приобретало антитерапевтического характера. Очень часто «участники-наблюдатели» покидали наши занятия с чувством обретения нового для себя опыта, касающегося арт-терапии и особенностей состояния пациентов. Нечто подобное имело место и в тех случаях, когда приходили родственники или друзья больных, захотевшие быть с ними рядом во время сессии. Принцип «открытых дверей» позволял им присутствовать на занятиях, не мешая участникам группы (появление новых людей воспринимается менее болезненно, если участники группы знают о ее открытом характере).
9. Место для работ (на стене, в шкафу или в сознании арт-терапевта). По нашим наблюдениям, наилучшим местом для законченных работ была большая доска на стене. В любое время по ходу сессии на нее могли вывешиваться рисунки. При открытом характере группы, когда отсутствует четкое время начала и завершения работы, когда неизвестно, сколько продлится обсуждение, возможность молчаливого созерцания рисунков представляется чрезвычайно важной. Доска на стене выполняла несколько функций: она являлась «резервуаром» (особым пространством, «удерживающим» переживания пациентов), символически обозначала группу в целом, способствовала вербальному обсуждению, помогала больным осознать себя в качестве авторов своих работ и в то же время дистанцироваться от них. Провисевшие неделю рисунки помещались в шкаф. Случалось, что некоторые пациенты, поступавшие в отделение повторно, вновь приходили на занятия и говорили мне: «А Вы помните тот рисунок, который я сделал год назад? Вы его сохранили?»
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ОТКРЫТЫХ СЕССИЙ, РЕАКЦИИ ПАЦИЕНТОВ И РОЛЬ АРТ-ТЕРАПЕВТА
Я обычно объясняю пациентам, что основной целью занятий является самовыражение. Иногда мы даже называем наши встречи «группой самовыражения» и вывешиваем на дверях соответствующую табличку.
Если некоторые пациенты не вполне меня понимают, я добавляю, что состояние человека может выражаться в воспоминаниях, фантазиях, сновидениях, мыслях, чувствах, а также в подборе предметов и материалов изобразительной работы, например в журнальных вырезках, используемых при создании коллажа, выборе тех или иных цветов, форм, линий и т. д.
Пациенты по-разному откликались на поставленную задачу (самовыражение). Я бы разделила их на три основные группы, не совпадающие с психиатрической классификацией и не имеющие ничего общего с диагнозом. Хотя в каждый момент пациентов можно отнести к той или иной из этих групп, многие из них перемещаются из одной в другую, так как с течением времени изменяются их поведение и потребности.
1. Инсайт-ориентированные пациенты. Они способны к выражению
переживаний в художественной форме и их обсуждению. Некоторые из
таких пациентов, глядя на свои рисунки, заявляют, что именно так сей-
час чувствуют. Иногда можно догадаться, что они ранее уже посещали
арт-терапевтические занятия, возможно находясь в другой больнице.
Когда пациент демонстрирует способность к осознанию своих работ и
своего состояния, следует помнить, что это может быть лишь единствен-
ный эпизод, поэтому не стоит сразу углубляться в обсуждение его слож-
ных переживаний. В ряде случаев целесообразно оставаться на символи-
ческом уровне, с тем чтобы позволить пациенту самостоятельно рефлек-
сировать над создаваемыми им образами (Schaverien J., 1987, p. 80).
Студентам, проходящим арт-терапевтическую практику, важно напомнить о пользе «следования» за пациентом, о необходимости лишь по мере готовности больного переходить к новым этапам работы. Зачастую просто поразительно (и для арт-терапевта, и для пациента), каких результатов удается достичь таким образом даже в течение одной сессии.
2. Пациенты-«художники». Им нравится рисовать. Они стремятся со-
здать художественно выразительные работы и обычно испытывают чув-
ство покоя и удовлетворения от творческого процесса. Важно просто
находиться рядом с ними и тем самым способствовать таинственному
процессу оформления образов в законченное художественное произве-
дение. Это со-присутствие связано со своеобразным шерингом на глубо-
ком, личностном уровне (Wadeson Н., 1987). Важной заботой арт-тера-
певта должна стать защита таких пациентов от бесцеремонных замеча-
ний со стороны других больных или персонала.
Занятия художественным творчеством для некоторых больных могут стать способом защиты от активной коммуникации, поэтому я полагаю, не следует препятствовать подобной защитной реакции. Временами бывает полезно давать таким пациентам положительную обратную связь, помогая им осознать, что их работа имеет не только эстетические достоинства, но и содержит психологически значимый материал.
3. Пациенты, чье участие в работе группы по каким-либо причинам нарушено. Они приходят на сессию, но затрудняются в создании рисунков, либо создают хаотичные, кажущиеся бессмысленными изображения. С такими пациентами работать непросто. Для них занятия — лишь «тихое место», и здесь они только поэтому. Они неспособны рассуждать о своем внутреннем мире, испытывают ощущение пустоты или хаоса, их психические реакции часто неадекватны. Однако многие арт-терапевты, работающие с психиатрическими пациентами, убеждены в том, что даже больные в остром психотическом состоянии могут поддаваться положительной арт-терапевтической интервенции. К. Киллик (Killick К., 1990, 1994, 1996) описывает, как художественная продукция, созданная больными в состоянии нарушенного восприятия, со временем начинает отражать их состояние и может быть использована в качестве инструмента коммуникации. Конечно же, это недостижимо за короткий срок.
В смешанной группе арт-терапевт на протяжении одной сессии должен сочетать в себе сразу несколько ролей. Он должен одновременно выступать:
• партнером — для инсайт-ориентированных пациентов, стремящихся самостоятельно объяснять свои рисунки и нуждающихся в поддержке и понимании с его стороны;
• молчаливым свидетелем — для пациентов-«художников», стремящихся придать убедительную художественную форму своим ментальным образам и передать в рисунках свой опыт;
• фасилитатором — для пациентов, испытывающих связанные с рисованием затруднения или страх, либо воспринимающих свою художественную продукцию как бессмысленную.
Если пациенты первых двух групп обычно осознают необходимость и цель своего участия в арт-терапевтических занятиях, то пациенты третьей категории понимают это слабо. Тем не менее общую динамику их состояния в процессе работы можно охарактеризовать как движение с одного уровня функционирования на другой, от дефензивной к более открытой позиции, от ощущения бессмысленности художественной продукции — к осознанию ее смысла.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
Основными инструментами арт-терапевтической интервенции являются создание образов, вербальное обсуждение и отношения с арт-тера-певтом. Все они используются с учетом особенностей конкретной группы больных. При любой форме психотерапевтической работы с пограничными или психотическими пациентами необходимо поддерживать баланс между рецептивной и активной позицией (Bateman А., 1995). В описываемом случае подобный баланс предполагает, с одной стороны, способность арт-терапевта занимать выжидательную позицию, давая пациенту возможность для самостоятельной творческой работы, а с другой — готовность фасилитировать этот процесс. Арт-терапевт в равной степени должен быть способен слушать пациента и обеспечивать ему обратную связь, интерпретируя его проекции. Все сказанное может служить хорошим руководством к действию для начинающих специалистов. Ниже приводятся три кратких примера, показывающих, каким образом участие пациентов в открытых сессиях способствовало активизации коммуникативных процессов во внутриличностном и межличностном аспектах — это было заметно даже в тех ситуациях, в которых пациенты первоначально испытывали ощущение пустоты или хаоса и неадекватно реагировали на окружающее. В первом случае пациентке удалось осознать свои переживания в основном благодаря ее участию в поддержанной арт-терапевтом изобразительной работе. Положительной динамике в состоянии второго пациента способствовала обратная связь с арт-терапевтом и группой. Третья пациентка смогла установить доверительные отношения с окружающими и выразить свои переживания в рисунке, а интерпретация его арт-терапевтом и поддержка группы сыграли большую роль в достижении положительного эффекта.
Первый пример: «Ощущение внутренней пустоты». Фактор создания образов
Анна поступила на отделение в связи с суицидными переживаниями. В прошлом у нее наблюдались нарушения приема пищи. Персоналу было очень сложно вступить с ней в контакт. Во время арт-терапевтических сессий она держалась обособленно и заявляла, что не имеет художественных дарований и не испытывает никакого интереса к тому, чтобы передавать свои чувства и мысли в рисунках, ей попросту было «нечего сказать». Свое состояние она характеризовала словом «пустота». В начале работы я посоветовала ей расслабиться, не фиксироваться на своих ожиданиях от занятий и предложила создать какой-нибудь простой образ — вплоть до каракулей. Анна взяла кисть и зеленую акварельную краску. Затем очень медленно начала проводить параллельные вертикальные линии на листе бумаги. Ее рисунок представлялся простой геометрической композицией. Она весьма глубоко погрузилась в свое занятие и, закрасив первый лист, попросила второй. В какой-то момент Анна остановилась: было похоже, она сделала все, что хотела. После этого она вместе со мной рассматривала свой рисунок: среди множества зеленых параллельных линий одна — находящаяся в центре — была слегка искривлена. Анна молчала. Я полагала, что вопросы к ней пока неуместны, и для установления вербального контакта решила высказать свои ассоциации с рисунком. Я сказала, что зеленые линии напоминают мне тонкие стебли травы... один из них надломлен... Услышав это, Анна «пришла в себя»: «Это случилось, когда мне было 17 лет...» Потом она начала считать линии, остановив свой палец на той, что была искривлена. Эта линия оказалась семнадцатой.
Теперь Анна почувствовала возможность рассказать о себе, и о том, что произошло с ней в 17 лет. Покидая помещение в конце сессии, она, казалось, была уже внутренне готова к тому, чтобы после выписки из стационара начать работу с психотерапевтом.
Второй пример: «Переживание хаоса». Фактор обратной связи
Бернард — мужчина среднего возраста, поступивший в отделение в остром психотическом состоянии. Ему было очень сложно на чем-либо сконцентрироваться и усидеть на одном месте даже в течение нескольких минут. Он непрерывно ходил по палате и коридору. Когда я предложила ему выбрать свои любимые цвета и расположить их на листе бумаги, особенно не задумываясь над тем, что они должны изображать, он быстро откликнулся на мое предложение и через несколько минут, завершив работу, вышел. Его рисунок представлял собой комбинацию из пятен первичных цветов. Вскоре Бернард вернулся, быстро создал вторую композицию и снова попытался уйти. На этот раз я спросила его, не желает ли он остаться, чтобы посмотреть, как я буду развешивать его рисунки на доске. Я сказала ему, что они, наверное, будут там неплохо смотреться, даже если они ничего не значат, все равно это дело его рук, и мы ценим его работу. Бернард посмотрел на них вновь: «Они напоминают мне фрагменты... чего-то...» Рисунки привлекли к себе внимание другого пациента, которому понравилось, что Бернард выбрал красивые и хорошо сочетающиеся краски. После этого я спросила Бернарда, готов ли оі$ к обсуждению этих рисунков другими участниками группы. Он ответил положительно, и через минуту еще один пациент заявил, что пятна на рисунке Бернарда напомнили ему небольшую группу разговаривающих людей. Я обратила внимание Бернарда на интерес, который вызвали его рисунки у других пациентов. Он сел, успокоился и начал следующий рисунок, вновь комбинируя цветные пятна. На этот раз, однако, он не оставил на листе пустого пространства. Я сказала, что цветные пятна на его рисунках кажутся отделенными друг от друга и действительно напоминают фрагменты чего-то, но в то же время они похожи на беседующих людей и достаточно хорошо сочетаются. Бернард задумался. Казалось, ему впервые удалось сконцентрироваться на своих мыслях. Через несколько минут он продолжил рисовать, таким же образом комбинируя пятна из первичных цветов (желтого, красного, синего). Но теперь он закрашивал пространство между ними нейтральным цветом (серым). Изображение теперь походило на какую-то емкость, в которую помещены фрагменты. Рассматривая произведение Бернарда, кто-то из пациентов сказал, что рисунок напоминает ему яичницу. Услышав это, Бернард рассмеялся, — по-видимому, ему понравилось то, что он услышал. Он выглядел теперь более естественно и раскрепощенно. После занятия, вернувшись в помещение и встав напротив своих рисунков, он долго смотрел на них в полной тишине.
Третий пример: «Ощущение собственной неадекватности». Фактор взаимоотношений
Кейт — пожилая женщина, находилась в отделении некоторое время в связи с тяжелой депрессией. Несколько раз Кейт отказывалась ходить на арт-терапевтические занятия, но наконец пришла: она «побудет некоторое время, если ее не будут заставлять рисовать». Однако в ходе сессии Кейт сделала черным карандашом небольшой рисунок. Законченную работу она сложила пополам, сказав, что не хочет никому ее показывать. Я заметила на это, что ей, наверное, очень больно ощущать то, что никому нельзя доверить своих переживаний. Кейт ответила, что нам доверяет, но не желает, чтобы ее рисунок находился на доске. После этого она протянула рисунок мне, но сказала, что никому больше его не покажет. Рисунок был очень прост и напоминал детский. На нем был изображен домик с дверью, двумя окнами и трубой. Рядом с домиком — кот. Я высказала предположение, что кот, по-видимому, не решается войти в дом, потому что его там не желают видеть... аналогично тому, как Кейт не желает быть принятой группой. На это Кейт некоторое время молчала, а затем призналась, что ей всю жизнь за себя стыдно, что люди ее отвергают, что так происходило всегда, даже когда она была ребенком...
Незадолго до окончания сессии Кейт позволила мне повесить этот рисунок на стену, и некоторые пациенты лестно о нем отозвались. Он напоминал им о детстве. Кейт еще немного поделилась своими переживаниями: она ужасно одинока и у нее нет друзей, лишь один кот. В конце сессии она, посмотрев на рисунок на доске, улыбнулась и произнесла: «А он, кажется, не так уж плох...»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работая в «остром» психиатрическом отделении, арт-терапевт сталкивается с тремя основными сложностями: гетерогенный состав группы, короткий срок пребывания пациентов в отделении и большой процент участников группы, находящихся в измененном, психотическом состоянии. Пытаясь создать адаптированный к описанным условиям вариант студийного подхода, я остановилась на такой его форме, которая позволила бы мне наиболее эффективно работать с конкретным контингентом больных. Отсюда не следует, что эта форма занятий будет оптимальной в работе с другим составом группы. Например, мне показалось, что 24 койки — оптимальный «размер» отделения для организации открытых сессий. Не знаю, насколько эффективной была бы моя работа, будь в отделении больше больных. Средняя посещаемость составляла примерно треть всех находящихся в отделении пациентов: от пяти до десяти человек. Однако трудно было рассчитать, сколько больных придет на занятие. Я отдаю предпочтение гибкому подходу, который позволяет учитывать потребности различных пациентов и делает акцент на их самовыражении: участники группы могли свободно входить в помещение, где проходила работа, и столь же свободно выходить из него; могли просто в нем находиться, ничего не рисуя; могли рисовать, никак не объясняя своих рисунков. Аналогичным образом соблюдалась гибкость и в отношении групповой динамики: после создания рисунков иногда было лучше их не обсуждать; иногда целесообразно было вступить в индивидуальный контакт с пациентами, иногда — провести групповое обсуждение.
Мне представляются важными следующие моменты моей работы:
• необходимость в пространстве для «удерживания» переживаний пациентов;
• использование элементов психодинамического подхода невзирая на трудности;
• осознание того, какие результаты могут быть достигнуты в ходе занятий, и того, что эти результаты далеко не всегда могут быть понятными пациентам и арт-терапевту.
С профессиональной точки зрения организация открытых сессий оказалась эффективной формой лечения и позволила создать новые рабочие места для арт-терапевтов. Очевидно, что занятия больных художественным творчеством в условиях психиатрических отделений могут быть неправильно поняты и приняты за разновидность рекреационной терапии. Важно, чтобы сам арт-терапевт не допускал подобного поворота событий и стремился к тому, чтобы показать, что в ходе сессий способность пациентов к осознанию собственных переживаний действительно растет, их состояние изменяется к лучшему и появляются дополнительные возможности для их оценки. В этом отношении очень полезна тесная обратная связь с медицинским персоналом и даже его участие в занятиях.
С точки зрения подготовки специалистов в области арт-терапии важно признать наличие трех основных форм арт-терапевтической интервенции: индивидуальную, групповую арт-терапию и ее студийные формы. Каждая из них имеет свои разновидности (так, открытые сессии являются разновидностью студийной работы).
В клинической практике следует продуманно использовать все эти формы арт-терапевтической работы. Время, затрачиваемое специалистом на проведение открытых сессий, по моему мнению, не должно превышать 20% общего рабочего времени.
Основными особенностями открытых арт-терапевтических сессий в условиях «острого» психиатрического отделения можно считать:
• возможность получения пациентами глубокого опыта художественного творчества;
• наличие у них права самим определять степень своей вовлеченности в работу;
• проведение вербальных обсуждений, главным образом, на символическом, ассоциативном уровне;
• подчеркивание спонтанного характера работы, в которой каждый пациент имеет возможность раскрыть особенности своих образных и символических представлений;
• учет групповой динамики в тех случаях, когда необходимо снять тревогу и неадекватные эмоциональные реакции и создать предпосылки для коммуникации на символическом уровне.
Было бы интересно узнать об опыте использования аналогичных подходов в работе с разными группами клиентов. В «остром» психиатрическом отделении открытые сессии создавали возможность контакта с пациентами, переживающими дезориентировку, страх и подавленность. Гибкость этой формы работы предполагала и определенные сложности для арт-терапевта, которые нельзя недооценивать.
Арт-терапевту необходимо обладать определенными качествами для проведения такой работы на высокопрофессиональном уровне. Он должен, не подавляя инициативы пациентов, стремиться к тому, чтобы сессия не приобрела хаотический характер и не превратилась в форму занятости пациентов. Необходимо найти баланс между возможностью поддержки пациентов в их работе и инсайт-ориентированным подходом, рецептивной и активной позицией. Я полагаю, студийная работа и ее разновидности (открытые сессии могут быть к ним отнесены) являются актуальной темой современной арт-терапии и требуют глубокого профессионального осмысления, научного изучения и осуществления суперви-зорской помощи.
ЛИТЕРАТУРА
Adamson Е. Art as Healing. London: Coventure Ltd, 1984
Allen P. Coyote Comes in from the Cold: The Evolution of the Open Studio Concept//Art Therapy. Vol. 12. №3. 1995. P. 161-166.
Allen P. Group Art Therapy in Short-Term Hospital Setting / / American Journal of Art Therapy. № 22. April 1983.
Bach S. Life Paints its Own Span: On the Significance of Spontaneous Pictures by Severely 111 Children. Switzerland: Daimon Verlag, 1990.
Bateman A. The Treatment of Borderline Patients in a Day Hospital Setting / / Psychoanalytic Psychotherapy. № 1. 1995. P. 3-16.
Bolls C. The Mind as Object / / Paper presented at the Institute for Contemporary Psychotherapy. New York. February 18, 1995.
Case C, Dalley T. Chapter 9: Working with Groups in Art Therapy / / The Handbook of Art Therapy. London: Routledge, 1992.
Filip C. A. The Value Inherent in a Single Session of Art Therapy / / American Journal of Art Therapy. № 33. August 1994.
Foulkes S. H. Therapeutic Group Analysis. London: George Allen and Unwin, 1964.
Hill A. Art Versus Illnes: A Story of Art Therapy. London: G. Allen & Unwin, 1948.
Killick K. Unintegration and Containment in Acute Psychosis / / British Journal of Psychotherapy. Vol. 13. № 2. Winter 1996. P. 232-242.
Killick K. Working with Psychotic Processes in Art Therapy / / Psychoanalytic Psychotherapy. Vol. 7. № 1. 1993. P. 25-38.
Killick K., Greenwood H. Research in Art Therapy wjth People who have Psychotic Illnesses. Art and Music Therapy and Research / Gilroy A., Lee C. (eds.). London: Routledge, 1994.
Landarten H. B. Chapter 18: Group Art Psychotherapy in Psychiatric Hospitals / Clinical Art Therapy: A Comprehensive Guide. New York: Brunner / Mazel, 1981.
Levine S. K. Poiesis: The Language of Psychology and the Speech of the Soul. Toronto: Palmerston Press, 1992.
Lyddiatt E. M. Spontaneous Painting and Modelling. London: Constable, 1971.
Malan D. H., Osimo F. Psychodynamics, Training and Outcome in Brief Psychotherapy. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1992.
Malchiodi C. Studio Approaches to Art Therapy / / Art Therapy. Vol. 12. № 3. 1995. P. 154-156
Mandel H. P. Short-Term Psychotherapy and Brief Treatment Techniques: An Annotated Bibliography, 1920-1980. New York: Plenum, 1981.
McClelland S. Brief Art Therapy in Acute States: A Process-Oriented Approach. Art Therapy: A Handbook / Waller D., Gilroy A. (eds.). Buckingham: Open University Press, 1992.
McGrow M. The Art Studio: A Studio-Based Art Therapy Program / / Art Therapy. Vol. 12. № 3. 1995. P. 167-174.
McLagan D. Art Therapy in a Therapeutic Community. Inscape, 1985.
McNeilly G. Further Contributions to Group Analytic Art Therapy / / Inscape. Summer 1987.
McNiffS. Keeping the Studio//Art Therapy. Vol. 12. № 3. 1995. P. 179-183.
Molloy T. Art Therapy and Psychiatric Rehabilitation: Harmonious Partnership or Philosophical Collision? / / Inscape. Summer 1984.
Molnos A. A Question of Time: Essentials of Brief Dynamic Psychotherapy. London: Karnak Books, 1995.
Ryle A. Cognitive Analytic Therapy: Active Participation in Change. Chichester: John Wiley, 1990.
Schaverien J. Scapegoat and the Talisman: Transference in Art Therapy // Dalley T. et al. Images of Art Therapy. London: Tavistock, 1987.
Skaife S. Self-Determination in Group Analytic Art Therapy / / Group Analysis. Vol. 23. №3. 1990.
Ursano A. I., Hales R. E. A Review of Brief Individual Therapies / / American Journal of Psychiatry. Vol. 143. №2. 1986. P. 1507-1517.
Wadeson H. The Dynamics of Art Psychotherapy. New York: Wiley, 1987.
Waller D. Becoming a Profession: The History of Art Therapy in Britain 1940— 1982. London: Routledge, 1991.
Waller D. Group Interactive Art Therapy: Its Use in Training and Treatment. London: Routledge, 1993.
Wix L. The Intern Studio: A Pilot Study // Art Therapy. Vol. 12. № 3. 1995. P. 175-178.
Wood M. Art Therapy in One Session / / Inscape. Winter 1990.
Yalom I. In-Patient Group Psychotherapy. New York: Basic Books, 1983.
Yalom I. The Theory and Practice of Group Psychotherapy. New York: Basic Books, 1975. (И. Ялом. Теория и практика групповой психотерапии. СПб.: Питер, 2000.)
АРТ-ТЕРАПИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ
ОБЩИННОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Сэра Льюис
Статья печатается по изданию: Lewis S. A Place to Be: Art Therapy and Community-Based Rehabilitation / / Art Therapy in Practice / Lieb-mann M. (ed.). London: Jessica Kingsley Publishers. 1990. P. 72-88.
Сведения об авторе. Сара Льюис — по первому образованию является скульптором, диплом арт-терапевта получила в 1986 г., работает в системе общинной психиатрии г. Бристоля (Великобритания).
Статья посвящена описанию арт-терапевтической работы как составной части общинной психиатрической реабилитации пациентов, страдающих хроническими психическими расстройствами.
РЕАБИЛИТАЦИЯ
Я буду использовать термин «реабилитация» для обозначения процессов, направленных на достижение оптимального уровня функционирования человека. В психиатрии этот термин обычно употребляется по отношению к работе с пациентами, страдающими хроническими психическими расстройствами. Реабилитация связана с «возвращением» к обычной жизни, но таким образом, что человек начинает использовать адаптивные, подчас новые для себя формы поведения, наиболее подходящие для него как личности.
Под реабилитацией может также пониматься работа с больными, недавно выписанными из «острого» отделения или дневного стационара. В этом случае она связана с «проработкой» чувств и проблем человека, рассчитана на менее продолжительный срок и означает восстановление его возможностей на присущем ему до болезни уровне.
В настоящей публикации я остановлюсь на работе с первой категорией психиатрических пациентов. Их реабилитация не связана с качественными изменениями состояния. Ее главными задачами являются создание условий и возможностей для развития позитивных аспектов личности пациента, минимизация имеющихся у него нарушений, помощь в достижении пациентом оптимального уровня функционирования посредством установления с ним устойчивых отношений.
Меня, конечно, интересуют причины направления пациента на арт-терапию, однако я не ставлю во главу угла диагноз. Шизофрения, например, представляется мне довольно аморфным, все еще мало проясненным и во многих случаях бесполезным определением, которое в историческом плане может ассоциироваться лишь с «безнадежным» прогнозом и уменьшенными социальными возможностями, а на практике зачастую ведет к формированию у больного заниженной самооценки. Для меня более важен не диагноз, а живой человек.
Развитие и укрепление здоровых качеств личности является стержнем реабилитационной работы. Конструктивная, положительная установка, реализуемая посредством использования индивидуального подхода к больному и составления личного плана (Gloucester House, 1987), применяется специалистами, работающими с вернувшимися домой после длительного лечения в психиатрическом стационаре клиентами. Этот подход предполагает, что проблемы больного человека решаются с опорой на сохраненные, здоровые качества его личности и что проводится соответствующая работа по его обучению новым полезным навыкам. Использование личного плана предполагает сочетание методов динамической оценки состояния больного и его лечения на разных этапах реабилитации. Человек учится самостоятельно принимать решения, а специалист по проведению реабилитационной программы становится его другом, помощником и доверенным лицом, поддерживающим регулярный контакт с другими членами бригады — общинными психиатрическими сестрами, специалистами по терапии занятостью, арт-терапевта-ми, социальными работниками и врачами, — чтобы в тесном взаимодействии с ними ускорить вовлечение пациента в разные работы.
«Философия повседневной жизни» пронизывает всю лечебно-реабилитационную программу, что позволяет больному человеку (при определенных финансовых и кадровых условиях) достичь максимально возможного уровня функционирования и самостоятельности, обрести устойчивое чувство защищенности, независимости и самоуважения (Warren А., 1988).
ПОТРЕБНОСТИ БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
Обычно реабилитации подлежат больные, характеризующиеся отгороженностью от окружающих и психической «хрупкостью». У многих из них имеется с трудом подавляемое чувство гнева, ощущение собственной несостоятельности и ущербности, стыда, неудовлетворенности и даже отчаяния. Нередко они жалуются на отсутствие чувств или ощущение
Внутренней ПуСТОТЫ И СЧИТаЮТ СВОЮ ЖИЗНЬ УНЫЛОЙ, руТИННОЙ И ИЗЛИшне
не сложной в материальном плане. Несмотря на остро переживаемое одиночество, большинство из них испытывает трудности в общении. Отличительной чертой таких пациентов, посещающих арт-терапевтичё-ские группы, является стремление «наладить отношения с самими собой» и желание чувствовать себя естественно и комфортно в общении с другими. Последнее представляет собой одну из наиболее значимых потребностей психически больных лиц, которая может быть отчасти удовлетворена их работой в арт-терапевтической группе.
Потребности можно рассматривать как положительно сформулированные проблемы. Слово «проблема» часто означает необходимость прекращения какого-либо действия. Если же мы заменим его словом «потребность», мы тем самым заявим возможность деятельности и даже определенных достижений. Так, вместо того чтобы говорить, что у Сьюзен и Энтони имеется проблема, связанная с ощущением дискомфорта в общении, лучше было бы сказать, что они хотели бы чувствовать себя в общении более естественно. Тем самым мы не подчеркиваем «проблем-ность» или «сложность» человека, наоборот — признаём его интерес к развитию собственных коммуникативных навыков.
Учреждение, на базе которого проводится групповая арт-терапия, должно отличаться достаточной терпимостью к ценностям группы, особенностям поведения и проявлениям повышенной тревожности, характерными для ряда больных.
Арт-терапия способствует удовлетворению потребностей в:
• самопонимании и положительном принятии самого себя;
• творческом и осмысленном времяпрепровождении;
• эмоциональной поддержке и самоусовершенствовании;
• общении, обмене опытом и принадлежности к группе;
• одиночестве и самодостаточности;
• признании собственных слабостей;
• выражении социально неприемлемых чувств и мыслей в атмосфере терпимости и принятия;
• освоении новых форм опыта, а также в соотнесении собственных чувств и мыслей с реальностью;
• признании и понимании другими; а также в том, чтобы быть самим собой.
Этот список включает потребности, которые значимы для всех нас в различные моменты жизни. Однако три последних пункта, по-видимому, особо актуальны при длительной групповой работе.
Арт-терапии реабилитационного характера может принадлежать особая роль: она ориентируется на потребности людей и их творческие возможности, задает определенные пространственно-временные параметры для психической поддержки и внутренней перестройки человека. В процессе такой работы специалист и пациент фокусируются не на симптомах, а на здоровых элементах личности последнего. В этом арт-терапия реабилитационного характера отличается от других форм арт-терапии, делающих основной акцент на разрешении проблем. Долгосрочная групповая арт-терапевтическая работа опирается прежде всего на внутренний опыт участников и на опыт их повседневной жизни, который становится особым предметом отражения в изобразительной деятельности. Учитывая то, что участники группы зачастую получают другие виды помощи, включая и медикаментозное лечение, арт-терапия может рассматриваться как альтернативный язык, пригодный для выражения трудно передаваемых словами переживаний. Кроме того, она создает особую ситуацию, в которой больные люди могут увидеть в этих переживаниях смысл и прийти к интеграции своего прошлого и настоящего опыта.
Занятия художественным творчеством в группе позволяют:
• создать условия для регулярных встреч участников;
• объединить людей на основе творчества, а не симптомов болезни или связанных с нею проблем;
• поддержать и развить творческие интересы;
• сформировать определенный «рабочий стереотип»;
• иметь инструмент для выражения чувств и мыслей;
• использовать отличные от вербального общения средства коммуникации;
• создать определенный социальный контекст, позволяющий в образном виде раскрыть внутренний опыт человека;
• оценить своеобразие своего взгляда на мир через групповое обсуждение;
• создать предпосылки свободному самовыражению, без страха быть осмеянным или подвергнутым критике.
Атмосфера арт-терапевтической работы имеет принципиальное значение. С одной стороны, она обусловлена тем, что изобразительный продукт является зримым, материальным свидетельством переживаний и мыслей участников группы, и в то же время выступает в качестве средства укрепления и развития психотерапевтических отношений клиента и арт-терапевта. Это ни в коей мере не умаляет его ценности. Кроме того, изобразительный продукт может являться средством укрепления отношений группы в целом, благодаря отражению в нем совместного опыта участников. В случае необходимости он может отвлечь их внимание от погружения в свои индивидуальные мысли и переживания.
С другой стороны, атмосфера арт-терапевтической работы является важным фактором создания у участников группы ощущения безопасности, необходимого для изобразительной деятельности. Художественное творчество — сотворение образа «из ничего» — предполагает определенный риск,'встречу с неизвестным, а потому требует от участников группы высокой степени взаимного доверия. Автор часто хорошо понимает, какие элементы его работы значимы, и избегает их обсуждения. Поэтому пока между участниками группы и арт-терапевтом не будут установлены надежные отношения, фокусировка на социальных аспектах деятельности (в частности, использование обратной связи между участниками группы и подчеркивание их достижений) помогает снизить тревогу и внушить уважение к личности участников. Лишь после этого можно ожидать от них большей откровенности (Donnelly М. J., 1984).
В арт-терапевтической работе человек может отвлечься от повседневных проблем, кроме того, ее положительными моментами являются вовлечение участников в творческий процесс и отсутствие жестких культурных норм, касающихся создания художественных образов и способов изобразительной деятельности. Участники, как правило, чувствуют свою способность в определенной мере контролировать происходящее в группе, что приводит к их большей самостоятельности. Пациенты сами решают, посещать им занятия или нет, какие изобразительные материалы использовать, каким образом создавать образ, да и создавать ли его вообще, в какой степени рассказывать свои мысли и чувства и т. д. Люди могут предпочесть работать либо «изнутри», опираясь на свою фантазию, либо ориентироваться на внешние факторы (возможно заниматься созданием репродукций). В одних случаях создание художественной работы может занять десять минут, в других — десять занятий. Таким образом, существует множество решений, которые пациент принимает самостоятельно, и это укрепляет его независимость как в рамках группы, так и за ее пределами.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И СОСТАВ ГРУППЫ
Занятия проводились в Gloucester House — специальном лечебно-реабилитационном учреждении, предназначенном для оказания психиатрической и социальной помощи жителям района. В целях более эффективной работы он разделен на три сектора — северный, средний и южный, — соответствующие участкам врачей общего профиля (GP). Gloucester House находится в средней части района. Каждый сектор обслуживается возглавляемой психиатром бригадой специалистов. Наряду с медицинскими работниками в бригаду входят социальный работник, четыре общинные психиатрические медицинские сестры, специалист по терапии занятостью и арт-терапевт. Клинические психологи также проводят соответствующую работу, однако их деятельность осуществляется вне территориальной разбивки на сектора. При Gloucester House имеется дневной стационар, в который направляются пациенты из разных частей района. Кроме того, в каждом из трех секторов в настоящее время созданы более мелкие сателлитные дневные стационары, работающие по одному дню в неделю. Арт-терапевтический отдел и отдел по терапии занятостью расположены непосредственно в Gloucester House.
Поскольку общинная реабилитационная работа распространяется на район в целом, арт-терапевтические группы формируются из пациентов всех трех секторов. Некоторые из больных занимаются в индивидуальном режиме.
Занятия в разных группах неодинаковы: в одних они происходят регулярно по плану, посещение других имеет менее обязательный характер. Работа всех групп является предметом совместных обсуждений специалистов арт-терапевтического отдела. Наша задача — сделать участие больных в работе арт-терапевтических групп более доступным и учитывающим их потребности. Мы полагаем, что лишь в этом случае наша деятельность может быть эффективной. Все пациенты, посещающие арт-терапевтические группы, являются амбулаторными. Они направляются на арт-терапию психиатрами, другими членами бригады специалистов или врачами общего профиля.
Ввиду деления района на сектора в Gloucester House существуют три группы. Они работают в специально оборудованном помещении по два часа вечером по понедельникам и средам, а по пятницам — в утреннее время. В этой статье будет описана работа групп, занимающихся по понедельникам и пятницам (необходимо оговорить, что двое участников пятничных групп посещали занятия в среду, а трое пациентов из группы, работающей по понедельникам, занимались в пятницу). В группах, о которых пойдет речь, по семь человек (из них только одна женщина — в группе, занимающейся по пятницам). Максимально допустимое число людей в каждой группе — восемь человек. Даже при минимальной посещаемости на занятиях присутствовало не менее четырех участников. Обычно же их было пять-шесть человек.
Участники распределились по группам следующим образом:
а) вечерняя группа (понедельник) — Бен, Ким, Энтони, Ричард, Пат-,
рик, Грегори, Дэвид;
б) утренняя группа (пятница) — Кевин, Майкл, Энтони, Ричард, Пат-
рик, Сьюзен, Саймон.
Трое пациентов на момент описываемых событий были женаты; остальные никогда не состояли в браке. Возрастной диапазон от 24 до 65 лет. Ким (47 лет), Дэвид (31 год) и Сьюзен (36 лет) проживают в приюте, куда были помещены спустя примерно два года после выписки из. психиатрической больницы, где находились длительное время. При улучшении состояния пациенты могут переходить из приюта в специальные дома, предназначенные для группового проживания, там им предоставлена большая самостоятельность.
Энтони 42 года, и он живет в таком доме. Бен снимает комнату. Ричарду — 34, Майклу — 35, Саймону — 55 лет. Они все женаты и живут в отдельных квартирах со своими супругами.
Патрику 24 года, а Грегори — 36 лет, они живут с родителями. Кевину — 39, ему недавно предоставлена муниципальная квартира, в которой он живет самостоятельно.
Все пациенты за единичным исключением перенесли от одного до нескольких приступов психического заболевания, по поводу которых и были помещены в психиатрическую больницу. Исключение составил Саймон, направленный на арт-терапию врачом общего профиля: после травмы он был частично парализован и у него возникли нарушения речи) и депрессия. Характер имеющихся у него нарушений во многом отличен от нарушений других участников группы. Однако, как и все они, он на длительное время утратил трудоспособность. При всем отличии Саймона от других, его присутствие в группе сказывалось на них благотворно. Саймон сблизился с Майклом и особенно с Ричардом, который, как и Саймон, был склонен к депрессивным переживаниям и имел нарушения, речи.
Патрик, включенный в группу сравнительно недавно, единственный из всех имел работу — на почте и был занят неполный день. До недавнего времени он работал шофером в рамках общинной программы, однако по ее завершении никак не мог трудоустроиться. Энтони, Ричард, Бен и Грегори в течение нескольких лет до прихода ко мне посещали арт-тера-і певтические группы.
Хотя пациенты занимаются в коллективе, они остаются личностями. Это может показаться банальной истиной, которой, однако, трудно пренебречь. Укрепление чувства собственного достоинства каждого участника является важнейшей задачей нашей работы.
ОСОБЕННОСТИ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Арт-терапевтическая работа, как всякая форма психотерапии, основана на установлении устойчивых отношений между клиентом и арт-терапевтом, преследующими общие цели. Считается, что пациенты, страдающие хроническими психическими заболеваниями, мало подходят для психотерапии из-за их неспособности установить тесные доверительные отношения с психотерапевтом.
Основанный на доверии психотерапевтический процесс обычно предполагает активный вербальный контакт, ведущий к осознанию клиентом своих переживаний и их интеграции. Очевидной сложностью в работе с хроническими больными является создание условий, предопределяющих развитие психотерапевтических отношений. Таким больным обычно требуется для этого слишком много времени, из-за чего возникают сомнения в целесообразности психотерапевтической работы с ними (Donnelly М. J., 1988). Поэтому предпочтение отдается некоторым специфическим формам работы, например арт-терапии.
В работе с названной категорией пациентов я считаю наиболее приемлемыми следующие положения. Первое — отказ от четкого обозначения целей работы (Donnelly М. J., 1988). Он отнюдь не означает, что арт-терапевт равнодушен к происходящему в группе или не проявляет активности. Такой подход предполагает создание атмосферы, в которой могут быть установлены отношения с участниками группы. Сроки работы не оговариваются, и группа ориентируется на деятельность «в настоящем времени». Это позволяет продолжать занятия, не предъявляя к участникам завышенных требований. Время занятий может быть использовано прежде всего для лучшего знакомства участников друг с другом и укрепления их взаимопонимания. Данный подход неадекватен: арт-терапевт отказывается от роли безусловного авторитета, то есть того, кто все знает и являет собой образец здоровья и компетентности.
Другое весьма ценное представление связано с предыдущим и основано на «активном ничего-не-делании» (Donnelly М. J., 1988). Оно также предполагает отказ арт-терапевта от завоевания инициативы, жестокой организации рабочего процесса, формулировки идей с помощью участников группы. Психотерапевтические отношения формируются на основе взаимного интереса и обоюдной инициативы, что особенно значимо при длительной работе (Greenwood Н., Layton G., 1987). Эти принципы должны не декларироваться, а проявляться в реальном поведении. Я, например, на групповых занятиях стремлюсь к атмосфере дружелюбия, равноправия, независимости и взаимного доверия, в которой члены группы могут обмениваться своим опытом посредством создания художественных работ.
Многие участники моих групп стали друзьями. Иногда пациент имеет друзей только в группе. Обычно группа становится тем местом, где люди шутят и порой делают язвительные замечания, — что может отражать защитные тенденции или стремление к завоеванию лидерства. В такой атмосфере группа сама формирует «нормы» поведения ее участников. Мне неоднократно приходилось быть свидетелем высокой взаимной терпимости, чуткости и внимания пациентов друг к другу, когда они интуитивно пытались определить для себя допустимую меру «открытости» в выражении своих мыслей и чувств. Нередки и довольно сложные моменты, в которые неясно, какой стиль поведения оптимален для конкретного участника группы, каков человек на самом деле, каковы его возможности.
Каждый участник имеет свои собственные представления о социальных нормах в группе, «правильном» и «неправильном», «допустимом» и «недопустимом». Нередко арт-терапевтические занятия становятся местом для1 выхода весьма сильных переживаний: отчаяния, агрессии, паранойяльной подозрительности и т. д. Хотя они не всегда подвергаются анализу, участники группы нуждаются в том, чтобы их переживания были приняты окружающими.
В целях лучшей ассимиляции переживаний участников и осознания происходящего групповая динамика не должна быть высокой. Необходимо помнить, что пациенты имеют довольно серьезные повседневные проблемы, поэтому их не следует «перегружать» на занятиях. Низкая груп-, повая динамика позволяет снизить тревожность и обеспечивает лучшую посещаемость, особенно если члены группы отличаются повышенной ранимостью и неустойчивой идентичностью.
Трудности в работе с некоторыми пациентами, как правило, становят-' ся очевидны уже на первых занятиях и могут вновь проявляться впослед-j ствии. «Групповая культура» помогает учитывать потребности участии-; ков, особенно в начале работы, когда в группу приходят новые люди, пьь тающиеся адаптироваться к сложившейся обстановке. Это побуждает пациентов к установлению прямых контактов друг с другом, минуя арт-! терапевта и сотрудников психиатрического учреждения. Ни арт-терапевт, ни сотрудники не должны навязывать пациентам правил поведения. По возможности следует минимизировать любые внешние долженствования, дабы предупредить негативные переживания. Необходимо укреплять в пациентах чувство ответственности за свои поступки и побуждать их отстаивать перед своими родственниками собственное право на самостоятельную жизнь.
Как я уже указывала, группа обеспечивает поддержку участников и способствует их сплочению. Одной из важнейших задач моей работы является создание безопасного пространства с четкими временными границами, что достигается, в частности, проведением занятий в определенные дни и часы. Я готовлюсь к каждому занятию на самых разных уровнях: размышляю над складывающейся в группе атмосферой и, по-простому, проверяю, политы ли цветы и чисты ли столы. Помещение готовится заранее; соответствующим образом располагаются материалы и начатые на предыдущих занятиях работы. Незадолго до занятия включается музыка и готовится все необходимое, чтобы участники могли сделать себе чай или кофе. Эти вещи могут показаться банальными, однако они необходимы для того, чтобы пациенты почувствовали: помещение подготовлено к их приходу. Только так они смогут ощутить, что о них заботятся.
Следует учитывать то, что некоторые участники стремятся занять больше места, чем другие. Каждый создает свою работу, находясь в общем пространстве. Помещение должно предполагать определенную возможность выбора, чтобы участники чувствовали себя комфортно: кому-то, например, хочется занять место на периферии. Расположение участников в пространстве также влияет на возможность их вербальной коммуникации. Одним из элементов групповой культуры является допустимость молчаливого присутствия на занятиях и даже неучастия в изобразительной деятельности. В то же время отдельные пациенты могут быть иногда очень разговорчивы. Тогда арт-терапевт должен стремиться к тому, чтобы они не мешали остальной группе.
Художественное творчество является способом бытия. Когда границы «Я» размыты или хрупки, участие в изобразительной деятельности может рассматриваться как форма упорядочивания опыта, способствующая укреплению идентичности. В этом смысле арт-терапия чрезвычайно ценна для тех, чье «Я» повреждено или дезинтегрировано. Ее лечебное воздействие обусловлено опирающимся на психотерапевтические отношения достижением целостности посредством воображения и символической функции сознания.
Длительная групповая арт-терапевтическая работа является альтернативным, дополнительным средством поддержки больных. Для некоторых из них она может быть одной из немногих возможностей контакта с представителями соответствующих служб, если не считать визитов к врачу за лекарствами. Однако в практике общинной, амбулаторной работы больные чаще получают лекарства через врача общего профиля. Арт-терапевт может наблюдать за изменениями в настроении и поведении пациентов, за эффектами лечения, отражающимися в изобразительной продукции, которая нередко оказывается чутким индикатором происходящих или грядущих изменений. Таким образом, арт-терапевт может помогать в предупреждении тех или иных осложнений в течении заболевания, сообщая о наблюдаемых изменениях другим членам бригады специалистов. Он обращает внимание на то, что изображает тот или иной участник группы, какое настроение преобладает в его художественных работах, каковы пространственные особенности рисунка и тип используемых материалов, каким образом он их применяет.
Как я уже отмечала, богатые возможности для выбора, имеющиеся в арт-терапии, способствуют проявлению у пациентов инициативы, развитию практических навыков и умения контролировать ситуацию — все это помогает социальной адаптации и удерживает пациентов от «ухода в болезнь».
Приведенные ниже работы выполнены участниками арт-терапевтических групп и отражают особенности их внутреннего мира. Однако следует подчеркнуть, что эти работы рассматриваются мной вне контекста арт-терапевтического процесса. Некоторые пациенты трудятся над одним образом длительное время, демонстрируя при этом большое упорство, самодисциплину и целеустремленность. Майкл, например, работал над рисунком, который он назвал «Вулкан» (рис. 4.1), в течение 11 занятий. На восьмом занятии, после изображения вулкана, он нарисовал себя, идущего по дороге у его подножия, «вне опасности, на твердом пути». Он с трудом сдерживался от агрессивных проявлений и опасался осложнений конфликтов с окружающими. Диагноз шизофрения был ему поставлен в возрасте 22-х лет.
Он испытывал неудовлетворенность в общении и к моменту занятий состоял уже в третьем браке, жаловался на затруднения в концентрации внимания и неспособность завершить начатое дело.
Закончив свой рисунок, он заявил, что испытывает в результате работы «чувство освобождения»: ему удалось выразить свой гнев и неудовлетворенность, обретя над ними определенную степень контроля. Ему понравилось и то, как он справился с задачей создания композиции.
Кевин нарисовал остров, открывающийся взору с крутого берега (рис. 4.2). Кевин потратил на создание этого рисунка примерно столько 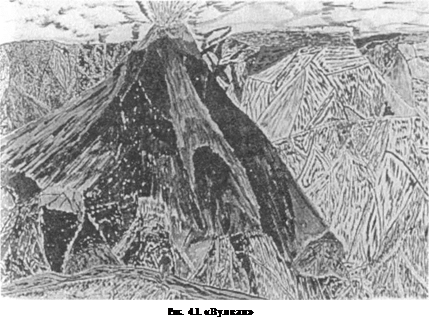
же времени, что и Майкл. Ему стоило больших усилий получить нужные оттенки красок — он то и дело пробовал их на отдельном листе. Его изобразительная манера свидетельствует о недостаточной уверенности и спонтанности, характерных для него опасениях не справиться с проблемами повседневной жизни и ипохондрических переживаниях. Образ является красноречивым отражением его одиночества и трудностей в общении. Кевин пояснил, что если бы его попросили нарисовать на этом листе себя, он поместил бы себя на острове. Он признался, что испытал чувство удовлетворения от работы. На его следующем рисунке на переднем плане были изображены две человеческие фигуры, что, по-видимому, можно рассматривать как свидетельство готовности к контакту с участниками группы.
Некоторые пациенты могли создать один, два или даже три рисунка в течение одного занятия, четко организуя свое время. Так обычно случалось с Ричардом. Он происходит из большой дружной семьи. Его родственники возлагали на него большие надежды. Поступив в университет в 17 лет, он держался обособленно от сверстников и учился далеко не так успешно, как ожидали его родные. Ему не удалось получить диплом.
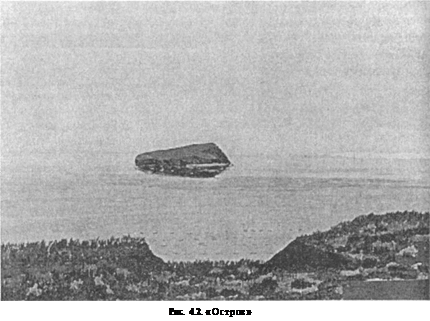
В возрасте 22-х лет он заболел и вскоре был помещен в психиатрическую больницу.
В тот период у него отмечались непроизвольные движения челюсти и нарушения речи (внезапная, словно «насильственная» ее остановка). С тех пор у него начала расти неприязнь к отцу и брату, стали возникать «наплывы» «злых мыслей». Ричард регулярно посещал занятия в течение четырех лет. На рис. 4.3 и 4.4 представлены его работы.
Рис. 4.3 отражает переживания «пребывания в ловушке обстоятельств» и может рассматриваться как свидетельство подавляемых агрессивных чувств.
На рис. 4.4 Ричард изобразил себя — «несчастного человека», стремящегося «спрятаться от других». В то же время он заявил, что «все мы именно так и живем», по-видимому полагая, что другие чувствуют себя так же, как он.
Некоторые участники группы могли за несколько секунд или минут изобразить то, как они чувствуют себя в данный момент, — например, Энтони. Он несколько раз лечился в психиатрической больнице в течение последних двадцати лет. Энтони был постоянно озабочен своими
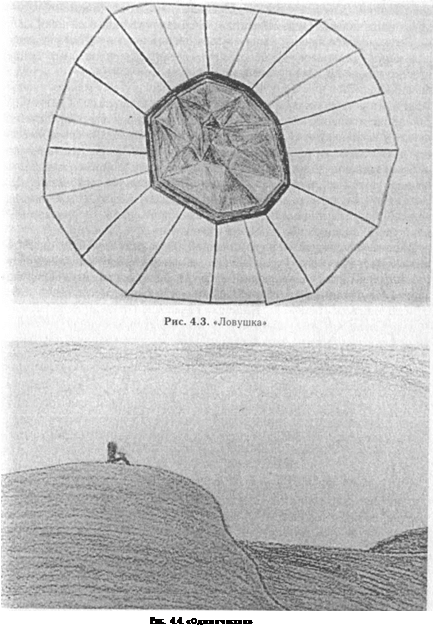
отношениями с лицами противоположного пола, состоянием своего здоровья и проявлениями предполагаемых соматических заболеваний.
Он жаловался на ощущение «пульсации в голове» и то, что окружающие могут «читать его мысли». Его отец был профессиональным художником, и Энтони, имея дома необходимые принадлежности, нередко сравнивал себя с ним. Рис. 4.5 отражает присущую ему манеру изображения. Хотя этот рисунок завершен, он довольно прост по исполнению. Энтони не исправил ни одной линии, опасаясь вносить в рисунок изменения, что, по-видимому, отражает снижение критических способностей и страх эксперимента. Энтони нередко рисовал пейзажи, имевшие для него определенный «магический оттенок». Таковы, например, созданные им изображения Стоунхенджа и святилища Тора в Гластонбери. Для Энтони это «целебные» места. В то же время его пейзажи отражают переживания, характерные периоду начала психического заболевания, — наиболее драматического времени в его жизни.
На рис. 4.5 представлена композиция, названная им «Чучело». Энтони пояснил, что чучело «уравновешивает пейзаж». Этот рисунок можно рассматривать как своеобразный автопортрет, где и пустынное поле, и дерево со сломанными ветвями глубоко символичны.
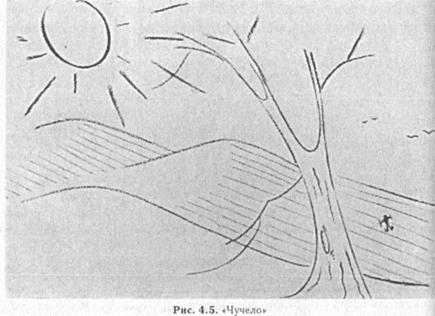
Арт-терапевтическая работа с психиатрическими пациентами 263
Случалось, Энтони ничего не хотел рисовать несколько занятий подряд. В эти периоды ему требовалась определенная помощь. Он просто сидел, рассматривая свои ранее выполненные рисунки или иллюстрации в книгах. Хотя изобразительная деятельность участников группы чрезвычайно важна, даже «бездеятельное» пребывание в группе имеет немалое значение.
Иногда пациент может отрицать связь изобразительной работы со своим состоянием —'явное свидетельство определенных переживаний, например, тревоги, испытываемой им в группе. Необходимо анализировать такие случаи, поскольку это помогает установить контакт с пациентом и упорядочить его внутренний мир. Иногда нежелание видеть связь рисунка со своим состоянием может указывать на трудности в раскрытии пациентом своих чувств и мыслей. Одним из достоинств художественной работы является то, что она позволяет выражать «невысказы-ваемое», делая его зримым и приемлемым для обсуждения. Так можно выйти на проблемы, связанные с зависимостью и независимостью, отношениями со значимыми лицами, сексуальным поведением, утратами и достижениями, профессиональной деятельностью и т. д.
От арт-терапевта требуется способность принимать участников группы, как они есть, быть предельно искренним, проявлять желание понять их работы, вопросы и потребности. По моему мнению, рисунки, отражающие хаос чувств и сексуальные переживания, наиболее характерны для больных острыми психическими расстройствами либо для тех, кто занимается в условиях обычного или дневного стационара. Рисунки же больных, длительное время посещающих арт-терапевтическую группу, имеют более поверхностный, формальный характер и предполагают сравнительно низкую способность пациентов к осознанию своих переживаний. В таких рисунках очень часто проявляются чувства одиночества, изоляции, стереотипные темы, а также отчаяние, вызванное житейскими трудностями.
Арт-терапевтические занятия заканчиваются уборкой помещения. Участники группы складывают свои работы в папки или оставляют их для просушивания. Некоторые приходят на занятия заранее, другие опаздывают; некоторые уходят раньше, другие, как Энтони и Грегори, остаются до последней минуты. В отличие от них, Бен приходил на занятия за полчаса до начала и уходил за полчаса до его окончания — он отправлялся за покупками. Кевин, как правило, опаздывал на полчаса, а то и более. Естественно, ему было трудно завершить свою работу вовремя. Мы обычно заканчивали занятия обсуждением планов участников группы на конец недели и напоминанием о времени следующей встречи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для арт-терапевта представление об «активном ничего-не-делании» является одним из обоснований занятий с пациентами, страдающими хроническими психическими расстройствами. Несомненно, что длительная арт-терапевтическая работа выступает для таких пациентов в качестве своеобразной формы бытия. Процесс становления многих важных психических функций в условиях арт-терапевтической группы осуществляется с опорой на творческую деятельность больных, особый социальный контекст и психотерапевтические отношения. Это способствует психосоциальной реабилитации пациентов.
Создание художественных работ не предполагает активной вербальной коммуникации, протекает в атмосфере высокой взаимной терпимости и открытости и способствует актуализации и развитию системы потребностей душевнобольных людей, повышению их самооценки и самостоятельности. Но арт-терапевт стремится воздержаться от такой постановки своей задачи. Принципом его деятельности является «бытие с другими», что позволяет ему сохранять устойчивые отношения с участниками группы в течение довольно длительного времени. Устойчивость и регуляция контактов являются слагаемым дружеских отношений, возникающих как между отдельными участниками группы, так и между ними и арт-терапевтом. Такие принципы взаимодействия в комплексе с творческой самореализацией в изобразительной деятельности дают участникам группы возможность выражать и осознавать особенности своего состояния. Все это позволяет считать работу арт-терапевта важным фактором адаптации к социальному окружению психически больного человека и достижения им более стабильного психического состояния.
ЛИТЕРАТУРА
Donnelly М. J. You're Good at Dealing with Difficult People / / Inscape. Vol. 2. № 13. 1984.
Donnelly M. J. Psychotherapy and Psychosis than Out-patient Setting [1988]. Unpublished.
Greenwood H., Layton G. An Out-patient Art Therapy Group / / Inscape. Vol. 1. № 12. 1987.
Warren A. A Brief Introduction to the Community Rehabilitation Service for Southmead 11988]. Unpublished.
РАБОТА С ПСИХИАТРИЧЕСКИМИ ПАЦИЕНТАМИ НА БАЗЕ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
Александр Копытин
Теоретические предпосылки и принципы арт-терапии психически больных могут быть различны и варьируются в широком диапазоне: от психодинамического подхода, делающего акцент на работе с бессознательным пациента, до методов «социализирующей» терапии, ставящей своей основной целью модификацию поведения больного и формирование у него определенных практических навыков. Существуют и иные модели, интегрирующие принципы психодинамического подхода и социальной психиатрии.
На сегодняшний день имеется довольно большой опыт использования арт-терапии в реабилитации психически больных. В большинстве случаев он свидетельствует о значимом вкладе арт-терапевтического подхода в решение комплекса лечебно-реабилитационных задач. В то же время имеются определенные проблемы, связанные с неразрешенными до сих пор противоречиями между традиционным психиатрическим, биомедицинским подходами и гуманистическими принципами арт-терапии.
Ф. Молой (Moloy F., 1984), касаясь проблемы интеграции арт-терапии в систему реабилитации психически больных, отмечает, что в этой деятельности традиционно акцент делается на успехе больного в жизни. Здесь применяется дифференцированная система поощрения и наказания, позволяющая контролировать поведение больного. Такие установки, — отмечает Ф. Молой в другой работе (1997), — расходятся с принципами арт-терапевтической работы, которая основана на уважении и признании переживаний больного и тем самым на укреплении его идентичности.
Р. Перкинс и С. Дилкс (Perkins R., Dilks S., 1992) указывают на неудовлетворенность многих арт-терапевтов своей работой с хронически больными психиатрическими пациентами в атмосфере многочисленных институциональных и методологических ограничений, свойственных психиатрическим больницам. Некоторые арт-терапевты, получившие подготовку в области психоанализа, имеют установку на более динамичную работу с пациентами.
В связи с этим В. Хьюит (Huet V., 1997) пишет о необходимости внимания арт-терапевтов к особенностям психиатрического контингента и специфическим условиям работы. По его мнению, необходимо учитывать:
• устойчивый характер нарушений при хронических психических , • заболеваниях, обусловливающий длительную работу с больными
и низкую вероятность достижения видимых «психотерапевтических» результатов;
• снижение когнитивных возможностей хронически больных и определенную степень эмоционально-волевых нарушений, что предполагает допустимость нерегулярных посещений арт-терапевтических сессий, низкую степень вовлеченности в работу, необходимость жесткой директивности;
• относительно значительную степень нарушения коммуникативных возможностей больных, что затрудняет установление с ними достаточно устойчивого психотерапевтического контакта и нередко делает проблематичным их участие в некоторых формах групповой арт-терапии.
На основании анализа результатов опроса специалистов, участвующих в реабилитации хронических психиатрических пациентов, В. Хьюит (Huet V., 1997) делает вывод о необходимости дальнейшей адаптации арт-терапии к такой работе. Он пишет о том, что:
• недирективный подход к работе с ними, как правило, малоэффективен;
• не следует ожидать быстрых результатов;
• следует допускать аморфные временные границы арт-терапевтических сессий и нерегулярность их посещений;
• следует ориентироваться на «про-активный подход», предполагающий постоянное побуждение больных к работе;
• основный акцент должен быть сделан не на психодинамической стороне работы (включая интерпретацию изобразительной продукции больных, прояснение переносов и т. д.), а на процессе работы больного с материалами и помощи ему в этом;
• не следует вдаваться в психологические тонкости, так как при хронических психических расстройствах многие психические процессы огрубляются.
Наряду с проблемами в арт-терапевтической работе, вытекающими из особенностей контингента психически больных, существуют и разнообразные «институциональные» проблемы, то есть те, которые являются результатом плохого понимания сотрудниками психиатрических учреждений деятельности арт-терапевтов и слабого взаимодействия тех и других. В связи с этим В. Хьюит (Huet V., 1997) указывает на необходимость обязательного участия арт-терапевтов в обходах и клинических обсуждениях вместе с другими специалистами. Арт-терапевты должны стремиться по возможности убедительно представлять им свой метод, разъяснять его особенности и отличия от иных используемых в психиатрии подходов к работе с больными. В частности, персонал психиатрических учреждений склонен оценивать работу арт-терапевта по шкале «успех—поражение», ориентируясь, главным образом, на поведение и внешний вид больных, в то время как арт-терапевт интересуется внутренним миром пациентов. Кроме того, следует учитывать имеющуюся у персонала психиатрических учреждений определенную личностную деформацию, выражающуюся в стремлении спроецировать институциональную психиатрическую «субкультуру» на общество и человеческие взаимоотношения. Поэтому В. Хьюит полагает необходимым более глубокое знакомство персонала психиатрических учреждений с другими методами работы путем организации специальных курсов и супервизий. Такая практика позволила бы сгладить противоречия между реабилитационным и «психотерапевтическим» подходами.
Несмотря на определенные проблемы интеграции арт-терапевтических методов в лечебно-реабилитационную практику, их использование в данной области представляется весьма ценным. Некоторыми достоинствами арт-терапии, с точки зрения реабилитации больных, по мнению В. Хьюита (Huet V., 1997), являются:
• ее преимущественно невербальный характер, позволяющий пациентам выражать свои сложные, плохо определяемые в словах чувства, которые в противном случае могут «выплескиваться» в поведении;
• ее влияние на повышение самооценки больных и степени контроля ими своего поведения и психических процессов, что помогает им в принятии решений;
• тренировка и совершенствование сенсомоторных возможностей пациентов, умение работать с разными материалами, что может иметь большое значение для активизации больных и сохранения важных практических навыков, включая и навыки трудовой деятельности;
• возможность длительного контакта между пациентом и арт-терапевтом, что при наличии адекватной оценки и понимания последним выраженного в изобразительной продукции внутреннего мира пациента вносит определенный смысл в переживания больного.
Работа с пациентами, страдающими хроническими психическими расстройствами, требует соблюдения определенных правил оформления арт-терапевтического кабинета. У психически больных зачастую отсутствует характерное для здоровых людей ощущение «внутреннего» и «внешнего» пространства. Их «Я» отличается особой хрупкостью, и попытки вторжения в него могут быть для них очень болезненными. Хрупкое «Я» психически больного человека отражается и в нередко обостренном восприятии границ «личного пространства», которое имеет для пациента не только отвлеченно-метафорическое, но и вполне конкретное физическое содержание. Как отмечают К. Кейз И Т. Делли, «личное пространство» отождествляется психиатрическим больным со «вполне определенным местом, доступным для тех или иных манипуляций, и должно быть обозначено конкретными "границами"». «Существующее физическое пространство, реальные предметы и материалы воспринимаются им как "вместилища" его телесных ощущений. Когда ничто не мешает его контролю над ними (включая и арт-терапевта с его стремлением спроецировать на них определенный символический смысл или продемонстрировать иную форму коммуникативной соотнесенности с вещным миром кабинета), они могут стать частью его "Я". Поэтому особенно важно, чтобы и пространство, и предметы являлись "собственностью" психически больного, а не просто территорией для его работы» (Case С, Dalley Т., 1992, р. 45).
Все это требует от арт-терапевта повышенного внимания к организации рабочих мест. Каждый стол и набор материалов должен быть закреплен за определенным больным. Изобразительная продукция пациента должна храниться в индивидуальном месте, и он должен быть уверен в том, что она не становится предметом чьих-либо манипуляций и несанкционированного их обсуждения. Должна учитываться и потребность психически больного в автономности, возможности индивидуальной работы в условиях группы, свободном входе и выходе из кабинета в любой момент сессии. Вместе с тем психически больной человек нуждается в четком представлении о нормах поведения в арт-терапевтическом кабинете и определенном структурировании хода работы.
Из разнообразных видов арт-терапии, используемых в работе с пациентами, страдающими хроническими психическими расстройствами, предпочтение отдается групповым формам работы, в первую очередь тематически ориентированным и открытым студийным группам (как в их «классическом» варианте, так и в сочетании с интерактивной моделью). Аналитические группы, делающие акцент на недирективном подходе, естественном проявлении неосознаваемых переживаний и групповой динамике, в работе с такими больными используются редко. Они показаны, главным образом, пациентам с негрубыми психическими нарушениями.
Использование тематически ориентированных групп может представлять особый интерес прежде всего потому, что такие группы предоставляют большую возможность для выбора тем и поэтому могут быть легко адаптированы к любому составу пациентов. Кроме того, тематически ориентированные группы являются более структурированными (по сравнению, например, с аналитическими группами), что означает относительно высокую степень директивности и контроля за группой со стороны арт-терапевта. Это позволяет организовать работу даже в тех случаях, когда участники имеют выраженные в той или иной мере эмоционально-волевые и коммуникативные нарушения.
М. Либманн (Liebmann М., 1987) предлагает использовать в арт-терапевтической работе с психиатрическими пациентами темы и упражнения:
• предполагающие разные формы работы с изобразительными мате-' риалами и имеющие своей целью общую активизацию больных и
совершенствование сенсомоторных навыков и ассоциативного мышления;
• предназначенные для тренировки активного внимания и памяти;
• позволяющие больным невербально выражать мысли и чувства, касаться своих разнообразных проблем, развивать коммуникативные навыки;
• проясняющие восприятие пациентами самих себя (упражнения данной группы способствуют укреплению идентичности больных, исследованию их системы отношений и поэтому представляют особую ценность для реабилитационной работы);
• предназначенные для совместной деятельности больных в группе, например упражнение «вклад в общее дело».
Следующее описание является иллюстрацией работы тематически ориентированной группы больных с хроническими психическими расстройствами.
Состав группы: Татьяна (48 лет, диагноз «шизоаффективный психоз», инвалидности не имеет), Валерий (64 года, диагноз «шизофрения
И
вялотекущая», инвалид второй группы), Александр (43 года, диагноз «шизофрения, простая форма», инвалид второй группы), Юлия (23 года, диагноз «органическое заболевание головного мозга с изменением личности»), Анна (28 лет, диагноз «шизофрения, простая форма», инвалид второй группы), Александр (35 лет, диагноз «органическое заболевание головного мозга с психическими нарушениями», инвалидности не имеет), Наталья (24 года, диагноз «шизофрения, параноидная форма», инвалидности не имеет), Светлана (54 года, диагноз «инволюционная депрессия», инвалидности не имеет), Татьяна (35 лет, диагноз «невротическая депрессия», инвалидности не имеет), Марк (56 лет, диагноз «инволюционный параноид», инвалидности не имеет).
Арт-терапевтическая работа с больными этой группы проводилась в период их лечения в дневном стационаре психоневрологического диспансера. Все они характеризовались отсутствием острых психотических расстройств. В двух случаях (Александр, 43 года, и Александр, 35 лет) имелись субдепрессивные, в одном случае (Юлия) — депрессивно-ипохондрические проявления. В остальных же на первый план выступали эмоционально-волевые и когнитивные нарушения. У большинства больных имели место более или менее тягостные переживания социальной изоляции, пустоты и бессмысленности существования. Результаты экспериментально-психологического исследования с применением Семантического Личностного Дифференциала и теста Люшера свидетельствовали о заниженной самооценке, бедности аффектов и мотиваций у целого ряда больных этой группы.
Пациенты не имели ранее какого-либо опыта занятий в психотерапевтической группе и были направлены на арт-терапию лечащими врачами-психиатрами. Занятия проводились через день (три раза в неделю) и продолжались по полтора часа с учетом распорядка дня дневного стационара. В данном составе группа существовала около двух месяцев, после чего большая ее часть, закончив основной курс лечения, прекратила посещение арт-терапевтических сессий. Один человек продолжил арт-терапевтические занятия,войдя в новую группу.
За этот период использовались разные темы и упражнения, предполагающие как самостоятельную, так и совместную с другими участниками изобразительную работу (в парах или коллективно). Применялись темы и упражнения всех основных категорий (см. Приложение). В большинстве случаев группа выбирала одну из нескольких предложенных арт-терапевтом тем. Иногда в результате непродолжительной дискуссии больные сами формулировали тему, отвечающую их интересам. Как пра-
вило, сессии имели обычную для тематически ориентированных групп структуру и состояли из трех основных частей: введения и «разогрева», разработки темы в изобразительной работе, обсуждения и заключения.
Два первых занятия были посвящены знакомству, объяснению основных принципов арт-терапевтической работы, правил поведения в группе. Этап «разогрева» на обеих сессиях включал в себя выполнение простых физических упражнений с последующим использованием несложных изобразительных техник. В первый день это была техника «автографы»: каждый участник выбирал по своему желанию карандаш или фломастер определенного цвета и оставлял свой автограф на общем листе бумаги. Во второй день это была техника «эстафета линий»: один из участников фломастером определенного цвета изображал какую-нибудь линию (простую, ломаную или волнистую) и передавал лист следующему для продолжения.
Основная часть двух первых занятий отводилась знакомству. В первый день использовалась техника «интервью партнера» с Последующим реалистическим или метафорическим изображением человека. Участники группы разделялись по парам и в течение десяти-пятнадцати минут расспрашивали друг друга об основных интересах, истории жизни и т. д. Затем каждый, ориентируясь на полученную информацию и впечатления, пытался создать портрет партнера либо изобразить его в виде символической или метафорической композиции.
На этапе обсуждения во время первого занятия участники преподнесли друг другу свои рисунки. Было предложено при желании как-то ответить на этот жест: расспросить о вложенном в рисунок смысле, просто поблагодарить партнера, дополнить или исправить изображение, если оно казалось неточным или неверным. Двое участников создали реалистические портретные изображения партнеров, в большинстве же случаев рисунки имели отвлеченный метафорический или символический характер.
Знакомство участников группы продолжилось на втором занятии. После «разогрева» (в дальнейшем описания первого этапа сессий не приводятся), чтобы представить" себя группе, было предложено использовать тему «линия жизни». Каждому участнику предоставлялась возможность выбрать любой способ раскрытия данной темы. Рисунок мог иметь отвлеченный характер, использовать график с символическими обозначениями, изображать некий маршрут или путь на местности и т. д.
Двое участников-мужчин (Валерий и Александр, 43 года) использовали форму графика без каких-либо дополнительных изображений. По их мнению, график позволял более четко представить «масштаб» жизненных событий, обозначить периоды жизни и степень выраженности тех или иных проявлений болезни. В обоих случаях примечательно то, что больные продемонстрировали на рисунках детальное знание своего заболевания, его «предысторию» и даже обозначили перспективу его дальнейшего развития. Александр использовал цвет для передачи «качества» или «оттенка» состояний на разных этапах своей жизни.
Наталья нарисовала затейливую линию голубого цвета с краткими символическими обозначениями. Характер линии передавал «пульс» и динамику ее жизни.
Татьяна (48 лет) изобразила дерево. Наиболее важные события жизни обозначались ветвями, отходящими от ствола на разной высоте. Так, например, произошедшим около 20 лет назад началу болезни и разводу соответствовали две обломанные, расположенные внизу ветви. Сила и жизнеспособность изображенного дерева, несмотря на болезнь и потрясения, соответствовали довольно хорошей социальной адаптации пациентки в настоящее время и относительно высокому качеству ремиссии.
Тема третьего занятия называлась: «Одно из наиболее ярких событий детства». Она могла рассматриваться как определенное продолжение начатого на предыдущей сессии. Было предложено не только выбрать и изобразить наиболее запомнившийся эпизод из своего детства, но и подумать над тем, какую связь этот эпизод имеет с настоящим, или как он отражается на жизни в данный момент. Было сказано, однако, что эта связь далеко не всегда может быть очевидной.
Рисунок Светланы являлся иллюстрацией одного из наиболее ярких переживаний, испытанных ею в возрасте девяти лет, когда она, проживая в Крыму, отправилась с группой детей на берег моря. Был вечер, й, надвигалась гроза. Дети смотрели на море с крутого обрыва. Внезапно почти прямо под ними вспыхнул свет — это рыбаки зажгли в лодке фа-: кел. Неожиданность и яркость этой вспышки в напряженной, предгрозовой атмосфере потрясли Светлану. Однако она не смогла сказать, какое отношение это событие может иметь к ее жизни в настоящий момент; (рис. 4.6).
Александр (43 года) назвал свой рисунок «капкан». Он изобразил себя в возрасте пяти-шести лет, стоящим на ступеньках лестницы у вхо-j да в детский сад (рис. 4.7). Был морозный день, сверкающий иней покрьН вал металлические перила лестницы, и мальчик лизнул их. Александра всегда крайне немногословный, и в данном случае не стал комментирм вать свой рисунок. Но и без его слов изображение представляется глуі 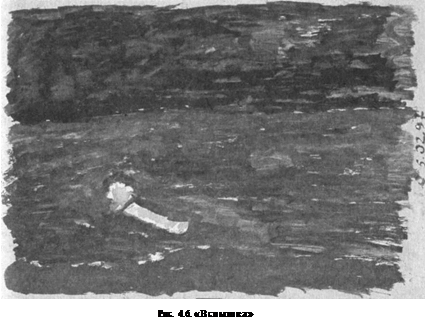
боко символичным и может рассматриваться как весьма емкая метафора взаимоотношений пациента с окружающим миром в настоящем. Этот мир великолепен, но холоден. Он предлагает больному нечто соблазнительное. Пациент тянется ему навстречу, но «прилипает». Прилипание языка к перилам может означать ощущаемую самим больным утрату важнейшего инструмента в диалоге с миром — либо то, что суть его переживаний не может быть передана словами, либо то, что мир «отказывает» больному в общении и понимании. В рисунке можно прочесть и выражение исключительности позиции больного по отношению кдругим людям (все остальные дети изображены ниже). Можно увидеть в рисунке и мотив «внутреннего ребенка», который воспринимает себя беззащитным, покинутым, встретившимся один на один с холодным и безжалостным миром. Здание детского сада допустимо трактовать как символ социума, мира «взрослых людей», куда Александр не может или не желает войти.
Примечательно, что этот пациент, испытывающий большие затруднения в вербализации своих переживаний, одиночество и пустоту жизни, проявил большой интерес к работе в арт-терапевтической группе и 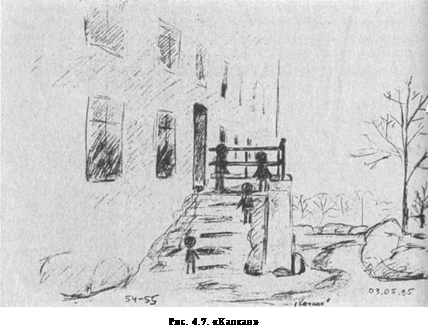
рассказал, что время от времени самостоятельно занимается рисовани ем, пытаясь «лучше понять себя» и «хоть чем-то занять время».
Валерий, у которого на протяжении всей жизни были очень сложны отношения с отцом (в частности, и потому, что отец впервые «сдал» ег в психиатрическую больницу), изобразил, как тот плывет по озеру и ве зет его, еще не умеющего плавать, на своей спине.
Марк нарисовал автомобиль и самолет, пояснив, что эти рисунки свя заны с его первым полетом в самолете и поездкой в автомобиле. И то \ другое произвело на него очень сильное впечатление. Это было в 50-е гг. когда, как пояснил Марк, техника была окружена ореолом научного «ру котворного чуда». Пациент добавил, что тогда он почувствовал себя комфорте и безопасности и даже испытал чувство определенного пре восходства над другими, оттого что сидит в салоне могучего самолет или автомобиля, в то время как другие люди вынуждены идти пешком В дальнейшем он, закончив институт, многие годы занимался техниче ским проектированием, хотя его чувства, связанные с техникой, уже н имели того «романтического» оттенка, который отличал их в детстве.
Юлия нарисовала большую кошку и стоящую перед ней маленькую девочку. Девочка протягивает руки, умоляя кошку остаться с ней. Больная пояснила, что рисунок является иллюстрацией к самой любимой сказке ее детства («Кошка, которая гуляла сама по себе»). Сказка была записана на пластинке, и больная часто ее слушала. После этой сессии Юлия дома подробно зафиксировала на бумаге далекие детские впечатления и передала затем свои записи арт-терапевту. «Слушая сказку "Кошка, которая гуляла сама по себе", я представляла себя одиноким ребенком, сидящим у домашнего очага в темной хижине. Ребенок плакал и хотел ласки, тепла и немного радости. Мать была занята делами о доме и муже и не уделяла ребенку внимания. Тогда пришла кошка, которая играла с ребенком, рассказывала ему сказки, а ночью, когда он засыпал, уходила. Родителям это понравилось, и они все заботы о ребенке взвалили на кошку, которая за блюдце с молоком и место у очага согласилась помогать им. Ласковым голосом она пела песни, была такой мягкой и нежной, умной и красивой, что ребенок привязался к ней. Когда ребенок повзрослел и стал подростком, кошка ушла в лес, потому что любила свободу. Девушка захотела пойти с ней, но родители не пустили ее. Столкнувшись с проблемами, которые приготовила ей судьба, девушка стала делать ошибки и наделала их слишком много — ей не хватало поддержки и мудрости кошки. Мать растерялась от горя и перестала бороться за судьбу дочери. Отец отрекся от нее. Девушка отправилась на поиски кошки, но в пути ей никто не помог. Оставшись одна, девушка заболела. За время путешествия она видела много разных людей, похожих на кошку, но все они были чужие и недоступные для нее».
Как видно из этого описания, Юлия изменила сюжет сказки таким образом, что он стал фактическим отражением ее жизненного пути и отношений с близкими людьми в настоящий момент. Больная воспользовалась предложенной темой для того, чтобы поделиться с арт-терапевтом и группой своими проблемами. Рисунок и его описание отражают характерные черты в поведении больной — ее эмоциональную зависимость от окружающих, склонность избегать самостоятельного решения проблем, ее эмоциональную незащищенность и одиночество. Кроме того Юлия сказала, что кошка для нее — это, наверное, ее лечащий врач (женщина) в дневном стационаре, которая, по мнению больной, «не понимает» и «отвергает» ее, отстраняясь при любых попытках ей «исповедаться» или проявить неформальный жест симпатии и привязанности (так, например, Юлия однажды принесла ей в подарок кассеты с любимыми музыкальными записями, но врач их не приняла, посчитав это нарушением врачебной этики).
Большинство участников в конце занятия отметили, что тема вызвала у них сильный эмоциональный отклик. Иногда работа над рисунком сопровождалась оживлением светлых воспоминаний, но в ряде случаев провоцировала обостренное переживание проблем, существующих в настоящий момент (как, например'у Юлии), что требовало повышенного внимания к больным. В этих ситуациях арт-терапевт занимался с некоторыми участниками группы между групповыми сессиями в индивидуальном порядке.
Три первых занятия способствовали сближению участников группы и определению их основных проблем и интересов. Некоторые пациенты отмечали, что изобразительная работа над предложенными темами дала им возможность проанализировать события своей жизни и «упорядочить» мысли, связанные с прошлым, настоящим и будущим. Один больной, однако, прекратил свое пребывание в группе после первых трех сессий (Марк) — он нашел работу слишком «напряженной» для себя. Все остальные участники продолжали посещать групповые занятия вплоть до выписки из дневного стационара.
Четвертое занятие было связано с обращением к теме «Изображение своего состояния». Участникам было предложено изобразить свое состояние (настроение, чувства, мысли, фантазии) в любом виде — конкретном, абстрактном, метафорическом. В частности, рекомендовалось пользоваться выразительными возможностями цветов, линий и форм.
Рисунки пациентов были разнообразны. Александр (43 года) изобразил свое состояние в виде символического герба. В центре листа находится растрескавшийся рыцарский щит, обрамленный лентами без каких-либо надписей. Здесь, как и в рисунке по заданию «наиболее яркие воспоминания детства», вновь звучит тема отчуждения, пустоты существования, «безъязыкости».
Рисунки четырех участников представляли собой абстрактные комбинации цветных полос и фигур. Цвет играл ведущую роль в передаче качеств их состояния.
Работы других участников содержали в себе не только абстрактно-символические, но и фигуративные элементы.
Наталья изобразила свое состояние в виде пейзажа, обозначив себя в образе летящей над морем чайки. Чайка стремится проскочить в узком пространстве между двумя скалами. На небе тяжелые грозовые облака и два светила — солнце и луна, — изображенные в противоположных углах листа. Волны с силой ударяют о берег (рис. 4.8).
Рисунок Александра (35 лет) — «Преображение» — состоит из двух контрастных половин. На одной из них изображен ночной пейзаж и ви 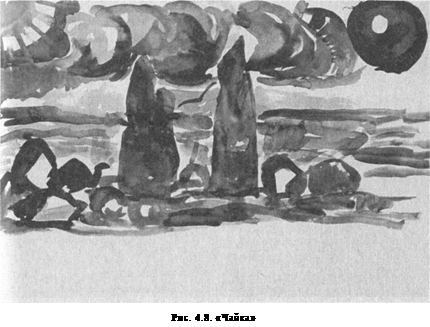
ден упавший с горы человек. Однако, не достигнув дна, он оказался подхвачен чьими-то руками, не давшими ему разбиться об острые камни. На другой половине рисунка изображен день и виден взбирающийся на гору навстречу солнцу человек (рис. 4.9).
На пятом занятии использовалась техника «рисование в круге». Она в каком-то смысле могла рассматриваться как способ продолжить тему предыдущей сессии. Ее отличие заключалось в том, что пациентам было предложено воспользоваться пространством круга для изображения в нем всего, чего им захочется. Было сказано несколько слов о том, что круг очень распространен в природе, служа основой для организации живых и неживых форм. Очень часто он является творением человеческих рук, что может отражать естественное стремление человека к гармонии и полноте. Больных попросили принять удобную позу, закрыть глаза и постараться запомнить наиболее яркие образы, которые будут появляться в воображении, а затем нарисовать их в пространстве круга. При желании можно было выходить за очерченные границы. Тот, кто испытывал явные затруднения в визуализации образов, мог после непродолжительной релаксации перейти к рисованию в круге, используя любой стиль изображения.
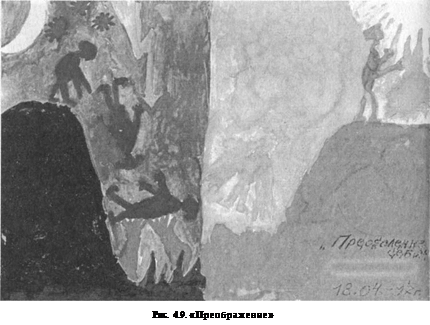
В результате получились самые разнообразные рисунки: одни — более абстрактные, другие — наполненные фигуративными элементами. Например, работа Анны изображала «круговорот» времен года и содержала их видимые приметы, а Юлия создала пейзаж «Знойный полдень в лесу».
Рисунок Александра (43 года) представляет собой комбинацию из трех геометрических фигур разного цвета. Фиолетовый треугольник изображен на фоне желтого, местами розового квадрата. Центром же композиции является черный круг, помещенный внутрь фиолетового треугольника. Рисунок был назван автором «Настоящее время». Автор сопроводил его кратким пояснением к основным цветам: «Желтый — радость жизни, зеленый — гармония, синий — разум, розовый — тревожный, черный — тайна».
Образ, созданный другим Александром (35 лет), отличается более сложной структурой и имеет значительную символическую нагрузку (рис 4.10). Поскольку его автором является пациент, чье участие в групповой работе характеризовалось значительной динамикой, есть смысл более подробно описать и прокомментировать этот рисунок. Он слегка 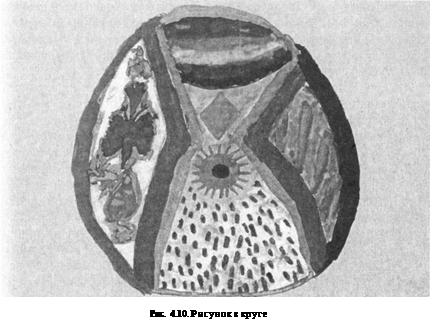
асимметричен по горизонтали и вертикали. Композиция в целом отдаленно напоминает песочные часы. Вертикальный «канал», пересекающий пространство круга, суживается в центре, передавая определенную степень напряжения, связанного с переходом из одной части в другую. Место перехода, являющееся композиционным центром, включает в себя две небольшие фигуры — оранжевый ромб и нарисованное чуть ниже красное солнце с черным центром. В верхней части «канала» располагается что-то вроде радуги с наличием в ней полос черного и коричневого цветов, а в нижней его части — нечто, напоминающее капли дождя. Правая и левая части композиции также имеют различный характер. В правой части используется фиолетовый цвет, и видна жирная, черная дуга, обозначающая правую границу круга. Слева, на бледно-зеленом фоне — растительные формы. Можно было бы подробно проанализировать каждый из элементов изображения, поскольку все они весьма емки по своему содержанию. Однако в данном случае можно ограничиться лишь констатацией того, что рисунок отражает определенное состояние напряженного движения, перехода из одного качества в другое. Оба эти качества достаточно «структурны» и неоднозначны по своему характеру.
Налицо «борьба мотивов», о чем свидетельствует, например, наличие двух центральных фигур и неопределенный, «незавершенный» характер состояния. Александр не смог вербализовать все оттенки и взаимосвязи своего состояния в тот момент, однако ему удалось довольно полно передать через рисунок свои переживания.
Шестое занятие было связано с темой «Я как сообщество». Она предполагала углубление анализа своего состояния участниками группы. Им было предложено изобразить себя в виде «сообщества» или «коллектива» нескольких персонажей либо в виде сочетания нескольких качеств. Предоставлялась неограниченная свобода в выборе способов изображения. В результате получились самые разнообразные рисунки. Два из них были выполнены в форме диаграммы, с пояснением того, что обозначает тот или иной сектор; например на рисунке Александра (43 года) сектора имели обозначения: «аскет», «художник», «воин», «друг» и т. д. Один рисунок сочетал в себе реалистические и геометрические элементы. В остальных же использовались, как правило, предметные изображения.
Наталья, например, отразила в рисунке свои различные амплуа и проявления. Лист разделен на две части. Правая часть небольшая, в ней пациентка обозначила свои отрицательные проявления и переживания — импульсивность, склонность к вспышкам гнева, неумение строить отно-; шения с людьми и самостоятельно справляться с трудностями. В левой части изображаются положительные стороны характера и увлечения! Натальи — интерес к духовным знаниям, способность чувствовать природу, радоваться ее красоте, проявлять заботу о животных (рис. 4.11). I
Рисунок Юлии включал в себя изображения четырех ее «Я»: «клоуна», «пациента», «маленького художника» и «домашнего растения» (рис. 4.12).<
Работа Татьяны (35 лет) представляет собой коллаж. В нем исполь-; зованы не только иллюстрации с обозначениями, но и вырезки двух дет«з ских стихотворений: «Подарок» и «Ябеда» (рис. 4.13).
Темой седьмого и восьмого занятий являлось групповое обсуждение) и выбор личных качеств. После детализации на предыдущих занятиях! личных качеств и проявлений участникам представилась возможность! свести их к нескольким лаконичным определениям и одному простому образу. Эти занятия отличались иной последовательностью видов рабог ты, чем обычно. Вначале каждому участнику было предложено состав вить список из десяти определений, характеризующих его как личность^ например: «серьезный», «увлекающийся», «дружелюбный» и т. д. Мож^ но было использовать как положительные, так и отрицательные опреде^ ления. После этого каждый участник зачитывал выбранные им опреде*| 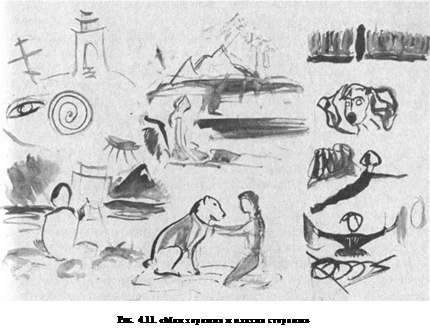
ления, а другие пациенты дополняли их теми характеристиками его качеств, которые, на взгляд членов группы, не были им использованы. Таким образом списки каждого участника были расширены еще на несколько пунктов.
Затем всем было предложено сократить данный список до трех определений, характеризующих самую суть натуры, и объединить все три качества в одном определении и соответствующем ему рисунке. Валерий, например, назвал себя «отчужденный философ» и нарисовал простым карандашом контур смотрящегося в зеркало человека. Анна назвала себя «неустойчивая тугодумка» и нарисовала этажерку без одной ножки.
Ход занятий, начиная с четвертого и до восьмого, свидетельствовал о постепенно увеличивающейся степени взаимного доверия и откровенности участников группы. Росла их вовлеченность в изобразительную деятельность и обсуждения. Для большинства стали более понятными «законы» групповой работы и ее смысл. Ощущалось, что участники начинают проявлять неформальный интерес к «разработке» тем. Многие, общаясь за пределами группы, установили друг с другом более тесные
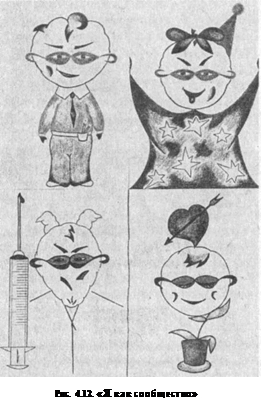 |
отношения. Некоторые темы стали для отдельных участников предметом многочасовых размышлений и обсуждения с родственниками и друзьями.
Последующие несколько занятий были посвящены иным формам, групповой работы. Так, например, Наталья зачитывала фрагменты сво-] их дневников, написанных за последние три года. Валерий показал серию слайдов с работами С. Дали. Слайды были сделаны в 70-е гг., когда информация об этом художнике была в России весьма ограниченной. Валерий рассказал о том, как он демонстрировал слайды своим сослуч живцам и какова была их реакция на подобное, еще мало известное в те': годы искусство.
Татьяна показала группе фотографии, сделанные ею на родине в пи] роде Юрьевец на Волге, где она каждый год проводит отпуск.
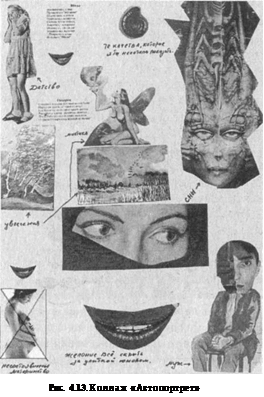 |
На одном из занятий участники читали стихи и, выбрав то или иное стихотворение, пытались проиллюстрировать его своими рисунками. Использовалась работа в парах — одно изображение создавалось двумя участниками, которые не должны были между собой разговаривать.
На другом занятии участники, также разделившись по парам, должны были создать маски друг для друга, а затем с их помощью разыграть короткую сценку.
Применялись и некоторые другие техники и темы, в частности, три занятия были посвящены совместной работе участников на тему «Встреча у колодца» — каждый должен был изобразить того или иного персонажа на общем большом листе бумаги.
Таким образом круг приемов групповой работы был несколько расширен. Это позволило, в частности, учесть естественные интересы и склонности пациентов и давало им возможность лучше «раскрыться» в условиях сложившегося высокого взаимного доверия.
Незадолго до завершения работы группы была использована техника монотипии. Больным раздали стекла и акварельные краски, после чего каждого попросили выбрать один из цветов, развести его большим количеством воды и нанести каплю на стекло, затем последовательно выбрать еще несколько цветов, которые дополняли бы друг друга, и проделать с ними то же самое. Когда участники группы чувствовали, что количество цветов уже достаточное, а комбинация их удачна, они поворачивали стекло краской вниз и быстро клали на лист бумаги. Через стекло было видно, как краски смешиваются и формируется затейливое пятно. После того как стекло было убрано, пациентов попросили внимательно рассмотреть цветное пятно и попытаться увидеть в нем фрагменты каких-либо образов или, по крайней мере, подумать, с чем это пятно может ассоциироваться. В завершение работы больным было необходимо, опираясь на возникшие ассоциации и внося отдельные дорисовки, сделать из пятна целостную композицию и, взяв ее домой, попытаться описать художественный образ в виде рассказа.
Примечательно, что большинство участников группы уже не испытывали какого-либо страха перед использованием краски даже в сочетании с такой необычной для них техникой, как монотипия. Их отношение к работе сильно отличалось от начального этапа арт-терапии, когда на предложение воспользоваться акварелью больные отвечали: «Не стоит тратить на нас краску», — или: «Мы же запачкаемся!» Более того, тех ника монотипии вызвала у участников группы большой интерес и имела своим результатом оригинальные композиции с весьма выразительными описаниями.
Александр (35 лет) назвал свою композицию «Пожар в лесу» (рис. 4.14) и сопроводил ее рассказом. «Это видение напоминает о неиз-і бежности какого-то события, томительном ожидании какого-то действия с непредвиденным результатом. Если посмотреть на эту сцену "сверху",Щ то она представляла бы собой абсолютно неподвижный, густо-зеленый| с редкими вкраплениями других оттенков, величественный ковер. И ВСЄ', го несколько мгновений спустя какая-то неведомая сила опускает внутрь этого зеленого мира первую искру сознания. Восприятие наблюдателя! не успевает даже зафиксировать источник яркого всполоха, и картине умиротворенности внезапно сменяется совсем другой Перел глазами? разворачивается гамма разных оттенков огня, завоевывающего обшир| ную территорию у леса. Это напоминает, наверное, падение в бездну, о!
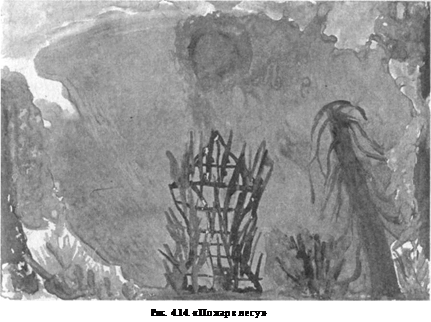
которого захватывает дух и исчезает любая воля к сопротивлению. Принимаешь это падение как неизбежность и необходимость. Когда за одно мгновение на глазах происходит гибель могучего живого дерева, которое, наверное, очень много видело на своем веку, возникает ощущение бренности всего материального... В пламени виден черный остов сгоревшего дома, который из последних сил поддерживает очертания того, что было убежищем, может быть, для нескольких поколений людей. Это картина настоящего торжества, буйства огня. Она не ассоциируется с пессимизмом или агрессией. Ведь огонь — это символ очищения, изменения, того, что побуждает к действию. И поэтому возникает предощущение чего-то нового, что должно свершиться, когда закончится буйство огня. Может быть, именно благодаря этому картина далека от темы катастрофы. А зарево над местом "действия" огня воспринимается как вполне реальное, и оно связано с чувством силы...»
Рисунок Анны был назван «Туман над болотом» (рис. 4.15) и сопровождался следующим описанием. «В мае рассвет наступает рано. Первые птицы подают свои голоса, и видно, как над болотом встает туман. Он напоминает белый, местами розоватый занавес. На влажной земле 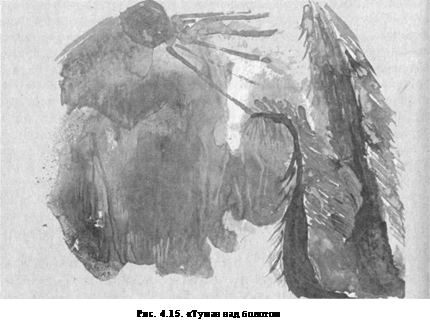
растет мох, на нее трудно ступать, так как тут же проваливаешься, и вода, булькая, выходит на поверхность. На кочках можно увидеть витиеватые стебельки и ягоды клюквы, а также листья морошки. Начинает вставать солнце, но оно очень слабо проглядывает сквозь болотный "занавес" тумана. Справа, на более сухом участке, растут елки. Своими фиолетовыми кронами они направлены далеко вверх. В их зеленых шап-| ках прячутся птицы, некоторые из которых поют с-утра, а другие днем. Над самим же болотом слышно только бульканье воды в некоторых мес-? тах... По мере того как встает солнце, туман начинает менять свои оттенки: вот он становится коричневатым, вот — зеленовато-голубым, вот — оранжевым... Разные оттенки грусти расплавляются в теплых лучах гря^ дущего дня...»
На последних сессиях, незадолго до запланированной выписки ряда] пациентов из дневного стационара, отмечалась некоторая напряжен-ч ность и растерянность участников. Особое «качество» опыта, получен^ ного ими в результате групповых арт-терапевтических занятий, было для многих «трансформирующим» моментом, побуждающим искать возмож4 ности для реализации себя в новых занятиях и отношениях. Очевидной было и положительное влияние работы на уровень самооценки больных (что подтверждалось результатами Семантического Личностного Дифференциала). Некоторые пациенты, в первую очередь те из них, кто имел достаточно продолжительный психиатрический «стаж», стали проявлять большую естественность и искренность по сравнению с обычно присущими многим пациентам натянутостью, подобострастием к врачу и стремлением вести себя в соответствии с его ожиданиями. В то же время для отдельных участников группы эти изменения были сопряжены с переживанием определенного «ролевого конфликта». Представления о «правильном» и «нормальном» в атмосфере арт-терапевтической работы нередко расходились с привычными ощущениями, возникающими в психиатрическом учреждении. Со стороны иногда казалось, что роль «послушного» психиатрического пациента для кого-то из них является даже более предпочтительной, так как гарантирует большую степень «безопасности» и возможность следовать привычным путем без значительных усилий.
При всем этом нельзя было не заметить их отличий в поведении от людей, не отягощенных психиатрическим «опытом». Одно из этих отличий— устойчивая ориентация многих пациентов на авторитет врача (в данном случае — арт-терапевта), выступающего для них в качестве безусловного «арбитра», что делало их достаточно скованными и лишенными инициативы, обычно присущей участникам других групп (здесь имеются в виду не апатия, безынициативность и эмоциональная «тусклость», связанные с проявлениями эмоционально-волевого снижения при некоторых психических заболеваниях, а те качества, которые связаны с психологическими факторами, «нормами» социального поведения, усвоенными этими больными в условиях длительного пребывания в психиатрических учреждениях, а также «хрупкостью» и «дефензивностью» личностной структуры некоторых из них).
Данные свойства и особенности поведения участников группы требовали от арт-терапевта большей активности и «протекционизма». Больные, как правило, оставляли за ним право выбора тем, структурирования занятий и определения продолжительности всего курса арт-терапевтической работы. Отчасти этим можно объяснить то, что эмоциональные и поведенческие проявления, характерные для «терминации», были слабо выражены у большинства участников группы.
Ниже приводится несколько самоотчетов, сделанных пациентами в свободной форме. Эти документы отражают специфический характер тематически ориентированной группы, многообразие ее возможностей, сочетание самостоятельной изобразительной деятельности как с глубоким погружением участников в свои проблемы и переживания, так и с групповым взаимодействием. Следует обратить внимание на то, что два самоотчета написаны больными с многолетним психиатрическим «стажем».
«Считаю, что эти занятия нужны именно таким, как я. С помощью рисунков я смогла проявить переживания, которые имеются у меня на данном этапе жизни. Общие рисунки в парах и на большом листе всей группой сближали меня с людьми. Иногда на занятиях я получала "заряд" чувств, мне хотелось как можно глубже и дольше развивать предложенную тему. Если увлекаешься какой-то темой, то занятия становятся особенно интересными. Очень любопытно также было узнавать все ближе других людей, с которыми раньше встречалась каждый день в дневном стационаре, но не знала, что они такие интересные. Занятия давали возможность сблизиться с врачом арт-терапевтом, почувствовать, что он — тоже человек. Когда у него хорошее настроение, оно передается больному, а когда у больного хорошее настроение, ему хочется жить» (Юлия).
«На занятиях получала много положительных эмоций. Интересны были и самостоятельные задания (как, например, рисование своего "жизненного пути"), и групповые. Особый интерес вызвало участие в групповой работе на тему "Встреча у колодца". При работе в паре почувствовала определенные затруднения, без общего согласования никак не могла понять, что делать.
На занятиях чувствую себя человеком, укрепляется уверенность в себе. Из-за средних способностей к рисованию всегда чувствовала себя более уверенно на этапе обсуждения. Заметила, что работа в группе несколько повышает работоспособность, тренируется память. Благодаря группе поняла, что могу выражать свое личное мнение и включаться в групповую работу» (Анна).
«В результате групповой арт-терапевтической работы расширился опыт общения с разными, иногда очень необычными людьми. Положительно оценила многих, и это было неожиданно для себя самой... Повысилось чувство ответственности, немного научилась слушать и считаться с мнением других. Было интересно, когда создавались разные рисунки и высказывались разные мнения... Заметила, что усилилась потребность помогать другим, с некоторыми завязались тесные отношения, с ними часто обсуждали наши проблемы после занятий. Мне кажется, что я стала возвращаться к своему состоянию до болезни, потому что стала ду^ мать, общаться, а то ведь за последние два-три года я совсем отдалилась от людей и утратила присущую мне общительность» (Татьяна, 35 лет).
«Это оказалось интересно и познавательно, но главное — это общение, искренность, дружелюбие, терпимость, возможность быть самим собой и свободно выражать свои мысли и чувства» (Валерий).
«Заметил, что занятия часто напоминали какую-то игру. Считаю это очень важным, так как игровая обстановка снимала обычную разобщенность, позволяла преодолеть границы, установленные воспитанием... Получал определенный эмоциональный заряд, постепенно сформировалось ожидание занятия, что отвлекало от тягостных мыслей... Иногда групповая работа казалась слишком напряженной... В целом благодаря занятиям смог многое осознать в себе. Сейчас уже лучше представляю себе, что мне нужно делать...» (Александр, 35 лет).
«Считаю эти занятия очень важными для себя. Я и раньше время от времени занимался рисованием — хотел отвлечься от пустоты и бессмысленности. Иногда благодаря рисованию лучше понимаю, что у меня на душе. Особенностью занятий было то, что здесь мои рисунки смог хоть кто-то увидеть и "разделить" со мной мои переживания» (Александр, 43 года).
В качестве примера несколько иного применения арт-терапевтиче-ского подхода к работе с психиатрическими пациентами предлагается следующее описание. В отличие от предыдущего, на первый план здесь выдвигается исследование поведенческих особенностей в группе и их возможная коррекция. «Социальный» аспект работы представляется наиболее существенным. Этот пример связан с использованием техники «драматическая арена». Ее выполнение предполагает шесть основных этапов.
1. Группа делится на две части (произвольно или по определенному признаку).
2. Выбирается тема, предполагающая противопоставление двух взглядов или начал, например: «солнце и гроза», «день и ночь», «добро и зло» и т. д.
3. Подгруппы тянут жребий или иным образом определяют, кто исполняет какую роль. Им предстоит затем выразить доставшееся качество или начало на общем большом листе бумаги, утверждая свой приоритет.
4. Подгруппы расходятся в разные места и обсуждают, как они собираются реализовать свою роль. (В частности, подгруппы могут обсудить общую концепцию своей роли, распределить, кто какой образ рисует и т. д.) Затем подгруппы выбирают себе материалы и создают на отдельных листах бумаги образы, соответствующие определенному началу или качеству, и потом их вырезают.
5. Подгруппы сходятся и начинают располагать созданные образы на общем большом листе бумаги (лежащем на столе или полу либо прикрепленном на стене). Могут быть опробованы разные варианты расположения образов, до тех пор пока подгруппы не придут к ощущению завершенности композиции.
6. В финале происходит обсуждение хода работы и ее результатов. Некоторыми вопросами при этом могут быть:
• Удалось ли создать целостную композицию?
• Сопровождалась ли работа положительными или отрицательными эмоциями?
• Удалось ли членам группы действовать сообща?
• Каким мог бы быть результат работы при ином поведении участников?
Применение этой техники, как правило, сопровождается проявлением разнообразных конфликтов (внутриличностных, межличностных, межгрупповых и между личностью и группой) и способов поведения в конфликтных ситуациях. Результаты работы во многом зависят от способности участников к конструктивному взаимодействию. В ходе выполнения задания идет поиск и отработка разных способов поведения в конфликтной ситуации.
В группу, состоящую из психиатрических больных, входило семь человек (три женщины и четверо мужчин). Все они посещали дневной стационар психоневрологического диспансера и имели на момент работы остаточные проявления психического заболевания в стадии ремиссии различного качества или относительной компенсации психического состояния.
Состав группы: Анна (24 года, диагноз «шизофрения, простая форма», инвалид второй группы), Татьяна (34 года, диагноз «невротическая депрессия», инвалидности не имеет), Валентина (38 лет, диагноз «непсихотические расстройства в результате органического заболевания головного мозга», инвалидности не имеет), Валентин (25 лет, диагноз «шизофрения, простая форма», инвалид второй группы), Александр (34 года, диагноз «органическое заболевание головного мозга с психическими нарушениями», инвалидности не имеет), Петр (54 года, диагноз «органическое заболевание головного мозга с психическими нарушениями», инвалид второй группы), Николай (36 лет, диагноз «невротическая депрессия», инвалидности не имеет).
Участники этой группы уже занимались совместно более полутора месяцев., имелась определенная групповая сплоченность и понимание основных принципов групповой арт-терапии. Они проявляли интерес к различным формам работы и охотно согласились использовать предложенную им технику «драматическая арена». Из нескольких предложенных тем, предполагающих конфликт и противостояние различных начал, участники путем простого голосования выбрали тему «мужчина и женщина». В связи с этим имеет смысл отметить, что на момент работы лишь одна женщина (Валентина) и один мужчина (Николай) состояли в браке. Остальные либо были разведены (два человека), либо никогда в браке не были (три человека).
После объяснения основных правил и этапов выполнения техники «драматическая арена» участники разделились по половому признаку на две подгруппы.
Работа над темой проходила в течение пяти занятий. Такую ее продолжительность можно объяснить несколькими причинами: нерегулярностью посещения занятий некоторыми участниками (по разным соображениям представляется обоснованной и версия «психологической защиты», заставляющей некоторых пациентов избегать сложной для них темы), не позволявшей в полной мере координировать усилия внутри подгрупп, пассивностью и потребностью в «направляющей руке» лидера, характерных для части психически больных, плохой коммуникацией между участниками обеих подгрупп даже при их полной явке, сознательным или неосознанным «уклонением» от конфликта и активного взаимодействия.
В работе над темой участники сочетали технику рисунка с коллажем. Некоторое предпочтение было отдано последнему. Многие участники приносили из дома вырезанные из журналов картинки, видимо находя для себя домашнюю обстановку более «безопасной» в данной ситуации. На занятиях же занимались в основном аранжировкой образов в пределах композиции и заполнением пустующих пространств между наклеенными изображениями.
Продуктивность обеих подгрупп на начальном этапе работы (первое занятие) была довольно низкой. Было создано и затем вырезано всего несколько маловыразительных образов, отражающих в основном шаблонные представления о мужском и женском «началах», в чем можно усмотреть проявление «защитных» тенденций и стремление не связывать работу над темой с личным, в большинстве случаев довольно травматичным опытом, ю-
Образы, нарисованные мужской и женской подгруппами на первом занятии, включали в себя: величавую фигуру бородатого мужчины в позе «гордого одиночества», быка, символизирующего «год Быка» (оба рисунка созданы Александром), треугольник в круге — символ рационального начала (рисунок Петра) — и три красных мужских фигуры — одна стоит, вторая ползет, третья танцует (рисунки Николая).
Женская подгруппа нарисовала на первом занятии: два (!) стола, накрытых скатертью, один с бутылкой и двумя рюмками, но без персонажей (нарисован Валентиной), за другим столом видна женская фигура, занятая сервировкой, на нем находятся три наполненные тарелки, ожидающие «едоков», и кастрюля (нарисованы Анной).
Имея столь ограниченный набор образов, подгруппы, конечно же, воздержались от их размещения на одном листе на первом занятии. «Домашняя работа» оказалась более плодотворной. На следующий раз многие участники пришли с вырезками из журналов. Женская подгруппа принесла следующие картинки: прекрасный женский профиль, радостные мать и дочь, экзотический пустынный пляж, закат среди пальм, раковина, распускающаяся орхидея, женская фигура в развевающемся белом одеянии на фоне колосящегося поля (принесла Валентина), красивый интерьер без людей, две кошки — черная и белая, флакон с загадочным содержимым янтарных оттенков, «гипнотизирующая» зрителя и протягивающая к нему руку с длинными ногтями женщина-вамп, роскошный красный диван, женская рука с рядом элегантных перстней, выполненных в виде серебряных лепестков, карикатура женщины, несущей дом и детей на своих плечах (принесла Татьяна), попугай в цветах, «деловая женщина» в автомобиле с портативным компьютером (принесла Анна).
«Домашними заготовками» мужской подгруппы были: мужчина, нацеливающий пистолет на зрителей, поясное изображение полуобнаженной женщины в страстной позе, мужчина, яростно пытающийся перегрызть наручники, оскаленная физиономия лысого мужчины в черных очках(принес Валентин).
На втором занятии подгруппы начали размещать свои заготовки на общем листе. Все образы мужской подгруппы (за исключением фигуры красного мужчины, ползущего к красному дивану на женской части изображения) оказались расположены на правой половине листа, хотя условиями заранее и не предусматривалось разделение листа на «территории».
Образы женской подгруппы в своем большинстве оказались расположены на левой половине листа. Лишь женщина с компьютером, женщина с домом и детьми на плечах и женщина-вамп «перешли» на мужскую половину. Женская подгруппа, видимо полагая, что количество и «качество» уже вполне удовлетворительные, после пробной расстановки на листе и организации образов в композицию начала наклеивать их на своей территории.
Мужская подгруппа, видя определенный «перевес» в женских образах, нарисовала и подобрала из имеющихся в кабинете журналов еще несколько изображений: фотографию Николая Второго с семьей, в ногах императора была приклеена нарисованная голова Распутина (Николай), изображенный анфас мужчина в черных очках и с брезгливым выражением лица (Валентин), —• к голове которого Николай пририсовал большие черные рога, — и кроссворд (Петр).
Увидев, что другая подгруппа приклеила в левом верхнем углу прекрасный женский профиль, мужчины решили «уравновесить» его, но не найдя готового «персонажа» в журнале, принялись обводить силуэт одного из участников (Валентина). Затем этот силуэт был вырезан и наклеен в правом верхнем углу.
Таким образом завершилось второе занятие. Оно оставило у большинства участников смешанное впечатление. С одной стороны, они были довольны тем, что тема вроде уже была «раскрыта»: налицо довольно большое количество разных образов (особенно женских). С другой стороны, при осмотре общей композиции были очевидны «поляризация» мужских и женских половин и отсутствие связей между ними: существовало два «самодостаточных» мира, персонажи одного из них «упивались» своей «красивостью», персонажи другого бравировали своей «безобразностью». Кроме того, емкие и довольно выразительные образы, будучи наклеенными на большой лист, оказались изолированы друг от друга даже в пределах женской и мужской территорий. Между ними находились значительные белые пространства. В конце второго занятия все участники, обсудив сложившуюся ситуацию, это отметили, но никто не сказал, что делать дальше. Двое мужчин и одна женщина даже высказали предположение, что на этом этапе работа может быть завершена.
Третье занятие было посвящено в основном обсуждению проделанной работы и ее результатов. Предполагалось, что работа в целом может быть продолжена, несмотря на предложение некоторых участников завершить ее. Обсуждение позволило выявить мнения большинства представителей как мужской, так и женской подгруппы. Многие признали, что работа «не смотрится», потому что состоит из отдельных «кусков» и в ней слишком много пустого пространства. Была высказана и поддержана идея заполнить «пустоту». Тем не менее ни одна из подгрупп, казалось, не представляла себе, как это можно сделать. Во второй половине третьего занятия, после завершения обсуждения участники начали делать робкие попытки чем-то дополнить композицию. В частности, на женской территории одна из участниц стала закрашивать пространство между отдельными картинками голубым цветом, другие добавляли детали к существующим образам, например, на стол с бутылкой и рюмками были поставлены торт и свеча. Мужчины же стали усиливать отрицательные свойства своих персонажей, добавляя кому — рога, кому — капли крови, а кому — и «горящий» взгляд. На мужской половине вскоре появился огонь, не только заполнивший большую часть свободного пространства, но и стремившийся поглотить некоторые мужские образы; при этом он не переходил на женскую половину.
В ходе работы участники подгрупп обменивались порой язвительными замечаниями: со стороны женской подгруппы прозвучали, например, не только ирония, но и сочувствие и недоумение по поводу того, что мужчины так стараются представить себя в виде «монстров». Был даже задан вопрос, зачем им это нужно. Ответа не последовало.
Придя на четвертое занятие, участники обратили внимание на то, что работа приобрела большую выразительность благодаря активно использованному в прошлый раз цвету (на женской территории доминировал голубой, на мужской — красный и черный). За счет цвета мужская половина производила впечатление агрессивно-напряженной и «мятущейся», а женская — идиллически-нежной и «невозмутимой». Участники признали, что какого-либо взаимодействия между двумя половинами так и не происходит: ни в виде любви, ни в виде «борьбы». Одна из женщин добавила, что не видит способов взаимодействия со столь отталкивающими персонажами мужской половины и что ей «туда совсем не хочется». В свою очередь из мужского лагеря прозвучало мнение Александра, что на женской половине «бесконечно скучно», что он «не смог бы вынести более одного месяца отдыха на идиллическом острове в окружении пальм, орхидей и раковин» и что все эти образы «приторны» и однообразны в своей «праздной» и «безжизненной» красивости.
В результате такого обмена мнениями Николай начал рисовать в центре листа ствол огромного дерева, заканчивающийся зелеными ветвями. Оказалось, что дерево довольно неплохо «вписывается» в уже организованное пространство. Так, например, образ тропического леса и садящегося за него солнца соединился с центральным деревом в единый пейзаж, треугольник в круге и символ «инь-ян» справа стали восприниматься как его плоды, а женщина-вамп, находящаяся под ними, кому-то могла напомнить Еву.
Образ дерева понравился многим участникам группы как с женской, так и мужской стороны, и они принялись закрашивать оставшиеся пустоты различными цветами в соответствии с новой композиционной организацией пространства. Голубизна женской половины стала удачным фоном для дерева, нижнюю же часть композиции участники раскрасили в коричневый цвет. Затем женщины заполнили голубым цветом и пустующее пространство на мужской половине, сделав фон симметричным.
Некоторыми дополнительными элементами, внесенными в композицию на этом и последующем занятиях были, например, положенные друг на друга мужская и женская руки с кольцами. Такой образ внесла на мужскую половину Валентина. В центре композиции, на фоне ствола Николаем была наклеена красная фигура танцующего мужчины, который протягивал руки к женщине-вамп и в то же время пытался обхватить флакон с загадочным содержимым. На месте магического танца вспыхнул желтый огонь, смешавшийся с оттенками янтаря и устремивший свои языки к зеленой кроне с покоящимися там плодами и ликами «невинно убиенных», а по всему пространству работы закружились мелкие желтые спирали.
Таким образом, к началу пятого занятия композиция оказалась предельно насыщенной, и что-либо добавить к ней уже было сложно. Хотя далеко не у всех возникло ощущение завершенности работы, участники группы согласились, что следует принять ее, как она есть. При этом некоторые заявили о чувстве сожаления оттого, что полноценного взаимодействия между сторонами так и не произошло. Смысл «пугающих» мужских образов остался непроясненным и, возможно, непонятным даже самим создателям (по крайней мере, никто из мужчин не смог объяснить, зачем им нужно было «сжигать» себя и проливать столько «крови», навешивать на себя столько рогов и черных очков).
Единственным утешением для нескольких участников было признание ими того, что «в жизни именно все так и есть, как на нашей картине» (Александр, Татьяна, Валентина). Александр добавил: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда». «Окольцованные» руки, казалось, напоминали о том, что ситуация может и должна быть иной.
Личный ответ участников на эту ситуацию был различен, а опыт совместной работы над темой осознан ими в разной степени: кто-то унес с собой «умудренную грусть», приняв ситуацию, как она есть (Александр, Татьяна), кто-то убеждение, что «так не должно быть», и надежду на возможность иного исхода (Валентина, Николай), а кто-то просто не сформулировал свою позицию; считая, что может быть по-разному и что от него все равно ничего не зависит (Анна, Петр).
Опыт применения техники «драматическая арена» в данной группе позволил сделать некоторые выводы.
1. Несмотря на определенный интерес к работе со стороны участников группы, уровень внутригруппового взаимодействия оказался слишком низок. Это отразилось на композиции, так и оставшейся разделенной пополам (при отдельных попытках преодолеть это разделение). Низкий уровень внутригруппового взаимодействия можно, по-видимому, объяснить, во-первых, характерным для ряда психических заболеваний снижением коммуникативных возможностей и, во-вторых, слишком сильной «закрытостью» ряда больных, не позволившей им откровенно выразить в работе свои чувства. По-видимому, «уровень безопасности» оказался для них недостаточным, чтобы они смогли преодолеть свои защитные тенденции. Данный вывод в целом согласуется с существующим мнением о том, что формы арт-терапевтической работы, предполагающие активное взаимодействие участников, обычно мало пригодны для использования в группе психически больных.
2. Члены группы продемонстрировали разный уровень вовлеченности в. совместную работу, а также различные формы поведения при ее выполнении. Некоторые из них проявили реакции избегания или пассивного компромисса, что свидетельствовало об ограниченности их адаптивных возможностей в конфликтной ситуации. Разный уровень вовлеченности в общую работу можно отчасти объяснить гетерогенным составом группы, в которую вошли пациенты с разной степенью эмоционально-волевых и когнитивных нарушений.
3. Отдельным участникам группы удалось продемонстрировать достаточно конструктивные формы реагирования на конфликтные ситуации, достичь определенного психотерапевтического эффекта, проявившегося в динамике их психического состояния в процессе групповой работы. Так, у Валентины, Александра и Николая и отчасти у Татьяны заметно снизился уровень тревожности. Они смогли осмыслить некоторые особенности и механизмы своего поведения в конфликтной ситуации и найти формы ее конструктивного разрешения. Александр, к примеру, смог интегрировать свой опыт работы над темой, признав закономерными и необходимыми обе позиции — мужскую и женскую, и осознать связи, существующие между его формой участия в арт-терапевтической работе и поведением в реальной жизни. Валентина проявила определенную волю к конструктивному взаимодействию с участниками мужской группы, не состоявшемуся, однако, из-за отсутствия реакции с противоположной стороны. Продуктивной оказалась и позиция Николая, который попытался взять на себя роль лидера, объединив композицию образом «древа жизни».
Таким образом, положительные эффекты работы, отмечаемые у отдельных участников в сочетании с низкой групповой динамикой в целом, позволяют говорить о целесообразности формирования гомогенных групп.
ЛИТЕРАТУРА
Case С, Dalley Т. The Handbook of Art Therapy. London & New York: Tavistock / Routledge, 1992.
Huet V. Challenging Professional Confidence Arts Therapies and Psychiatric Rehabilitation // Inscape. Vol. 2. № 1. 1997.
Liebmann M. Art Therapy for Groups. London: Croom Helm, 1987.
Moloy F. Art, Psychotherapy and Psychiatric Rehabilitation. Arts Psychotherapy and Psychosis / Killick K., Schaverien J. (eds.). London and New York: Routledge, 1997.
Moloy F. Art Therapy and Psychiatric Rehabilitation: Harmonious Partnership or Philosophical Collision? / / Inscape. Summer 1984.
Perkins R., Ditks S. Worlds Apart: Working With Severely Socially Disabled People // Journal of Mental Health. Vol. 1. 1992. P. 3-17.
\
АРТ-ТЕРАПИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
В этой главе представлены формы арт-терапии, реализуемые, главным образом, вне госпитальной сферы и ориентированные не на медицинские, но на психокоррекционные и психопрофилактические задачи. Использование этих форм работы связано с решением проблемы психического здоровья определенных социальных групп (бездомных, безработных, заключенных, людей, прошедших лечение от алкогольной или наркотической зависимости и стремящихся удержаться в состоянии «ремиссии», перемещенных лиц, беженцев и др.). Грань между клиническими и неклиническими (социальными) задачами, конечно же, весьма относительна и порой трудноуловима. Психофизическое и духовное здоровье человека вряд ли можно отделить от «здоровья» среды — социальной, экономической, культурной, политической. Эта среда в значительной мере обусловливает системы медицинского обслуживания и образования, методы социальной работы с населением и, самое главное, те инте-риоризованные ценности и представления, которые становятся движущими факторами человеческого поведения.
Сознавая условность деления на социальные, образовательные и медицинские задачи, составители сборника тем не менее сочли необходимым выделить некоторые статьи в отдельную главу, посвященную использованию арт-терапии в социальной работе. Это было продиктовано необходимостью обозначить социальную сферу в качестве относительно самостоятельной и чрезвычайно важной области арт-терапевтической деятельности, пример которой показывает, насколько серьезную роль может играть тот или иной психотерапевтический метод в жизни общества.
С точки зрения профессиональной социологии, арт-терапия, несомненно, представляет собой яркий образец новой специальности, сформировавшейся за последние полвека. Многие факторы ее развития следует рассматривать в социальной плоскости. Иной «язык», которым арт-терапия, по сути, во многих случаях является, складывался параллельно и в тесной связи с протекающими в обществе культурными метаморфозами и обострявшимися социальными проблемами. На сегодняшний день арт-терапевты являются одной из наиболее прогрессивных и динамичных общественных групп, чутко отзывающихся на такие проблемы и прикладывающих усилия к их разрешению.
Подтверждением этому могут служить все без исключения статьи главы. Так, М. Либманн описывает арт-терапевтическую работу с «условно» осужденными и находящимися под надзором лицами, а К. Тисдейл демонстрирует возможности арт-терапевтического подхода к работе с преступниками, имеющими личностные расстройства и находящимися в специализированном закрытом лечебно-исправительном учреждении. Вряд ли стоит указывать на то, что условия содержания заключенных и методы работы с осужденными в нашей стране пока еще далеки от тех, что описаны этими двумя авторами. Однако и с позиции международных норм прав человека, и с практической точки зрения формы арт-терапевтической работы с данной социальной группой оказываются не столь уж «утопическими», как может показаться на первый взгляд.
В статье К. Свенсон представлен опыт ведения арт-терапевтической группы из числа бездомных, занимающихся на базе приютов и социальных центров. Учитывая то, что бездомных лиц в нашей стране становится все больше, арт-терапевтическую работу с ними вряд ли можно считать далекой от российской действительности «экзотикой».
Прочие публикации посвящены использованию арт-терапии в условиях военных и этнических конфликтов. Д. Байере представительница Ближневосточного культурного и образовательного фонда Канады рассказывает о своей поездке в Израиль. Она делает акцент на поисках общечеловеческих доминант, позволяющих преодолевать культурные и религиозные антагонизмы, и целым рядом примеров демонстрирует, как посредством живой коммуникации с использованием изобразительного искусства людям, пострадавшим в локальных конфликтах, удается возродить в себе надежду и любовь к жизни.
Д. Калманович и Б. Ллойд описывают ход и результаты своей арт-терапевтической деятельности в лагерях беженцев на территории Боснии и Словении. Среди методов работы с жертвами политического преследования и организованного насилия арт-терапия в последнее время привлекает к себе все больше внимания. Многочисленные наблюдения благотворного действия на людей, переживших насилие, спонтанного творчества или художественной работы под руководством соответствующих специалистов свидетельствуют о значительных возможностях арт-терапевтического подхода. Описанные в статье формы арт-терапии сильно
отличаются от традиционных моделей психотерапевтической интеракции: особенностью работы на Балканах явилось проживание участниц проекта непосредственно в лагерях беженцев и использование лишь доступных в местных условиях материальных ресурсов. Такие обстоятельства требовали большой гибкости и оперативности специалистов.
Помимо описанной в данной главе арт-терапевтической помощи правонарушителям, заключенным, бездомным и беженцам существует широкий спектр иных видов арт-терапевтической деятельности в социальной сфере. Сегодня во многих странах арт-терапия довольно хорошо интегрирована в жизнедеятельность местных сообществ и муниципальных общинных центров культурного и социального назначения, которые используют ее в основном в формах открытых студийных или тематически ориентированных групп. Особенности этой практики заключаются в отсутствии «психотерапевтической» направленности работы и отказе, в большинстве случаев, от учета психодинамических представлений. Участие в группе сугубо добровольно и не предполагает подписания психотерапевтического контракта. Основной акцент делается на стимулировании коммуникации участников и развитии их практических навыков, в том числе художественных или декоративно-прикладных. Задачами своей работы такие группы видят преодоление социальной изоляции, освоение адаптивных форм поведения (в частности, в ситуациях конфликта), самовыражение, работу над характерными данному составу участников проблемами, развитие творческих возможностей, личностный «рост» и ряд других.
ИСТОРИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РИСУНКАХ
Мариан Либманн
Статья печатается по изданию: Liebmann М. 'It Just Happened': Looking at Crime'Events / / Art Therapy in Practice / Liebmann M. (ed.)- London: Jessica Kingsley Publishers, 1990. P. 133-155.
Сведения об авторе. Мариан Либманн — педагог, социальный работник, арт-терапевт, использует арт-терапию в общинной работе, деятельности центров дневного пребывания, работе с правонарушителями. Автор книги «Арт-терапия для групповой работы» и составитель ряда сборников, в частности «Арт-терапия в практике».
ВВЕДЕНИЕ
В статье представлена практика использования арт-терапии в работе с находящимися под надзором правонарушителями. Вначале я охарактеризую область работы и людей, с которыми приходилось иметьдело. Затем опишу, каким образом я пришла к использованию изобразительных методов в работе с правонарушителями, и приведу некоторые примеры из личной практики, включающей как индивидуальную, так и групповую арт-терапию. В заключение я изложу некоторые свои соображения относительно дальнейшего развития форм арт-терапевтической работы с правонарушителями.
ПРАВОНАРУШИТЕЛИ И СИСТЕМА НАДЗОРА
Прежде всего важно подчеркнуть, что в реальной жизни правонарушители далеко не всегда соответствуют тому образу, который создан средствами массовой информации; среди них много «обычных» людей — мужчин, женщин, подростков и взрослых (иногда и стариков, но редко), экстравертов и интровертов, людей веселых и добродушных, раздраженных и агрессивных. Они совершают преступления по разным причинам, и подчас очень трудно понять, что же на самом деле подтолкнуло их к криминалу. На эту тему проводились многочисленные социологические исследования. Основным предметом статьи будет разбор тех причин правонарушений, которые коренятся в личности преступника и над которыми он имеет определенную степень контроля.
Британская пенитенциарная система использует разные методы работы с правонарушителями. Лишение свободы является основным из них, однако в последние годы этот метод вызывает в обществе все большую неудовлетворенность из-за высокой стоимости содержания тюрем. Кроме того, опыт свидетельствует: заключение человека под стражу мало способствует изменениям в его поведении и не приводит к его реабилитации.
В случаях нетяжких правонарушений используется система штрафов, а также некоторые новые формы работы с правонарушителями — центры посещений, сочетающие методы физического воспитания, производственные и дискуссионные группы (проводимые, как правило, по субботам) и методы общинной помощи (безвозмездная работа в пользу местных сообществ). При определенных обстоятельствах лишение свободы может быть заменено на «условную» меру наказания.
Надзор используется при необходимости обследовать или оценить социальные обстоятельства преступления, в особенности если это связано с алкоголизмом, разводом, семейными проблемами или нищетой. В этом случае специалисты пытаются разобраться как в особенностях поведения правонарушителя, так и в причинах преступления. С правонарушителями работают социальные работники, которые применяют самые разные подходы в зависимости от обстоятельств. Правонарушители продолжают находиться на свободе и приходить на беседы к следователю (иногда он посещает их дома). Такая работа может иметь разную продолжительность: минимум — шесть месяцев, максимум — три года.
Другой задачей надзора является подготовка специальных отчетов для суда, с тем чтобы способствовать вынесению правильного приговора, учитывающего личные и семейные обстоятельства преступника. Обычно по поводу причин преступления высказываются разные мнения. По закону правонарушитель должен дать согласие на осуществление надзора, однако, учитывая альтернативу — лишение свободы, — люди редко от него отказываются. В период надзора правонарушители находятся под постоянным наблюдением. Многие из них заинтересованы в решении своих проблем с законом и заключают индивидуальные контракты со следствием, в которых, как правило, человек берет на себя обязательства по поиску работы и жилья, решения финансовых проблем, изменения условий жизни и т. д. — таким образом может быть снижен риск повторных нарушений закона. Многие правонарушители обязуются посещать специальные группы (например, по преодолению алкогольной зависимости, работе с гневом, совершенствования навыков вождения, женские группы, группы, состоящие из лиц, совершивших сексуальное насилие, и т. д.). В процессе групповой работы правонарушители смотрят и обсуждают фильмы, осваивают определенные упражнения, анализируют последствия совершенных преступлений и участвуют в других видах деятельности. Некоторые проходят индивидуальные консультации, пытаются осмыслить свои установки и представления о жизни. Очень часто преступление является лишь верхней частью айсберга, в то время как под водой скрываются проблемы, остававшиеся без внимания в течение многих лет. Для правонарушителей, ранее уже пытавшихся изменить свою жизнь к лучшему, надзор является важным периодом.
Надзор осуществляется с помощью разнообразных учреждений и форм работы, включая приюты и центры дневного пребывания, а также описанные выше виды групповых занятий. Некоторые из них посещаются на добровольной основе, другие в административном порядке или по решению суда. Многие специалисты, осуществляющие надзор, имеют подготовку в области общинной работы, психотерапии или, например, скалолазания, что помогает им в общении с правонарушителями.
Большинство центров дневного пребывания для правонарушителей использует разные формы работы, среди которых есть и изобразительное искусство. Это могут быть уроки рисования под руководством педагога-художника либо самостоятельные занятия с рекреационной направленностью. В некоторых центрах дневного пребывания осознают, что занятия изобразительным творчеством могут являться важным инструментом коммуникации и работы с личностью правонарушителя. Поэтому в таких центрах трудятся арт-терапевты.
Использование арт-терапии здесь основано на тех же принципах, что и в работе с другими группами клиентов. Правонарушители могут заниматься арт-терапией как индивидуально, в соответствии с личными программами, так и в группах, использующих определенные темы, значимые для всех участников. В такого рода группах изобразительная деятельность дополняется комментариями, на основе которых затем разворачиваются дискуссии.
При всем разнообразии накопленного опыта арт-терапевтической работы с правонарушителями мне хотелось бы остановиться только на одной технике, особенно интересной и плодотворной на начальных этапах надзора.
ВЗГЛЯД НА ПРАВОНАРУШЕНИЕ
В отношении правонарушителей возбуждается уголовное дело. Для большинства это само по себе является психотравмирующим фактором. Многие правонарушители не понимают, что привело их к преступлению; для них оно является лишь «свершившимся фактом». Даже те из них, кто неоднократно привлекался к суду, порой не осознают, как «все это могло произойти», и воспринимают содеянное ими «результатом случайного стечения обстоятельств», управлять которыми они не в состоянии.
Техника «рассказа в картинках» помогает человеку воссоздать закончившуюся преступлением цепочку обстоятельств и поступков, представить свой взгляд на нее. Это способствует осознанию альтернативных вариантов развития событий, не имевших бы таких тяжелых последствий. Кроме того, становятся очевидными некоторые стереотипы криминогенного поведения, осознать которые очень сложно, если используются лишь вербальные способы коммуникации.
Техника «рассказа в картинках» имеет особую ценность в работе с лицами, затрудняющимися в вербальном описании событий или своих чувств. Многие правонарушители, находящиеся под надзором, знакомы с ней, что позволяет им включиться в работу. Их рисунки могут затем стать предметом обсуждения и глубокого анализа.
Идея использования техники «рассказа в картинках» появилась у меня еще в период моей работы в центре дневного пребывания. Я обратила внимание на то, что многие правонарушители получают удовольствие от занятий рисованием и более склонны выражать себя в рисунках, нежели в словах. Когда я вошла в состав бригады надзора, я решила использовать эту технику в индивидуальной работе. Мне представлялось, что «рассказ в картинках» вряд ли уступает традиционно применяемым в психологическом консультировании методам вербального диалога.
Я начала с того, что спросила одного из клиентов, готов ли он рисовать. Он ответил утвердительно, тогда я, учитывая то, что эта техника была ему уже знакома и не вызывала у него страха, предложила изобразить «историю в картинках». Она позволила получить гораздо больше информации, чем многочисленные беседы с клиентом в течение нескольких месяцев. Поэтому я решила и впредь использовать эту технику. Дальнейший опыт показал, что она дает прекрасную возможность начать обсуждение с клиентом обстоятельств правонарушения.
После назначения надзора несколько занятий, как правило, используются для оценки личности правонарушителя. Обычно из материалов следствия бывает уже многое известно о его проблемах, однако требуется сформировать индивидуальный план работы и выделить приоритетные задачи. Поскольку правонарушение является причиной назначения надзора, оно становится первоочередной темой обсуждения.
Именно на этой стадии я считаю целесообразным использовать изобразительные методы. Если я знаю, что клиент любит рисовать, я говорю ему, что тоже занимаюсь рисованием, и предлагаю вместе попробовать разобраться в обстоятельствах, связанных с преступлением. Если же клиент не может быть увлечен рисованием как процессом, я просто предлагаю ему воспользоваться техникой «рассказа в картинках», чтобы поведать мне о случившемся и о том, как он сам это воспринимает. Некоторые отказываются (обычно по причине страха перед рисованием), и я не принуждаю их. Кроме того, существуют некоторые правонарушения, которые вряд ли целесообразно исследовать с помощью данной техники, — например,повторные преступления.
В начале работы клиент нуждается в помощи — либо из-за неуверенности в своих художественных возможностях, либо из-за того, что ему трудно вспомнить и объяснить случившееся. Создание серии рисунков предполагает диалог между мной и клиентом, направленный на получение как можно большей информации о правонарушении. Я обычно стремлюсь понять точку зрения клиента и воспринять случившееся его глазами.
Когда серия рисунков закончена, мы вместе ее обсуждаем. Это в какой-то мере позволяет клиенту дистанцироваться от обстоятельств преступления и посмотреть на него «новыми глазами». Кроме того, он нередко начинает ощущать себя действующим персонажем, находящимся в центре событий, а не только «жертвой обстоятельств». Это знаменует собой важную веху на пути формирования у клиента ответственности как перед окружающими людьми, так и перед собственным будущим. Приведенные ниже примеры показывают, каким образом я использую этот подход в своей индивидуальной работе с правонарушителями.
ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ
Обычно первая попытка клиента создать «рассказ в картинках» позволяет обнажить лишь часть обстоятельств преступления. Следующий пример демонстрирует те связанные с правонарушением «белые пятна», которые впоследствии заполняются событиями.
Дон: проблема насилия
Дону было 16 лет, когда он напал на девочку. Он очень стыдился произошедшего и надеялся, что это никогда не повторится. Однако педагоги его школы отмечали склонность юноши к насилию, а мать Дона считала, что ее сын «пошел по стопам отца». (Родители развелись после того, как отец несколько раз избил жену и детей.) Дон посещал специальную школу, с трудом читал и писал, но увлекался рисованием. Он охотно откликнулся на мое предложение использовать рисуночную технику.
Я предложила ему изобразить то, что произошло с ним в школе, в виде серии рисунков. На первом занятии было сделано лишь четыре картинки (рис. 5.1). На них Дон от своего друга узнает, что одна из знакомых смеется над ним. Приятели решают специально уйти с уроков, чтобы подкараулить девочку и «разобраться» с ней. Они поджидают ее у школы в течение всего дня до того времени, когда дети начинают расходиться с уроков. На последнем рисунке показано, как Дон избивает девочку, которая якобы посмеялась над ним.
В этих рисунках, на мой взгляд, очень многое было пропущено, поэтому через неделю я попросила Дона повторить задание, но выполнять его медленнее и отразить больше деталей, особенно касающихся того, что произошло, начиная с третьего рисунка — то есть перед тем, как Дон начал избивать девочку. Я полагала, что подробная детализация помо-
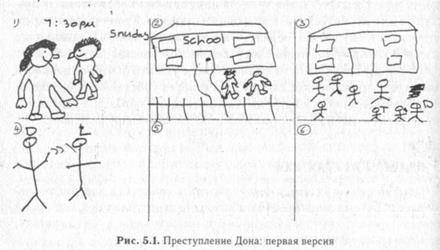
жет Дону осознать некоторые значимые внешние и внутренние факторы, определившие трагический финал.
На рис. 5.2 показана вторая версия «рассказа в картинках». Первый из серии рисунков отражает опознание друзьями девочки. Затем Дон подходит к ней и начинает ей угрожать. После он ее избивает и наконец наносит удар ногой. В этот момент на его лице видна улыбка. По пути домой Дона преследует другая девочка — свидетель произошедшего. Дон начинает испытывать страх и обращается в бегство. Он объяснил мне, что собирался лишь отругать девочку, но когда она сказала ему: «Иди своей дорогой и отвали от меня, жирный ублюдок!» — он потерял над собой контроль и начал ее бить. Я попросила его уточнить детали разговора, произошедшего между ними, и записала все, что он смог вспомнить.
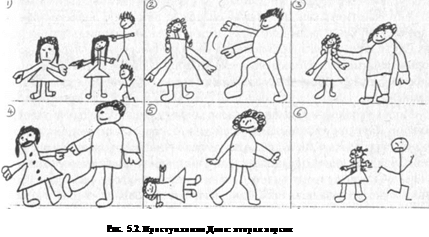
Затем мы использовали эти рисунки как исходный материал для выяснения тех качеств Дона, которые привели его к такому результату. Он смог осознать, что нечто подобное случалось с ним в школе неоднократно, когда он должен был участвовать в «разборках» и попадал в разные неприятные истории. Он знал о недовольстве учителей тем, что всегда просит прощения за свое поведение, но вскоре вновь совершает плохие поступки. Дон сказал, что в нем есть хороший и плохой человек, но он никогда не знает, какой из них одержит верх в той или иной ситуации. Я попросила его нарисовать два рисунка — «хорошего» и «плохого» Дона, и он выполнил мою просьбу с удовольствием.
На следующей неделе мы попытались проанализировать эти рисунки и выявить различия между двумя образами. «Хороший» Дон был словоохотлив и искренен, мог договариваться с людьми и не стремился к главенствующему положению. «Плохой» — любил драться и неизменно участвовал во всех потасовках. Дон снова посмотрел на свой «рассказ в картинках» и попытался определить, была ли у него возможность не избивать девочку. Мы выявили «триггеры», вызывающие его агрессивное поведение, и расположили их на «шкале» его чувств. Две группы «триггеров» оказались особенно значимыми: первая состояла из ситуаций, в которых кто-нибудь называл Дона «жирным» или «ублюдком»; вторая — из ситуаций, в которых кто-нибудь обижал или оскорблял значимых для него людей, особенно друзей, брата или мать. Благодаря этому мы смогли перейти к анализу внутрисемейной ситуации в целом, включая и личность отца.
Таким образом, первая попытка создания Доном «рассказа в картинках» и затем ее вторая версия позволили выявить некоторые существенные темы и более глубоко их проанализировать с учетом личного опыта Дона. Для нас стало очевидно, что проблема заключается не только в особенностях темперамента, но и в специфике ролевого поведения юноши.
Следующий пример демонстрирует сходную модель поведения, проявившуюся, однако, в другой ситуации и связанную с другим видом правонарушения.
Мэк: кража и проблема одиночества
У Мэка отмечалась небольшая задержка развития, а его речь была замедленна. Он дважды попадал в автомобильные аварии (в возрасте 7 и 17 лет), в результате чего получил две не очень сильные черепно-мозговые травмы. Писал Мэк с определенным затруднением. В момент моей работы с ним ему было 24 года; он жил вдвоем с матерью и работал неполный день.
Молодой человек попал под надзор после неудачной попытки украсть бензин. Хотя рисунки Мэка было трудно разобрать, арт-терапия помогла ему воссоздать и проанализировать закончившийся кражей ход событий. Серия рисунков показывает, как Мэк в компании друга отправляется на квартиру к своему брату, а затем на автостоянку — добывать бензин для мотоцикла приятеля. Друг разрезает проволоку ограждения и заставляет Мэка пролезть в образовавшееся отверстие, чтобы позаимствовать бензин в припаркованных машинах. Полиция застает товарищей на месте преступления. Друг спасается бегством, а Мэка арестовывают.
Мы обсудили с Мэком, какими могли быть иные варианты развития событий. Он предположил следующие:
а) вернуться на квартиру брата и не забираться на стоянку;
б) остаться на ночь у брата, если в мотоцикле у друга нет бензина;
в) не идти на поводу у своих чувств, когда друг назвал его «трусли-
вым цыпленком^;
г) сказать другу: «Давай не делать глупостей»;
д) сказать другу: «Делай это сам, если хочешь».
При нашей следующей встрече Мэк признал, что окружающим часто удавалось «заговорить ему зубы» и что его друзья в большинстве своем были плохими людьми. Имея свободное время, он часто испытывал одиночество и подавленное настроение: ему казалось, он никому не интересен. Поэтому Мэк легко попадал на крючок к более «компанейским» товарищам, особенно к тем, которые «делали нечистые дела». Мэк назвал наиболее серьезной своей проблемой поиск и обретение хороших друзей.
Вскоре после этого разговора Мэк решил уйти от матери и начать жить с друзьями. За исключением одного случая, когда друзья пытались «приписать» ему совершенное ими преступление (Мэк был оправдан), он больше не привлекался к суду. В конце срока надзора я спросила его, что изменилось в результате проделанной нами совместной работы, и он ответил: «Теперь я говорю им: делайте сами свое нечистое дело. Я чувствую себя более уверенным в себе. Кроме того, я научился сам находить себе друзей».
Раймонд: семьянин и насильник
Раймонду было 40 лет, когда он был привлечен к суду за то, что в автобусе пытался засунуть свою руку между ног 12-летней девочки. Он совершил аналогичное правонарушение тремя годами раньше и успешно прошел двухлетний надзор. Состоя в счастливом (втором) браке, Раймонд имел двоих детей: пяти и одного года. Первый брак был расторгнут в результате правонарушений Раймонда на сексуальной почве.
Когда я начала работать с этим клиентом, он проходил наблюдение у психиатра, считавшего его преступления «зовом о помощи»: здоровый сорокалетний мужчина зарабатывал крайне мало, поэтому у его семьи образовались огромные долги. Я помогла Раймонду получить консультацию опытного специалиста. Мне, однако, показалось, что способ «призвать на помощь» выбран, мягко говоря, необычный и Раймонду требуется найти иные формы поведения для решения своих проблем.
Я попросила клиента создать рисунки, отражающие его последнее правонарушение. Он согласился (рис. 5.3) и по завершении работы прокомментировал их.
Фрагмент 1. Раннее утро, идет дождь, машина Раймонда не заводится.
Фрагмент 2. Раймонд отправляется на автобусную остановку (ближайшая — в полутора милях), чтобы добраться до работы, в руках — сумка с сэндвичами.
Фрагмент 3. Раймонд не успевает на автобус и остается под дождем дожидаться следующего.
Фрагмент 4. Подходит автобус, Раймонд в него садится; в салоне лишь один пассажир — девочка.
Фрагмент 5. Раймонд садится рядом с ней, завязывает разговор.
Фрагмент 6. Раймонд пытается просунуть между ее ног свою руку; оба при этом смотрят вперед, а не друг на друга.
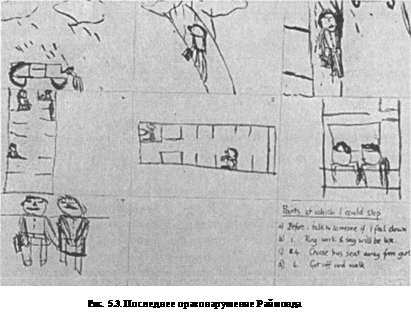
Я полагала, что Раймонд попал в переполненный пассажирами автобус и случайно оказался рядом с девочкой. Его рисунок явился для меня неожиданностью. Оказалось, Раймонд сам выбрал место рядом с девочкой в пустом автобусе. Он заявил, что финал поездки стал для него очевиден, стоило ему войти в автобус. Мы проанализировали всю серию рисунков, пытаясь представить иные варианты развития событий, которые могли произойти, если бы Раймонд позвонил на работу и сказал, что придет с опозданием, или занял другое место в автобусе, вышел из него, почувствовав, что теряет самоконтроль, в конце концов, поговорил с кем-нибудь о своих проблемах. Раймонд признался, что в то утро чувствовал себя очень подавленным, напряженно размышлял о накопившихся долгах. Он расценивал совершенное правонарушение как способ решения своих проблем. Я спросила, что, по его мнению, могла испытывать девочка, но он ничего не ответил, тем самым давая понять, что всецело погружен в собственные мысли и не способен взглянуть на ситуацию глазами другого человека.
Поскольку эта серия рисунков касалась последнего его правонарушения, я решила посмотреть, как развивались события во время предшествующего преступления. Раймонд создал вторую серию рисунков (рис. 5.4).
Комментарии к рисункам:
Фрагмент 1. Раймонд заправляет машину на станции. Фрагмент 2. Он едет по дороге, вдоль которой расположены жилые дома.
Фрагмент 3. Притормаживает у автобусной остановки, заметив там соседку по кварталу, известную своей «пикантной репутацией», и предлагает ее подвезти.
Фрагмент 4. Соседка садится в машину.
Фрагмент 5. Они отъезжают от автобусной остановки.
Фрагмент 6. Раймонд кладет свою руку ей на колени.
Таким образом выяснилось, что этот «сценарий» очень напоминает правонарушение в автобусе: Раймонд увидел на остановке малознакомую женщину и, уже протягивая к ней руку, не смотрел на нее и ничего не знал о ее настроении. Он попытался своеобразно объяснить свой поступок тем, что его привлек «запретный плод» и что он действовал так же, как, видимо, ведет себя ребенок, которому родители что-то запрещают. Как и в первом случае, ему было трудно представить себе иные варианты развития событий, но в конце концов Раймонд предположил, что мог бы поговорить с кем-нибудь о своих проблемах, чтобы снять напряжение, остаться дома или проехать мимо одиноко стоящей женщины.
В результате наших обсуждений стало ясно, что «слабым» местом Раймонда является его склонность фантазировать на тему «свободной
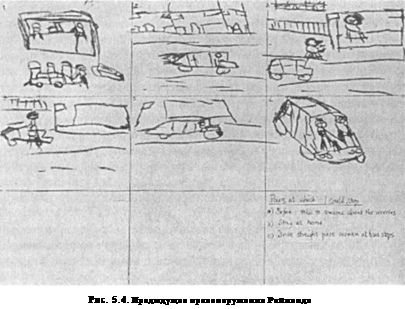 |
любви» и что его поступки — лишь «надводная часть айсберга». Раймонду явно требовалась поддержка и возможность поговорить о своих проблемах, поэтому он охотно включился в работу специальной добровольной психотерапевтической группы, состоящей из лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Он посещал занятия раз в две недели. Его жена одобряла это, и вскоре Раймонд стал одним из лидеров группы.
Мне приходилось наблюдать, как некоторые клиенты легко соглашаются на создание «рассказа в картинках», но затем ничего не могут сделать. Пример тому — Даррен.
Даррен: кража и проблема алкоголизма
Даррен — молодой человек 18 лет, не лишенный дарований. Он высок и хорошо сложен. В школе учился неплохо, занимался в секции бокса. Получив аттестат, продолжал жить с заботливыми родителями и поступил на работу плотником. Надзор над ним был назначен после совершения им кражи. Кроме того, Даррен неоднократно применял насилие. Я начала с ним работать примерно с середины срока надзора.
К сожалению, Даррен явно не хотел ничего говорить ни о себе, ни о совершенном преступлении. Он никогда не приходил на занятия вовремя, каждый раз объясняя опоздание какими-то «важными делами», но на самом деле, по-видимому, делал это для того, чтобы как можно меньше времени проводить со мной. Находясь под надзором, он продолжал нарушать закон: вступал в драки или наносил ущерб имуществу. Когда я спрашивала, не повинен ли в его действиях алкоголь, он отвечал отрицательно.
 |
Узнав, что Даррен получал высокие отметки на школьных уроках рисования, я попросила его отразить в рисунках одно из совершенных им правонарушений. В течение нескольких недель он никак не мог выполнить мою просьбу, ссылаясь на нехватку времени или забывчивость, но наконец принес серию картинок (рис. 5.5).
На них видно, как Даррен и два его товарища напиваются (фрагмент 1), после чего решают пробраться на склад (фрагмент 2). Отодрав доску в стене склада, они залезают внутрь (фрагмент 3) и выносят оттуда несколько телевизоров, компьютеров, другую технику (фрагмент 4). Полицейские застают приятелей на месте преступления (фрагмент 5) и сажают за решетку (фрагмент 6).
Когда я спросила Даррена, могли ли события развиваться иначе, он сразу же указал на первый фрагмент и сказал: «Не напиваться». А затем добавил: «И не шляться с друзьями без дела». В процессе дальнейшего разговора он впервые признал алкоголизм своей проблемой.
На меня произвело впечатление и то, что Даррен смог выделить «главных персонажей» на нескольких рисунках. Он, в частности, называл себя «главным действующим лицом» на фрагменте 1, а также сказал, что именно он пролезает первым в отверстие в стене склада на фрагменте 3. На фрагментах 4 и 6 он расположил себя слева. Меня заинтересовало происходящее во время распития спиртных напитков, и почему Даррен нарисовал себя в черных очках. Однако мы так и не смогли обсудить с ним эти моменты, так как вскоре он был отправлен в тюрьму.
Создание рисунков явилось для Даррена серьезной проблемой и потребовало немало времени и усилий — у него явно поначалу не было внутренней готовности к этому, хотя он и согласился рисовать. Она появилась позже и свидетельствовала об определенном движении в направлении осознания своих проблем.
ЗНАКОМСТВО С МНЕНИЕМ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ
Часто «рассказ в картинках» позволяет взглянуть на ситуацию глазами другого человека. Примером этому может служить случай Тима, неоднократно нарушавшего правила дорожного движения. На протяжении трех занятий Тим рисовал «рассказ в картинках», состоящий из двадцати фрагментов. В процессе работы он делал предположения о злых намерениях других водителей, например, он сказал, что «водитель "тойоты" пытался вытеснить» его с дороги. Я посмотрела на рисунок и произнесла: «А мне кажется, что "тойота" лишь поворачивает налево». Это было для него полной неожиданностью.
Другой клиент — Лен — был очень удручен тем, что его арестовали, когда он наблюдал за кражей, совершаемой другими людьми. Я попросила его нарисовать, как это происходило, а затем посмотреть на ситуацию глазами полицейского. Лен признался, что для полицейского все находящиеся на месте преступления выглядели одинаково.
4
Вышеприведенные примеры иллюстрируют индивидуальную работу, но этот же подход может быть использован и в работе с группами, однако с той оговоркой, что будет соблюден ее более структурированный характер. Далее описываются два варианта групповой работы.
ПРИМЕРЫ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ
Группа из лиц с алкогольной зависимостью
В условиях надзора нередко организуются специальные группы по преодолению алкогольной зависимости. В них в основном включаются те осужденные, чьи правонарушения в какой-то степени связаны с приемом алкоголя. Работа этих групп имеет преимущественно просветительский характер: их участникам предлагаются фильмы, лекции и т. д., содержащие сведения о воздействии алкоголя на человека. Нередко проводятся дискуссии на определенные темы. В конце цикла занятий (их, как правило, восемь) участники группы принимают решение, стоит ли им включиться в индивидуальную психотерапевтическую работу или вообще никак не работать со своими проблемами.
Когда я вместе с ассистентом проводила занятия в одной из таких групп, нам было трудно организовать обсуждения из-за слишком большого количества участников — 14 человек. Более того, некоторые заявили, что не собираются проявлять никакой активности, так как были направлены на занятия постановлением суда. Для того чтобы вовлечь всех в групповую работу, было решено вместо показа фильма на тему «Алкоголизм и преступление» воспользоваться рисованием.
Каждый участник получил по большому листу бумаги и набору восковых мелков. Мы попросили всех разделить свои листы на четыре части: в первой изобразить себя в момент распития спиртных напитков, в четвертой — в момент задержания, а вторая и третья должны были отражать то, что предшествовало аресту.
Рис. 5.6 показывает, как Кевин и его друг распивают в баре спиртное. Они выпили довольно много, затем поехали на машине Кевина к кому-то в гости. Возвращаясь, Кевин попал в аварию. Он не помнил, что с ним произошло дальше, — только смутные воспоминания, как он ложился в постель. На следующий день Кевин был удивлен появлением полиции. Ему не оставалось ничего другого, как признать все, что полиция сообщила ему о его действиях. '
На другом рисунке (рис. 5.7) показано, как Фред выпивает с другом в пабе. Когда они вышли на улицу, Фред обнаружил, что с трудом держится
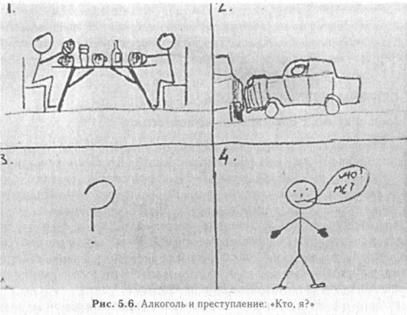
на ногах. Однако друг заставил его забраться в грузовик и совершить кражу. В момент взлома дверей грузовика Фреда застала полиция.
Группа была довольно большой, поэтому участникам предложили обсудить свои работы в парах. Было видно, что этот этап работы, как и рисование, им понравился. В группе царила атмосфера оживления, контрастировавшая с традиционной апатией. Создание рисунков позволило участникам группы включиться в работу на равных и предоставило конкретный материал для последующего обсуждения. Это упражнение помогало им увидеть связь между алкоголем и правонарушением, а в какой-то мере и осознать ответственность за происходящее с ними.
Надзорная женская группа
Эта группа была организована из находящихся под надзором женщин, что позволяло участницам обсуждать причины, которые привели их к совершению преступления (бедность, семейные проблемы и т. д.), и преодолеть чувство изоляции. Группа играла активную роль в выборе тем дискуссий: так, целая серия занятий была посвящена обсуждению различных аспектов преступления. На одной из встреч женщинам было 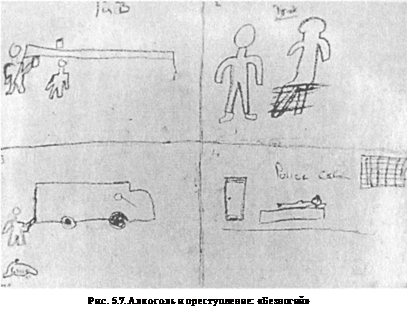
предложено подумать о каком-либо правонарушении, совершенном ими или их знакомыми (с тем, чтобы они имели возможность психологически защититься в случае необходимости), и затем отразить его в серии рисунков: на первом — что происходило до совершения преступления, на втором — сам момент преступления и на третьем — его последствия.
На рис. 5.8 первый фрагмент изображает Кристину: она что-то очень сильно переживает, но не хочет говорить об этом членам своей семьи. Ей самой, видимо, непонятны ее чувства. Мать, с которой она часто делилась своими мыслями, умерла четыре года назад, и Кристине никто не смог ее заменить. На другом фрагменте Кристина предстает в момент кражи продуктов из магазина. Третий фрагмент — судебное заседание. Положительным моментом для Кристины было то, что ее муж и достаточно уже большие дети смогли осознать, насколько их жена и мать нуждается в понимании и поддержке. Муж стал сопровождать ее во время покупок, чтобы у нее вновь не возникло искушения украсть продукты. Однако Кристина была убеждена в том, что это не повторится и что она будет стараться делиться с членами семьи своими переживаниями. Она надеялась, что они смогут ее понять.
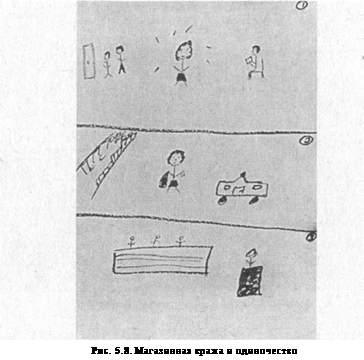 |
Первый фрагмент следующего рисунка (рис. 5.9) показывает семью, живущую в очень стесненных условиях маленькой квартиры. Самое главное — полное отсутствие у этих людей средств к существованию. Мария просит помощи. На втором фрагменте изображен момент, когда Марию сажают в полицейскую машину, а затем в тюрьму, — женщине было очень стыдно рисовать процесс выноса продуктов из магазина, на который она решилась из-за отсутствия денег. (Надо сказать, что муж, узнав о случившемся, сильно отругал ее.) Марию задержали и наложили на нее штраф, но чтобы покрыть расходы по оплате штрафа, она совершила новую кражу. Третий фрагмент (слева наверху) — часть газеты, в которой якобы должны были поместить репортаж о краже. Однако участь этой семьи оказалась не такой уж плохой: за Марией был установлен надзор, а семье вскоре после этого предоставили новое, более просторное жилье и начали оказывать специальную социально-педагогическую помощь, за что Мария была искренне благодарна.
Поскольку данная,группа была относительно небольшой, существовала возможность обсуждать рисунки всех участниц. Обсуждение выявило очень значимый материал, связанный, в частности, с проблемами
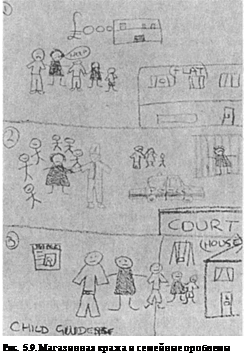 |
воспитания детей, отсутствием друзей, с которыми можно было бы откровенно поговорить о насущном, бедностью и т. д. Создание рисунков позволило обнажить все это и вовлечь участниц в активный диспут. Уровень психического напряжения в группе заметно снизился, и участницы смогли осознать те факторы, которые воспринимались ими как неподвластные их контролю. После этого они почувствовали себя в какой-то степени готовыми изменить ситуацию и искать способы, с помощью которых можно влиять на свою жизнь.
Приведенные примеры показывают, каким образом путем создания серии рисунков можно побудить участников группы к анализу своих поступков и проблем. Достигнув этой стадии, можно переходить к другим значимым темам.
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ
Первоначальная работа по созданию «рассказа в картинках» для изображения этапов совершения преступления может иметь различное продолжение. Состояние некоторых клиентов таково, что даже этот первичный
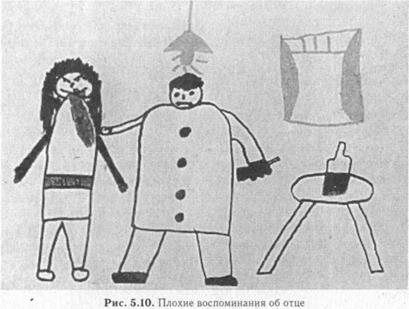
шаг дается им с трудом. Многие из них совершают повторные правонарушения и не имеют постоянного жилья. Для тех же, кто находится в более стабильном состоянии, имеются разные варианты дальнейшей работы: можно сделать основной акцент на алкогольной зависимости, развитии социальных навыков и контактности, решении семейных проблем и т. д. Можно использовать рисунки как материал для психологического консультирования, что потенциально весьма плодотворно. Следующие примеры показывают, каким образом можно использовать изобразительные техники для исследования проблем, лежащих в основе совершения преступления.
Дон: проблема насилия
В работе с этим клиентом использование рисунка служило основой других видов психотерапевтической помощи. На протяжении шести последующих месяцев Дон создал более тридцати рисунков на тему насилия. Во всех случаях он выступал либо в роли нападающего, либо — жертвы. Рисунки изображали семейные сцены: агрессивное поведение отца, счастливые воспоминания, страхи и фантазии, взаимоотношения со сверстниками, в частности, те моменты, когда Дон становился объектом насмешек и издевательств.
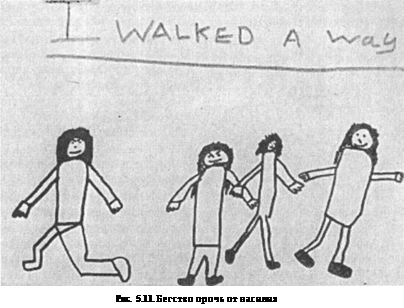
На одном из занятий, приняв во внимание настроение Дона, я попросила его отразить в рисунке хорошие и плохие воспоминания, связанные с отцом. Рис. 5.10 — это плохие воспоминания об отце: тот в пьяном виде избивает Дона. Видно, как из носа и рта мальчика течет кровь. Поскольку в семье и школе все считали, что Дон пойдет по стопам отца, мы попытались представить, что он, взяв от отца лучшие качества, не будет перенимать дурное. Дон согласился, что это возможно.
Он регулярно посещал занятия, при этом я старалась всякий раз фиксировать и соотносить с поведением его состояние. Через три месяца Дону удалось хорошо зарекомендовать себя на работе. Надзор был с него снят, и Дон был горд этим. Он с радостью рассказал мне, что ему уже удалось один раз избежать неприятностей. Я попросила его изобразить это на рисунке (рис. 5.11). Он с готовностью откликнулся на мою просьбу, и мне показалось, что во время рисования он укрепил в себе веру в то, что может изменить свое поведение и не идти по стопам отца.
Кэрол: кризис доверия
Кэрол — миловидная 43-летняя женщина, уличенная за последние годы в нескольких правонарушениях. Последний раз она совершила кражу, которую впоследствии отрицала. Ее также обвинили в выносе продуктов
|
|
из магазина — она пыталась убежать, когда у нее потребовали показать сумку на выходе. Кэрол была признана виновной и приговорена к двум годам «условного» наказания: за ней был назначен надзор. Она стыдилась своих поступков, говорила о них крайне неохотно, связывала их с плохим влиянием других людей.
Мы использовали рисование,
чтобы разобраться в поступках Кэ-
рол. Следует сказать, что эта жен-
щина неоднократно порывалась уй-
Рис. 5.12. «Прикованная» ти с работы, за которую платили
крайне мало, однако, находя новое место, не могла решиться оставить прежнее. Рис. 5.12 свидетельствует о ее состоянии — Кэрол ощущает себя словно прикованной к инвалидной коляске и зовет на помощь. Когда я спросила, что ее там удерживает, она ответила: «Мигрень», — и проиллюстрировала сказанное, изобразив «кромешную тьму с лучами прожектора». Я спросила, где ей хотелось бы оказаться, если бы она могла покинуть инвалидную коляску. В ответ она нарисовала деньги, дом, счастливый отдых и себя, летящую в самолете. После я поинтересовалась, что ее не пускает туда. Кэрол изобразила свою семью: каждый сидит в своем углу, друг с другом никто не общается. Затем она нарисовала семью, которой хотела бы подражать: люди тесно общаются и занимаются разнообразными делами. Наконец я попросила ее нарисовать семью, в которой она выросла (рис. 5.13), на что Кэрол изобразила свою мать (сидящая слева глухая женщина), отца (стремящегося обеспечить семью, но не проявляющего к жене и детям
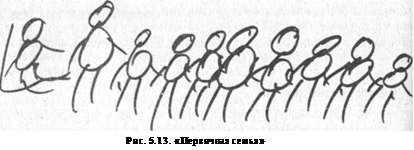 |
никакого тепла) и многочисленных детей. Кэрол была младшей среди восьми братьев и сестер. Нарисовав себя крайней слева, она тем самым показала, насколько она удалена от родителей.
Работая над этим рисунком, Кэрол поняла, что главным препятствием для более счастливой жизни является она сама, ее постоянное чувство собственной неполноценности. Тогда мы попытались разобраться в причинах этого чувства'
Вскоре Кэрол удалось поступить на новую работу, которая ей понравилась. Женщина почувствовала себя более удовлетворенной, мигрень стала меньше ее беспокоить. В течение последних нескольких месяцев нашей совместной работы Кэрол создала более двадцати рисунков. Вновь анализируя их незадолго до снятия надзора, она увидела всю свою жизнь «словно на ладони». В них оказалось как плохое, так и хорошее, и Кэрол, начиная осознавать, что в какой-то мере является хозяйкой собственной судьбы, была способна принять и то и другое.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я попыталась показать, каким образом можно пользоваться методикой «рассказа в картинках» для изображения обстоятельств правонарушения, которое многим представляется лишь «свершившимся фактом». После создания серии рисунков клиент готов проанализировать правонарушение, воспринимая себя глазами другого человека. Благодаря этому он оказывается в состоянии осознать возможность изменений собственной жизни и постепенно перейти к реализации этой возможности, все больше укрепляя в себе веру в свои силы и способность противостоять соблазну повторного преступления. Такая работа с осужденными требует достаточно длительного времени, но использование техники «рассказа в картинках» дает возможность уже на первых сессиях выявить наиболее значимые проблемы.
Техника «рассказа в картинках» позволяет изучить взгляд правонарушителей на свои преступления, что далеко не всегда бывает возможно с помощью вербального контакта. В результате я смогла занять более реалистическую позицию в подходе к моим клиентам и увидеть многообразие причин, лежащих в основе преступлений.
Создавая рисунки, оступившиеся люди нередко помещают себя в центр событий и благодаря этому осознают, что являются главными-действующими лицами, а не жертвами обстоятельств. Они начинают ощущать свою ответственность за происходящее — и за совершенное преступление, и за перспективы дальнейшей жизни.
її*
АРТ-ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ОСУЖДЕННЫМИ
Колин Тисдейл
Печатается по изданию: Teasdale С. Art Therapy as a Shared Forensic Investigation // Inscape. Vol. 2. №2. 1997. P. 32-40.
Сведения об авторе. Колин Тисдейл — секретарь консультативной группы по применению арт-терапевтических методов в работе с заключенными, лауреат премии за внедрение арт-терапии в деятельность исправительных учреждений, в настоящее время на базе клиники Грендон завершает работу над проектом по использованию групповой аналитической арт-терапии.
Статья рассматривает использование арт-терапии в качестве особого фактора лечебного воздействия на осужденных, страдающих расстройствами личности. Автор дает определение арт-терапии как процесса, требующего четко оговоренных исходных правил работы, заранее установленной взаимной готовности сторон к ее проведению, а также хорошо осознаваемых ролей всех участвующих лиц и регулярных текущих оценок их состояния. Обсуждаемые положения иллюстрируются клиническим описанием.
До недавнего времени число публикаций, посвященных арт-терапевтической работе с осужденными, было крайне ограничено (Carrell С, LaingJ., 1982; Laing J., 1984; Liebmann M., 1994). Эти статьи отразили стремление арт-терапевтов внедрить свой метод в качестве одного из элементов работы с осужденными и подняли вопросы, касающиеся эффективности арт-терапии в отношении мужчин и женщин, находящихся в условиях особых режимных учреждений. В публикациях последнего времени обсуждались оптимальные формы построения арт-терапевтических сессий и темы, возникающие в процессе работы с осужденными (Karban В., 1994; Innes R., 1996). В печатных выступлениях по поводу своей работы с осужденными арт-терапевты стремились избегать криминальных подробностей, касающихся личностей их клиентов, поскольку последние отличаются особой чувствительностью к любым моментам, связанным с их социальным унижением, — многие из них сами являлись жертвами насилия на различных этапах жизни. Последующая психологическая депривация оказывала, как правило, глубокое воздействие на формирование их личности (Cavadino Р., 1996). Нежелание арт-терапевтов раскрывать психологические и криминальные факторы очевидно и при рассмотрении изобразительного творчества в качестве педагогического и рекреационного подхода к осужденным. Эти факторы лишь подразумеваются, но не обсуждаются подробно. Хотя ценность изобразительного творчества в работе с осужденными доказана (Peaker A., Vincent J., 1990), остается неясным, насколько оно может понижать или, наоборот, повышать риск рецидивов. Наше желание избегать в публичных высказываниях деталей преступления обусловливается установкой на сокрытие психологических и криминальных обстоятельств, но понижает уровень профессионального обсуждения. Такая позиция арт-терапевтов, по-видимому, может поддерживать и «раннюю амбивалентность», и характерную для клиентов данной группы «сниженную способность к эмпатии» (Fonagy P., Target М., 1996, р. 126), обусловливающую их стремление к внутреннему отделению себя от преступления и его последствий и нежеланию соотносить его со своим прошлым, настоящим и будущим опытом. Наконец, оглашение обстоятельств преступления без особого на то разрешения является нарушением закона. Правовой аспект, несомненно, ограничивает наши возможности в освещении материалов, связанных с преступлением.
Существуют, однако, некоторые исключения из этих правил: детальное обсуждение британскими арт-терапевтами психотерапевтического процесса и анализ психологических причинно-следственных факторов (Aulich L., 1994). Я полагаю, что подобное обсуждение в узком профессиональном кругу чрезвычайно важно, если мы действительно хотим построить эффективную модель работы как с осужденными, признаваемыми психически больными, так и с теми, кто имеет разного рода личностные расстройства, предопределившие правонарушение. В Соединенном Королевстве обе данные категории преступников содержатся в особых учреждениях Национальной системы здравоохранения либо в добровольном порядке, либо по решению суда. В некоторых случаях такие правонарушители оказываются в исправительных учреждениях общего типа либо отбывают условное наказание.
Клинические взгляды на различия между психическим заболеванием и личностным расстройством имеют комплексный характер и постоянно пересматриваются. Психическое заболевание может приводить к психотическим или психопатоподобным изменениям личности, в то время как личностное расстройство имеет менее патологизированную природу. Личностное расстройство без каких-либо попыток его лечения или коррекции может обусловить психическое заболевание. Третье издание Диагностического и Статистического Руководства по Психическим Заболеваниям (DSM III-R, 1987) делит личностные расстройства на три основные группы:
• эксцентрический кластер (параноидная, шизоидная, шизотипи-ческаяличность),
• драматический кластер (нарциссическая, пограничная, истерическая, антисоциальная личность),
• тревожный кластер (обсессивная, компульсивная, зависимая, пассивно-агрессивная, избегающая, садистская и самообвиняющая личность).
Четвертое издание (DSM-1V, 1994) предлагает уже иную классификацию:
• кластер А (параноидные личностные расстройства),
• кластер В (антисоциальные личностные расстройства),
• кластер С (избегающие личностные расстройства).
Взгляды на методы лечения правонарушителей, страдающих психическими заболеваниями или личностными расстройствами, также отличаются большим разнообразием. В предисловии к книге «Психотические и антисоциальные личностные расстройства» (Dolan В., Coid С, 1993, p. IX.) Д. Рид отмечает, что «проблемы, создаваемые в обществе людьми с этими расстройствами, осложняются отсутствием единства в представлениях о природе и этиологии заболеваний и разными взглядами на подходы к их эффективному лечению и коррекции». Д. Рид руководил созданием Обзора Медицинских и Социальных Служб по психически больным правонарушителям (1992). Б. Долан и С. Койд (Dolan В., Coid С, 1993) рассматривали преимущества и недостатки различных подходов: фармакологических и физических методов, психотерапии, когнитивных, поведенческих методов, использования психотерапевтического сообщества, стационирования и амбулаторной супервизии. Б. Долан являлся редактором отчетов (1980-1995) клиники Хендерсона (Лондон, Южный округ), в которой для лиц с психическими расстройствами действует психотерапевтическое сообщество, где арт-терапевтический подход применяется в качестве одного из методов (Mahoney J., 1992). Касаясь работы в тюрьмах, Е. Куллен, Л. Джонс и Р. Вудворд (Therapeutic Communities for Offenders, 1997) предлагали использовать психотерапевтическое сообщество, состоящее из правонарушителей с личностными расстройствами. По их мнению, этиология этих расстройств имеет преимущественно «социальный» характер. Данные обзора представляются вполне соотносимыми с результатами моей собственной арт-терапевтической работы с осужденными.
Психологическая и клиническая оценка правонарушителей имеет чрезвычайно большое значение (Teasdale С, 1997). На мой взгляд, арт-терапия должна разрабатывать разные методы работы с ними, адекватные их индивидуальным потребностям и клиническим особенностям. Эти методы могут включать: выступающие в качестве элементов в комплексе поведенческих программ, тематически ориентированные или фокусированные на решении определенных задач сессии, студийную работу под наблюдением арт-терапевта, а также кратко- и долгосрочную групповую или индивидуальную арт-терапию.
МОЖЕТ ЛИ АРТ-ТЕРАПИЯ «ЛЕЧИТЬ» ПРЕСТУПЛЕНИЕ?
Определенным образом сложившиеся условия ведут к появлению у человека мотивации к совершению преступления. Действия правонарушителя могут быть импульсивными либо заранее обдуманными. Психотерапевтическая работа с ним имеет своей целью помощь в осознании предпосылок преступления, собственных действий и их последствий (CordessC, Hyatt Williams А., 1996). Полагаю, этим же занимается и арт-терапия.
Психотерапевтическая работа с правонарушителем должна мотивировать его к изменениям в личностных установках. А. Гилрой (Gilroy А., 1996) подчеркивает возможность получения доказательств применимости арт-терапевтического подхода при уникальном характере любых психотерапевтических отношений (р. 54). Я уверен, что каждому клиенту-осужденному должна быть предоставлена возможность арт-терапевтической работы для того, в частности, чтобы разобраться в причинах своего социально опасного поведения. М. Кокс (Сох М., 1996) считает, что психотерапевтическая работа может дать ценный материал для следствия. Он описывает диалог в ходе психотерапевтической сессии, изобилующий метафорами, и считает, что психотерапевтическая сессия в силах «как скрыть, так и обнажить материал для психоаналитических интерпретаций» (р. 91). Он считает, что метафоры в одних случаях выполняют стабилизирующую функцию в отношении психики клиента, в других — имеют чисто описательный характер. Он говорит о возможности важных психологических открытий посредством аналитического диалога: «Подбираемые слова являются словесной импровизацией, феноменами, внезапно всплывающими на поверхность сознания».
Признание важности разделенной ответственности в психотерапевтических отношениях, а также готовности клиента-правонарушителя участвовать в арт-терапевтической работе очень важны. На начальной стадии необходимо договориться об основаниях психотерапевтического альянса. Условия работы должны быть для клиента понятными и реалистичными (Teasdale С, 1997). Если мы можем установить такой альянс на основе взаимного согласия, мы имеем гораздо более высокие шансы для позитивного научения. Например, в моей работе с мужчинами-правонарушителями, страдающими личностными расстройствами и приговоренными к длительным срокам заключения (Teasdale С, 1995), многие клиенты замечали, что арт-терапия помогает им справиться с гневом. Я часто отвечал им, что арт-терапия не столько помогает «справиться с гневом», сколько создает условия для формирования образов и их обсуждения, посредством которого клиент может прийти к пониманию того, почему он испытывает гнев. Моя цель — побудить клиентов учиться посредством того опыта, который ранее не был ими осознан. Задача арт-терапевтической работы — «вскрыть» логику и доводы тех или иных ранее неосознанных поступков. Чем лучше клиент-правонарушитель станет понятным для себя самого, чем лучше поймет эффекты собственной личности на окружающих, тем более он будет способен к осознанию своего возможного социально опасного поведения.
Во время вводных бесед с персоналом и клиентами клиники Грендон я даю определение арт-терапии как средства, чем-то напоминающего ведение дневника в рисунках, нередко имеющих символический или метафорический характер. Я поясняю, что арт-терапия, в отличие от психотерапевтической работы с правонарушителями, предоставляет уникальную возможность для создания «документов», помогающих в последующем обсуждении. Я, однако, добавляю, что арт-терапия не обладает магической способностью «разрушать поведенческие и ментальные паттерны» (Welldon Е., 1996, р. 63), обусловливающие преступление. Арт-терапевт выступает в качестве одного из участников общей поведенческой программы, которая направлена на изменение установок правонарушителей. С. Кордесс (Cordess С, 1996) обращает внимание на данное обстоятельство, связывая его с «дистрибутивным переносом», и поясняет, каким образом оно позволяет «разделить груз переноса и тем самым помогает коллективу специалистов лучше оказывать помощь пациентам» (р. 97). Арт-терапевт создает общие условия для обоюдной рефлексивной фокусировки, помогающей клиенту-правонарушителю визуально объединить различные аспекты своего опыта. По моему мнению, именно такое объединение способно противостоять возможным социально опасным действиям, не оставляющим камня на камне от жизней правонарушителей и их жертв.
В конце лечения бывает трудно сказать, была ли работа с правонарушителем успешной, привела ли она к снижению риска рецидива. Д. Кемп-белл (Campbell D., 1996) считает, что устойчивая тенденция к совершению правонарушения «может быть обусловлена "эротической склонностью" к антисоциальному поведению» (р. 224). Любое вмешательство в личность правонарушителя — посредством психотерапии или иным образом — сопряжено с риском провокации патологических ментальных паттернов. Однако еще более опасно оставлять правонарушителя наедине с его травмированными чувствами и опытом без каких-либо попыток разобраться в них.
АРТ-ТЕРАПИЯ В КАЧЕСТВЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ (КЛИНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ)
Я бы хотел теперь продолжить обсуждение данной темы на примере работы с одним из молодых заключенных по имени Бен. Аналитическая арт-терапевтическая группа, посещать которую было ему предложено, занималась один раз в неделю по два часа в условиях психотерапевтического сообщества клиники Грендон. Эта групповая работа являлась частью психотерапевтической программы и предоставляла дополнительные возможности для рефлексии. Темы занятий выкристаллизовывались в групповом обсуждении. Создаваемые каждую неделю рисунки становились предметом-дальнейшего группового разбора, а их ключевые темы, кроме того, регулярно выносились на обсуждение собраний членов психотерапевтического сообщества и клинические конференции. Каждая психотерапевтическая группа в клинике Грендон состоит не более чем из шести человек. Эта клиника является единственным в Соединенном Королевстве учреждением особо строгого режима категории В, предназначенным для лечения приговоренных к длительным срокам заключения правонарушителей, страдающих личностными расстройствами (Genders Е., Player Е., 1995). Моей задачей в начале работы была фокусировка на каждом клиенте и особенностях его изобразительной продукции, иногда, быть может, в ущерб анализу групповой динамики, хотя обе эти стороны групповой работы принимались во внимание в той или иной мере. В своей предыдущей публикации я подчеркивал интерактивный характер арт-терапевтической работы, являющейся составной частью жизни пяти психотерапевтических сообществ клиники Грендон (Teas-dale С, 1997).
Бена включили в психотерапевтическое сообщество, когда ему было около двадцати пяти лет. Он был осужден за убийство сорокалетнего мужчины-гомосексуалиста, с которым пытался вступить в случайный половой контакт. После вынесения приговора Бен был помещен в Институт молодых правонарушителей. Перевод из института был связан с введением «Закона о безопасном содержании молодых лиц, совершивших особо тяжкие преступления». Бена направили в тюрьму с особо строгим режимом (категории А), в которой он находился семь лет до момента его добровольного перевода в клинику Грендон. В момент совершения преступления Бен был еще подростком. Он сам вызвал полицию вскоре после убийства и был арестован на месте преступления. В заключении психиатра, приобщенном к материалам следствия, отмечалось, что «Бен является особо опасным молодым человеком, а его эмоциональная незрелость и очень живое воображение с чертами диссоциативности будут препятствовать психокоррекционной работе». Психиатр считал, что для Бена, не страдающего психическим заболеванием, характерны внезапные смены настроения, которые являются признаком истерического личностного расстройства. Несмотря на данную оценку, психиатр отмечал, что «с течением времени Бен будет более готов к лечению». «После вынесения приговора к нему в тюрьме могут быть применены методы психиатрического лечения».
Когда Бен поступил в клинику Грендон, он производил на персонал и других заключенных благоприятное впечатление, казался им мягким, застенчивым молодым человеком. В течение нескольких первых месяцев он испытывал явные затруднения при попытках обсуждения обстоятельств жизни и преступления. Бен имел интеллект выше среднего (прогрессивные матрицы Равена), характеризовался «тонкостью мышления и эмоциональной мягкостью, высокой тревожностью при высокой интровер-тированности, асоциальности и изолированности от окружающих» (личностный опросник Айзенка). Психологические тесты показывали, что для Бена характерны «высокая самокритичность со средним чувством вины, некритичность к окружающим и низкий уровень импульсивности, а также враждебность по отношению к себе самому» (опросник враждебности). Бен характеризовался как «личность, не способная контролировать свою жизнь» (тест на определение внешнего или внутреннего локу-са контроля).
Через шесть месяцев пребывания в психотерапевтическом сообществе клиники Грендон Бен захотел включиться в работу арт-терапевтической группы. Во время интервью с арт-терапевтом он заявил, что его желание связано со стремлением «разобраться в своих мыслях». Он отметил, что имеет опасную склонность фантазировать и рисовать в своем воображении сцены аморального характера. Бен надеялся, что занятия рисованием помогут ему зафиксировать содержание его мыслей для того, чтобы лучше понять себя. Он сказал, что, будучи ребенком, любил рисовать. Это было нехарактерно для пациентов клиники Грендон, большинство из которых не имело положительных воспоминаний о какой-либо форме творческой деятельности в прошлом. Бен был включен в арт-терапевтическую группу и посетил 44 занятия. Он не пропустил ни одного из них и за все время выполнил 33 рисунка.
На своем первом рисунке (рис. 5.14) он представился человеком, стремящимся попасть в тюрьму. Он пояснил, что нуждался в изоляции в каком-нибудь надежном месте, поскольку ощущал себя бессильным противостоять жизненным невзгодам, которые сделали его столь опасным для окружающих. В этих условиях он хотел воздвигнуть вокруг себя воображаемую «каменную стену», чтобы защититься от жизни. Он также рассказал, что всегда ощущал себя жертвой насмешек и, став подростком, воспринимал жизнь как издевку над собой. Посмотрев на рисунок, он заявил, что еще в подростковом возрасте создал в своем воображении образ персонажа, напоминающего Фрэнки — главного героя-транссексуала из «Ужаса скалистых гор». По его мнению, стремление отождествить себя с Фрэнки является своеобразным и искаженным способом оправдать свою потребность в гомосексуальных связях в родном городе.
 |
Он признался, что впервые осознал свои гомосексуальные предпочтения в возрасте двенадцати лет и с тех пор, вплоть до заключения в тюрьму, удовлетворял свою половую потребность, вступая в случайные половые связи с мужчинами старше себя по возрасту. Еще во время следствия он признался, что в раннем детстве был изнасилован дядей, которого считал
своим опекуном. Дядя покончил жизнь самоубийством, когда Бену было чуть больше десяти лет.
На одной из последующих арт-терапевтических сессий Бен заметил, что он, как и «бешеный» персонаж в левой части его первого рисунка, стал Фрэнки для того, чтобы оправдать или скрыть свое слабое «Я», — тем самым Бен продемонстрировал характерное для него личностное расщепление, определяющее его жизненную позицию. События жизни и содержания его фантазий не отделялись им друг от друга, что было необходимо ему для того, чтобы, пребывая в иллюзиях, избежать краха своих ожиданий от жизни. Характерное для Бена ролевое расщепление просматривается также в другом персонаже первого рисунка — тюремном офицере, обвинителе и контролере его поведения. Бен сказал, что офицер ассоциируется у него с фигурой «папаши» — мужчины-гомосексуалиста, удовлетворяющего его аутоэротические потребности. Изображенная вокруг трех центральных персонажей смеющаяся толпа связывалась им с воспоминаниями о насмешках, предметом которых он часто становился в школе. Он был одиноким ребенком смешанной расы, живущим в квартале, населенном белыми, националистически настроенными представителями бедных слоев населения; в этой среде проявления расизма были частым явлением. На одном из своих следующих рисунков Бен проиллюстрировал свое стремление избежать расистских выпадов, скрыв цвет собственной кожи на фоне стены того же цвета. Его отец, как и Бен, был смешанной расы, он расстался с матерью Бена, когда мальчику было два года. Бен не имел никакого понятия о культурной идентичности своего отца. Чувства растерянности и неопределенности, вызванные неясностью того, кто он такой в культурном и расовом отношении, то и дело проявлялись в его рисунках и в процессе их обсуждения.
На последующих рисунках Бену удалось передать воспоминания о матери с ее склонностью бравировать перед ним своей сексуальностью. Он изобразил свои связи с матерью в фантазиях и реальной жизни, где подменил собою ее партнера и возбужденного наблюдателя за тем, как мать красилась, а потом надевала на себя вызывающий наряд. Бен изобразил, как он всегда сидел неподвижно рядом с ее зеркалом на протяжении этого ритуала «соблазнения» (рис. 5.15). Он рассказал, что мать, отправляясь в ночной клуб, часто оставляла его с бабушкой, к которой он не испытывал привязанности. Таким образом, мать являлась для Бена той ролевой моделью, которая ассоциировалась с весьма рискованной социальной жизнью. Социальный риск был связан и для нее, и для него 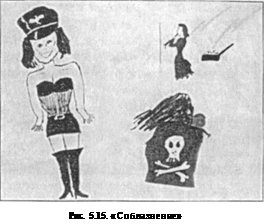
с чьим-то вожделением, направленным на них и в какой-то мере компенсирующим их чувство социальной изоляции.
Меня поразило то, что Бен сохранил в воспоминаниях именно эту"аф-фектацию, связанную с матерью, совсем не осознавая того пренебрежения им, которое проявлялось в постоянном и мучительном «соблазнении», за которым следовал уход на поиски ночных приключений. В то время мать, по-видимому, могла не контролировать и не понимать эффекта, который производило на Бена ее поведение.
В процессе групповой арт-терапии, на этапе установления психотерапевтического альянса я предпочел не обсуждать глубоко этот момент и лишь обратил на него внимание Бена.
|
|
На шестом занятии Бен создал рисунок, отражающий его «страх сойти с ума» (рис. 5.16). Он пояснил, что изображение освещенного солнцем пейзажа связано с его попыткой найти ответы на трудноразрешимые вопросы. Под поверхностью земли изображены четыре разные формы «безумия», которые он стремится удержать и не пустить на поверхность. Во время обсуждения я пришел к выводу, что изображенные под землей части его «Я» являются: один — больным плодом в утробе матери, другой — ребенком, нуждающимся во внимании,утешении и играх, третий — скептиком, смеющимся над другими, подобно окружающим, смеющимся над Беном, а четвертый —
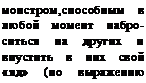
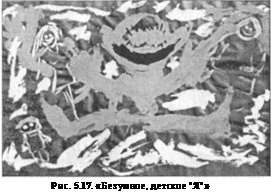
На последующих рисунках Бен вновь попытался изобразить этих четырех персонажей, выступающих в роли «изменчивых метафор» (СохМ., 1996). Образы
передают ощущаемую
им боль и деформированность внутреннего мира. Он нарисовал то, что назвал своим «безумным, детским "Я"» (рис. 5.17), используя красный, «обнаженный» цвет, окруженный желтым цветом желчи. За спиной занявшего весь лист и исступленно кричащего младенца изображены мелкие фигурки матери, бабушки и его самого. Они находятся на черном фоне, «прозрачны» и отделены друг от друга. Бен пояснил, что сам себе напоминает змею, выплевывающую яд и украшенную декоративной шкурой, которую она, подобно изменчивому Фрэнки, способна время от времени сбрасывать.
Позднее Бен пытался вновь передать в рисунках свои чувства, связанные со взаимоотношениями с матерью и отсутствующим отцом. По его собственному заключению, он, возможно, впервые и с определенной помощью окружающих начал понимать, насколько беззащитным он был как ребенок, и что манящий, мучительный «соблазн» в лице матери скорее маскировал, чем снимал испытываемое им дома и в школе чувство изолированности. Он изобразил свою мать, которая звала его к себе, в длинном платье и накидке темно-синего цвета (рис. 5.18). Бен сказал, что мать ассоциируется у него с фантастической фигурой женщины-вампира, с разнузданной спутницей байкеров — оба персонажа так или иначе связаны с игрой жизни и смерти. Он заявил, что, как жалкий птенец, беззащитный и пока безобидный, сдерживающий свою внутреннюю боль и слезы, испытывал себя во время уходов матери. В левом нижнем углу рисунка, на котором изображена мать в синем платье, Бен поместил себя в виде маленькой фигурки в маске, держащей нож. В этих своих детских чувствах он признал семена будущего преступления.
После Бен отважился на изображение и более откровенные обсуждения обстоятельств самого преступления. Он нарисовал, как, скрываясь
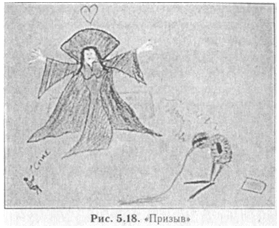 |
под маской,отправляется на поиски «папаши». При групповом обсуждении он рассказал о нескольких случаях своей половой близости с мужчинами-гомосексуалистами, об испытанных им при этом ощущениях большого физического и эмоционального риска и собственной неинтересное™ и малопривлекательное™ как личности.
Он создал серию «рассказов в картинках», которая помогла ему поведать об обстоятельствах встречи с будущей жертвой в одном из местных баров. После приема нескольких доз спиртного мужчина пригласил Бена к себе домой. Потребность в половой близости осталась неудовлетворенной, поскольку мужчина был сильно пьян и почувствовал себя очень плохо. Оба они легли голые в постель и вскоре заснули. Утром Бен проснулся и обнаружил, что его «папаша» лежит, весь измазанный в собственной блевотине, а к запаху рвотных масс примешивается мощная струя пота и алкогольного перегара. На следующем рисунке Бен отразил свои воспоминания, связанные с тем моментом, когда он нашел на кухне нож и вонзил его в свою жертву четырнадцать раз. Когда прибыла полиция, он заявил, что преступление совершил «мстительный Фрэнки», но его — Бена — нужно засадить в тюрьму на всю оставшуюся жизнь за то, что совершил Фрэнки.
В контексте данной статьи следует подчеркнуть, что откровения Бена происходили в условиях специальной психотерапевтической программы, в которой обратная связь между всеми членами психотерапевтического сообщества была необходимым требованием. Бен получил похвалу со стороны персонала и других пациентов за высокую степень откровенности, которую он продемонстрировал в процессе арт-терапевтической работы и участия в малой группе и психодраматических занятиях. Подобный «дистрибутивный перенос» (Cordess С, 1996) являлся важным условием, необходимым для работы с очень сложными переживаниями, проявляющимися у разных участников группы. Бен без излишних деклараций гордо демонстрировал то, что он гей, и сохранял при этом воздержание.
Подобная стратегия, очевидно, снижала угрозу виктимизации в условиях замкнутого мужского сообщества, где уровень сексуального напряжения весьма высок.
После пятнадцати арт-терапевтических занятий Бен решил проанализировать влияние родителей. Он выразил чувства, вызванные отсутствием отца, изобразив себя смотрящимся в зеркало в надежде увидеть там родительскую фигуру, но его отец отвернулся от него (рис. 5.19). При создании этого рисунка Бен впервые заметил определенное сходство между отцом и своей жертвой. У него был очень непродолжительный контакт с отцом после того, как родители развелись. Он помнил его молчаливо сидящим в противоположном конце гостиной. На следующем
|
|
рисунке (рис. 5.20) Бен изобразил себя раболепно ласкающим одного из мужчин (написав на рисунке: «Во имя папаши») для того, чтобы получить необходимую эмоциональную зависимость от него. Бен попытался осмыслить, как, повинуясь своей потребности в этой зависимости, он подвергал себя и других большому риску и как совершенное им преступление явилось выходом для эмоционального напряжения, которое он держал в себе во избежание болезненного осознания того, что его попросту использовали как доверчивого и беззащитного подростка.
На последующем рисунке Бен попытался вновь обратиться к теме, связанной с изображен
|
|
ными им ранее аспектами своего «Я», которые он всегда старательно скрывал или отрицал в себе (рис. 5.22). Во время обсуждения для того, чтобы дать Бену обратную связь, я прокомментировал персонажей этого рисунка как обнаженного, беззащитного ребенка, жаждущего любви и внимания,голодного, эмоционально ущербного темнокожего подростка, темного монстра, вспыхнувшего огнем, когда с его лица была снята маска Фрэнки, а также как Бена в настоящем, который повзрослел и стал «дипломатом», но все еще преисполнен раболепия и окружен зеленым ореолом зависти. Бен пояснил, что, изображая себя в образе дипломата, он вдруг испытал неприятное чувство, вызванное мыслью об одиночестве и эмоциональном отчуждении «дипломата», находящегося на службе. Участники группы заметили, что зеленый ореол кажется им уже не столь ограничивающим Бена, как изображенная на первом рисунке кирпичная стена.
Свои последние рисунки Бен посвятил изображению различных влияний раннего детства на свою личность, включая и начальную школу, когда он почти не имел друзей, за исключением одной девочки, с которой дружил в течение нескольких лет. Он поделился воспоминаниями о встречах со школьным психологом — тогда его признали проблемным ребенком. Однако во время этих встреч он всячески старался скрыть свои проблемы. Позднее, в конце арт-терапевтической работы, Бен согласился, что четыре странных персонажа на его рисунке отражают разные проявления его собственного характера и не являются какими-то чуждыми элементами (рис. 5.23).
|
|
В отчете о посещении арт-терапевтической группы Бен написал, что арт-терапия предоставила ему «возможность обратиться к тем вопросам, которые могли казаться либо тривиальными, либо слишком пугающими, чтобы сделаться предметом обсуждения». Он признал, что считает «наиболее продуктивными для себя попытки изображения содержания своих фантазий». «Затем они — фантазии — были подвергнуты обсуждению, что помогло понять, чем они являются на самом деле, чему они служили, какое отношение к обстоятельствам жизни имеют. Арт-терапия научила активнее использовать фантазию, формулировать мысли, осознать те ограничения, которые накладывает реальность с ее социальными законами, а также реализовать творческие потребности. Она помогла выразить те чувства, которые представлялись либо абсурдными, либо давно утратившими свою значимость и силу, и увидеть в них определенный смысл, а также обратиться к своему прошлому и многое осознать в нем». Он продолжал: «Я обратился также к своим фантазиям, своей матери и отцу, совершенному преступлению, сексуальным интересам и смог в какой-то мере понять, какую связь друг с другом все они имеют».
«Я ощущаю себя внутренне более свободно. Я стал более терпимым к самому себе и способным помочь себе во имя своего будущего. Несомненно, образы дали мне возможность быть услышанным».
На протяжении и после завершения арт-терапевтической работы Бен оставался достаточно активным и ответственным членом сообщества. Когда он посещал арт-терапевтическую группу, его даже выбрали на три месяца председателем совета сообщества. Затем он был переведен в тюрьму с менее строгим режимом. Незадолго до его отбытия я обратился к нему с просьбой дать согласие на публикацию материалов о его участии в арт-терапевтической работе, и мы обсудили цели и содержание готовящейся статьи. Он выразил мнение, что наши отношения позволили ему обрести нового «проводника», поскольку я уважал его чувства й взгляды и не пытался ни соблазнить его, ни воспользоваться им в своих интересах, ни проигнорировать его личность. Он признался, что в условиях групповой работы мог соотнести свои оценки со взглядами других. Он в какой-то мере попытался реализовать себя в отцовской роли, помогая другим заключенным в процессе групповой арт-терапии и в то же время чутко прислушиваясь к их оценкам его работ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная статья была посвящена обсуждению некоторых достоинств арт-терапевтических методов в работе с заключенными. Я стремился показать, что комплексный характер анализа обстоятельств жизни заключенного, системы его отношений, его эмоциональных проявлений, а также самого преступления чрезвычайно важен для успеха арт-терапевтической работы. Подобный аналитический подход, по-видимому, может быть применим не ко всем правонарушителям, а в большей степени к заключенным с личностными расстройствами. В работе же с заключенными, страдающими психическими заболеваниями, целесообразно использовать несколько иные арт-терапевтические стратегии.
Эффекты, оказываемые подобной арт-терапевтической работой на состояние и личность заключенного, должны регулярно оцениваться. Многие заключенные уклоняются от обсуждения обстоятельств преступления и всех предшествовавших аресту событий. В этих случаях психотерапевтические методы нередко позволяют преодолеть подобную позицию.
Хотя персонал исправительных учреждений способен адаптироваться к особым условиям работы с заключенными, она так или иначе накладывает на них свой отпечаток (West А., 1996), который, к сожалению, не всегда осознается. Это делает арт-терапевтическую работу с заключенными особо напряженной и обусловливает необходимость регулярной оценки состояния самого арт-терапевта (Teasdale С, 1995).
Целью предложенного описания была иллюстрация того, как создание серии рисунков помогло Бену прийти к пониманию обстоятельств своей жизни и предпосылок совершенного преступления. Арт-терапевтическая работа проводилась спустя несколько лет после его пребывания в исправительном учреждении. Хотя материал, проявившийся в рисунках, так или иначе фигурировал в данных следствия, он часто включал в себя гораздо больше деталей глубоко личного характера. Бен был способен к обсуждению всего этого материала в условиях психотерапевтической группы, благодаря которой ему удалось прояснить целый ряд важных обстоятельств своей жизни, игнорировавшихся им в течение длительного времени после ареста.
Далеко не все заключенные могут стать столь откровенными, как Бен, а это очень важно для достижения психотерапевтического эффекта. Немало тех, кто, вероятно, будет уклоняться от подобной работы. Поэтому исходная оценка состояния заключенного и его динамики крайне необходима как в его собственных интересах, так и в интересах окружающих.
ЛИТЕРАТУРА
American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders (DSM-IIIR). Third Edition Revised. Washington: A.P.A., 1987.
American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-4). Fourth Edition. Washington: A.P.A., 1994.
Art Therapy with Offenders / Liebmann M. (ed.). London: Jessica Kingsley Publishers, 1994.
Arts Approaches to Conflict / Liebmann M. (ed.). London: Jessica Kingsley Publishers, 1996.
Aulich L. Fear & Loathing: Art Therapy, Sex Offenders and Gender. Art Therapy with Offenders / Liebmann M. (ed.), London: Jessica Kingsley Publishers, 1994, pp. 165-196.
Cain Т., Foulds G., Hope K. The Hostility — Direction of Hostility Questionnaire. Sevenoaks: Hodder & Stoughton, 1976.
Campbell D. From Practice to Psychodynamic Theories of Delinquency in Adolescence / / Forensic Psychotherapy: Crime, Psychodynamics and the Offender Patient / Cordess С, Cox M. (eds.). Vol. One: Mainly Theory. London: Jessica Kingsley Publishers, 1996. P. 213-226.
Carrell C, Laing J. The Special Unit, Barlinnie Prison: Its Evolution through its Art. Glasgow: Third Eye Centre, 1982.
Cavadino P. Families and Crime. London: National Association for the Care and Resettlement of Offenders, 1996.
Cordess С. Introduction: The Multudisciplinary Team / / Forensic Psychotherapy: Crime, Psychodymanics and the Offender Patient / Cordess С, Cox M. (eds.). Vol. Two: Mainly Practice. London: Jessica Kingsley Publishers, 1996. P. 97-99.
Cordess C, Hyatt Williams A. The Criminal Act and Acting Out / / Forensic Psychotherapy: Crime, Psychodynamics and the Offender Patient / Cordess C, Cox M. (eds.). Vol. One: Mainly Theory. London: Jessica Kingsley Publishers, 1996. P. 13-22.
Cox M. Supportive and Interpretative Psychotherapy in Diverse Contexts. Forensic Psychotherapy: Crime, Psychodymanics and the Offender Patient. Cordess С, Cox M. (eds.). Vol. Two: Mainly Practice. London: Jessica Kingsley Publishers, 1996. P. 83-93.
Dolan В., Coid C. Psychopathic and Antisocial Personality Disorders — Treatment and Research Issues. London: Gaskell Imprints, Royal College of Psychiatrists, 1993.
Eysenck H., Eysenck S. Manual of the Eysenck Personality Questionnaire — Revised. London: Hodder & Stoughton, 1991.
Fonagy P., Target M. Personality and Sexual Development, Psychopathology and Offending / / Forensic Psychotherapy: Crime, Psychodynamics and the Offender Patient / Cordess С, Cox M. (eds.). Vol. One: Mainly Theory. London: Jessica Kingsley Publishers, 1996. P. 107-116.
Genders E., Player E. Grendon, A Study of a Therapeutic Prison. Oxford: Cla-vendon Press, 1995.
Gilroy A. Our Own Kind of Evidence // Inscape. Vol. 1. № 2. 1996. P. 52-60.
Guidelines for Arts Therapists Working in Prisons, Home Office / Teasdale C. (ed.): HM Prison Service for England & Wales, 1997. Copies available from: 'Arts Therapies Guidelines', Education Service, HM Prison Service, Room 403, Advance House, 15 Wellesley Road, Croydon CRO 2AG.
Innes R. An Art Therapists 'Inside View' / / Forensic Psychotherapy: Crime, Psychodymanics and the Offender Patient / Cordess С, Cox M. (eds.). Vol. Two: Mainly Practice. London: Jessica Kingsley Publishers, 1996. P. 547-553.
Karban B. Working as an Art Therapist in a Regional Secure Unit Art Therapy with Offenders / Liebmann M. (ed.). London: Jessica Kingsley Publishers, 1994. P. 135-164.
Laing J. Art Therapy in Prisons / / Art as Therapy / Dalley T. (ed.). London: Tavistock Publications, 1984. P. 140-151.
Mahoney J. The Organisational Context of Art Therapy / / Art Therapy: A Handbook / Waller D., Gilroy A. (eds.). Buckingham: Open University Press, 1992. P. 49-70.
Peaker A., Vincent J. Arts in Prisons: Towards a Sense of Achievement: Home Office Research & Planning Unit & the Arts Council, December 1990.
Perspectives on Henderson Hospital / Dolan B. (ed.). Sutton, Surrey: Henderson Hospital, 1996.
Phares E. Rotters Internal — External Locus of Control in Personality. Morrison, New Jersey: General Learning Press, 1976.
Ravens J. Ravens Standard Progressive Matrices. Cambridge & London: University Printing House & H. K. Lewis, 1958.
Reed J. (Chairman). Review of Health & Social Services for Mentally Disordered Offenders and others requiring similar services. London: Department of Health / Home Office, final and advisory group reports, 1992.
Teasdale C. Art Therapy as a Part of a Group Therapy Programme for Personality Disordered Offenders // Therapeutic Communities Journal. Vol. 18. № 3. Autumn 1997. P. 209-222.
Teasdale C. Creating Change: Art Therapy as Part of a Treatment Service to Counter Criminality / / Prison Service Journal: HM Prison Service for England & Wales. № 99. 1995. P. 6-12.
Teasdale C. Reforming Zeal or Fatal Attraction: Why should art therapists work with violent offenders? / / Inscape. Winter 1995. P. 2-9.
Therapeutic Communities for Offenders / Cullen E., Jones L., Woodward R. (eds.). Chichester: John Wiley & Sons, 1997.
Welldon E. Group Analytic Psychotherapy in an Outpatient Setting / / Forensic Psychotherapy: Crime, Psychodymanics and the Offender Patient / Cordess C, Cox M. (eds.). Vol. Two: Mainly Practice. London: Jessica Kingsley Publishers, 1996. P. 63-82.
West A. The Risks of Burnout / / Forensic Psychotherapy: Crime, Psychodymanics and the Offender Patient / Cordess С, Cox M. (eds.). Vol. Two: Mainly Practice. London: Jessica Kingsley Publishers, 1996. P. 209-240.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С БЕЗДОМНЫМИ
Клэр Свенсон
Печатается по изданию: Swainson С. Art Therapy and Homeless People / / Art Therapy in Practice / Liebmann M. (ed.). London: Jessica Kingsley Publishers, 1990. P. 156-172.
Сведения об авторе. Клэр Свенсон — выпускница Художественной академии, диплом арт-терапевта получила в Hertfordshere College of Art and Design, одна из пионеров использования арт-терапии в работе с бездомными.
ВСТУПЛЕНИЕ
В настоящей публикации представлен опыт использования арт-терапии в качестве составной части программы по обслуживанию бездомных Бристоля (Великобритания). Статья начинается с общей характеристики проблемы бездомности и краткого описания проекта «Внутренний город». Автор делится опытом ведения арт-терапевтической группы, состоящей из бездомных и ориентирующейся на их потребности. Статья включает в себя описание работы с тремя группами: одна из них занималась в приюте для бездомных мужчин, другая — в приюте для бездомных женщин, а третья — в специализированном арт-терапевтическом кабинете. В конце приводится описание работы двух участников группы, между которыми установились дружеские отношения, отразившиеся в их рисунках.
ПРОБЛЕМА БЕЗДОМНОСТИ
Бездомный — это тот, кто не имеет крыши над головой. В более широком смысле слова бездомность означает отсутствие у человека надежного, постоянного, принадлежащего ему жилища. Такие люди могут жить в ночлежках или приютах, арендовать «койку и завтрак» (bed & breakfast) в частных домах, либо жить в помещениях, не отвечающих установленным стандартам. К категории бездомных относят иммигрантов, людей, временно утративших жилье, а также тех, кто проживает в приютах или ночлежках достаточно продолжительное время. Например, один из моих пациентов прожил в одном и том же приюте пятнадцать лет, не считая коротких отрезков времени, когда он находился либо в больнице, либо снимал «койку и завтрак».
Некоторые становятся бездомными по своей воле. Существует много причин, приводящих к такой жизни, среди них: распад семьи (обусловленный, например, раздорами или утратой кормильца), физическое или психическое заболевание, длительное пребывание в каком-либо учреждении (например, в детском доме, больнице или тюрьме) и другие. Однако помимо них существуют иные — связанные с изменениями в государственной политике, в частности, сокращение ассигнований на выплату пособий. Кроме того, лица моложе восемнадцати лет, ушедшие из дома, не могут рассчитывать на получение финансовой помощи от государства.
Отсутствие жилья — трагедия для любого человека, особенно для женщин. Среди причин, приводящих женщин к бездомности, можно назвать избиения и издевательства со стороны родителей или партнера, инцест, беременность, изнасилование и т. д. Многие бездомные женщины имеют разного рода психические расстройства. Некоторые женщины вынуждены жить в приюте по решению суда.
Исследования показывают, что чем дольше человек остается бездомным, тем труднее ему найти для себя постоянное место жительства. Бездомность усугубляет его житейские проблемы и создает новые. Бездомные лица часто имеют весьма сложную биографию и, сталкиваясь с различными социальными институтами, постепенно опускаются на самое дно жизни. Их проблемы и заболевания чаще всего приобретают затяжной характер.
Бездомных различают по типу имеющихся у них психических или личностных расстройств. Можно выделить пять основных категорий:
1) психозы (острые психотические эпизоды, шизофрения и иные параноидные психозы);
2) поведенческие нарушения (неадекватное или непонятное для окружающих поведение);
3) алкогольная или наркотическая зависимость;
4) органические поражения головного мозга (травма, сосудистая де-менция);
5) познавательные нарушения (нередко отмечаемые при психических заболеваниях);
6) нарушения психики, вызванные бездомностью (Appleton Р., 1989).
СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ БЕЗДОМНОСТИ
Общество относится к бездомным весьма негативно и часто считает их бесполезными и даже вредными своими членами. Бездомные люди подвержены стигматизации, оказывающей дегуманизирующее воздействие. Полное отсутствие перспектив трудоустройства и обретения надежной крыши над головой вызывает чувство беспомощности и сомнения в какой-либо ценности своей личности, приводит к отчаянию, апатии и снижению мотиваций. В более долгосрочном плане можно говорить об утрате способности бездомного человека к продуктивным контактам с окружающими, крайне узком круге близких ему людей и даже его полном одиночестве. Он нередко ощущает себя покинутым и изолированным от общества, даже если находится в приюте рядом с себе подобными. Он переживает неверие в свои силы и собственную неспособность строить отношения с другими.
Те, кто работает с бездомными, достаточно хорошо чувствуют это и испытывают большие трудности, пытаясь хоть как-то изменить настроение своих клиентов. Персонал учреждений, обслуживающих бездомных лиц, нередко остро ощущает свое бессилие, что ведет к большой текучести кадров. Непостоянство состава работников таких учреждений делает еще более проблематичным для бездомных лиц установление устойчивых отношений с окружающими.
Несмотря на очевидную актуальность проблемы бездомности, общество уделяет ей мало внимания. Хотя разнообразные государственные и добровольческие организации заняты решением этой проблемы и их трудно упрекнуть в отсутствии доброй воли, формы работы с бездомными все еще крайне ограничены. В Бристоле, например, существует лишь один специально рассчитанный на бездомных центр дневного пребывания и совсем небольшое количество помещений для их проживания.
ПРОЕКТ ПО ОХРАНЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ БЕЗДОМНЫХ «ВНУТРЕННИЙ ГОРОД»
Этот проект начал действовать с 1987 г. благодаря выделению средств Государственным департаментом здравоохранения и социальной помощи. Деньги предназначались для финансирования работы, которую намеревался проводить местный отдел здравоохранения, не имевший, однако, чна это материальных возможностей. Согласно проекту, первоочередная помощь должна была оказываться бездомным, имеющим хронические, выраженные психические расстройства. Финансирование проекта было рассчитано на три года, после чего местный отдел здравоохранения должен был включить расходы на продолжение работы в свой бюджет.
Особую озабоченность вызывает центральная часть Бристоля. Проведенные исследования и данные клинического анализа свидетельствуют о том, что жители центра города испытывают наибольшее социальное напряжение и имеют самые высокие показатели заболеваемости. В то же время мероприятия по охране психического здоровья жителей центральных районов проводятся на низком уровне.
Проект «Внутренний город» имел следующие основные задачи:
1) общую оценку социальных и психологических потребностей жителей центральных районов;
2) удовлетворение этих потребностей;
3) создание благоприятного микроклимата в коллективах и организациях, занимающихся оказанием помощи жителям центральных районов, а также развертывание новых форм помощи;
4) разработку специальной программы для центральных районов Бристоля (Phillips J., 1988).
Приоритетными в рамках проекта были следующие два направления деятельности:
1) улучшение работы с представителями национальных меньшинств, проводимой в государственных учреждениях здравоохранения;
2) совершенствование услуг, оказываемых бездомным лицам.
Проект предполагал систематическую оценку деятельности персонала, осуществляемую как специальными сотрудниками, так и Государственным департаментом здравоохранения и социальной защиты. К мероприятиям в рамках проекта были привлечены многочисленные консультанты и наблюдатели. Регулярно оценивалось мнение жителей охваченных проектом районов.
Коллектив сотрудников, работающих в рамках проекта, состоял из двенадцати человек. Их задачей было оказание соответствующей помощи людям афро-карибского и азиатского происхождения. Лично я работала с бездомными. Вместе со мной трудились социальные работники и вспомогательный персонал. Я проводила арт-терапевтические занятия с двумя группами, мне помогали добровольцы из числа жителей центральных районов.
В ноябре 1987 г. я участвовала в совместном собрании жителей и участников проекта. Мы обсуждали, в частности, возможность использования арт-терапевтических методов. Реакция моих собеседников была положительной, хотя какой-либо определенный план сформулирован не был. В январе 1988 г. я организовала арт-терапевтическую группу, в которую вошли бездомные женщины, проживающие в одном из центральных районов. Вскоре после этого ко мне присоединился Питер — социальный работник, предложивший организовать аналогичную группу для мужчин. В течение последующих двух лет моя работа становилась все более активной. В настоящее время ее объем достигает 21 часа в неделю.
ДОСТОИНСТВА АРТ-ТЕРАПИИ
До начала мероприятий по данному проекту Питер работал социальным работником, оказывая бездомным помощь, характерную для психиатрической медицинской сестры. По своему опыту он знал, что многим из его клиентов, включая находящихся в стационарах и посещающих центры дневного пребывания, нравится заниматься художественным творчеством.
Когда дело дошло до воплощения проекта в жизнь, Питер, проведя с бездомными беседы, заявил о том, что среди них, очевидно, имеются те, для кого участие в арт-терапевтической группе может быть полезным. Он, как и некоторые другие участники проекта, видел одно из достоинств арт-терапии в возможности уделить человеку внимание. Мы все полагали, что занятия в арт-терапевтической группе будут активизировать наших клиентов и способствовать выражению ими своих чувств и мыслей, особенно в случае затруднений в вербальной коммуникации.
Жизнь бездомных трудна не только в материальном отношении. Арт-терапевтические занятия способны помочь им в самом разном: в личном плане, например, благодаря арт-терапии эти люди получают возможность самовыражения в достаточно безопасных для себя условиях, что особенно значимо, если иметь в виду чувство гнева. В приютах агрессивное поведение является большой проблемой, а его последствия могут быть весьма серьезными. Кроме того, у бездомных очень высок уровень тревожности. Занимаясь в арт-терапевтической группе, они могут почувствовать себя более раскрепощенно. Здесь они могут раскрыть свои творческие возможности и вести себя более естественно и спонтанно. У них формируется больше доверия к себе, повышается самооценка и развивается способность лучшего понимания самих себя.
В социальном плане благодаря арт-терапевтической группе бездомные учатся лучше понимать других и ценить их человеческие качества, у них развивается способность к общению и продуктивному взаимодействию. В группе они ощущают поддержку и доверие, причем не только со стороны ведущего, но и других участников.
Начало работы
Мы решили начать работу в одном из помещений приюта. Клиентам не надо было делать особых усилий для того, чтобы посещать занятия. Кроме того, еженедельные арт-терапевтические занятия были зримым напоминанием о деятельности группы, что вело к ее сплочению и усвоению ее участниками определенной структуры занятий. Бездомные в большинстве случаев ощущают свою жизнь лишенной какой-либо цели. Постоянство занятий, проводимых в одном и том же месте в течение достаточно длительного времени, становилось важным фактором упорядочения их повседневной жизни.
Предстояло преодолеть свойственное бездомным недоверие к любым людям, приходящим «извне». Для тех, кто находился в приюте относительно долго, продолжение занятий в арт-терапевтической группе было важным фактором создания устойчивых, доверительных отношений. Более трудно было установить контакт с приходящими клиентами. Из-за непродолжительности их участия в групповом процессе у меня нередко возникали сомнения относительно эффективности арт-терапевтических занятий.
Для организации в приюте групповой арт-терапии было необходимо заручиться поддержкой и интересом со стороны работающего здесь персонала. Понимание персоналом задач групповой арт-терапевтической работы очень помогает не только в практическом смысле, но и в плане эмоциональной поддержки участников группы и ее лидера. Персонал в основном никогда раньше не сталкивался с групповой арт-терапией. Для того чтобы дать ему определенное представление о ней, я пригласила работающих здесь специалистов поучаствовать в занятиях наравне с клиентами.
В приюте для женщин это оказалось особенно полезным; персонал даже обратился ко мне с просьбой организовать специальный однодневный семинар-тренинг. Подобная практика доказала свою эффективность и при работе с персоналом, принимающим участие в проекте «Внутренний город». Когда участники проекта имеют возможность заниматься в группе художественным творчеством, они лучше понимают, какое положительное воздействие оно может оказывать на клиентов.
Направлением на групповую арт-терапию занимались специалисты приютов, центров дневного пребывания и государственных служб: центров здоровья, учреждений социальной сферы, больниц и иных организаций, вовлеченных в проект «Внутренний город».
В ряде случаев клиенты сами обращались к нам с просьбой включить их в группу, что свидетельствовало об их доверии к нашей работе. Спустя год после начала занятий первой арт-терапевтической группы мы уже вели четыре группы на базе приютов. Занятия художественным творчеством были внедрены в деятельность нескольких дополнительных групп, занимающихся на базе общинных центров и в местах расположения основных служб проекта. В последнем случае у клиентов имелась возможность для более интенсивной арт-терапевтической работы, чем в приюте.
ГРУППА В ПРИЮТЕ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ МУЖЧИН
Приют обслуживается четырьмя работниками и имеет 130 коек. Из него было направлено на арт-терапию больше клиентов, чем из любого другого места. Большая их часть имела психические нарушения.
Начало работы
Питер выполнял определенную медико-социальную работу с проживающими в этом приюте бездомными. Мы решили, что будет целесообразно проводить арт-терапевтические занятия в часы работы Питера, чтобы он лично мог обсудить направление конкретного клиента на арт-терапию и оказать в случае необходимости дополнительную помощь. В результате большая часть участников арт-терапевтической группы лично знала Питера.
В феврале 1988 г. мы получили согласие администрации приюта на проведение арт-терапии. Впервые группа собралась в апреле. В начале работы Питер присутствовал на нескольких занятиях; когда же была достигнута определенная сплоченность, его место занял ассистент, а в дальнейшем доброволец.
Характеристика группы
В эту группу вошли те, кто был направлен специалистами. Подавляющее большинство участников имело хронические и достаточно серьезные психические расстройства. В группу вошли восемь человек — оптимальное количество, при котором мы вместе с ассистентом в ходе занятий могли уделить внимание всем клиентам.
Участники посещали занятия на добровольной основе. Группу можно было охарактеризовать как полуоткрытую: определенная часть клиентов посещала ее относительно продолжительное время, но всякий раз было от одного до двух участников, посещавших занятия более короткое время (причинами тому могли быть: исключения из приюта, ухудшение психического или соматического состояния, госпитализация и т. д.). Занятия проводились в вечернее время и продолжались, включая вводную часть и уборку помещения, три часа.
Администрация приюта предоставила нам одно из помещений, которое было оборудовано для групповых занятий. Однако нам пришлось несколько раз переходить из одного помещения в другое, что вызывало определенные проблемы и приводило участников группы в замешательство. Значительную часть времени помещение для занятий использовалось как кладовая, и время от времени нам приходилось работать, когда в помещении была сложена одежда, матрацы и маргарин. Несмотря на эти проблемы, нам все же удалось создать достаточно дружелюбную, безопасную атмосферу и оснастить помещение необходимыми материалами.
Мы с моим ассистентом нередко занимались рисованием. Это помогало вовлечь участников группы в работу, особенно когда мы брались за совместный рисунок. Одно из достоинств подобной тактики заключается в том, что мы могли продемонстрировать нашим клиентам способы обращения с изобразительными материалами и то, каким образом проблемы человека могут отражаться в создаваемых им художественных образах.
Арт-терапевтические занятия
Некоторые участники группы приходили на занятия заранее и поджидали меня, другие являлись, когда уже шла вводная часть. Я предоставляла клиентам возможность самим выложить краски на столы и выбрать ту или иную музыку. Мы обычно начинали занятия с чашки чая или кофе. В это время нередко завязывался разговор, в котором выявлялась определенная тема для работы. Время, затрачиваемое участниками на создание художественных работ, сильно варьировалось. Некоторые участники группы быстро создавали рисунок, после чего просто сидели, разговаривали или наблюдали за работой товарищей. Другие же рисовали до конца занятия. Я уделяла внимание каждому участнику, предоставляя ему возможность рассказать о своем рисунке или поделиться тем, чем он считал нужным.
Некоторые достоинства арт-терапевтической работы
Участие клиентов-в подготовке помещения к работе и его уборке, приготовление чая или кофе являлись немаловажным элементами группового процесса. Жизнь в приюте лишила этих людей возможности выполнять даже простейшие обязанности, равно как и шанса принимать ответственные решения. Изобразительная работа, несомненно, была такой формой деятельности, в которой имелась достаточная свобода выбора, эксперимента и воплощения самых разных идей.
Для многих участников групповые занятия стали первым шагом к сближению с другими людьми. Хотя в приюте мои клиенты жили рядом, они очень редко общались друг с другом и фактически находились в изоляции. Это особенно справедливо в отношении тех, кто провел в приюте длительное время и страдал психическими расстройствами. В процессе занятий участники начали проявлять интерес друг к другу, что привело к развитию контактов за пределами группы. Большая часть моих клиентов раньше никогда не участвовала в групповой работе. Посещая арт-те-рапевтическую группу, они затем включались в другие формы групповой работы, проводимой в рамках проекта «Внутренний город» и на базе центра дневного пребывания.
ГРУППА В ПРИЮТЕ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖЕНЩИН
Этот приют гораздо меньше, чем мужской. Здесь имеются места для одиннадцати человек и еще шесть дополнительных коек. Он является одним из немногих мест в Бристоле, где могут найти себе пристанище бездомные женщины, которые направляются сюда через различные добровольные и государственные организации. Кроме того, некоторые бездомные сами приходят в приют. Лишь небольшой процент женщин задерживается в этом приюте надолго. Большая их часть переселяется затем в более удобное, постоянное жилище. Возраст женщин колеблется от шестнадцати до тридцати лет. В штате приюта четыре социальных работника и администратор, которые оказывают помощь постояльцам и обеспечивают наблюдение за ними 24 часа в сутки.
Характеристика группы
Арт-терапевтическая группа была сформирована в январе 1988 г. В отличие от мужской, она была открытой для всех проживающих в приюте женщин и тех, кто жил там ранее. Поэтому количество участников группы было непостоянным. Если женщины, покидая приют, продолжали жить в этом же районе, они имели возможность продолжить посещение занятий, что, очевидно, помогало им адаптироваться к самостоятельной жизни.
Занятия проводились на кухне, что ограничивало число участников группы. Оптимальным было присутствие четырех клиентов. Однако с учетом того, что занятие продолжалось три часа, а клиенты могли приходить и уходить, в нем могли принимать участие до восьми человек за один день. Как и мужская группа, женская группа столкнулась с рядом проблем. По структуре занятия были аналогичны работе мужской группы.
Некоторые достоинства арт-терапевтической работы
Возрастной и половой состав группы, а также ее размер обусловили заметные отличия от занятий мужской группы. Тем не менее положительные результаты арт-терапевтической работы были сходными. Очень важным стало достижение свободного выражения чувств и повышение самооценки.
Атмосфера в женском приюте подчас была очень напряженной, поэтому арт-терапевтическая группа представлялась своеобразным оазисом. Даже в тех случаях, когда в приют прибывала полиция или «скорая помощь», группа продолжала работать, что создавало впечатление места с нормальным положением вещей. К сожалению, попытки самоубийства в приюте были нередки, но в арт-терапевтической группе женщины могли выразить свои чувства, связанные с такими попытками, совершенными когда-либо ими самими или теми, кто проживал рядом с ними. Это помогало им лучше понять влияние их поступков на окружающих. Когда однажды участницы группы узнали, что одна из ранее проживавших в приюте женщин совершила самоубийство, группа стала для них очень важным местом, где они могли выразить свое горе, вспомнить о погибшей, облечь свои воспоминания о ней в художественные образы, дать выход чувству гнева.
Очевидно, что возникновение у некоторых участниц ощущения непостоянства места и состава группы заметно влияло на их состояние. Это, однако, не преуменьшало ценность групповой работы. Порой она приобретала интенсивный характер. Кроме того, группа помогала женщинам в осознании многих важных вопросов.
ГРУППА, СОБИРАВШАЯСЯ ПО СРЕДАМ Начало работы
Хотя арт-терапевтические группы уже работали в нескольких приютах, у нас было ощущение того, что проведение арт-терапевтических занятий в иных условиях могло бы быть более продуктивным. Поэтому мы организовали еще одну группу при общинном социальном центре, в котором были заняты три специалиста: главный арт-терапевт, социальный работник (Питер) и я. Очень много работы легло на плечи Питера, который должен был собрать группу и организовать ее деятельность — он посещал клиентов и убеждал их прийти на занятия, рекламировал работу арт-терапевтической группы в соответствующих учреждениях и т. д. Многое из этого было действительно необходимо, и хотя Питер в дальнейшем не был задействован, он продолжал регулярно встречаться с арт-терапевтом и со мной для того, чтобы обменяться информацией и обсудить методы работы с нашими клиентами.
В группу направлялись, главным образом, лица афро-карибского и азиатского происхождения, а также бездомные, охваченные проектом «Внутренний город». Первоначально группа состояла преимущественно из бездомных, но постепенно стала включать и иные категории клиентов. Социальный центр, на базе которого проводилась работа, заметно влиял на эти изменения в составе группы. Его сотрудники не были вполне удовлетворены нашей работой, и через некоторое время мы перенесли занятия на основную базу проекта. Здесь группе могло быть уделено больше внимания, работа стала более плодотворной и находила поддержку со стороны персонала.
Группа сложилась не сразу. Потребовалось определенное время для того, чтобы создать необходимую атмосферу и наладить отношения со специалистами, работавшими рядом, после чего наши клиенты и мы сами могли чувствовать себя достаточно свободно. Отчасти поэтому группе удалось проработать в одном составе большую часть времени.
Характеристика группы
В группу вошли шесть клиентов, с которыми работали я и ассистент. Занятия продолжались два с половиной часа и начинались с обмена впечатлениями за чашкой чая или кофе. Как уже было отмечено при
12-1508
описании мужской группы, на этом этапе занятий нередко обнаруживаются темы, определяющие содержание последующих художественных работ. Время от времени главный арт-терапевт также предлагал определенные темы и организовывал изобразительный процесс. Участники группы и ее ведущие обычно рисовали в течение часа, после чего проходило обсуждение. Наше включение в изобразительный процесс было особенно важно в начале, когда в группе присутствовал лишь один человек. Это помогало снять определенное напряжение и неудобство, которое он мог испытывать, ощущая себя в центре внимания. Кроме того, наше участие в изобразительной работе предупреждало возникновение ощущения, будто группа разделена на «больных» и «здоровых». Уже тогда, когда группа занималась в полную силу, я и мой ассистент продолжали рисовать наравне с клиентами, хотя выносили свои работы на обсуждение гораздо реже.
Так же, как и в работе с группами, занимавшимися в приютах, мы всячески поощряли инициативу и ответственность участников, предлагая им самим убирать помещение, вырабатывать определенные правила поведения, в частности касающиеся курения. Мы стремились к тому, чтобы участники группы чувствовали себя ответственными за регулярность посещения занятий.
ДРУЖБА
Случай, который я хотела бы описать, вряд ли является «типичным». Я не считаю, что вообще можно говорить о каких-либо «типичных примерах». Личности наших клиентов неповторимы. Отсутствие жилья — это то общее, что свойственно им всем без исключения. Тем не менее этот случай во многом характеризует особенности группового арт-терапевтического процесса и является примером дружеских отношений, возникших между двумя клиентами из мужского приюта.
Клив проживал в приюте уже около двух лет, а до этого более тридцати лет находился в интернате для лиц со сниженным интеллектом. Ему было 65 лет. Из его родственников в живых уже никого не осталось. Хотя Клив самостоятельно оставил интернат, он вспоминал о жизни в нем как о более счастливом времени, чем настоящее. В интернате он имел возможность трудиться. Там было много мероприятий социального характера. Попав в приют, он замкнулся, лишь время от времени общаясь с отдельными постояльцами или персоналом.
Саймон гораздо моложе Клива, ему было чуть больше двадцати лет. Он страдал органическим заболеванием головного мозга в результате воздействия жидких токсических веществ и получал лечение, но продолжал иногда вдыхать пары клея. У Саймона имелись родственники, но он не общался с ними и даже не знал, где они живут.
Клив был направлен на групповую арт-терапию спустя неделю после начала занятий и посещал их регулярно. Саймон, рекомендованный Питером, тоже рано вошел в группу. С самого начала работы рисунки Кли-ва касались одной и той же темы: умея рисовать некоторые предметы, он изображал их вновь и вновь для того, чтобы убедить себя и окружающих в своих способностях. Он рисовал коробки из-под «Оксо», стремясь передать объем (в свое время отец учил его рисовать их), а еще разные фрукты и космические корабли. Обычно он рисовал все это на одном листе; изображения предметов имели четкие контуры, пространство внутри он закрашивал краской. На занятиях рисунки Клива включали также образы, отражающие его воспоминания. Эти воспоминания продолжали преследовать его в настоящем, что становилось очевидным в процессе обсуждения.
Клив приходил в помещение одним из первых и уходил одним из последних. Он относился к занятиям с большой ответственностью: тщательно мыл свою палитру и кисти и просил других делать то же самое. Для него было очень важно, чтобы все соблюдали определенные нормы поведения в группе. Он нередко ходил за одним из участников, чтобы разбудить его после обеда и привести в группу. Клив, казалось, охотно исполнял свою роль серьезного и ответственного члена группы, и его отношения с Саймоном были связаны с этой ролью.
Поведение Саймона в группе являлось прямой противоположностью поведению Клива. Саймон, казалось, не имел никакого интереса к другим членам группы и вступал с ними в контакт лишь из-за желания «потусоваться». Он выпивал очень много кофе с молоком, так что другим уже ничего не оставалось. Мои просьбы, равно как и просьбы участников подумать об окружающих, он оставлял без внимания. Саймон производил беспорядок на своем рабочем столе, который никогда не убирал, и неизбежно становился объектом нападок со стороны других членов группы.
Мои попытки вступить с Саймоном в контакт были безуспешны. Он отвечал на них лишь улыбкой — не более того. Его речь была односложной, и мне приходилось догадываться о характере его переживаний, скорее руководствуясь его поведением, чем словами. Иногда я понимала, что он вдыхал пары клея, по его особому, «отсутствующему» взгляду и характеру рисунков. Саймону было трудно сосредоточиться, и его изображения, если он вообще что-либо создавал, были беспорядочными и неразборчивыми. Он испещрял поверхность листа прямыми короткими линиями, покрывая их краской, чаще всего черной.
Через несколько недель после начала групповых занятий я обратила внимание на то, что Клив предпочитает садиться за один стол с Саймоном. Это говорило об установлении между ними определенных отношений. Через два месяца для меня стал очевиден интерес Клива к Саймону. Клив нередко злился, что Саймон «баловался» с клеем, — старик хорошо сознавал вред этого занятия. Ему, казалось, были известны секреты Саймона: у кого тот одалживал деньги, где покупал на них клей, где нюхал его. Для меня было очевидно, что интерес Клива к Саймону не ограничивался лишь контекстом групповой работы. Через пять месяцев после их сближения они уже и за пределами группы проводили большую часть времени вместе.
Клив проявлял интерес к рисункам Саймона, хотя и не считал их удачными. Он побуждал Саймона в рисунках подражать себе. Иногда Саймону удавалось быть «послушным учеником». На приведенных иллюстрациях (рис. 5.24 и рис. 5.25) видно, как Саймон делал попытки имитировать некоторые элементы из рисунка Клива — космические корабли и коробки из-под «Оксо».
Клив был единственным в группе, кто мог иметь хоть какое-то влияние на Саймона в том, что касалось рисунков и поведения. Хотя Клив, укоряя Саймона, тратил определенную часть времени каждого занятия, в их отношениях был некоторый налет игривости. Иногда они играли в некое подобие «Ну-ка, отними», что неизменно вызывало смех.
Поведение Саймона в группе определялось тем, удалось ли ему «нанюхаться» клея. Клив же очень чутко реагировал на это. Казалось, благодаря присутствию Саймона Клив становился живее и коммуникабельнее. Параллельно с тем, как развивались отношения с Саймоном, рисунки Клива становились более разнообразными и яркими. Когда же Саймон являлся на занятия «одуревшим» от клея, Клив затихал, а его рисунки утрачивали свою выразительность.
В конце лета, несмотря на развитие отношений между Кливом и Саймоном, здоровье и поведение последнего становились все хуже и хуже. Возобновив работу с группой после недельного отпуска в сентябре, я заметила, что в отношениях между друзьями возникла напряженность. Тем не менее они по-прежнему садились за один стол. В конце сентября Саймон почти на всех занятиях сидел с «остекленевшим» взором и практически не отвечал на вопросы. Он становился все более агрессивным
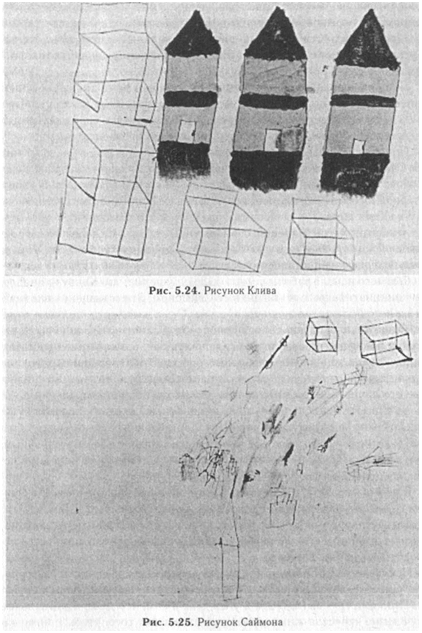
к окружающим, нередко бывал возбужден, а рисуя, заполнял весь лист короткими, отрывистыми линиями. На своем последнем занятии в конце октября он почти ничего не рисовал и впервые закричал на Клива. В ответ на это Клив «вышел из себя»: подойдя к окну, он начал говорить сам с собой.
Прошло довольно много времени, прежде чем Клив смог приступить к рисованию, и мне пришлось приложить определенные усилия для этого. Впервые за все время работы в группе Клив оставил свой рисунок (на котором были изображены два осенних дерева) незавершенным.
Придя через неделю в приют для проведения занятия, я узнала о том, что Саймона оттуда выселили. Он не пропустил ни одного занятия в арт-терапевтической группе, и его отсутствие не могло не повлиять на участников. Я особенно беспокоилась за Клива, который потерял близкого друга. Клив появился с часовым опозданием, был молчалив и удручен. На этом занятии он завершил свой рисунок с осенними деревьями с осыпающейся листвой и ползущими по небу тяжелыми тучами. От рисунка веяло холодом и опустошенностью.
С самого начала работы у меня было ощущение, что Кливу принадлежит инициатива в его отношениях с Саймоном. Эти отношения оказывали на него положительное воздействие. Он, в частности, получал определенное удовлетворение, сравнивая себя с Саймоном. Восприятие рисунков последнего позволяло ему оценить свои собственные работы и давало ему ощущение определенного успеха. Эти отношения приводили к повышению самооценки Клива. Кроме того, группа служила признанию его личности: здесь его ценили и никогда не смеялись над ним, его слова внимательно слушали, а его инициативы находили поддержку не только со стороны ведущих, но и со стороны членов группы. Таким образом, участие Клива в групповой работе можно признать весьма успешным. При всем этом Саймон был его другом, поэтому его отсутствие Клив переживал очень остро.
Я не могу сказать, насколько эти отношения были значимы для Саймона. Мне бы, наверное, не удалось настолько сблизиться с ним, как это удалось Кливу. Тем не менее то, что он не пропустил ни одного занятия, говорит о значимости для него Клива и группы на протяжении всего периода пребывания в приюте.
Исключение Саймона из приюта, наверное, можно считать моим упущением. Это заставило меня трезво проанализировать мои отношения с участниками группы. Однако я убеждена в том, что даже минимальное улучшение качества жизни моих клиентов стоит того, чтобы с ними заниматься. Некоторых из них, таких, например, как Клив, арт-терапевтические занятия могут привести к достаточно устойчивым положительным результатам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работая с бездомными, я пришла к выводу о малой вероятности достижения кардинальных улучшений их состояния и отношения к жизни. Во многих случаях у лишенных крова людей вырабатывается определенный жизненный стереотип, изменить который они не хотят. Они не верят в возможность качественных изменений условий своего существования. Присущий им пессимизм основан на убеждении в ограниченности собственных возможностей. Поэтому лишь единицам удается обустроить себе собственное жилье. Следует признать, что наша помощь бездомным в большинстве случаев скорее ориентируется на их лучшую адаптацию к существующим условиям жизни, а не на обретение ими своего дома. В этом отношении занятия в арт-терапевтической группе можно признать весьма подходящей для них формой работы, позволяющей изменить их самооценку и развить социальные навыки. В условиях все еще слабой государственной политики в плане решения проблем бездомных людей все мы, работающие с ними, должны признать, что даже такие результаты являются немаловажными, хотя стороннему наблюдателю они могут показаться вовсе незаметными. Небольшое изменение качества жизни этих людей чрезвычайно значимо. Групповая арт-терапия, несомненно, способствует этому.
ЛИТЕРАТУРА
Appleton P. ICMHP Report from the Development Worker in the Homelessness Sector. Bristol: Inner City Mental Health Project, 1989.
Phillips J. ICMHP Interim Report of Project Officer. Bristol: Inner City Mental Health Project, 1988.
НЕВИДИМЫЕ ГРАНИЦЫ -ОТКРЫТЫЕ ГРАНИЦЫ: ЗАРУБЕЖНАЯ ПОЕЗДКА АРТ-ТЕРАПЕВТА
Джулия Байере
Печатается по изданию: Byers J. G. Hidden Borders, Open Borders: A Therapist's Journey in a Foreign Land. Tapestry of Cultural Issues in Art Therapy / Ed. By Hiscox A. R., Calish A. C. Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 1998. P. 309-326.
Сведения об авторе. Джулия Байере — директор курса экспрессивной терапии в Lesley College, Кембридж, штат Массачусетс, в течение семнадцати лет работала в Concordia University в Монреале, из которых девять лет возглавляла программу арт-терапевтической подготовки, имеет богатый опыт клинической работы с детьми и подростками, больными СПИДом, взрослыми клиентами, семьями.
Среди обломков разрушенного снарядами дома сидел кареглазый мальчик, он спрятался в картонной коробке и посасывал большой палец. На соседней улице среди мусора и обезображенных фасадов двое детей играли в «телефон»: разговаривали друг с другом по найденному проводу. Прямо за ними находились остатки того, что некогда представляло собой затейливо декорированное здание, в создании которого, по всей видимости, участвовали местные мастера. Развалины стояли за бетонной стеной высотой в шесть футов, дверь в стене была выбита. Полуразрушенные и ныне оставленные их обитателями дома перемежались с новыми постройками и недавно проложенными тротуарами. Все это — и ящик, и провод, и выбитая дверь, и надежда на возвращение — стало для меня метафорами, отражающими совершенно новый опыт.
В этой статье я опишу мою работу в качестве сотрудницы Ближневосточного Культурного и Образовательного Фонда Канады. Осуществляемый Фондом проект был направлен на помощь детям и финансировался Канадским Министерством Здравоохранения. Он предполагал оказание разных видов профессиональных и парапрофессиональных услуг консультативного и обучающего характера специалистами, занятыми в сфере психического здоровья и образования населения Западного берега реки Иордан и сектора Газа. В рамках проекта приоритетный характер имели различные мероприятия, осуществлявшие психологическую поддержку палестинских детей и их родственников, перенесших психическую травму, вызванную массовым насилием и выступлениями Анти-фады. Местными партнерами фонда, способствующими осуществлению мероприятий проекта, являлись участники общинной программы психического здоровья сектора Газа, представители Палестинского центра психологического консультирования, Университета Бир Зейт, Бетле-хемской детской клиники, а также специалисты группы «Врачи без границ» из Енина и Хевр'она. Проект включал в себя программу культурного обмена, в которой участвовали: Образовательный и развивающий центр Туфаха, Ассоциация свободной мысли и культуры Хана Иниса, начальная школа для девочек Нуссерира, начальная школа Абу Тур, школа Эль-Бирех (Западный берег), восемь канадских школ, несколько начальных и средних школ из провинции Онтарио, школа Денс из форта Норман (северо-западные территории Канады). Программа культурного обмена была связана со стимулированием прямых контактов между детьми, созданием условий для их свободного самовыражения и эмпатической коммуникации посредством разных видов искусств, помогающих в преодолении культурного и языкового барьера, в осознании общечеловеческих ценностей и тех потребностей, устремлений, страхов и горестей, которые разделяют дети и взрослые разных культур и национальностей.
В рамках проекта был создан специальный CD-ROM. Он назывался «Невидимые границы: объединение детей искусством» и включал в себя более тысячи рисунков и живописных произведений детей.
В настоящей статье описывается моя вторая поездка на Западный берег реки Иордан и в сектор Газа вместе с доктором Салихом Хасаном (детским и семейным психиатром), доктором Фредерико Аллоди (транс-культуральным психиатром и всемирно известным экспертом в области работы с жертвами пыток), доктором Мунир Сами (детским психиатром и психоаналитиком) и доктором Джимом Графом (философом, экспертом в области защиты прав человека, президентом Ближневосточного культурного и образовательного фонда Канады).
Я поделюсь своим опытом работы женщины-психотерапевта на оккупированной территории и попытаюсь обсудить некоторые вопросы ин-теркультурального характера. Статья написана в форме свободного повествования. Думаю, попытка представить мой опыт в более формализованной манере привела бы к утрате ощущения моего реального участия в описываемых событиях. В то же время я испытываю потребность в интеграции всех тех материалов, авторами которых являются другие психотерапевты, работающие в данном направлении. Мой материал можно, по-видимому, рассматривать как попытку объединения впечатлений личного характера с профессиональным взглядом на вещи. В нем запечатлены трудности, связанные со стремлением людей определить для себя меру взаимной открытости, допустимую в тяжелых условиях войны и многолетних страданий. Как отмечают Ф. Лозел и Т. Близенер (Losel F., BliesenerT., 1990), «первейшим стремлением ребенка является сохранение своей связи с жизнью» (р. 18). Война многократно усиливает страх утраты дома, разлуки с родственниками или возможной смерти родителей и других членов семьи. Эти переживания, свойственные всем людям, независимо от их культурного багажа, порой могут быть скрыты от глаз, но в определенный момент культурные различия преодолеваются и начинают проявляться те чувства, которые объединяют все человечество.
Мой канадский паспорт предоставлял мне возможность беспрепятственного пересечения границ демаркационной зоны, разделяющей Израиль и Палестину. Белый цвет кожи и западная одежда указывали на то, что я — иностранка; это тоже позволяло мне свободно передвигаться по разным территориям. Мои пол и национальность не вызывали у местных жителей какой-либо неприязни: в их глазах я априори не принадлежала к какой-либо из конфликтующих сторон. Мой материнский опыт позволял мне преодолевать культурные и политические барьеры. Ощущение внутреннего родства с разными людьми в какой-то мере усиливалось тем, что я, временно оставив своих детей, отправилась в другую страну для того, чтобы оказывать помощь чужим детям и их родственникам. Думаю, в отношениях с этими людьми наибольший вес имели не уровень моей квалификации или университетский диплом, а взаимная эмпатия, позволяющая преодолевать культурные различия, ибо все мы в одинаковой мере любим детей и заботимся о них.
НАЧАЛО ПУТИ В РАМАЛЛАХ
На площади в Рамаллахе стоял высокий новый монумент. На вершине фаллической формы располагались электронные часы, а в основании был оборудован фонтан, и из львиных пастей текли струи воды. Прежде это место неоднократно фигурировало в международных сводках новостей. Здесь неоднократно происходили массовые выступления протестующих палестинцев, летели камни и бомбы. На улицах в Рамаллахе торговцы в традиционных восточных костюмах предлагали арабский кофе. Они наливали его из огромных медных сосудов, висящих за их спинами, и подавали проезжающим в автомобилях. В пекарне европейского стиля в обеденный перерыв продавались хлебобулочные изделия. На тележках уличных торговцев можно было увидеть крупный, спелый инжир, ассорти из орехов и другие товары.
Я начала свою работу здесь с проведения двухдневного семинара на факультете последипломного образования в Университете Бир Зент в Ра-маллахе. По пути я заметила многочисленные свидетельства изменений, произошедших после моей первой поездки сюда летом 1995 г. На дорогах от Тель-Авива до Иерусалима были сняты многие пункты досмотра, хотя все еще оставались мешки с песком и металлические будки солдат. На улицах Иерусалима и Рамаллаха были видны приметы возрождающейся жизни. Дома с ранее заколоченными окнами и покрытыми политическими граффити стенами были теперь выкрашены свежей краской.
Целью моей поездки было обучение местных психотерапевтов и учителей основам экспрессивной арт-терапии. Прослушав двухдневный семинар, каждый участник получал сертификат, подтверждающий его ознакомление с арт-терапией. Большинство из них работало в реабилитационных стационарах и центрах. Их клиентами являлись дети с серьезными физическими увечьями, (в частности, параличами в результате повреждений спинного мозга), и с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), развившимся в результате перенесенных издевательств или присутствия при совершении насилия над другими.
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
Чтобы создать условия для получения слушателями опыта арт-терапевтической работы, я начала семинар с техники рисуночного диалога, который обычно называют «линии коммуникации». При выполнении задания возникали ситуации, связанные с переживанием конфликта и фрустрации. Одна из участниц, например, сказала, что в ее каракулях просматриваются огонь и сломанные деревья, ассоциирующиеся с разбитыми мечтами. Она испытывала чувство опустошенности, видя, что переживают дети, — очень часто они становились жертвами насилия, совершающегося на основе политического противостояния. Другая участница, слепая, вместо того чтобы участвовать в создании каракулей, работала с пластилином, который давал ей больше тактильных ощущений. Она символически изобразила детей в образе двух лошадок и пояснила, что они играют, хотя постороннему наблюдателю может показаться, что они дерутся друг с другом. Она признала, что в ее работе просматривается защитная реакция, за которой скрывается мечта о мире.
Чтобы изучить эмоциональные реакции участников семинара, я предложила им разделиться на малые группы и вместе создать трехмерные композиции, используя найденные на улице предметы и глиняные фигуры. Эта работа позволила каждой малой группе в проективной форме отразить переживания участников и то, что их сближает и разъединяет в сложившейся ситуации. При создании одной из композиций была использована колючая проволока, по-видимому, являвшаяся остатками ограждений контрольного пункта или тюрьмы периода оккупации. Участники придали проволоке форму дерева, на одну из ветвей которого были положены остатки гнезда и несколько диких ягод, имитирующих яйца. Композиция в целом передавала довольно слабое чувство надежды. Оно было столь же слабым, как и основание дерева, с трудом удерживающее его вес. Участники другой малой группы, разглядывая эту композицию, заявили, что образ дерева с гнездами и яйцами «скрывает в себе нечто ценное».
Некоторые исследователи утверждают, что травматичный опыт оставляет различный по глубине след, в зависимости от целого ряда причин. Характер переживаний потерпевшего зависит от наличия посттравматического стрессового расстройства, участия в угрожавшей жизни ситуации, потери близких, внезапности травмы, отрыва человека от привычного для него социального окружения и других факторов. Поведение человека в психотравмирующей ситуации и глубина переживаемого им морального конфликта (связанные, в частности, с его участием в конфликте в роли агрессора или жертвы) являются предпосылками развития посттравматического стрессового расстройства. Комплексный характер травм и их влияние на человеческое сообщество были достаточно наглядны в работе с участниками семинара. Казалось, что яйца могут выпасть из гнезда в любой момент. В композиции с деревом и гнездом я видела отражение чувств привязанности участников семинара к своим детям и в то же время их неспособности защитить детей. Я вспомнила слова доктора Вивики Хассбун из Бетлехемской детской клиники, которая сообщила мне о том, что практически каждый ребенок и взрослый в этой стране получил психическую травму, связанную с войной.
Переживаемый участниками семинара стресс был заметен и на следующий день. При освоении одной из супервизорских техник, связанной с ролевыми играми, каждый должен был создать коллаж, иллюстрирующий любую сложную ситуацию в процессе работы с клиентом. Мы обсудили проблему контрпереноса и использования альтернативных форм психотерапевтической интервенции. Один из участников — специалист по терапии занятостью — попытался изобразить противоречивые чувства своего клиента-подростка. На фоне квадратов красного, черного, зеленого и синего цвета, чем-то напоминающих флаг, он представил переживания этого юноши. На первый квадрат красного цвета он наклеил вырезку с изображением двух мужчин в костюмах, обсуждающих что-то между собой. По словам автора, он хотел передать этим стремление персонала больницы помочь пациентам начать активную, более счастливую жизнь. С другой стороны композиции, на фоне черного квадрата были помещены вырезки с изображением тяжелораненых пациентов. С целью пояснения этого образа Аки (псевдоним автора) написал: «Кризис». Он также сказал, что палестинские дети не чувствуют себя в безопасности. Клиент Аки был ранен случайной израильской пулей, в результате чего оказался прикованным к инвалидной коляске. Другая часть композиции передавала попытки этого пациента начать новую жизнь. На фоне квадрата синего цвета была наклеена вырезка с изображением одного из героев комиксов, катящегося в огромном колесе, что должно было символизировать мечту подростка о женитьбе и покупке шикарного автомобиля. Композиция в целом передавала сложные переживания малолетнего инвалида. И участники семинара, и я сама — все мы стремились осознать смысл переживаемой людьми этого региона трагедии. Одним из следствий полученной травмы было то, что этот подросток для прохождения курса реабилитации был помещен в больницу, расположенную за много миль от своего дома. Из-за сложностей, связанных с переходом границы, родственники не имели возможности его навещать. Таким образом, этот двенадцатилетний пациент не только получил тяжелое увечье, но и, оказавшись вдали от своей семьи, был лишен эмоциональной опоры. Автор композиции, не уверенный в будущем своего клиента, пытался сделать все возможное и на время заменить ему близких. В результате обсуждения коллажа участники семинара смогли осознать то, что в этой композиции было слишком мало живых человеческих чувств. Кроме того, роль религии и культуры не была никак проявлена в работе. Автор композиции использовал вырезки из журналов, изображающих людей в западной одежде, никак не передающей их национальности и культурного происхождения. В своем стремлении создать предпосылки для «нормальной» жизни мальчика Аки обратился к западной культуре как средству разрешения проблем своего народа (а может быть, и бегства от них). Он признался в том, что слишком полагается на международные организации, испытывает неуверенность в своих силах, а это, по-видимому, не позволяло его пациенту в должной мере опереться на свои внутренние ресурсы, культурно идентифицироваться и увидеть смысл в жизни. Я чувствовала некоторое смущение, видя подобные результаты работы, но при этом стремилась к тому, чтобы участники семинара смогли осознать свои силы и способность самостоятельного решения сложных жизненных проблем. Я стремилась убедить их в том, что не собираюсь предлагать никакого магического средства, но в то же время, используя коммуникативные возможности изобразительного искусства, могу помочь в реализации того внутреннего потенциала, который даст им возможность продолжить свою работу.
Другая участница семинара отразила в композиции опыт работы с аутичной девочкой. Даже специалисту было трудно определить, связан ли аутизм этого ребенка со средовыми или органическими факторами. В отличие от вышеописанного случая, девочка не переносила травм и, судя по ее возрасту, не могла непосредственно участвовать в Антифаде. Можно лишь спекулировать по поводу того, что стресс войны, переживаемый ее родителями, мог как-то отразиться и на ней. Ее отец, являясь участником Антифады, провел много лет в тюрьме. Ее мать практически не имела возможности уделять достаточно внимания младшей из семи дочерей, родившейся в результате незапланированной беременности. В соответствии с традицией ислама женщины производят на свет столько детей, сколько возможно. Коллаж этой участницы семинара имел фраг-ментированный характер и изображал ребенка с огромной головой и непропорционально маленьким телом. Фигура ребенка была соединена с туловищем психотерапевта, у которого были отрезаны голова и конечности. Вместо рук на туловище ребенка автор коллажа изобразила голубую грудь, напоминающую крылья. В соответствии с представлениями теории объектных отношений, образ может отражать дихотомию «хорошей» и «плохой» груди. С одной стороны автор композиции написала: «Я нуждаюсь в тебе» и «Я хочу летать». С другой стороны коллажа было: «Оставь меня» и «Я хочу понюхать твой клей». В левом верхнем углу композиции она наклеила пять разных автомашин, поместив их одну на другую (что, по-видимому, могло отражать стремление ребенка к сохранению неизменной предметной среды). Справа же она поместила вырезку с изображением в профиль человека, кричащего с закрытыми глазами: «Помогите!» В ходе обсуждения рисунка участница смогла осознать то, что он свидетельствует об отсутствии связующего начала. Пытаясь понять внутренний мир ребенка, она создала образ, состоящий из разрозненных частей. Она призналась в том, что, стремясь оказать девочке психотерапевтическую помощь, не имела четкого ощущения целей и задач работы. Семинар заставил ее пересмотреть используемые подходы для того, чтобы лучше понять, какого результата она хочет достичь. Она, в частности, пришла к выводу о том, что одной из задач работы с аутич-ной девочкой может быть обучение матери больной альтернативным способам взаимодействия с дочерью, в большей степени отвечающим потребностям ребенка в эмоциональной привязанности. Эта участница семинара также коснулась проблемы стигматизации и трудностей в построении отношений с поколением палестинцев, выросшим в условиях войны и разрухи. Она поделилась своими впечатлениями от того, насколько трудно быть женщиной прогрессивных взглядов и заниматься активной профессиональной деятельностью в условиях традиционной патриархальной системы.
В завершение двухдневного семинара я предложила его участникам, используя ткани, веревку и иные материалы, создать групповую скульптуру. Все это было включено в трехмерную композицию, в центре которой расположился клубок из металлической нити, символизирующий напряжение, переживаемое в семьях участников семинара. Спонтанная работа по созданию композиции позволила им увидеть ситуацию с разных точек зрения. Даже слепой психотерапевт мог «увидеть» части единого образа, ощупывая различные материалы и ощущая степень напряжения в местах соединения фрагментов. Наиболее важным результатом наших двухдневных занятий, пожалуй, было то, что они помогли участникам почувствовать и осознать богатые возможности интуиции, которые могут быть использованы при оказании разных видов помощи их клиентам. Хотя это может показаться банальным, но специалистам, работающим в сфере психического здоровья во многих случаях изолированно, семинар помог возродить надежду и укрепить самооценку, что столь необходимо для их последующей работы. Представляется, что характерная для многих из них устойчивая низкая самооценка может быть результатом постоянной психической травматизации, испытываемой жителями оккупированных территорий.
КОНФЕРЕНЦИЯ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО КУЛЬТУРНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОНДА
Эта конференция была организована с участием местных организаций, базирующихся в район Западного берега реки Иордан, с целью налаживания взаимодействия между разными службами. В самом начале конференции были подняты вопросы, связанные с деятельностью специалистов в сфере психического здоровья. Доктор Аллоди показал схему, иллюстрирующую опыт психической травматизации, испытываемой жителями этого региона (рис. 5.26). Вице-президент местного университета — доктор Ахмад Вейкер, детский психолог — подчеркнул, что палестинское общество в настоящее время находится на новом этапе развития. Он призвал специалистов сконцентрировать свои усилия" на преодолении чувств бессилия и растерянности, осознании смысла всего пережитого и укреплении морального духа палестинского населения. Его выступление продолжил доктор Хассан, обративший внимание на необходимость защиты прав человека, проблему роста насилия в семьях и насущную потребность в реабилитационных мероприятиях с жертвами пыток.

После этого я, поприветствовав всех участников конференции, пригласила их к обсуждению причин, заставивших посетить ее. Я подчеркнула роль альтернативных подходов, в частности арт-терапии, в качестве средства налаживания диалога между специалистами и искреннего выражения тревоги, боли и надежд на будущее. Затем мы перешли к дискуссии о роли разных видов искусств в палестинском обществе и необходимости осознания старой и новой системы ценностей. Личностно-центрированная психотерапия является сравнительно новым подходом в странах с традиционным религиозным мировоззрением, поэтому был поднят вопрос о том, как религиозные представления могут быть интегрированы в разные виды психотерапевтической работы для того, чтобы предоставить детям возможность откровенного обсуждения актуальных для них вопросов. В продолжение темы доктор Насбурн указала на массовые проявления у психически травмированных членов общества чувств зависти, злобы и ненависти, что требует серьезной работы, направленной на восстановление человеческого достоинства и психического равновесия его членов.
Вивика Хасбурн, Психиатр и директор Бетлехемской детской клиники, продолжила дискуссию на тему психического развития ребенка и формах работы с семьями. Она указала на то, что войны являются общечеловеческой проблемой, и рассказала об эффектах, которые могут быть достигнуты при использовании психоаналитического подхода в работе с детьми.
Доктор Юлиана Озах, врач и директор палестинского центра «Здоровый ребенок», остановилась на социальном значении психологической помощи студентам-инвалидам. Она коснулась вопросов человеческого достоинства, профессиональной компетентности, способности человека к самостоятельному принятию решений, социального положения, прав человека и качества жизни. Поднятые ею темы нашли отражение и в выступлении доктора Кайро Арафата — директора Института детского образования, расположенного на Западном берегу реки Иордан. Она также говорила о необходимости развития самостоятельности детей, роли превентивных мероприятий и влиянии детского развития на состояние общества. Она сообщила о том, что на Западном берегу на пятнадцать тысяч человек приходится всего один психотерапевт. По ее мнению, система образования может сыграть большую роль в достижении позитивных социальных изменений. Доктор подвергла критике широко распространенный у палестинского населения миф о том, что женщине лучше пораньше выйти замуж и жить в бедности, чем оставаться одинокой. Учитывая стремление многих бедных палестинских родителей выдать своих дочерей замуж уже в возрасте двенадцати лет, необходимо проводить в жизнь специальные образовательные программы, касающиеся психического здоровья.
Госпожа Хайфа Барамке и госпожа Абла Нассер с факультета последовательного образования местного университета представили статистические данные по образовательным программам в области психологического консультирования, спонсируемым NECEF, и оценку уровня компетентности студентов. Данные количественного и качественного анализов свидетельствовали о переориентации студентов с изучения моделей «нормального» развития на более глубокое освоение психосоциальных представлений когнитивных концепций. Руководители факультета пришли к выводу о необходимости изучения студентами методов психотерапевтической работы с семьями. Из выступлений многих докладчиков следовало, что проблема насилия в палестинских семьях на сегодняшний день является одной из самых острых.
Последним выступлением был доклад, подготовленный коллективом специалистов в сфере психического здоровья, представлявших клинику «Врачи без границ» (Хеврон). Они рассказали об опыте внедрения методов психотерапевтической работы с группами, состоящими из пяти матерей и их детей. Судя по результатам работы, использование игровой терапии в сочетании с изобразительной деятельностью оказалось наиболее эффективным как в плане диагностики, так и лечения.
ИНСТИТУТ НЕЛЬСОНА МАНДЕЛЫ
Завершение конференции было связано для меня с весьма сложными моментами. Ближневосточный культурный и образовательный фонд Канады предложил мне принять участие во встрече с дирекцией Института Нельсона Манделы (названного по аналогии с южноафриканским Институтом Нельсона Манделы). Сотрудники Фонда опасались, что мне, единственной женщине, будет непросто участвовать в этой встрече. Мы собирались посетить несколько тюрем, чтобы убедиться в том, что заключенные не подвергаются пыткам. В условиях палестино-израильского конфликта пленные очень часто подвергаются пыткам, что является грубым нарушением прав человека. Планировалось создать специальную группу по защите прав человека на Ближнем Востоке. Кроме того, президент Фонда — Джим Графф — собирался познакомить дирекцию Института с возможностями арт-терапии в плане лечения и реабилитации заключенных.
Директор Фонда был рад моему участию в этой встрече и познакомил меня с палестинкой, работающей в области прав человека. В течение нескольких лет она являлась адвокатом заключенных и членов их семей. Мы молча слушали выступления докладчиков-мужчин, рассказывавших о разных формах пыток, используемых в ближневосточных тюрьмах. Доклады сопровождались рисунками, изображающими наиболее изощренные виды истязаний.
Нам объяснили, что одним из важных направлений работы института является защита прав человека и этических норм в процессе перехода к новым формам политической жизни. Некоторыми факторами, влияющими на соблюдение прав человека на Ближнем Востоке в последние годы, являются: палестино-израильское соглашение и возможные конфликты внутри палестинского общества, в частности, конфликты между местными палестинцами и теми, кто возвращается из-за границы или остается там жить, а также конфликты между группами, отстаивающими меры политического характера, и группами, ориентирующимися на военные методы и укрепление вооруженной милиции. Этот материал был изложен в розданном нам тексте, подготовленном Халедом Батрави для третьей встречи по защите прав человека на Ближнем Востоке. Один из участников саммита сказал мне, что я являюсь первой женщиной, которой предстоит посетить палестинскую тюрьму, еще год назад подчинявшуюся израильскому правительству. По его мнению, мое присутствие должно свидетельствовать о внимании международного сообщества к тому, как на Ближнем Востоке обращаются с заключенными, многие из которых находились под следствием по подозрению в участии в организованных выступлениях и до сих пор не получили приговора.
ТЮРЬМА
Когда мы шли по заваленной мусором и обломками бетона обочине дороги, я почувствовала внутреннюю дрожь. Мне уже пришлось однажды посетить в Северной Америке колонию для малолетних преступников, и я находилась в состоянии напряженного ожидания. Я знала о том, насколько сознание арабов было наполнено ненавистью к врачам и стереотипными представлениями, и поэтому ожидала, что посещение тюрьмы будет для меня психологически тяжелым делом. Лично я хотела узнать, кто из заключенных занимается художественным творчеством, и какую роль оно может сыграть в реабилитации. На мне был синий костюм деловой американки. Во избежание неприятностей мне было рекомендовано не смотреть в глаза мужчинам, сидеть и молчать, когда мужчины разговаривают, и ни с кем не здороваться за руку. Никогда раньше, находясь на Ближнем Востоке, я не чувствовала себя столь униженной, как при посещении этой тюрьмы. По всему периметру ее стен тянулась колючая проволока, на которой через каждые шесть дюймов были прикреплены бритвенные лезвия. Пройдя через двое ворот, мы очутились в некоем подобии внутреннего двора. Я заметила, что многие охранники в специальной одежде непринужденно беседуют с прилично одетыми мужчинами. Эти чисто выбритые, аккуратные на вид господа и являлись заключенными. Всем им было разрешено свободно передвигаться по отведенной территории. Ни внутренние дворики, ни переходы между ними не имели крыши. Вместо нее над головой нависала колючая проволока. Маленькие камеры, в которых находились лишь металлические двухъярусные кровати, были рассчитаны на двенадцать человек. Двери камер закрывались только ночью. Заключенным было разрешено есть и хранить продукты, переданные родственниками.
Вначале наша группа посетила помещение для персонала. Пока психиатры беседовали с несколькими заключенными, один из охранников вышел, чтобы привести восемнадцатилетнего юношу, смастерившего из бумаги и картона несколько мечетей, напоминающих ему о жизни на свободе. С помощью переводчика мне удалось выяснить, что этот застенчивый юноша убил мирную женщину, когда ему было пятнадцать лет. Он показал мне свою ногу, на которой я увидела следы пулевых и осколочных ранений, полученных в возрасте четырнадцати лет в ходе перестрелки на рыночной площади. Заключенному не оказывалась почти никакая медицинская помощь, поэтому в рану вскоре проникла инфекция, сделавшая невозможной операцию на костной ткани. Юноша сказал, что в определенный момент боль в ноге стала настолько острой, что он «впал в бешенство» и набросился на свою подругу, с которой поругался. Не сознавая последствий своих действий, он убил ее, хотя и не собирался этого делать.
После ареста он подвергался пыткам и неоднократно находился в заключении в связи с подозрениями в участии в вооруженных выступлениях. Работник тюрьмы сообщил мне, что психическое состояние юноши в момент совершения преступления было, по-видимому, нарушено. Однако поскольку родственники не стали опротестовывать решение суда, молодой человек был осужден и приговорен к девяти годам тюремного заключения.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И РЕАБИЛИТАЦИЯ
Молодой человек с радостью показал мне сделанные им ступеньки вокруг золотого купола. Он должен был пройти по ним для того, чтобы достичь психической целостности. Будучи верующим, он молил Бога о прощении и возможности начать новую жизнь. В соответствии с реабилитационной программой ему выдавались учебники, чтобы он, спустя некоторое время мог получить диплом о среднем образовании. По достижении двадцати одного года он мог бы подлежать амнистии. В целях успешной реабилитации использовались все имеющиеся средства. Юноша рассказал мне, какой он видит свою жизнь в ближайшие годы,-к чему стремится, о чем мечтает, о том, что за последнее время он сильно изменился и научился сдерживать свои агрессивные чувства. Он неоднократно обращался к библейским темам, способствовавшим ему в осмыслении своей жизни, и выражал признательность охранникам тюрьмы, которые, по его мнению, во многом помогли ему. Благодаря встрече со мной у него появились дополнительные материалы для занятий изобразительным творчеством. Он производил впечатление незаурядного человека, нуждающегося в поддержке своих талантов.
Хотя наша беседа продолжалась лишь 45 минут, мне казалось, что мы говорили несколько часов. За бетонными стенами, под небом, перетянутым колючей проволокой, творческое самовыражение представлялось не роскошью, а средством выживания. В какой-то мере оно позволяло вспомнить бедность визуальных стимулов в окружающей заключенных среде. Большинство из них не знало, когда их выпустят на свободу. Молодой человек был одним из немногих счастливчиков: его освобождения ожидали тринадцать братьев и сестер, живущих в маленьком доме из трех комнат. Я остро ощутила холод бетонных стен и дыхание детской души, затерянной в океане суровой реальности. Для этого юноши созданные им картонные мечети являлись воплощением мечты, стремящейся вырваться за пределы тюрьмы и того замкнутого жизненного пространства, которое ассоциировалось с его домом.
ЗАНЯТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ В ШКОЛЕ: ПРОГРАММА КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА
На следующий день в сопровождении Янни — местного координатора — я отправилась в одну из школ, участвующих в программе культурного обмена. После вчерашней тюремной оцепенелости и приглушенно звучащих голосов заключенных раздававшиеся за толстыми белыми бетонными стенами звонкие голоса играющих детей показались мне возвращением в привычную среду. Внутренний двор школы, огороженный высокой стеной, был расписан детьми. На фреске были видны птицы, светофоры, изображения фантастических животных. Композиция в целом не была заранее продумана. После звонка дети вернулись в классы. В этих маленьких комнатах размером с тюремную камеру помещалось по двадцать две парты, рассчитанные на двух человек. Стены классов были совершенно пустыми. Директор школы, учитель рисования и ученики провели меня по коридору, показывая развешанные там керамические плитки, изготовленные и расписанные детьми. Это было не только украшение школы, плитки создавали у детей ощущение знакомого, близкого им пространства и напоминали о праве на свободное самовыражение.
Школа оказалась довольно прогрессивной, поскольку детям здесь было разрешено заниматься художественным творчеством, не ориентируясь на религиозные шаблоны. Они рисовали мир, в котором живут, своих родственников, выражали в рисунках свои надежды, опасения и фантазию. Я обратила внимание на один из рисунков, в котором было много оранжевого цвета, — изображение трех футболистов. Находящийся в центре композиции игрок почему-то вместо мяча запустил в воздух свою голову. На другом рисунке ребенок, пытаясь передать взгляд из пещеры, изобразил прекрасное здание с ползущими над ним тяжелыми облаками. Этот рисунок отражал травматичный опыт и в то же время мечту его автора.
На следующем рисунке были видны военные корабли, выпускающие ракеты в находящихся на берегу людей и здания. Хотя школа была расположена неподалеку от Иерусалима в населенном пункте, не имеющем выхода к морю, автор рисунка, по-видимому, отразил свои впечатления от военных действий, связанных с захватом прилегающих к морю территорий. Я обратила внимание на то, что характер и стиль рисунков в какой-то мере свидетельствовали о стремлении учителей и детей рисовать так, как могли бы, по их представлениям, рисовать дети в Северной Америке. Например, на многих рисунках можно было видеть цветы и иные повторяющиеся образы. Учителя явно не поощряли стремление детей отразить в рисунках свой собственный культурный опыт. В то же время, в условиях отсутствия ярких визуальных впечатлений, характерных для жизни учащихся, изобразительное творчество помогало им воплощать свои мечты.
Следующим пунктом моего турне в тот день был Реабилитационный центр К. Абу Рея. Араф — специалист по терапии занятостью — познакомил меня с персоналом центра, деятельность которого спонсировалась шведским правительством. Центр является одним из лучших, хорошо оборудованных медицинских учреждений, которые мне когда-либо приходилось видеть. Он первоначально предназначался для детей с поражениями спинного мозга, в частности полученными в результате пулевых ранений. В распоряжении пациентов здесь имеются большие возможности для изобразительного творчества. Специальные приспособления позволяют включиться в работу и пациентам с самыми разными двигательными нарушениями. Мне показали работы одного из подростков, занимающегося выжиганием. На его первых декоративных панно были изображены автоматы, выстрелами из которых он был ранен. В дальнейшем, по мере стабилизации его физического и эмоционального состояния, образы, связанные с войной и насилием, уступили место изображениям домов и мирных пейзажей. Мальчику удалось добиться в своем деле такого мастерства, что его работы со временем начали продаваться. Изобразительное искусство помогло ему преодолеть травматичные переживания и стало средством возвращения в социум. Араф испытывал чувство гордости по поводу успехов подростка в процессе реабилитации, однако признал, что далеко не все пациенты достигают таких результатов.
В одной из палат я увидела девятилетнего мальчика, страдающего полиомиелитом. Лежа в кровати он ожидал прихода врача. Этот мальчик стал случайной жертвой политического конфликта. Трагизм его положения был связан не столько с полученным им физическим увечьем, сколько с тем, что он оказался оторванным от своих родственников, думающих лишь о собственном выживании. Стыдясь полиомиелита, они никому не показывали мальчика и возлагали надежды лишь на здоровых детей. Когда социальный работник обнаружил его, мальчик был сразу же помещен в больницу, чтобы обучиться простейшим приемам ухода за собой. Родственники не могли оплачивать его образование и содержание. Из-за ужесточения режима въезда на территорию, где находился центр, они не могли навещать его, и ему приходилось по пять месяцев ожидать их визитов. Я никогда не забуду мужество и надежду, светившиеся в глазах этого ребенка. Не зная его языка, я немного поиграла с ним. Фактически мы общались на понятном нам обоим языке — языке человеческой заботы. Специалист по терапии занятостью сказал мне, что сорок пациентов с травмами, полученными в результате политического конфликта, ожидают поступления в реабилитационный центр. Из-за закрытия границы сектора Газа они не могли получить необходимую помощь.
ПОСЕЩЕНИЕ СЕКТОРА ГАЗА
Нашей группе, состоящей из представителей международных организаций, было разрешено посетить сектор Газа. Я заметила изменения, произошедшие за год. Хотя мы по-прежнему должны были идти пешком с багажом в руках вдоль колючей проволоки и бетонной стены четверть мили от израильской границы до палестинской, теперь функционировали уже два таможенных поста. Улицы были недавно заасфальтированы, а пешеходные дорожки приведены в надлежащее состояние. В прошлом же году на улицах населенных пунктов в секторе Газа валялся мусор и текли сточные воды. Судя по возросшему числу прохожих, доступ в сектор Газа был несколько увеличен. В то же время бросались в глаза приметы социального неравенства. Сохранившиеся давно не ремонтированные дома были перенаселены. В этих условиях предпринимались попытки восстановления службы психического здоровья. Организованная ею конференция имела большое значение для всех специалистов, занятых в этой области. Ахмет Абутавафена открыл ее, обозначив «синдром сектора Газа» и выделив шесть ведущих культурных факторов, влияющих на состояние психического здоровья населения этого региона.
Проявления религиозности местного населения были весьма ярки. Жизнь людей здесь тесно связана с семьей. При осуществлении лечебных мероприятий местные специалисты, как правило, стремятся заручиться согласием и поддержкой авторитетных членов рода, например дяди того или иного пациента. Страх и стыд, связанные с психиатрической и психотерапевтической помощью, являются обычным делом. Многие граждане устремляются к религиозным авторитетам для того, чтобы избежать стигматизации, неизбежной при обращении к психотерапевту. Многие участники Сопротивления, чья самоотверженность сделала их героями в глазах местного сообщества, избегают просить психотерапевтической помощи, считая это недопустимым для мужчины. Местным жителям гораздо проще признать то, что они страдают, например, от головной боли, чем то, что у них имеются психологические проблемы. Следствием этого является, в частности, чрезмерное употребление медикаментов. Хотя для участников сопротивления характерны такие нарушения, как бессонница и фобии, связанные с воспоминаниями о пережитых ими пытках, они негативно относятся к психотерапии. Один из них, например, не мог принимать душ, который напоминал ему об истязаниях, и предпочитал совсем не мыться, чем обратиться к психотерапевту. Для сектора Газа характерно то, что психические нарушения являются следствием не столько единичной физической или психической травмы, связанной с пережитыми пытками или насилием, сколько с целой цепью разнообразных травматических событий. Их сочетание приводит к развитию «синдрома сектора Газа». Повторные пытки вызывают труднодиагностируемое состояние. Своеобразно протекающие психозы, депрессии, паранойи, агрессивные реакции и другие формы нарушений затрудняют осуществление лечебных мероприятий.
Следующим на этой конференции было выступление Захиа Елькара, посвященное реабилитации детей. Она отметила, что палестино-израильский конфликт отразился на представителях всех социальных групп. Одной из наиболее серьезных проблем является то, что дети не чувствуют себя в достаточной мере защищенными своими родителями. В одной из школ ученик зарезал ножом учителя на глазах у всего класса, заподозрив педагога в сотрудничестве с врагами. У многих детей, ставших свидетелями этого, развился энурез, нарушения концентрации внимания, ночные страхи, фантазии устрашающего характера, внезапные состояния панического ужаса, сопровождаемые криками. Захиа Элькара указала на то, что дети в возрасте от одного года до восемнадцати лет составляют больше половины населения сектора Газа и 50% из них перенесли множественные психические травмы. В качестве примера она привела случай, когда на глазах' у восьмилетней девочки ее брату оторвало на мине ноги. Хотя девочка отчетливо видела все произошедшее, вначале она отрицала то, что ее брат потерял ноги. Она испытывала жажду мести. Благодаря занятиям изобразительным творчеством и использованию игровой терапии ей удалось преодолеть последствия психической травмы. Первоначально ее рисунки не отражали пережитого. На них были изображены море, цветы и т. д., что можно расценивать как проявление защитных механизмов. По мере установления психотерапевтических отношений в ее фантазиях и сновидениях психический конфликт давал себя знать: во сне на нее нападал то волк, то какое-то чудовище. Благодаря использованию семейной психотерапии в сочетании с изобразительными приемами девочка смогла выразить свои переживания, связанные с психической травмой, в частности чувство вины из-за неспособности помочь брату. В дальнейшем ее рисунки стали отражать проблемы, вызванные учебой и отношениями с окружающими.
В рамках конференции я провела семинар по экспрессивной терапии. Я предложила участникам создать четыре рисунка, отражающие их представления о себе, использовав их как материал для развития их эм-патических возможностей и освоения приемов интерактивной интерпретации, а также для того, чтобы проиллюстрировать роль личности в обществе и показать необходимость психической интеграции.
В семинаре участвовало более сорока специалистов, которые в своих рисунках пытались показать, как они воспринимают себя и как их воспринимают клиенты. По выражению Ахмета Абутавафсна, люди передавали в этих рисунках свой культурный опыт. Наиболее интересным моментом работы был тот, когда я попросила участников разделиться на небольшие группы по пять человек для обсуждения рисунков. В нескольких группах люди испытывали определенные затруднения, ощущая необходимость в присутствии лидера. Трудно сказать, являлось ли это отражением культурных факторов или наличия множества психологических проблем участников. Как отметил один из них, местные специалисты привыкли доверяться авторитетам и не имеют опыта участия в спонтанных дискуссиях. Когда я затем предложила обсудить рисунки всей группе, было заметно, насколько полезным для развития инициативы оказалось предыдущее упражнение. Мой семинар завершал конференцию и давал ее участникам возможность выражать и обсуждать свои наиболее яркие впечатления от нее. Свидетельством их большой вовлеченности в работу при посещении семинара были пожелания сделать его более продолжительным.
СНОВА В ИЕРУСАЛИМ
В Иерусалиме я встретилась с доктором Юманой Одех, чтобы побольше узнать о деятельности представляемого ею центра. Она сказала, что сотрудники Палестинского центра здорового общества убеждены в том, что каждый ребенок имеет право на социальную защищенность, качественное образование, медицинское обслуживание и достойные условия жизни. В палестинском обществе, однако, они часто лишены всего этого в силу множества политических, социальных и иных проблем, особенно остро отражающихся на детях-инвалидах. Центр стремится в своей деятельности ориентироваться на нужды именно этой группы, чтобы дети могли почувствовать себя полноценными членами общества. Кроме того, центр проводит работу с родственниками этих детей и с местными сообществами с целью создания атмосферы понимания и поддержки, в которой дети могли бы реализовать свой потенциал.
Юмана являет собой пример прогрессивно мыслящего специалиста. Она была одета в костюм с традиционной вышивкой, сшитый по ее собственному эскизу. Мы обсудили с ней один из ее последних проектов, получивший поддержку ЮНЕСКО. Он предполагал, в частности, создание специальных образовательных программ для девушек, которые не носят паранджу. Юмана сообщила мне о своем несогласии с тем, что девочкам в местных школах не разрешают играть наравне с мальчиками, и рассказала о том, как ей самой удалось преодолеть культурные стереотипы, касающиеся женского поведения. Однажды в детстве, при совершении массового моления она потеряла в толпе своего дедушку и решила дождаться его возле фонтана, расположенного в центре площади, где она в последний раз его видела. Когда он наконец появился там, ей показалось, что он может ударить ее и отругать. Он, однако, улыбнулся и повел ее в кондитерскую. Она принесла купленные им конфеты домой и угостила своих братьев и сестер, которые позавидовали тому вниманию, которое оказал ей дедушка. Тогда она испытала чувство гордости за себя. Юмана сообщила мне, что стала врачом благодаря уважению и поддержке со стороны дедушки.
Она считает необходимым внедрение в местных школах специальных программ по сексуальному воспитанию или, по крайней мере, преподавание базисных знаний, касающихся зачатия и деторождения. По ее словам, в местных университетах можно встретить женщин, полагающих, что беременность может наступить после любого полового сношения. Результатом таких представлений является то, что замужние женщины стремятся как можно реже иметь половые сношения, думая, что это наиболее эффективное средство для контроля рождаемости.
Юмана высказалась за введение в Палестине закона, запрещающего девушкам выходить замуж раньше шестнадцати лет. Очень многие местные девушки вступают в брак в возрасте одиннадцати-двенадцати лет. До сих пор здесь нередки браки между двоюродными братьями и сестрами. Местные жители полагают, что благодаря этому супруги лучше знают друг друга и родственников супруга или супруги и могут лучше вести домашнее хозяйство. Очень редко супружеские пары живут независимо от своей многочисленной родни. Из-за многолетней войны практически полностью отсутствуют места, в которых мужчины и женщины могли бы знакомиться друг с другом. Нет ни баров, ни дискотек. Затем мы обсудили с Юманой разнообразные возможности изобразительного искусства, которые могут использоваться в условиях групповой работы для отдыха, образования и лечения.
НАДЕЖДА
Я закончила свое турне по Ближнему Востоку в Иерусалиме, встретившись здесь с психотерапевтами, с которыми год назад вместе работала в местной больнице в составе группы представителей Ближневосточного культурного и образовательного фонда Канады. Одна из них, по имени Рана, была преисполнена надежд на будущее, намереваясь работать на избирательном участке во время предстоящих выборов в Иерусалиме. Надежду на будущее вселял и тот факт, что жители этого города имели теперь возможность более свободного перемещения и на улицах было меньше солдат. Надежда звучала в словах местных психологов Шафика и Рима. Хотя консультативный центр, в котором они раньше трудились, был временно закрыт, они нашли себе работу в психиатрических учреждениях этого же района. Потребность в психологических и психотерапевтических услугах, как мне показалось, была весьма высокой. Установки общества менялись. Новые, более прогрессивные представления внедрялись в образование. Хотелось бы надеяться на то, что новые тенденции в палестинском обществе позволят соединить традиционные культурные ценности с уважением к правам и достоинству человека.
Я покидала Западный берег реки Иордан и сектор Газа, достаточно хорошо представляя себе тяготы жизни, переживаемые местным населением. Богатая история этой земли, на которой соседствуют три мировых религии, отражает парадоксы человеческой цивилизации в целом. В каждом ребенке, с которым я встречалась, посещая школы, реабилитационные центры и больницы, и в каждом специалисте, с которым мне приходилось общаться в Иерусалиме, Рамаллахе, секторе Газа и других местах, я почувствовала глубокое уважение к общечеловеческим ценностям. Я поняла, что арабский народ представляет собой жизнь во всем многообразии и противоречивости ее проявлений. Как отмечает X. Вадесон (Wadeson Н., 1980), «жизнь — это непрерывное творчество в наиболее глубоком смысле этого слова». «Творчество и жизнь незаменимы» (р. 3). Я цитировала X. Вадесон при подготовке отчета о моей первой поездке на Западный берег реки Иордан (Byers J., 1996) и считаю необходимым вновь привести здесь ее мудрые слова.
Искусство способно открывать любые двери, оно является универсальным средством общения и создает такие условия, в которых языковые барьеры не представляются больше препятствием. Благодаря искусству закрытые границы становятся открытыми проникновению общечеловеческого опыта. Страдание и ненависть в одно мгновение могут трансформироваться в опыт познания. Все эти возможности искусства являются ценным достоянием, используемым арт-терапевтами. Я верю, что бетонные укрытия, колючая проволока и металлические двери могут стать метафорами преображения. Использование арт-терапевтических методов в пределах развитых стран и ориентация на уже освоенные формы работы были бы равносильны смерти арт-терапии. Лишь благодаря эмпзтии и способности проникать в скрытый смысл творческого процесса мы можем прийти ко всем тем, кто нуждается в нашей помощи.
ЛИТЕРАТУРА:
Byers J. Children of the stones: Art therapy interventions in the West Bank an Gaza//Art Therapy. Vol. 13. № 4. 1996. PP. 238-243.
Garbarino J., Kostelny K. Children's response to war: What do we know? The Psychological Effects of War and Violence on Children / Leavitt L. A., Fox N. A. (eds.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1993.
Hobfoll S. et al. War-related stress: Adressing the stress of war and other traumatic events / / American Psychologist. № 46. 1991. P. 848-855.
Losel F., Bliesener T. Resilience in adolescence. A study of the generalizability of protective factors / / Health Hazards in Adolescence / Hurrelmann K., Losel F. (eds.). New York: Walter de Gruyter, 1990.
Wadeson H. Art Psychotherapy. New York: John Wiley and Sons, 1980.
ПОРТАТИВНАЯ СТУДИЯ: АРТ-ТЕРАПИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ
Дебра Калманович, Бобби Ллойд
Печатается по изданию: Kalmanowitz D., Lloyd В. The Portable studio: Art Therapy and political conflict. Health Education Authority,
1997.
Сведения об авторах. Дебра Калманович и Бобби Ллойд — дипломированные арт-терапевты, сотрудники «Арт-терапевтической инициативы» (Лондон), работают с беженцами и перемещенными лица ми.
Продолжающиеся политические кризисы в разных частях планеты подводят к осознанию необходимости преодоления их психологических эффектов. Огромная нагрузка, которая ложится в связи с этим на плечи местных специалистов службы психологического здоровья, свидетельствует о недостатках в организации помощи пострадавшим. Тот, кто работает в условиях политических конфликтов, понимает всю серьезность их последствий как для отдельных граждан, так и общества в целом (UNICEF, 1996; SmytheT., Lewer N., 1992; Sogoric S., 1992; Medact Group Action Report, 1994; Gal R., 1995; Modric Z., 1994; Garcia del Soto A. G., 1994). Проведенные исследования свидетельствуют о чрезвычайной актуальности этой проблемы. Так, согласно данным департамента психологии Наталского университета (Южная Африка), 84% чернокожих детей, проживающих в городах, страдает посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и депрессией. По данным опроса, проведенного UNICEF в Сараево, 23% детей считают, что им незачем жить (UNICEF, 1994).
В 1993 г. количество людей, вынужденных покинуть свои страны из-за страха Преследований и насилия, в разных частях планеты достигло 18,2 миллиона человек. Примерно десять тысяч человек ежедневно становятся беженцами. С конца 1991 г. в одной лишь бывшей Югославии около четырех миллионов человек вынуждены были искать помощи у международных организаций. Физической травматизации в ходе политических конфликтов, по данным UNICEF, подверглись десять миллионов детей, которые в свою очередь становятся звеньями продолжающейся цепной реакции насилия.
Причины, превращающие людей в беженцев, вызывают и иные проблемы, в частности, перемещение людей с одного места на другое в пределах одной страны, — эти люди испытывают тот же страх за свою жизнь и те же психологические проблемы, что и беженцы.
Термин «посттравматическое стрессовое расстройство» в настоящее время используется довольно широко для обозначения психологических последствий политических конфликтов. Постановка диагноза ПТСР не должна, однако, заслонять от специалистов важности индивидуального подхода к пострадавшим. Лечение не может быть формальным, а должно нацеливаться на оказание помощи конкретным людям с характерными для них разнообразными реакциями на психическую травму. В поселениях Квазуму — Натал в Южной Африке, например, многие дети имеют симптомы ПТСР, однако было бы психологически некорректно и безответственно навешивать на них ярлык этого заболевания. Столь же ошибочно было бы считать, что в «больном» обществе все граждане будут иметь психические нарушения.
Каждый человек, вынужденный находиться в условиях военных или политических конфликтов, будет по-своему реагировать на внешние события. Тем не менее для всех людей их тяготы одинаково реальны и всегда переживаются крайне остро. Обследования лиц, перенесших психическую травму, позволяют понять характер их переживаний. «Существует множество определений того, что такое психическая травма, однако во всех случаях она накладывает на психику человека глубокий отпечаток. При этом для переживаний человека характерно наличие чувства беспомощности, неверия в будущее, сочетающееся с иными ма-лодифференцированными эмоциями» (Melzak S., 1992. р. 211).
С учетом остроты проблемы, связанной с психической травматизаци-ей в условиях военных и политических конфликтов, в 1994 г. нами был создан специализированный лечебно-консультативный центр, получивший название «арт-терапевтическая инициатива» (АТИ). Основной целью деятельности центра является проведение исследований и оказание арт-терапевтических услуг детям, взрослым и различным специалистам в странах бывшей Югославии. Кроме того, опираясь на уже имеющийся опыт работы, в дальнейшем мы приняли участие в проведении обучающих семинаров по арт-терапии в Южной Африке.
В последние годы был накоплен определенный опыт оказания психотерапевтической помощи людям, пережившим политические конфликты или пытки, заключенным и перемещенным лицам. Ничто, конечно же, не может компенсировать им тех травм и колоссальных потерь, которые они понесли. Психотерапевтическая помощь не в состоянии заменить меры практического характера, в частности, первую медицинскую помощь этим людям, создание для них жилищ, выплату пособий, осуществление образовательных и реабилитационных программ, связанных с их занятостью. Тем не менее ценность психосоциальных методов в работе с пострадавшими в политических конфликтах в настоящее время не вызывает сомнений. Эти методы включают разные виды психотерапии и психологического консультирования, терапию занятостью, трудотерапию и т. д. (UNICEF, 1994; Smythe Т., Lewer N.. 1992; Medact Group Action Report, 1994; Gal R., 1995; Modric Z., 1994; Garcia del Soto A. G., 1994).
Терапевтическая роль различных видов творческого самовыражения в условиях политических конфликтов в последние годы получила высокую оценку (UNICEF, 1996; Smythe Т., Lewer N., 1992; Medact Group Action Report, 1994; Sanderson M., 1991; GolubD., 1984; Seligman Z.', 1991; Gregorian V., Azarian A., De Maria M., McDonald L., 1996; Kling-man A., Koenigsfeld E., Markman D., 1987). Достоинством арт-терапии является, в частности, ее способность выступать в качестве средства выражения чувств в условиях, когда они не могут быть вербализованы или имеют чрезвычайно сильный характер. Кроме того, изобразительное творчество основано на проявлении высокодинамичных, здоровых элементов личности.
Подходы, связанные с использованием разных форм творческой деятельности, уже применялись в работе с жертвами политических конфликтов в Хорватии, Сербии, Боснии, Анголе, Руанде, Румынии и на Филиппинах (UNICEF, 1996; Medact Group Action Report, 1994; Modric Z., 1994; Scottish European Aid, 1994; Marie Stopes International, 1996) и включали в себя занятия в области литературы, музыки, драматического искусства, перформанса, росписи стен и т. д. Однако эти виды деятельности не следует смешивать с проведением целенаправленной психотерапевтической работы с участием квалифицированных арт-терапевтов (Sanderson М., 1995; Golub D., 1984; Seligman Z., 1995; Klingman A., Koenigsfeld E., Markman D., 1987). Хотя опыт психотерапевтической работы такого рода описан в ряде публикаций, он все еще довольно разрознен и мало осмыслен.
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
. «Арт-терапевтическая инициатива» (АТИ) — это независимый арт-терапевтический центр, созданный в Лондоне в 1994 г. Деброй Калмано-вич и Бобби Ллойдом. Центр получает поддержку со стороны частных
спонсоров, Боснийской Группы Помощи, организации «Дети войны», факультета арт-терапии при Колледже Гольдсмита Лондонского университета, Университета Дурбан — Вествилль и художественного треста Квазул — Натал из Южной Африки. Основными задачами деятельности центра являются:
• оказание арт-терапевтических услуг детям, взрослым и специалистам непосредственно в регионах политических конфликтов;
• проведение индивидуальной и групповой арт-терапии в Лондоне с детьми, взрослыми и семьями, являющимися беженцами или вынужденными переселенцами в результате политических конфликтов;
• оказание методической помощи разным специалистам, работающим с людьми в условиях политических конфликтов;
• проведение исследований, касающихся арт-терапевтической работы в условиях политических конфликтов;
• информирование специалистов и общественности о результатах, достигнутых при использовании арт-терапии в условиях политических конфликтов, а также организация широких обсуждений подобной практики в форме семинаров, выставок, конференций и других мероприятий.
Наша работа в бывшей Югославии началась в ноябре 1993 г. Незадолго до этого мы имели весьма продуктивные контакты с британской благотворительной организацией «Дети войны», чья деятельность ориентирована на оказание помощи детям, пострадавшим в результате боснийского конфликта. Исследования, проведенные этой организацией, позволили нам лучше понять масштаб страданий, переживаемых местным населением, и убедили нас в определенных возможностях арт-терапевтического подхода в работе с пострадавшими в результате политических конфликтов. Как нам стало известно, организация «Дети войны» планировала создание специального художественного центра, предназначенного для оказания помощи пострадавшим в Боснии. В дальнейшем, однако, характер проекта изменился и стал связан с созданием Музыкального Центра Паваротти в городе Мостар. Там должны были проводиться музыкальные выступления, работать художественные мастерские, студия звукозаписи, устраиваться неформальные встречи.
В конце 1994 г. в соответствии с планами АТИ была сформирована небольшая рабочая труппа в которую, наряду, с Д. Калманович и Б. Ллойдом, вошла Диана Уэллер, выступавшая в роли консультанта. Вскоре АТИ реализовала два пилотных проекта в Словении и Хорватии и провела исследования в Лондоне, Хорватии и Боснии (Сараево и Восточный Мостар), позволившие укрепить и расширить контакты, установленные ранее организацией «Дети войны» и факультетом арт-терапии при Колледже Гольдсмита. В дальнейшем АТИ продолжила свою деятельность уже независимо от «Детей войны» в тесном контакте с факультетом арт-терапии. Ей удалось получить грант Лондонского университета на проведение научных исследований и обработку результатов работы.
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА В БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ: КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
АТИ работала в бывшей Югославии с 1994 по 1996 г. Такая продолжительность проекта позволила нам лучшим образом вписаться в сложную ситуацию, обусловленную войной в регионе, организовать финансирование проекта (хотя значительная часть нашей деятельности осуществлялась без какой-либо финансовой поддержки), а также накопить и проанализировать материалы. Собственно полевая работа проводилась за три поездки в течение 1994 г. Одна из них (в Словению) продолжалась пять недель. При этом мы работали с двумястами боснийских и хорватских беженцев (из них сто детей). Другая поездка в Словению была менее продолжительной. Третья поездка была в Хорватию и продолжалась три недели. Там мы работали с двадцатью четырьмя боснийскими беженцами (из них — двадцать один ребенок и три женщины).
Работа в рамках проекта была связана с использованием арт-терапевтического подхода в условиях политического конфликта и нацелена на оказание помощи детям и взрослым. Все они являлись беженцами; многие из них подвергались насилию.
Согласно плану арт-терапия беженцев должна была продолжаться не менее трех месяцев. В случае необходимости она могла быть продолжена еще на три или шесть месяцев. Занятия должны были проводиться пять раз в неделю. Во избежание «выгорания» персонала общая продолжительность работы не должна была превышать одного года.
В течение каждой недели мы планировали проводить следующие мероприятия:
• групповые арт-терапевтические занятия;
• индивидуальные арт-терапевтические занятия;
• консультации и супервизии с участием местных специалистов;
• обсуждение хода работы с иными специалистами в области арт-терапии в условиях политических конфликтов;
• сеансы психологической поддержки для местных специалистов;
• составление отчетов и ведение текущей документации;
• встречи с членами семей клиентов, представителями местных служб и организаций.
ОПИСАНИЕ ХОДА РАБОТЫ И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Арт-терапевтическая работа в рамках проекта проводилась в двух резко отличающихся друг от друга лагерях беженцев в Словении и Хорватии. В Словении лагерь беженцев располагался в горняцком городе Храстник. На протяжении четырех лет население лагеря оставалось относительно стабильным и состояло из двухсот человек (из них сто детей). Здесь проводились разные виды арт-терапевтических занятий, в которых участвовало несколько групп беженцев.
В Хорватии лагерь беженцев находился на острове Првик, недалеко от далматийского побережья. Этот лагерь являлся местом кратковременного пребывания беженцев, поэтому их состав постоянно менялся. В момент нашей работы в лагере находилось двадцать четыре человека (из них двадцать один ребенок и три взрослые женщины). Здесь использовались различные виды арт-терапевтических занятий, в которых участвовали дети, подростки и взрослые. Работа в целом продолжалась три недели.
В обоих случаях основной целью нашей деятельности было оказание беженцам арт-терапевтической помощи и оценка возможности осуществления долгосрочной арт-терапии в условиях политических конфликтов. Приводимые нами описания хода работы и ее результатов в разных лагерях сильно отличаются друг от друга, что связано с различиями в характере пилотных проектов, в соответствии с которыми эта работа осуществлялась. И в первом, и во втором случае специалисты АТИ жили и работали непосредственно в лагерях беженцев. Описание проделанной работы включает в себя ход занятий и изобразительную продукцию их участников, а также общие впечатления специалистов АТИ от пребывания в лагерях.
Отчет о работе в лагере города Храстник в Словении имеет описательный характер. Она проводилась в ходе нашего первого визита в бывшую Югославию и была связана с общей оценкой ситуации и переживаний беженцев. Структура арт-терапевтических занятий формировалась естественным образом.
Отчет о работе в лагере на острове Првик в Хорватии написан в форме дневника, с тем чтобы передать как можно больше конкретных деталей.
При реализации второго проекта был учтен опыт работы в Храстнике. Второй отчет более формализован и является результатом определенной рефлексии. Хотя для нас и здесь многое оставалось неясным и новым, мы уже имели определенное представление о тех условиях, в которых нам предстоит работать. С учетом того, что использование арт-терапевтического подхода в лагере Храстника оказалось достаточно результативным, при реализации второго проекта проводились более четкие по структуре занятия, адаптированные к условиям жизни беженцев в лагере Први-ка. Основной целью нашей работы здесь было уточнение представлений об арт-терапевтической работе с беженцами.
Лагерь беженцев в городе Храстник
Лагерь беженцев Храстника был расположен в живописной, холмистой местности, на которой находились земельные наделы местного населения. Хотя они были совсем рядом с лагерем, беженцам не разрешалось пересекать их границы. На территории лагеря было шесть одноэтажных деревянных бараков. В хорошую погоду жизнь здесь била ключом, а в непогожие дни лагерь чем-то напоминал колонию. Правительство Словении несло ответственность за этот лагерь, который обслуживала небольшая бригада, состоящая из местных жителей. Вблизи бараков с беженцами находились шесть домиков, в которых проживали сезонные рабочие. В одном домике разместились шахтеры — иммигранты из Боснии, работавшие здесь с начала войны. Кроме того в лагере находился корпус, занимаемый швейцарским представительством по борьбе с чрезвычайными ситуациями, в котором имелись разные помещения, включая кухню, столовую и учебную комнату. На двести беженцев приходилось четыре туалета и душевых кабин. Горячая вода давалась всего на три часа в сутки.
Первые беженцы прибыли в этот лагерь из Боснии в апреле 1992 г. Предполагалось, что они смогут вернуться домой через несколько недель. Однако и через два года, в мае 1994 г., большая часть из прибывших сюда в 1992 г. продолжала оставаться в лагере. 107 детей, 72 женщины, а остальные — мужчины. У беженцев не было свободы передвижения: чтобы сходить в город на десять минут, им требовалось получить пропуск. Для всех находящихся в этом лагере — и беженцев, и персонала — перспектива длительного пребывания в нем была очевидна. Женщины занимались хозяйством; присутствие мужчин было малоощутимо. Большинство их были либо убиты, либо воевали, местонахождение многих было неизвестно. Возраст тех мужчин, которые находились в лагере, как правило превышал шестьдесят лет. Среди них было несколько рабочих-мигрантов, не имевших статуса беженцев. К молодым мужчинам в лагере женщины относились с пренебрежением — они сознавали, что их мужья в это время вынуждены воевать.
Дети посещали школу, расположенную в бараке универсального назначения. Во время уроков его внутреннее пространство разделялось ширмой, позволяющей заниматься двум классам одновременно. Во время обеда ширма убиралась. Уроки вели шесть учителей, не получавших за это деньги. Они тоже были беженцами и проживали в лагере. Четверо из них работали с полной нагрузкой, хотя и не имели дипломов. Двое учителей с дипломами были заняты лишь неполный рабочий день и вели уроки географии и английского языка. Дети начинали посещать школу с восьми лет. В ней занимались пятьдесят учеников в возрасте от восьми до двенадцати лет; пятьдесят — в возрасте от тринадцати до восемнадцати лет; двенадцать — в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет. Работающий в лагере волонтер Бернард МакМахон вел занятия по рисованию с детьми от четырех до восьми лет и давал уроки английского языка для всех желающих. Он пытался организовать социальный клуб для пятнадцати подростков, нуждающихся в дополнительной работе с ними.
Беженцам лагеря Храстника не оказывалось какой-либо психологической помощи, однако в 1993 г. один испанский психолог, находясь здесь три недели, пытался проводить мероприятия социального, спортивного и образовательного характера. Учитывая отсутствие психологической помощи беженцам лагеря, Боснийская Группа Помощи поддержала наш проект. Прибыв на место, мы проживали в одном из шести бараков, где размещалось 85 беженцев. Мы занимали одну комнату, которая служила для нас гостиной, спальней и кабинетом для проведения некоторых арт-терапевтических занятий.
Во время первого посещения нашей основной целью было налаживание арт-терапевтической работы в конкретных условиях. Однако когда беженцы узнали о нашем приезде, мы были вынуждены сразу же начать арт-терапевтические занятия и работать с полной нагрузкой, поскольку, не считая учебы в школе, в лагере не проводились никакие мероприятия ни с детьми, ни со взрослыми.
В лагере царила атмосфера скуки, уныния и озлобления, которая лишь в небольшой степени скрашивалась юмором, проявлявшимся главным образом во время чаепитий и отчасти в повседневной деятельности беженцев — мытье полов, переоборудовании помещений, уборке кухонь, мытье посуды, стирке и т. д.
Во время первого посещения мы стремились вовлечь как можно больше людей в занятия рисованием и живописью. Эти занятия строились по-разному, так, чтобы заинтересовать представителей разных возрастных групп. Хотя значительная часть нашей работы была ориентирована на детей, мы также проводили занятия с их дедушками и бабушками (чьи портреты рисовали внуки), с матерями, а подросткам давали уроки изобразительной грамоты. Матери, как правило, не имели возможности посещать арт-терапевтические занятия, но по вечерам, закончив свои хозяйственные хлопоты, приходили заниматься вышивкой. За этим делом они могли затронуть вопросы личного характера (следует напомнить, что вышивание является традиционным делом боснийских женщин этой возрастной группы).
Занимаясь с лицами преклонного возраста, мы предлагали им в парах рисовать портреты друг друга. Молодые люди предпочитали занятия, на которых они могли рисовать натюрморты и портреты, и это было использовано в начале нашей работы с ними. Дети составляли большинство населения лагеря, поэтому арт-терапия их проводилась как утром, так и вечером. В каждой группе было по пятнадцать детей. Большинство детей рисовали вне занятий. Хотя эта тема не задавалась, они стремились создать образ «идеального дома» (рис. 5.27).
В ряде случаев листы были запачканными, иногда на рисунке появлялись изображения непонятных предметов, словно вопреки воле автора «содержимое» дома оказывалось выброшенным наружу. Случалось, что и весь рисунок оказывался в конце смятым или обезображенным. Виновниками этого наряду с автором рисунка бывали и другие дети (рис. 5.28).
Тема домов побудила нас совершить с группой детей из восьми человек экскурсию на городскую свалку, где ребята занялись строительством дома, используя найденные материалы и предметы. Создав «живую цепь», дети передавали камни и складывали из них фундамент. В «дом» были принесены старая кухонная плита, ванна, раковина, полки, кровать, горшки, бачки, рамы и т. д. Результаты работы вызвали у строителей чувство гордости и удовлетворения. Когда через несколько дней дети обнаружили, что их «дом» был разрушен местными ребятишками, они молча восстановили его. Когда «дом» оказался разрушенным во второй раз, дети, сев среди его «развалин», занялись рисованием домов и окружающего пейзажа, а затем, используя наш фотоаппарат, сфотографировали то, что осталось от «дома» (рис. 5.29). Им нужно было запечатлеть это;
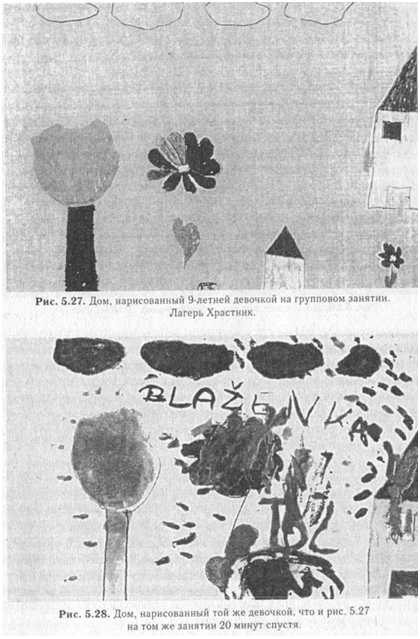 |

поскольку ни у кого из них не осталось снимков собственных разрушенных или брошенных настоящих домов.
Дети младшего возраста пытались строить рядом с лагерем домишки из дерева. Они собирали кирпичи для постройки кресел, доски — для столов, цветы — для украшения «комнат», а затем забирались внутрь своих домиков (рис. 5.30). Каждый день в течение целой недели эти домики подвергались разрушению другими детьми и вновь терпеливо восстанавливались.
Некоторым из детей-беженцев, прежде чем они прибыли в Словению, пришлось долго прятаться в лесах. Построенные ими домики было легко разрушить, однако все они имели четко обозначенные границы фундамента или прилегающей территории, что свидетельствовало не только о повышенной потребности этих детей в безопасном личном пространстве, но и об их психической уязвимости. Когда у них была возможность, они стремились запечатлеть свои домишки с помощью фотоаппарата — нередко сами забирались внутрь дома для съемки. Весь этот циклический процесс разрушения и настойчивого восстановления домиков произвел на нас очень сильное впечатление.
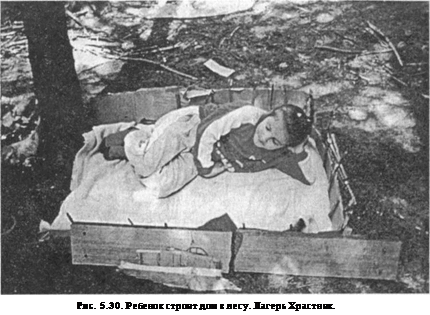
Наше второе пребывание в лагере (в августе 1994 г.) продолжалось восемь дней. На сей раз мы прибыли с педиатром Ником Лессофом. При первом посещении лагеря для нас стало очевидным, что ни один врач не находился в лагере более двух часов, и хотя беженцы имели возможность получать качественную медицинскую помощь в медицинском центре Храстника, они редко ею пользовались из-за того, что был необходим специальный пропуск и общение с врачом предстояло на словенском языке. Некоторые просто боялись узнать о состоянии своего здоровья и поэтому не обращались за медицинской помощью.
Целью второго посещения лагеря было возобновление контакта с беженцами, оказание им психологической поддержки и создание возможности для их дальнейшей художественной работы. Кроме того, учитывая то, что волонтеры непрерывно находились в лагере уже в течение нескольких месяцев и были явно переутомлены, мы решили оказать поддержку и им, в частности обсуждая трудные вопросы и обмениваясь идеями.
Во время первого посещения лагеря нам удалось начать постройку небольшого павильона для различных занятий рекреационного характера. Приехав сюда вновь, мы обнаружили, что строительство павильона уже завершено благодаря финансовой помощи со стороны одной из итальянских организаций. Создание павильона явилось для нас большой радостью, поскольку означало то, что правительство Словении с пониманием отнеслось к необходимости проведения рекреационной работы с беженцами. Таким образом, во время второго посещения мы проводили арт-терапевтические занятия уже в павильоне, а не в бараке. Хотя мы продолжали организовывать художественные сеансы, на сей раз было решено использовать также технику настенной росписи; в создании панно, занявшего две стены павильона, приняли участие двадцать детей и одна пожилая женщина. Когда мы прибыли в лагерь, к нам стали обращаться многие женщины, просившие сфотографировать их с семьями для того, чтобы они смогли затем послать снимки своим родственникам в Боснию. Фотографированию было уделено одно из арт-терапевтических занятий. На нем царила торжественная атмосфера: люди надели на себя все самое лучшее и позировали с серьезным выражением лица. Ни у кого из беженцев не было фотоаппарата, поэтому возможность сфотографироваться с нашей помощью имела очень большое значение. И хотя это занятие трудно назвать арт-терапевтическим в прямом смысле слова, оно в полной мере соответствовало духу осуществляемой нами миссии.
В наши намерения входило периодическое посещение лагеря Храст-ника с целью продолжения начатой работы, а также обсуждения с беженцами их переживаний, связанных с утратами близких, перемещением, неясностью перспектив. Следующий визит был запланирован на октябрь 1994 г. Однако он не состоялся из-за того, что правительство Словении ограничило пребывание иностранных граждан в Храстнике одним днем. Таким образом, продолжение полномасштабной работы стало невозможным. Тем не менее нам отчасти удалось продолжить ее благодаря контактам с местными волонтерами и представителями Боснийской Группы Помощи в Лондоне. Вскоре после подписания мирного соглашения в ноябре 1995 г. многие семьи стали готовиться к возвращению на родину. Боснийская Группа Помощи оказывала им всяческое содействие. Хотя правительство Словении в дальнейшем приняло решение о закрытии лагеря Храстника, некоторые семьи беженцев остались в этом регионе для постоянного проживания. Другие же были приняты своими родственниками в третьих странах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участие беженцев в арт-терапевтических занятиях оказалось даже более успешным, чем предполагалось. Мы рассчитывали проводить эти занятия осторожно, не навязывая их участникам каких-либо жестких моделей работы, способных вызвать отрицательную реакцию. В то же время с самого начала мы были убеждены в том, что занятия беженцев изобразительным творчеством будут иметь для них большое значение. Мы планировали начать работу со знакомства с жизнью беженцев в лагере и их проблемами. Однако они сразу же почувствовали (особенно дети), что предлагаемые нами формы работы связаны с возможностью творческой реализации. Детям явно не хватало свежих впечатлений, и родители были заинтересованы в том, чтобы кто-нибудь оказал их детям помощь.
В течение пяти недель сложилась та форма арт-терапевтических занятий, которая отвечала условиям жизни беженцев и имеющимся возможностям. Кроме проведения по утрам общих групповых художественных сессий для детей мы решили проводить специальные групповые занятия для пяти детей, особо нуждавшихся в психологической поддержке. Эти занятия организовывались в одно и то же время в течение пяти недель. Однако мы вынуждены были прекратить их из-за того, что в условиях сложившейся особой «культуры» лагеря беженцев было трудно обеспечить регулярность посещения детьми занятий в установленное время. Беженцы предпочитали сами строить распорядок дня по своему усмотрению. Тем не менее дети, пришедшие в данную группу, в дальнейшем на протяжении всех пяти недель регулярно посещали общие художественные сессии.
Благодаря тесному знакомству с беженцами и условиями их жизни в лагере нам вскоре удалось определить для себя оптимальный подход. Он был обусловлен вниманием к проблемам беженцев, стремлением привести модели арт-терапевтической работы в соответствие с реальными условиями и необходимостью гибкости. Ниже приводятся примеры тем, оказавшихся наиболее значимыми при работе с беженцами в лагере Храстника.
1. Карты (территории)
Э. Вуллиами (Vulliamy Е., 1994) — автор книги «Сезоны ада: что такое боснийская война?» — называет эту войну «войной территорий» и «войной народов». Он пишет: «В этой войне территорий и войне народов нет ни понятия объективной истории, ни представления об общепринятых ареалах проживания того или иного народа с определенными границами. Поистине страшно то, что в процессе разговора с любым из участников боснийской войны историческая память народа довлеет всему остальному. Ответ на мой вопрос, касающийся, например, вчерашнего артобстрела, вполне мог начаться с описания событий, происходивших в 925 г. И любой из моих собеседников неизменно пытался при этом ткнуть пальцем в карту»(р. 5).
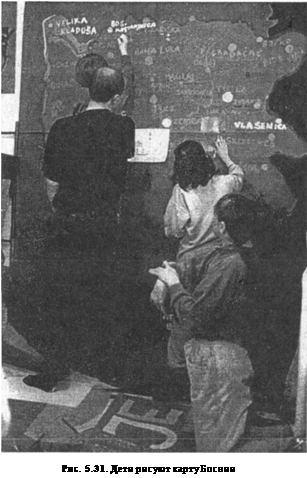 |
«Война территорий касается прежде всего Боснии и Герцеговины — края, где переплетаются границы Сербии и Хорватии и честолюбивые мечты их народов и где эти мечты проникают сквозь века, устремляясь в будущее» (р. 10).
Первой и единственной темой, самостоятельно обозначенной нами в работе с беженцами лагеря, была тема территорий. Мы пытались представить ее в широком смысле, сознавая то, что она может всколыхнуть глубоко личные переживания членов группы, с которыми нам предстоит работать в течение пяти недель. На занятии с группой молодых людей участники сами решили сообща нарисовать карту Боснии. Эта работа имела для них (так же, как и для большинства беженцев старшего возраста) большое значение. Эмоциональный отклик на нее оказался чрезвычайно высоким.
Карта создавалась вначале в помещении столовой, затем — в художественной студии и наконец снова в столовой. Молодые люди добавили изображения своих городов и поселков, после чего дети и взрослые стали писать на карте свои имена и имена своих родственников. В конце концов карта представляла собой яркий ковер, испещренный именами и надписями личного характера (рис. 5.31). Таким образом, она не только служила участникам группы средством для обозначения конкретного материала, но и способствовала объединению членов семей посредством совместной работы. Иногда в процессе коллективного творчества на лицах художников были видны слезы. Мы сознавали, какое психотерапевтическое значение имеет такая работа. Реакции участников были самыми разнообразными: одним эта работа позволяла выразить чувство горя, для других являлась способом осознания себя в контексте определенных ценностей, а третьим служила средством передачи своих представлений о пережитой народом утрате и чувства гордости за его историю. Дегума-низирующей реальности войны и вынужденному ощущению себя беженцами в процессе этой работы был брошен вызов. Посредством изобразительной работы люди имели возможность заявить о том, что они представляют собой нечто большее, чем беженцы, вынужденные коротать свои дни в лагере.
2. Дома
Изображения домов были одной из самых популярных тем в рисунках беженцев. Наиболее близка эта тема оказалась детям. Дома изображались самыми разными способами: это могли быть рисунки, постройки из разных материалов (о чем уже говорилось выше), устные и письменные рассказы и даже театральные представления. Причем дети продолжали изображать дома как на протяжении всех пяти недель нашего пребывания в лагере, так и после нашего отъезда, и во время нашего второго визита.
Детям, казалось, не требовалось никаких дополнительных стимулов для начала работы. Изобразительное творчество являлось для них гораздо более, чем речь, удобным и естественным средством самовыражения, позволяющим передать всю сложность их внутреннего мира. Рисунок оказался чрезвычайно богат метафорическим возможностям, и по мере того как образы утрачивали свое буквальное значение, они начинали вмещать в себя все больше смысла и позволяли работать на самых разных уровнях.
Изображения домов могли быть связаны с различными вещами. Они давали возможность повторного переживания драматического опыта, благодаря чему личность могла ощутить свою силу и превосходство над обстоятельствами. Для некоторых детей эти изображения могли быть связаны с попыткой визуализации понесенного ими ущерба, связанного с разрушением их родных домов, — того ущерба, который им было трудно чем-либо восполнить. Через повторное изображение домов дети могли прийти к примирению с этой утратой. Возможно, что для детей младшего возраста это занятие было связано с повторным переживанием психической травмы, которую они не могли преодолеть самостоятельно и нуждались в той или иной психотерапевтической интервенции. Изображения домов являются значимым символом во всех культурах, естественным элементом детских игр. За время пребывания в лагере мы могли убедиться в значимости тем, связанных с собственностью и авторством, обретением личного жизненного пространства и утверждением себя в нем, — все они находили отражение в художественных работах наших клиентов. Мы полагаем, что приведенные нами описания являются красноречивым свидетельством той важной роли, которую изобразительное творчество играет в жизни беженцев, позволяя им выразить и осознать свои переживания.
ЛАГЕРЬ БЕЖЕНЦЕВ НА ОСТРОВЕ ПРВИК
Првик — маленький остров, расположенный вблизи далматийского побережья Хорватии, в районе города Сибеник. В момент нашего пребывания в лагере в нем находилось триста человек: в основном люди пожилого и преклонного возраста, а также пятьдесят детей, которые посещали две местные школы и школу в Сибенике. Пятьдесят лет назад население острова составляло пять тысяч человек, однако в результате двух последних войн (напоминаниями о Второй мировой войне являются, например, бункеры, расположенные на холме вблизи лагеря беженцев) большинство местных жителей переселилось в Хорватию и другие европейские страны, а также в Австралию и США. До недавнего времени остров являлся популярным туристическим курортом, что было трудно себе представить, видя его полупустынным, с двумя маленькими поселками, в которых имелось всего две лавки и немного местных жителей, в основном преклонного возраста. По вечерам можно было видеть, как островитяне сидели на лавках возле своих домов. Добраться до «большой земли», так же как и прибыть оттуда, можно было на двух катерах, расписание движения которых менялось каждую неделю. Во время нашего пребывания в лагере близость войны местными жителями практически не ощущалась. Они продолжали заниматься привычным для себя делом — ловлей осьминогов и сбором олив. Отсутствие туристов и наличие лагеря беженцев, располагавшегося в конце маленького поселка, были единственным напоминанием о военных конфликтах в Хорватии и Боснии.
Во время нашего визита на остров с октября по ноябрь 1994 г. погода здесь резко менялась: спокойные ясные дни чередовались с периодами, когда дул сильный ветер и шли проливные дожди.
Корпус, в котором когда-то располагался летний лагерь скаутов, теперь был предоставлен беженцам. Он находился возле небольшой бухты у подножия холма, покрытого соснами, и имел три этажа, на которых могли разместиться семьдесят человек. В центре здания была столовая, комната отдыха, большая кухня, маленький офис и медпункт, на каждом этаже имелись жилые комнаты с двухъярусными кроватями и два туалета. На весь корпус приходились лишь две душевые комнаты, расположенные на первом этаже. На территории возле корпуса в летнее время устанавливались столы и развешивалось для просушивания белье. Здесь же был зеленый газон и заасфальтированная площадка с двумя теннисными столами.
Лагерь был официально открыт в октябре 1994 г. Когда мы прибыли сюда в конце октября, здесь находилось всего двадцать четыре беженца (девять детей в возрасте от двух до одиннадцати лет, четырехмесячный ребенок, одиннадцать подростков и три женщины). Они начали поступать еще в июне 1994 г., после того как здание бывшего лагеря скаутов было переоборудовано канадской организацией, установившей перегородки в жилых помещениях.
Большинство детей прибыло отдельно от своих родителей, которые либо продолжали оставаться в Боснии, либо погибли во время войны. Первоначально сюда должны были направляться круглые сироты, подвергшиеся психической травматизации. Однако впоследствии сюда стали направляться и дети, потерявшие одного из родителей.
Управление по делам перемещенных лиц и беженцев было в Хорватии единственным учреждением, осуществляющим их регистрацию, а лагерь на Првике служил официальным местом, откуда можно было подавать документы на регистрацию, поэтому для многих людей, утративших свои документы и стремящихся перебраться в другие страны или вернуться в Боснию, он превратился в перевалочный пункт.
Беженцы, как правило, ехали в лагерь неохотно, так как он был расположен на острове, а сообщение с большой землей было нерегулярным и весьма сложным. Они не имели никаких средств, кроме небольшого пособия, выплачиваемого раз в три месяца Управлением по делам перемещенных лиц и беженцев, а также тех денег, которые они могли заработать пошивом одежды и ее продажей в местном ателье. Кроме того, исламские организации «Идаза» и «Мерхамед» выплачивали беженцам стипендии.
Дети в возрасте от шести до одиннадцати лет посещали местные школы. Подростки же учились в городе Сибеник. Психологическая помощь беженцам оказывалась двумя женщинами. Для Наташи — дипломированного психолога — и Мари — учительницы, используемой здесь в качестве социального работника, — это была их первая работа. Они обе осуществляли ранее психологическую помощь пожилым беженцам, размещенным в лагере города Водицы. Кроме них на Првике трудились волонтеры из стран Европы (в частности, Швейцарии), чьей задачей была организация мероприятий социального, творческого характера, создание атмосферы заботы и взаимопомощи, для того чтобы снять переживаемое многими беженцами ощущение одиночества и изоляции. Волонтеры, подбиравшиеся, как правило, из числа студентов, играли важную роль в жизни лагеря, но во время учебных семестров их присутствие становилось менее заметным.
Наша работа была рассчитана на три недели. Она осуществлялась в соответствии с пилотным проектом и предполагала проведение серии художественных сессий. Основной ее задачей являлась демонстрация возможностей краткосрочной арт-терапии в лагере беженцев.
Мы рассчитывали привлечь к занятиям художественным творчеством всех находящихся здесь беженцев. Работавшие с ними ранее психологи пытались проводить вербальную групповую психотерапию, но тогда возникли проблемы с тем, чтобы в достаточной степени заинтересовать беженцев и обеспечить регулярность занятий. Кроме того, этими же психологами были организованы групповые занятия танцами и драмой, оказавшиеся более успешными, хотя и столь же нерегулярными, как и занятия вербальной психотерапией. Мы планировали организовать для беженцев художественные сессии, которые позволили бы реализовать возможности арт-терапевтического подхода. Так же, как и при работе в лагере Храстника, мы собирались участвовать в этих сессиях в качестве фасилитаторов, поддерживая и развивая темы, появляющиеся в процессе изобразительной деятельности участников групп. Так же, как и там, мы пытались обеспечить определенную частоту и продолжительность занятий, однако это оказалось непросто из-за школьного расписания, мешавшего посещению детьми наших занятий в одно и то же время. Мы тем не менее смогли обеспечить ежедневные художественные сессии, ориентируясь на существующие условия и ритм жизни беженцев.
В отличие от лагеря Храстника, лагерь на Првике воспринимался большинством проживавших здесь людей временным пристанищем. Как правило, они находились здесь не более пяти месяцев (в некоторых случаях гораздо меньше). Беженцы из лагеря Храстника, прожившие там по два года, уже адаптировались к новым для себя условиям и представляли собой оформленное общество. В лагерь на Првике беженцы попадали разными путями: прямо из Боснии, из других лагерей, из близлежащих городов. Люди отличались друг от друга по характеру своих переживаний и потребностей. Однако, из-за того, что их было всего двадцать три человека, не считая младенца, мы смогли установить личный контакт со всеми.
Мы хорошо понимали, что психологическая работа с беженцами в этом лагере должна иметь краткосрочный характер и быть сфокусированной на определенном круге задач. Заранее разработанный нами пилотный проект был рассчитан на три недели и не предполагал в дальнейшем новых визитов на остров. В случае необходимости остававшиеся здесь психолог и социальный работник могли обеспечить беженцам необходимую психологическую поддержку. Мы использовали лишь те материалы, которые были нам доступны. Занятия проходили в помещении столовой, поэтому перед нами стояла задача создать такую атмосферу, которая располагала бы членов группы к изобразительному творчеству там, где они обычно занимались совсем другим делом. Каждый день проводилось до пяти художественных сессий. Участники подбирались в группы с учетом возраста: одна группа состояла из самых маленьких детей, другая — из школьников, третья — из подростков, четвертая — из взрослых.
Мы предлагали участникам самостоятельно выбирать себе тему для рисования и использовать любые изобразительные материалы. Работа структурировалась с помощью определенных приемов, в частности, путем использования разных материалов, бумаги любого размера или формы.
Дети охотно пользовались предоставленной возможностью творчества. На начальном этапе они нередко создавали до десяти рисунков в течение часа. Мы стали давать им бумагу небольшого формата, что способствовало фокусировке на создаваемых образах. Благодаря этому характер рисунков изменился: они стали включать больше мелких деталей и выполнялись более тщательно. При проведении занятий со взрослыми и подростками мы поначалу пытались организовать их работу, что оказалось излишне, так как они и без того отнеслись к ней с большим интересом. Они рисовали в любое свободное время, когда у них появлялась этом потребность. В дальнейшем мы перешли на неформальный стиль общения: выдавали изобразительные материалы по просьбе беженцев, после чего они собирались в помещении столовой или шли в свои комнаты для самостоятельной работы, приходя затем к нам со своими рисунками.
Ниже приводится дневник художественных сессий, отражающий то, что происходило в течение трех недель нашей работы в лагере. Дневник позволил нам зафиксировать детали, которые могли бы оказаться упущенными при использовании иной формы описания.
Расписание сессий:
• утренние сессии с 10.00 до 12.00;
• дневные сессии с 13.00 до 15.00 (или с 13.00 до 16.00);
• вечерние сессии с 16.00 до 18.00 и с 17.00 до 19.00.
День первый
Прибытие на остров, ориентировка, знакомство с условиями жизни и работы. Встречи с волонтерами, беженцами и работающими в лагере психологом Наташей и социальным работником Мари. Мы стремились узнать, как организована жизнь находящихся здесь людей. Отметили характерную для многих из них апатию и плохую организацию жизни. Сотрудники лагеря указали на недостаток инициативы у беженцев. Нам было важно осознать эти моменты для того, чтобы не поддаться царящей здесь летаргии.
День второй
Утро. Встреча с психологом и социальным работником, в ходе которой мы узнали об истории создания лагеря и его нынешних обитателях. Затем состоялась беседа с директором лагеря и его ассистентом; мы пришли к согласию относительно нашей будущей работы: ее целей, продолжительности и условий.
День. Занимались переоборудованием одной из спален в арт-терапевтический кабинет.
Вечер. Провели неформальную художественную сессию с группой детей младшего возраста (2-8 лет) в только что оборудованном кабинете. Присутствовали: Марио, Мари, Блазенка, Люба, Хикмета, Рефиджа. Дети охотно рисовали, осваивали помещение и разные материалы, приноравливались к условиям групповой работы в новой для себя обстановке. Тема сессии: знакомство. Дети с интересом отнеслись к заданию и представляли нам себя в рисунках.
Обстановка в лагере. Мы продолжали знакомство с местными условиями, вновь отметили царящую апатию и слабую организацию жизни беженцев.
День третий
Художественная сессия с детьми. Присутствовали: Марио, Хикмета, Мари, Мирела, Блазенка, Рефиджа. Отметили, что дети пользовались большим количеством красок, быстро создавая один рисунок за другим. Казалось, они испытывали радостное возбуждение из-за того, что в их распоряжении появились изобразительные материалы.
Вечер. Неформальное общение с волонтерами и беженцами.
Важное наблюдение. Обратили внимание на то, что апатии среди беженцев стало меньше.
День четвертый
Утро. Поездка в город Сибеник для покупки изобразительных материалов.
День. Художественная сессия с подростками и взрослыми. Тема: знакомство с изобразительными материалами и техниками. Рисовали и фотографировали с помощью «Поляроида». Каждому давалась возможность сфотографировать какой-нибудь предмет в кабинете или за окном.
После перешли к рисованию, стремясь создать либо фрагмент рисунка, либо законченный образ. Присутствовали четырнадцать человек: Златка, Мина (с сыном Иваном), Стефан (волонтер), Эрмин, Эмир, Азра, Адиза, Наташа, Мари, Бобби, Дебра, Кук, Элвис, Горана. Цель занятия: осторожное ознакомление участников группы с основами художественного творчества. Общая атмосфера в группе: изобретательность и вовлеченность в творческий процесс с длительными периодами молчаливой сосредоточенной работы. Вначале была необходима определенная поддержка с нашей стороны, и мы стремились уделить внимание каждому участнику. Пили кофе, звучала музыка.
Важные наблюдения. Златка долго и сосредоточенно работала. Эр-мин опоздал, заявил, что не хочет рисовать, рассмотрел «Поляроид», но затем положил его. Начал рисовать и создал три рисунка: на одном были изображены какие-то карикатурные персонажи, на втором раскрашенная фигура клоуна, на третьем — кот (контурное изображение). Эмир тоже опоздал. Его отношение к работе было противоречивое. «Поляроидом» сделал очень удачный, яркий снимок стеллажа с материалами. Было видно, что он испытывает от этого гордость. Азра работала весьма осторожно и нарисовала два пейзажа. Элвис взял «Поляроид» и ходил с ним, практически ни с кем не общаясь и не рисуя. Горана после долгих раздумий сфотографировала свою руку с красными, наманикюренными ногтями (позднее оказалось, что этот снимок отражает ее озабоченность своей внешностью, в частности руками, хотя в дальнейшем она часто посещала художественные сессии, эта работа оказалась ее единственным законченным произведением).
Резюме. Мы1 были поражены высоким уровнем творческой активности детей на этом этапе работы, которого было трудно ожидать исходя из ранее проведенного опроса. Мы обратили внимание на заметное снижение апатии у участников групповых занятий в этот день. В группе царила атмосфера творческого поиска, изобретательности и высокого интереса к работе.
День пятый
Утро. Была организована совместная прогулка по острову.
День. Директор распорядился освободить арт-терапевтический кабинет и в дальнейшем использовать для проведения художественных сессий помещение столовой. Реакция беженцев на это была различна. Некоторые выражали свое возмущение, но большинство подростков, казалось, испытывали радость и прилив энергии, помогая нам освобождать ранее занимаемую комнату.
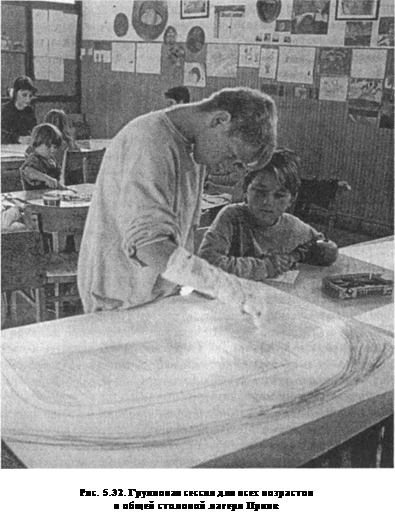 |
Вечер. Открытая групповая художественная сессия с участием людей самого разного возраста. Присутствовало большинство беженцев, включая матерей, подростков и детей (рис. 5.41). Тема не задавалась.
Важные наблюдения. В ходе сессии было создано большое количество работ; многие участники просили дать им новые листы бумаги. Рефиджа (мать Хикметы) пыталась давать советы дочери и помогать ей в ходе рисования. Эмма (мать Мари, Марио, Блазенки и Мирелы), как и Деян, изобразивший футбольных игроков, создала свой первый и последний рисунок. Дэниел (волонтер) сделал стилизованное изображение острова.
Резюме. Количество рисунков, созданных за одну сессию, оказалось впечатляющим. Участников было трудно оторвать от работы. Мы расценили это как проявление «выплескивания» чувств и высокой потребности беженцев в выражении своих переживаний. Атмосфера в ходе сессии была «заряженной», ощущалась некоторая озлобленность и неудовлетворенность. Такое состояние многих участников сохранялось и на следующий день, когда имели место проявления негативизма и вызывающего поведения. Мы связали это с напряжением в отношениях между дирекцией лагеря и беженцами. Во время обеденного перерыва директор выступил с речью, в которой выразил свои сожаления по поводу перенесения занятий в помещение столовой и напомнил о требованиях, касающихся поведения беженцев в лагере. Его слушали молча. На лицах большинства подростков и взрослых было трудно что-либо прочитать.
День шестой
Утро. Групповая художественная сессия с участием детей. Присутствовали: Марио, Мехмед, Эрмин, Зарина. Многие пришли с опозданием. Эмир тоже участвовал в этом занятии, хотя был старше других детей. Его присутствие, казалось, сплачивало группу. Тема не задавалась. Преобладающим мотивом в рисунках оказалось изображение острова (так же, как и в рисунках участников других групп). Было создано около тридцати пяти рисунков. Многие дети оказались под впечатлением работы Дэниела, нарисовавшего остров, они пытались копировать его рисунок, внося в него дополнения.
Важные наблюдения. Рефиджа пыталась «исправить» рисунок Хикметы. Эрмин подшучивал над ней. Она, казалось, стала центром притяжения других детей.
Резюме. Стремление детей использовать в ходе занятия большое количество бумаги и красок сохранялось и отражало их эмоциональную неудовлетворенность. В работу этой группы по своему желанию включились некоторые подростки.
День. Занятие с участием детей и взрослых. Тема: создание мандалы в круге произвольного размера. Присутствовали: Эмир, Стефан, Азра, Люба, Селвер, Рефиджа и ее дочь Кука. Атмосфера в группе была спокойной, уровень активности то и дело менялся.
Важные наблюдения. Эмир весь день был погружен в работу, начав рисовать после завтрака и закончив лишь к обеду. Он рисовал воображаемые пейзажи, а затем стал копировать их с открыток, тщательно выбирая краски. Рефиджа создала свою первую работу — тщательно прорисованные цветы в вазе. Когда мы предложили ей повесить свой рисунок на стену (выбор рисунков и их приклеивание к стене скотчем превратился уже в ритуал завершения сессии), на ее лице отразилось замешательство и в то же время удовольствие. Она ответила (через переводчика), что ее рисунок кажется ей нарисованным семилетним мальчиком и представляет собой плохую имитацию работы Хикметы. Марио и Мари несколько раз выходили из помещения, капризничали и мешали другим. Единственным способом их успокоить оказался массаж лица и бровей.
Резюме. Эмир обратил на себя внимание своей увлеченной работой, что шло вразрез с его беспокойным поведением и отсутствием интереса к школьным занятиям. Мы отметили и то, что физический контакт с маленькими детьми — используемый нами обдуманно и с большой осторожностью — помогал успокоить их на этой стадии работы.
Вечер. Директор уехал из лагеря после двух дней своего пребывания здесь, в течение которых многие чувствовали себя весьма закрепощен-но. Сразу после его отъезда на столах в столовой появились пустые бутылки из-под вина, что было явным вызовом местным правилам, согласно которым в лагере не допускалось распитие спиртных напитков. Психическое напряжение, характерное для беженцев и подогреваемое гиперконтролем со стороны администрации, проявилось в инцидентах: мы увидели, например, как обычно тихая и замкнутая Рефиджа бежала за Хикметой и, догнав, стала ее бить. Шестнадцатилетний Элвис пытался взять на себя роль «доброго пастыря»: его комната стала местом для ночных «тусовок», где он развлекал собравшихся музыкой и угощал их кофе. В этот вечер Элвис вышел в коридор и раздавал всем проходящим витамины и бинты.
Резюме. День начался достаточно спокойно, но затем в поведении беженцев стал ощущаться немой протест. К вечеру атмосфера в лагере стала особенно напряженной. При этом нам трудно было определить причину этого напряжения.
День седьмой
Утро. Встреча с Наташей и Мари для обсуждения обстановки в лагере и общих проблем. В процессе разговора мы узнали, что директор приезжает в лагерь каждые две недели. Его последний приезд и выступление перед беженцами почему-то вызвали у них сильную реакцию. Наташа и Мари посетовали на плохую организацию повседневной жизни беженцев. По их мнению, беженцы, ощущая это, вскоре начнут покидать лагерь. В их словах сквозило раздражение, тревога и озабоченность перспективой своей работы.
День. Групповая художественная сессия с участием детей младшего возраста. Тема: рисование мандалы. Присутствовали: Мирела, Михана, Блазенка, Мехмед, Зарина.-Хикмета, Ана (санитарка), Мари. Дети были спокойны и сосредоточенны. Повышение атмосферного давления вызвало южный ветер с моря. Вскоре он усилился, и море заштормило. Небо покрылось серыми тучами. Несколько беженцев пожаловались на головную боль и угнетенное настроение.
День восьмой
Утро. Ездили на катере в Сибеник купить принадлежности для работы. По возвращении на террасе состоялась неформальная художественная сессия с участием детей младшего возраста. Присутствовали: Мирела, Хикмета, Мехмед, Михана, Зарина, Мари, Марио, а также Ана. Тема: рисование и лепка из пластилина.
День. Занятие с детской группой. Тема: работа с глиной. Присутствовали: Мирела, Хикмета, Мехмед, Михана, Зарина, Мари, Марио. Каждый получил глину и доску. Дети с интересом и осторожностью знакомились с новым для себя материалом, пытались вылепить различные фигуры.
Важные наблюдения. Мари первой начала активно пользоваться водой, но покинула занятие, не завершив своей работы. Другие дети, последовав ее примеру, вскоре переключились на другой вид деятельности, — смешивая глину с большим количеством воды, они стали попросту играть, находя в этом удовольствие.
Резюме. На этом занятии группа работала в определенном ритме, который во многом структурировал действия участников и придал занятию терапевтический оттенок. Преждевременный уход Мари, казалось, был закономерен и обусловливался ее предшествующим поведением.
Вечер. Подростки по отдельности подходили к нам и брали изобразительные материалы, отправляясь затем с ними в свои комнаты или в столовую (большинство из них показало нам уже созданные работы).
Важные наблюдения. Шторм утих, и выдавшийся спокойным вечер прошел без каких-либо эксцессов.
День девятый
Утро. Встреча с Наташей и Мари. Обсуждали их работу, связанные с ней проблемы, способы их решения и т. д., а также ход занятий с участием семей беженцев и отдельные случаи. Был поднят вопрос о необходимости супервизорской помощи. Затем состоялось занятие с участием детей, Наташи и Мари. Присутствовали: Мирела, Рефиджа, Михана, Мехмед. Тема: изготовление поздравительных открыток. Присутствовали: Азра, Мина и Иван, Хикмета, Мирела, Марио, Мари.
Важные наблюдения. Мари на этот раз осталась до конца занятия и создала законченную работу. Азра нарисовала две поздравительные открытки и была увлечена работой.
Резюме. Маленькие листы картона явились для Мари стабилизирующим фактором и позволили ей сфокусироваться на создании детализированного образа (на последующих занятиях Мари предпочитала пользоваться листами бумаги такого же размера).
Вечер. Совершили организованную прогулку на вершину близлежащего холма с участием детей и взрослых. Вечер стоял тихий и безоблачный.
День десятый
Утро. Художественная сессия с участием маленьких детей. Тема: раскрашивание найденных предметов. Использовались акриловые краски.
День. Художественная сессия с участием детей старшего возраста. Тема не задавалась.
Важные наблюдения. Группа оказалась неспокойной; между детьми то и дело возникали стычки. Хикмета была не в своей тарелке и нарисовала девочку со «счастливым» лицом и красными точками по всему телу.
Затем состоялась еще одна сессия с участием детей старшего возраста и подростков. Тема: прогулка и фотографирование. Предполагалось, что каждый сделает снимок окружающей лагерь местности. В начале прогулки участники группы проявили интерес к фотографированию, затем между детьми стали возникать стычки. Обсуждения работ не получилось. Большинство детей и подростков были перевозбуждены. Прогулка среди скал продолжалась еще некоторое время. На обратном пути Мари и Марио попросили разрешения забраться на небольшую часовню, расположенную на одной из скал. Пытаясь вскарабкаться по скале, Марио упал и повредил колено. Оставшуюся часть пути группа прошла более спокойно.
Вечер. Подростки продолжали рисовать в неформальной обстановке.
Атмосфера в лагере. В начале занятий атмосфера в группах была довольно напряженной, из-за чего было трудно организовать работу. Утром медсестра, пытаясь развлечь детей, делала им перевязку рук и пальцев. Вечером Эрмин перебинтовал свою руку и наложил шину на палец. У Марио оказалось перебинтовано колено, а у Деяна после того, как он упал с велосипеда, — рука. Хотя появление такого количества повязок в лагере было случайным, оно привлекло к себе внимание.
День одиннадцатый
Утро. Встреча с Наташей для обсуждения программы работы на последнюю неделю. Затем состоялась художественная сессия с участием детей младшего возраста. Тема: работа с пластилином. Присутствовали: Мирела, Мехмед, Блазенка, Михана. Занятие проводилось на открытом воздухе. Дети пребывали в радостном возбуждении и дружно рисовали.
День. Художественная сессия в помещении с детьми старшего возраста. Тема: создание индивидуальных коллажей, во второй половине занятия — совместное групповое рисование. Присутствовали: Мирела, Зарина, Мари, Марио, Хикмета, Мехмед. Занятие началось с потасовок, однако к концу дети успокоились и смогли создать довольно интересную и гармоничную работу.
Важные наблюдения. Впервые дети работали совместно и пытались взаимодействовать друг с другом. Некоторые повторяли формы и цвета, использованные другими детьми. Поэтому группе был предложен большой лист бумаги для создания коллективной работы. Стало очевидно, что большинство все же не готово к ней, что проявилось, например, в стремлении рисовать в пределах своих «территорий». Некоторые через определенное время предпочли продолжить работу над своими индивидуальными рисунками. Зарина и Мари, однако, хорошо работали вместе, начав рисовать и перейдя затем к созданию общего коллажа. Такая совместная работа оказала на них успокаивающее действие.
Атмосфера в лагере. Вновь подул южный ветер, и море заштормило. Многие стали жаловаться на головную боль. Влияние погодных условий на беженцев было значительным.
День двенадцатый (воскресенье)
Утро и день (10.00-17.00). Занятие с большой группой. Участники разделились на подгруппы и устроились за столами с разнообразными материалами. Тема: для детей — свободное рисование за отдельными столами на небольших листах бумаги, для подростков и взрослых — рисование акриловыми красками на больших листах. Взрослых мы попросили по возможности изобразить остров Првик. В процессе занятия состоялся небольшой перерыв на обед.
С 12.30 до 16.30 мы присутствовали на собрании в Сибенике, и в это время группа без нас продолжала работать самостоятельно.
Важные наблюдения. Люба очень сосредоточенно работала, что оказало определенное влияние на Мари. Хикмета начала рисовать красками вместе с другими детьми, но мать через некоторое время стала ее учить рисовать дом и дерево. При этом другие дети покинули этот стол. Азра в течение нескольких часов рисовала на большом листе, в конце работы удивилась яркости и гармоничности рисунка, на котором были изображены дома и дорога. Рисование дорог и тропинок, начатое Эмиром на одном из первых занятий, было подхвачено Азрой и другими. Элвис нарисовал на большом листе бумаги цветок и бабочку. Он позволил другому участнику группы нарисовать на этом же листе свой портрет.
Резюме. Мы отметили, что при изображении домов и дорог последние почти всегда оказывались незакрашенными и от них всегда отходило множество тропинок. Азра начала работу над большим рисунком, собираясь продолжить ее на следующий день.
Атмосфера в лагере. После обеда, ввиду того, что нам было необходимо вновь присутствовать на встрече в Сибенике, группа продолжала работать самостоятельно. Эмир отвечал за изобразительные материалы. Мы не могли договориться о переносе встречи на другое время из-за отсутствия телефона. Мы с сожалением покидали лагерь, однако группе наше отсутствие позволило почувствовать независимость, что было весьма важно ввиду нашего приближающегося отъезда. По возвращении нам сообщили, что группа работала, все материалы в сохранности, а рисунки в конце занятия развешаны участниками на стене.
День тринадцатый
Утро. Неформальная художественная сессия на открытом воздухе с участием подростков. Тема: работа с пластилином.
День. Художественная сессия с двумя параллельными группами детей и подростков. Тема: рисование мелками во дворе. Дети дружно рисовали на отведенной им территории. Подростки, однако, не смогли (или не захотели) работать совместно и предпочли в этот и последующие дни рисовать мелками поодиночке. Они занимали своими рисунками не только отведенный им участок двора, но и любые пригодные для рисования поверхности (например, разрисовали причал, находящийся за пределами территории лагеря, дорожки и теннисные столы). Затем состоялась еще одна художественная сессия с участием подростков. Тема: продолжение рисования на больших листах бумаги.
Важные наблюдения. Азра продолжала сосредоточенно рисовать карандашами церковь. Марио проявил большой интерес к работе: он энергично рисовал каракули на маленьком листе бумаги, после чего стал вырезать в нем отверстия.
Резюме. Ранее созданные рисунки Марио в полной мере соответствовали его поведению. Оказалось, что мертвый кот, найденный возле кухни, был задушен им (этот инцидент, по-видимому, не был первым).
Вечер. Освоение портретной фотографии. Многие просили сфотографировать их поодиночке и с семьями.
Атмосфера в лагере. Изобразительные материалы были доступны всем желающим целый день. В настроении многих ощущалась некоторая апатия, которая рассеялась к концу дня. Утром подростки лепили из пластилина на улице.
День четырнадцатый
Утро. Поездка на катере на Обаньян — еще один остров, предназначенный для размещения беженцев. Нас сопровождал Элвис (он ранее там жил и, пользуясь случаем, хотел встретиться со своими друзьями).
День пятнадцатый
Утро. Возвращение в лагерь. Этот день считается здесь национальным праздником и называется Днем Мертвых. Школьных занятий не было. Всем желающим была предоставлена возможность пользоваться изобразительными материалами, однако организованных сессий не проводилось. С согласия авторов мы начали фотографировать на слайды их работы.
День. Художественная сессия с участием детей, подростков и взрослых. Тема не задавалась. Присутствовали: Марио, Блазенка, Мари, Хикмета, Рефиджа, Азра.
День шестнадцатый
Утро и день. Продолжали фотографировать работы.
Важные наблюдения. Во время полдника Рефиджа ударила Хикме-ту по лицу, последняя, побледнев, лишь смотрела на свою обидчицу. Подобное проявление агрессии было особенно вызывающим, поскольку произошло на глазах у всех. Златка сразу же подбежала, чтобы защитить Хикмету, закричала на Рефиджу и вышла из столовой. Затем состоялось обсуждение этой стычки, в котором приняли участие все свидетели. Разговор касался материнства, взаимоотношений матери и ребенка и важности тесного контакта между ними. На следующий день мы продолжили этот разговор со Златкой и Рефиджой.
День семнадцатый
Последний день нашего пребывания в лагере.
Утро. Поездка на катере в Сибеник за фотопленкой и изобразительными материалами. После продолжали фотографировать на слайды ранее созданные работы.
День. Завершающая сессия с участием детей. Присутствовали: Марио, Хикмета, Блазенка, Мари, Мирела, Зарина, Рефиджа. Отмечался высокий уровень активности детей, ощущавших то, что это занятие с нашим участием является последним. Тема не задавалась. Использовались акриловые краски, карандаши и другие материалы.
Важные наблюдения. Так же, как и на самом первом занятии, дети использовали большое количество красок: выливали, разбрызгивали их на поверхности листа и размазывали до тех пор, пока он не прорывался насквозь. Краски высохли лишь через несколько часов и были все еще влажными во время ужина.
Резюме. В этот день все участники сессий работали с большой увлеченностью и вновь обильно использовали краску так же, как и три недели назад.
Вечер. Прощальная вечеринка. Каждому была вручена папка с его работами и предложено выбрать из них одну для того, чтобы мы могли взять ее с собой в Лондон. Беженцы были удивлены тем, что их работы оказались сохранены. Состоялось обсуждение работ, выполненных за три недели. Некоторые предпочли анализировать рисунки, другие делились наиболее яркими впечатлениями. Вечеринка закончилась неформальным обсуждением развешанных на стенах работ. Отношение к ним было различным: гордость одних сочеталась с равнодушием других. После состоялся ужин и танцы.
Атмосфера в лагере. Настроение людей на вечеринке было приподнятое. До глубокой ночи они танцевали и пели песни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лагерь на Првике был местом краткого пребывания беженцев. Они жили здесь с ощущением скорого переезда на новое место. В их среде царила атмосфера ожидания, апатии и бесцельного времяпрепровождения. В отличие от лагеря Храстника, где беженцы были неплохо адаптированы к местным условиям и где женщины стремились содержать лагерь в чистоте, этот лагерь выглядел неухоженным. За чистотой помещений здесь следила уборщица — хорватка. В Храстнике царил дух коллективизма, беженцы воспринимали лагерь как свой дом. Лагерь же на Првике казался домом без хозяина.
Реакции беженцев на рисунки, созданные ими за три недели (см. день семнадцатый), отражали их двойственное отношение к своему пребыванию в лагере. Получив папки с работами, они были удивлены тем, что их рисунки оказались заботливо сохраненными. Однако на следующее утро мы увидели, что многие папки оставлены на столах в помещении, где проходила вечеринка.
В течение трех недель дети, подростки и взрослые работали с большим интересом. Многие просили дать им материалы для самостоятельной работы и, завершив тот или иной рисунок, испытывали чувство удовлетворения и гордости. Это контрастировало с атмосферой бесцельного времяпрепровождения, характерной в целом для лагеря. Люди нередко приходили на наши занятия в надежде чем-то заполнить пустоту своего существования. Выражением такого стремления были, в частности, их желание использовать большое количество изобразительных материалов и избыточное потребление кофе и сигарет. Художественные сессии позволяли людям ощутить имеющиеся у них внутренние ресурсы и являлись для них важным средством для выражения своих переживаний.
Все двадцать три беженца за три недели участвовали в художественных сессиях. Каждому из них был характерен свой индивидуальный стиль самовыражения. Ниже приводится более детализированное описание работ четырех беженцев, показывающее своеобразие их реакций в ходе сессий и стиля самовыражения и напоминающее тем самым о разнообразии возможностей и деликатности интервенций в изобразительном творчестве.
Эмир (16 лет) прибыл в лагерь перед началом войны вместе с двумя своими братьями из боснийского поселка, расположенного вблизи города Зеницы. До прибытия на Првик мальчики некоторое время находились в другом лагере в Хорватии. Все трое являлись младшими из десяти детей. Их старшие братья и сестры остались с родителями в Боснии. Нам сообщили, что Эмир — один из самых беспокойных детей в классе и что он часто уходит с уроков. На первую художественную сессию Эмир явился с опозданием и отнесся к работе со смешанными чувствами. Однако в дальнейшем он, как мало кто другой, увлеченно работал, создавая на каждом занятии новые рисунки, самостоятельно занимаясь изобразительной деятельностью в выходные дни и нередко присоединялся к другим группам. Некоторые из его первых рисунков представляли изображение деревни с дорогой и отходящими от нее тропинками. Этот пейзаж оказался значимым для всей группы. После того как он был вывешен на стену, другими детьми в течение последующих дней было создано несколько рисунков с аналогичным сюжетом. В конце нашего пребывания в лагере Эмир признался, что раньше рисовал очень редко, и попросил оставить ему набор красок для самостоятельных занятий рисованием после нашего отъезда.
Мирела (4 года) родилась в городе Сараево и прибыла в лагерь со своей матерью (Элмой) и тремя братьями и сестрами. Из-за отца семье угрожали кровавой местью, обещая в первую очередь расправиться с братом Мирелы. В связи с этим, а также из-за начавшейся войны Элма с детьми вынуждена были покинуть Сараево. Два года они были беженцами. В течение трех недель Мирела участвовала в работе разных групп, демонстрируя высокую степень восприимчивости и способность к совершенствованию художественных навыков. Из бесед с Элмой мы узнали, что в предшествующие два года Мирела не имела возможности заниматься рисованием. В это можно было поверить, видя, как дети, предоставленные сами себе, большую часть времени проводили, гуляя в окрестностях лагеря. Художественные занятия вызывали у Мирелы большой интерес. Она много рисовала карандашами и однажды с удивлением обнаружила, что в результате смешивания синего и желтого цветов получается зеленый. На другом занятии после продолжительного рисования она вдруг восторженно закричала: «Кука, кука!» (что на сербскохорватском языке означает «дом»). Казалось, она только тогда обнаружила, что может давать название тому, что рисует. На этом занятии она впервые нарисовала дом. В дальнейшем она создала множество рисунков с изображением домов.
Элвис (17 лет) родился в Боснии, самый младший из одиннадцати детей. Он единственный из всей семьи находился в лагере на Првике. Сведения об Элвисе и его семье противоречивы и крайне ограничены. Нам удалось узнать, что до войны Элвис в течение нескольких лет жил в Хорватии, вместе с одной из своих сестер обучался в школе для детей с психическими нарушениями, лечился в психиатрической больнице в Загребе, оттуда был переведен в лагерь беженцев города Обаньян, где находился около года до того момента, когда был направлен на Првик. Здесь он обратил на себя внимание беспокойным поведением: угрожал одному из своих сверстников и даже бил детей младше себя по возрасту. Хотя в лагере многие относились к Элвису с симпатией, его боялись, опасаясь непредсказуемых поступков. У него одного во всем лагере была отдельная комната. Он мог внезапно исчезнуть на несколько часов или дней, бодрствовать всю ночь, спать весь день или закрыться в своей комнате, игнорируя все попытки достучаться до него. В то же время для него были характерны высокая восприимчивость и тонкость эмоциональных реакций, хорошие практические навыки и способность к творческим проявлениям. Например, в ночь перед началом шторма (см. День шестой), когда обстановка в лагере была весьма беспокойной и напряженной, Элвис из своей аптечки раздавал перевязочные материалы и витамины. Казалось, он проявлял искреннюю заботу об окружающих и стремился быть им хоть чем-то полезным. Узнав о наших занятиях, он сразу начал их посещать. Это было с радостью воспринято другими участниками занятий, знавшими о том, что Элвис сторонился коллективной работы. Его первый рисунок был выполнен на большом листе бумаги и изображал яркий, четко прорисованный цветок и бабочку. Элвис позволил другому мальчику нарисовать на этом же листе свой портрет. Наиболее значимым при этом, по-видимому, было не содержание рисунка, а сам факт участия Элвиса в работе группы.
Златка (33 года) — медсестра, прибывшая из города Тузлы. Ее муж, родители и родственники мужа остались в Боснии. Златка — мусульманка. Ее семья проживала на территории, занимаемой преимущественно сербами. Ее муж — боснийский серб. Являясь солдатом, он не мог уйти с другими беженцами. Златка вместе с двумя своими детьми покинула Тузлу в апреле 1992 г. В течение года они находились в Хорватии в качестве беженцев. Златка пыталась предвидеть ход развития событий, чтобы обеспечить будущее своих детей, и поэтому стремилась получить статус беженца в Швейцарии. Она неоднократно говорила нам о бессмысленности упрекать кого-либо в своих проблемах. Ее физическое и эмоциональное состояние было далеко от нормы, что еще более усугублялось приемом алкоголя. Большую часть свободного времени Златка проводила в оборудованной при лагере швейной мастерской, где для заработка делала выкройки и занималась пошивом одежды. В ходе художественных сессий она проявляла ту же решимость, которая была характерной для нее в повседневной жизни. Когда она чувствовала себя неплохо, то создавала крупные красочные рисунки, заявляя, что это помогает ей с пользой провести время и соответствует снятию психического напряжения.
Темы рисунков
С учетом контекста проводимой нами работы нам хотелось бы теперь остановиться на основных темах, проявившихся в рисунках за весь трехнедельный период нашего пребывания на Првике. Изображения островов и дорог появились в рисунках беженцев самого разного возраста на протяжении всего периода сессий. К концу трех недель накопилось довольно большое количество подобных работ, которые были развешаны на стенах столовой (рис. 5.42 а, б, в).
Поскольку мы не предполагали обсуждать содержание рисунков, за исключением тех случаев, когда беженцы сами проявляли инициативу в этом деле, нам трудно судить, какой смысл несли авторам их рисунки. Во время создания художественные образы, как известно, могут нести разный смысл, поэтому мы можем лишь предполагать, что они означают, особенно для авторов, живущих в «нестандартных» условиях и переживших серьезные личные трагедии. Мы считаем, что обсуждаемые нами далее образы, несомненно, глубоко символичны и чрезвычайно богаты по своему содержанию.
Эмир первым нарисовал дорогу. Как уже отмечалось, дороги были одним из наиболее популярных сюжетов в работах беженцев. «Люди начали строить дороги примерно пять тысяч лет назад, поэтому неслучайно, что с ними ассоциируются весьма значимые представления. Глубокий
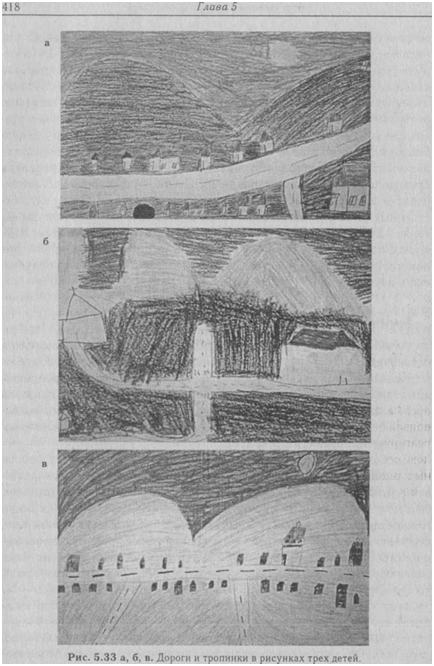
мифический и метафорический смысл, вкладываемый в образ дороги, отражен в устном творчестве, изобразительном искусстве, поэзии и музыке самых разных народов» (Hanes М. J., 1995, р. 19). В большинстве своем дороги на рисунках беженцев уходили за границы листа. Как правило, вдоль дорог были изображены дома, встречались перекрестки или развилки. Анализируя эти рисунки в контексте, становится очевидным, что изображение дорог имеет закономерный характер и несет для беженцев определенный смысл. Возможно, дороги ассоциируются с прошлым, настоящим и будущим, воспоминаниями о родных городах и поселках Боснии, представлениями о собственном доме, пути, ведущем в никуда, и жизненных альтернативах.
Изображение острова впервые появилось у одного из волонтеров, который изобразил его с пальмой и оранжевым закатом над морем. Этот сюжет был затем подхвачен сначала многими детьми, а потом — подростками и взрослыми. Некоторые дети создали целую серию таких изображений в течение нескольких дней. Беженцы этого лагеря жили на острове, поэтому изображения острова могли отражать условия их жизни. В «Иллюстрированной энциклопедии символов» изображение острова рассматривается как «амбивалентный образ, связанный с представлением об изоляции и одиночестве и в то же время с ощущением безопасности и укрытия от хаоса повседневной жизни» (Cooper J. С, 1978, р. 88).
Появление общих сюжетов, как известно, характерно для групповых арт-терапевтических занятий. Хотя участники группы могут копировать образы друг друга, есть основания считать, что во многих случаях они появляются неосознанно и совершенно спонтанно, когда один человек реагирует на образы, создаваемые другими, и перерабатывает их на основе собственных представлений. Любой сюжет в разное время и у разных людей может затрагивать различные уровни личного опыта, побуждая к продолжению творческой работы и способствуя осознанию ими своих переживаний. То общее, что есть в переживаниях участников группы, проявляется в их рисунках. Неосознаваемые психические процессы нередко определяют общий сюжет или тему их работы. Изображения дорог и островов, оказавшиеся наиболее частыми темами в рисунках беженцев, в то же время являются продуктом их индивидуального творчества. Поэтому мы полагаем, что признание ценности и самобытности работ каждого человека способствует расширению представлений о содержании художественного творчества и позволяет преодолевать культурные барьеры. Индивидуальная природа художественного творчества требует от каждого человека активного участия в работе, помогает ему преодолеть апатию и скуку. Участие в художественных сессиях помогло, например, Эмиру повысить свою самооценку, а для Рефиджи явилось важным этапом на пути осознания ею своего внутреннего мира. Для Марио и Мари оно было связано с катарсисом, представляя им безопасное пространство для выражения своих чувств. Кроме того, всем беженцам, независимо от их возраста, художественные сессии давали возможность собираться вместе и общаться друг с другом, что, с учетом условий их жизни, имело большое значение.
Благодаря арт-терапевтическим занятиям в лагере на Првике мы поняли, что работавшие там психолог и социальный работник для успешного продолжения своей деятельности и восстановления сил нуждаются в поддержке и регулярных супервизиях. Они испытывали явное переутомление, и хотя работа в лагере совпала с началом их профессиональной деятельности, никакая помощь им не оказывалась. Работая ранее в Сараево, Мостаре и Загребе, мы обнаружили, что местные специалисты испытывают значительный стресс и нуждаются в супервизовской поддержке. В экстремальных условиях Првика мы убедились в том, что изобразительное творчество может играть важную роль в качестве инструмента тонкой психотерапевтической интервенции. Свою собственную роль мы видели в поддержке творческого самовыражения беженцев и настройке на присущий каждому из них индивидуальный ритм работы без навязывания им жестких правил. В то же время для многих беженцев было характерно стремление хоть чем-то заполнить остро ощущаемую пустоту своего существования. В этих условиях художественные сессии не должны превращаться в средство простого «заполнения» времени, и мы всячески стремились избежать этого, хотя ощущали определенный дискомфорт из-за возникавшей порой невозможности дать беженцам то, чего они от нас ожидали. Мы стремились посеять в их душах семена творчества, которые могли бы дать всходы и привести к развитию самостоятельности и инициативы.
ЛИТЕРАТУРА
Cooper J. С. An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols. London: Thames and Hudson, 1978.
Gal R. Helping the Helpers: Training Seminars in Israel to Stress — relief Workers from the Former Yugoslavia [1995]. LJnpublished.
Garcia del Soto A. G. Zbirni Center. Hrastnick: A Psychological Description of a Refugee Center in Slovenia [ 1994]. Unpublished.
Golub D. Symbolic Expression in Post-Traumatic Stress Disorder: Vietnam Combat Veterans in Art Therapy / / The Arts in Psychotherapy. № 12. 1984. P. 285-296.
Gregorian V.,Azarian A., De Maria M., McDonald L. Colours of Disaster: The Psychology of the «Віаск Sun» / / The Arts in Psychotherapy. Vol. 23. № 1. 1996.
Hanes M. J. Utilising Road Drawings as a Therapeutic Metaphor in Art Therapy / American Journal of Art Therapy. № 34. August 1995.
Klingman A., Koenigsfeld £., Markman D. Art Activity with Children Following Disaster: a Preventive — oriented Crisis Intervention Modality / / The Arts in Psychotherapy. № 14. 1987. P. 153-166.
Medact Group Action Report. Traumatised Children in Former Yugoslavia / / Medact Global Security Magazine. Summer 1994. P. 12.
Melzak S. Secrecy, Privacy, Survival, Repressive Regimes and Growning up / / Bulletin of the Anna Freud Centre. № 15. P. 205-224.
Modric Z. Trauma and Reality [1994]. Video-Film Serial Document. Unpublished.
Sanderson M. Art Therapy with Virtims of Torture: a New Frontier / / Canadian Art Therapy Journal. № 9. 1995. P. 1.
Seligman Z. Trauma and Drama: A Lesson from the Concentration Camps / / The Arts in Psychotherapy. Vol. 22. № 2. P. 119-132.
Smythe Т., Lewer N. Yugoslavia / / Medact Global Security Magazine, Spring 1992.
Sogoric S. War in Croatia. Medact Global Security Magazine, Spring 1992.
UNICEF. Report on War Trauma Among Children in Sarajevo, February 1994; UNICEF. Emergency Operations in Former Yugoslavia: Reports 1994. New International Publications.
UNICEF. The State of the World's Children. 1996. Oxford: Oxford University Press, 1996.
Vulliami E. Seasons of Hell: Understanding Bosnia's War. London and New York: Simon and Schuster, 1994.
Приложение
В Приложение включены различные техники и упражнения, широко используемые в арт-терапевтической работе с различными категориями клиентов. Большинство данных техник и упражнений взяты из практики тематически ориентированных групп, хотя могут применяться и при других формах групповой работы, а также в индивидуальной арт-терапии. Подробные перечни используемых в групповой арт-терапии разнообразных техник и упражнений с изложением основ методологии групповых форм работы, основанных на их использовании, содержатся, например, в трудах М. Либманн (Liebmann М., 1987), Д. Кемпбелл (Campbell J., 1993), Д. Уэллер (Waller D., 1993),
Все приводимые техники и упражнения объединены в тематические группы.
Группа А «Работа с материалами» включает в себя техники и упражнения, применение которых имеет целью преодолеть затруднения (нередко отмечаемые у клиента или группы в начале арт-терапевтического процесса) в изобразительной работе, стимулировать спонтанность, развить воображение и творческие способности. Подгруппа Гсодержит графические техники. Подгруппа II содержит техники, основанные на использовании других изобразительных материалов и средств работы (песка, глины, теста, текстуры, цветной бумаги и т. д.).
Группа Б «Практические навыки» включает в себя упражнения, способствующие тренировке и совершенствованию когнитивных навыков (внимания, памяти, мышления), тесно связанных с практической деятельностью и адаптивными возможностями личности.
Группа В «Общие темы» составлена из упражнений и тем, позволяющих выражать широкий спектр различных переживаний, так или иначе затрагивающих большинство людей.
Упражнения и темы группы Г «Восприятие себя» позволяют человеку отразить свой жизненный опыт и систему отношений с людьми (включая и отношение к самому себе). Применение этих техник, как правило, сопровождается глубокой рефлексией индивидуальных потребностей и чувств и может предоставлять богатый материал для психотерапевтической работы.
Упражнения и темы группы Д «Парная работа» предполагают совместную изобразительную работу в парах, позволяющую развивать коммуникативные навыки, исследовать и корректировать социальные роли и привычные формы поведения.
В группу Е «Работа с семьями» вошли техники, которые могут быть использованы в семейной психотерапии в качестве инструмента исследования и коррекции отношений в семье.
Группа Ж «Конфликты» включает в себя упражнения и темы, позволяющие исследовать и корректировать поведение в различных конфликтных ситуациях, а также-выражать чувства, связанные с конфликтами.
Группа 3 «Сочетание изобразительной работы с другими формами творческого самовыражения».
ГРУППА А Подгруппа I
1. Упражнения с цветами. Используя один цвет, попытайтесь, изобра-
жая им разные формы и линии, исследовать его смысловые значения.
• Выберите цвета, которые вам наиболее и наименее предпочтительны в данный момент.
• Выберите два или три цвета, составляющие гармоничную группу, либо цвета, отражающие особенности вашего характера или состояния.
• Выберите цвета, «нейтрализующие» ваши негативные переживания.
• Создайте изображение, используя лишь два или три цвета.
• Выберите два цвета — один симпатичный вам, другой несимпатичный — и создайте с их помощью изображение.
• Создайте два рисунка: один из цветов, приятных вам, другой — из неприятных, а затем сравните оба рисунка.
• Используя большую кисть, с закрытыми глазами закрасьте всю поверхность листа. Открыв глаза, попытайтесь увидеть образ или оценить особенности изображения. Затем сделайте то же самое, используя другой цвет.
• Создайте серию рисунков на бумаге разных оттенков. Перед тем как рисовать, попытайтесь вызвать у себя ассоциации с цветом бумаги для формирования исходного образа.
2. «Каракули тела». Закрыв глаза, размашистыми движениями любых
частей тела создайте каракули. Затем посмотрите на полученное
изображение с разных сторон и попытайтесь найти в нем образ и раз-
вить его.
3. «Завершение». Используя одни и те же простые линии или формы как основу, создайте завершенный образ, а затем сравните изображения в группе как с точки зрения формы образов, так и их содержания.
4. Контрастирующие цвета, линии и формы. Используйте контрастирующие цвета, линии и формы, например легкие и сильные мазки, короткие и длинные линии и т. д., для создания единого изображения.
5. «Крупный масштаб». Создайте изображение, используя малярные кисти, ролики,губки, тряпки,ноги, руки и т. д.
6. « Вырезанные формы ». Начертите какую-нибудь фигуру, затем вырежьте ее и создайте на ней изображение. Повторите то же самое, используя другую фигуру, и сравните результаты.
7. « Каракули ». Основное содержание этого упражнения — свободное движение мелка или карандаша по листу бумаги без какой-либо цели и замысла, в результате чего получается сложный «клубок» линий. В этом «клубке» следует затем увидеть какой-либо образ и развить его.
• Ведите «дневник каракулей», для того чтобы проследить их изменение за определенный промежуток времени.
• На основе созданных каракулей сочините рассказ.
• Попытайтесь выразить в словах свои чувства и ассоциации, появляющиеся при создании разных каракулей.
• Используйте отпечатки краски на бумаге (полученные с помощью кисти или руки) как основу для создания образа.
• Проделайте то же самое с участием всех членов группы, но на большом вертикально расположенном листе бумаги.
• Напишите свои инициалы или автограф как можно крупнее, а затем попытайтесь найти в очертаниях образ и развить его.
• «Метаморфозы». Измените каракули и полученный образ в нечто иное, используя три движения руки.
8. Правая и левая руки. Выберите разные цвета для правой и левой руки. Закрыв глаза, рисуйте каракули двумя руками, затем, открыв глаза, сформируйте образы на основе этих каракулей.
9. Левая рука.
• Взяв левой рукой крупную кисть и используя один цвет, создайте мазки, а затем сформируйте на их основе изображение.
• Выполните то же самое, но используя левую кисть для создания отпечатков.
• Создайте каракули левой рукой и преобразуйте их в изображение.
10. Рисунок на влажной бумаге. Намочите бумагу и используйте во-
дорастворимые краски, нанося их с помощью кисти, разбрызгивая их
или рассыпая красящий порошок. Обратите внимание на смешива-
ние цветов и свои ощущения, связанные с этим.
• Проделайте то же самое, но с использованием мятой бумаги.
• Преобразуйте цветные пятна в образы.
• Пользуясь фломастерами, обведите или соедините отдельные цветовые пятна.
• Дайте названия полученным цветовым пятнам.
11. «Чернильные пятна и бабочки». Капните чернилами или жидкой
краской на бумагу, сверните лист пополам, разверните. Преобразуй-
те пятна в образы.
• Дайте всем членам группы похожие пятна для доработки, а затем сравните результаты.
• Вырежьте и дорисуйте отдельные фрагменты пятна, наиболее понравившиеся вам.
12. «Отпечатки». Используйте предметы с рельефной поверхностью
для изготовления отпечатков.
• Используйте предметы, найденные на природе.
• Создайте целостную композицию из отпечатков, работая индивидуально или вместе на большом листе бумаги.
• Создайте из отпечатков образ.
Подгруппа II
13. Процарапанная поверхность. Раскрасьте лист бумаги фломасте-
рами, затем закрасьте изображение восковыми мелками или пасте-
„ лью. Процарапайте поверхностный слой так, чтобы стало видно краску нижнего слоя.
14. Восковая живопись. Используя свечу, создайте на листе бумаги какое-либо изображение. Затем покройте поверхность водорастворимой краской, чтобы изображение проявилось более контрастно.
15. Работа с текстурой. Составьте набор разных текстурных материалов (тканей), а затем создайте из них какое-либо изображение или свой «тактильный портрет».
16. Работа с найденными предметами. Наберите предметы из окружающей среды (цветы, камни, раковины, листья, песок, опилки ит. д.) и попытайтесь создать из них картину, коллаж или скульптуру.
17. Работы с глиной.
• Тактильное освоение глины путем сжимания, разглаживания, формообразования и т. д.
• Изготовьте шарики из глины, а затем, закрыв глаза, вылепите из них что-нибудь.
• Опишите процесс создания глины и ее «жизнь» от первого лица.
• Создайте отпечатки разных предметов в глине.
• Изготовьте из глины фигурки для групповой композиции на определенную тему.
• Изготовьте различные сосуды из глины.
• Создайте, а затем разрисуйте глиняные фигуры.
18. «Игра с песочницей». Используйте песок и миниатюрные фигурки (людей, животных, растений и т. д.), а также найденные предметы для создания композиций и сочинения историй.
19. Работа с бумагой. Попытайтесь, используя бумагу, клей и ножницы, создать какую-либо композицию (скульптуру).
• Вырежьте фигурки из бумаги и составьте рассказ или разыграйте представление с использованием этих фигурок.
• Передавайте по кругу лист бумаги. Участники группы могут делать с ним все, что захочется. Бумагу можно рвать, мять, скреплять скотчем, жевать и т. д.
• Создайте в группе общую композицию, используя лишь белую бумагу или газеты.
20. Работа с цветной бумагой. Вырежьте разные формы из цветной бумаги и, наклеив на белый лист, оформите их в композицию. Можно создавать маски, используя цветную бумагу или, например, бумажную одноразовую посуду.
21. Коллаж. Вырежьте из журналов фигуры людей, животных и т. д., а затем оформите их в композицию. Можно подписать, о чем эти люди думают или что они делают.
• Вырежьте формы из разных тканей или бумаги, а затем организуйте их в абстрактную композицию и раскрасьте пустоты.
• То же самое, но с созданием пейзажа, картины городской жизни и т. д.
22. Папье-маше. Смешайте склеивающий состав и куски бумаги. Используя формы, предварительно смазанные вазелином, создайте модели из папье-маше. Дайте моделям затвердеть, а затем раскрасьте их.
23. Игра с тестом. Приготовьте тесто по следующему рецепту: смешайте два стакана муки, три четверти стакана соли, одну столовую ложку масла, половину или более стакана воды. К смеси можно добавить пищевые красители или порошкообразную краску. Затем из этого состава можно создавать различные фигуры. Тесто в пластиковом мешке или коробке хранится в холодильнике.
24. Игра с пищевыми продуктами.
• Изготовьте и украсьте бисквиты в форме людей или животных (можно в форме масок), а затем разыграйте с их помощью сцену.
• Используя любые пищевые продукты, создайте композицию.
25. Другие материалы.
а) Алебастр можно использовать для создания различных фигурок,
скульптур или барельефов. На его поверхности можно вырезать
различные изображения.
б) Роспись по ткани.
в) Изготовление фигурных свечей или восковых фигурок.
г) Вырезание фигур из линолеума.
д) Различные виды мозаик.
ГРУППА Б
1. Планирование сада. Создайте план сада на рисунке, коллаже или в трехмерной композиции и т. д.
2. Фреска «животные». Каждый рисует на отдельном листе какое-нибудь животное, раскрашивает и вырезает фигуру. Затем все фигуры прикрепляются к большому листу бумаги на стене или на полу.
3. «Полки». Каждый на предварительно разлинованном листе с изображением полок рисует предметы, соответствующие той или иной теме, например «полки в мастерской плотника», «полки в магазине» и т. д.
4. «Магазин». Каждый получает лист бумаги с соответствующим заголовком, например: «магазин игрушек», «овощной магазин», «обувной магазин» и т. д. Необходимо нарисовать или вырезать из журналов и наклеить соответствующие товары.
5. «Виды спорта». Выполняется аналогично предыдущему упражнению.
6. «За столом». Стол накрывается большим листом бумаги, на котором рисуются или наклеиваются изображения посуды и различных блюд (на завтрак, обед или ужин).
7. «Дневные события». Необходимо нарисовать или вырезать из журналов картины, иллюстрирующие те или иные события, участниками которых были члены группы, например встречу с каким-либо человеком, отпуск и т. д. При этом необходимо вспомнить и описать детали этих событий.
8. «Одежда». Используя ксерокопию или вырезку портрета какого-нибудь человека и дорисовав его фигуру, необходимо изобразить его одежду.
9. «Дома». Каждый участник группы получает заготовку в виде схематичного изображения дома в разрезе. Необходимо нарисовать либо вырезать из журналов обстановку и обитателей этого дома.
10. «Флаги». Необходимо раскрасить схематичные заготовки, изображающие разные национальные флаги.
11. «Карта района или города». Необходимо нарисовать или вырезать изображения транспортных средств, домов, пешеходов и расположить их на листе бумаги, создавая, например, маршрут движения к тем или иным городским объектам. Аналогичным образом можно использовать и набор миниатюрных машин, изображая схему уличного движения на карте района или города.
12. «Фрукты, цветы, листья». Необходимо нарисовать очертания или обвести разные листья, цветы, фрукты и иные предметы, а затем раскрасить и вырезать изображения, формируя из них коллаж на общем листе.
13. «Окружающая среда». Необходимо вырезать фигуру человека из журнала, а затем нарисовать вокруг нее окружающее предметное пространство или пейзаж.
14. «Времена года». Приготовьте четыре больших листа бумаги разного цвета и попросите членов группы определить, какому времени года соответствует тот или иной цвет. Затем необходимо вырезать из журналов картинки, соответствующие разным временам года, и расположить их на разных листах.
15. «Вырезанные фигуры». Подготовьте заранее множество контурных изображений людей, животных, домов и т. д. и раздайте их участникам группы. Необходимо раскрасить их любым способом.
ГРУППА В
1. «Четыре стихии». Требуется создать один или несколько рисунков, связанных с различными природными стихиями:
• земля (пещера, дом, двор, поле, земля);
• вода (родник, река, озеро, море, вода);
• воздух (ветер, шторм, облака, воздух);
• огонь (факел, камин, лампа, свет, огонь).
2. «Дом, дерево, человек». Необходимо нарисовать дом, дерево и че-
ловека вместе или в отдельности.
• Необходимо дополнить изображение пейзажем.
• Следует также составить высказывание от первого лица.
3. Рисунок на свободную тему.