Проблема коморбидной патологии ваддиктологии
Под термином «коморбидность» в медицине подразумевают понятие соболезнен-ности, сосуществования двух или более заболеваний у одного и того же пациента. В психиатрии, в отличие от соматической медицины, возможность сочетания нескольких заболеваний, имеющих самостоятельные механизмы, вызывает больше вопросов, нежели ответов (Калинин, 2002).
В связи с этим понятие коморбидности в области психиатрии и аддиктологии может рассматриваться в двух аспектах: во-первых, в традиционном — соболезненности, сочетании признаков нескольких заболеваний у одного и того же пациента; во-вторых, в аспекте сходных, взаимовлияющих этиопатогенетических механизмов различных психических и поведенческих расстройств у одного и того же больного или аддикта. Первый аспект можно назвать количественным, второй — качественным. В рамках второго, в отличие от первого, можно ставить и изучать вопрос о патогенетических и патопласти-ческих факторах возникновения психопатологической продукции, что, несомненно, более значимо на современном этапе развития науки.
В предыдущих главах был представлен анализ и приведены результаты исследований по проблеме коморбидности (сочетаемости на основании этиопатогенетического единства) наркозависимости с иными формами зависимого поведения. В данной главе анализируется проблема коморбидности наркозависимости и иных форм зависимостей и психических расстройств (на уровне симптомов и синдромов) и заболеваний.
По данным S. Т. Cohen, R. Weiss (1996), распространенность психических заболеваний у пациентов, употребляющих наркотические вещества, статистически больше, чем у остального населения. Установлено, что более чем 50% людей, имевших проблемы в связи с употреблением наркотических веществ, имело по крайней мере еще одну психическую проблему, в том числе у 26% отмечалась лабильность настроения, у 28% — страх, у 18% — антисоциальные изменения личности и у 7% — шизофрения.
По мнению тех же авторов, злоупотребление наркотическими веществами и психопатология могут иметь несколько осей связей: 1) психопатология может служить фактором риска развития расстройств, связанных с наркоманией; 2) психические расстройства могут возникать вследствие злоупотребления наркотическими веществами и сохраняться во время ремиссии; 3) психопатология может влиять на развитие патологии, связанной с наркоманией, в частности изменять результативность лечения, выраженность симптомов и на отдаленные последствия; 4) симптомы психического заболевания и проявления наркотической зависимости со временем могут стать схожими; 5) употребление наркотических веществ и психические нарушения могут встречаться у одного и того же человека, но не быть связанными друг с другом.
В центре нашего внимания — патогенетическая связь между психопатологией и наркозависимостью в случаях, когда симптомы и синдромы психических расстройств и заболеваний служат базой для формирования зависимости. Это связано с устойчивой и
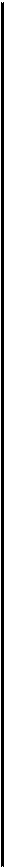 716 Проблема коморбидной патологии в аддиктологии
716 Проблема коморбидной патологии в аддиктологии
широко распространенной точкой зрения, представленной в мировой психиатрической литературе, о том, что «истинной причиной влечения к психоактивным веществам может быть первичное психическое расстройство» (Moussaoui, 2001).
Отмечается коморбидность игровой зависимости (гемблинга) с периодическим возникающими расстройствами настроения, алкоголизацией, наркотизацией, тревожными, обсессивно-компульсивными, шизоидными и параноидными расстройствами личности (Black, Moyers, 1998).
29.1. Зависимости в структуре психопатологических симптомов
и синдромов
Расстройства различных сфер психической деятельности, как следует и из данных отечественных и зарубежных авторов, и из результатов наших исследований, могут служить базой для формирования зависимого поведения, в том числе наркомании. Наиболее значимой считается связь между психопатологическими симптомами и патологи ческим влечением к наркотику, алкоголю, никотину, игровой деятельности, сексуальным действиям и т. д.
Вопрос о связи депрессии с наркотической или иной зависимостью в форме патологического влечения в настоящее время наиболее широко разработан (Rogers, Korten, Jorn, 2000; Crocq, 2001; Sullivan, Kendler, 2001; Надеждин, 1995). Считается, что в основе патологического влечения лежат депрессивные расстройства, отличающиеся полиморф-ностью, нечеткостью синдромального оформления и носящие нередко ларвированный характер. При этом указывается на тот факт, что здесь практически не встречается классическая депрессивная триада, отсутствует витальность симптоматики.
Наши исследования наркозависимых показали, что феноменология депрессивного синдрома, провоцировавшего у них патологическое влечение к употреблению психоактивного вещества, представлена следующими клиническими вариантами: 1) депрессивными переживаниями с оттенком понижения настроения и тревожностью: 2) депрессивными переживаниями с оттенком понижения настроения и тоскливостью; 3) депрессивными переживаниями с оттенком понижения настроения и гневливостью; 4) депрессивными переживаниями с пониженным настроением и чувством субъективного внутреннего дискомфорта; 5) эмоциональными состояниями с оттенком снижения уровня эмоционального реагирования; 6) переживаниями со склонностью к смене (колебаниям) настроения и противоречивости.
Переживания пациентов с оттенком понижения настроения и тоскливостью характеризовались эмоциональной фиксацией человека на прошлом, тягостным переживанием безвозвратности утраченного, повышенной ответственностью за происшедшие события, сопровождались угнетенностью, заторможенностью и снижением активности. У больных можно было отметить наличие таких феноменов, как безотрадность, безутешность, вина, горе, горечь, грусть, жалость, меланхолия, мука, обида, огорчение, оторопь, отчаяние, печаль, ностальгия, разочарование, раскаяние, скорбь, скука, сожаление, стыд, терзание, тоска, угнетение, угрызения совести, уныние, хандра.
Переживания с оттенком понижения настроения и тревожностью проявлялись доминированием ожидания какой-то трагедии, неприятностей, двигательным беспокойством и повышенной активностью, невозможностью сосредоточиться на какой-либо деятельности, избеганием ситуаций, способных вызвать подобные эмоциональные переживания. Синонимический ряд переживаний был представлен такими феноменами, как ажитация, беспокойство, боязнь, взволнованность, волнение, замешательство, испуг.
Зависимости в структуре психопатологических симптомов и синдромов
717
 исступление, напряженность, настороженность, недоумение, растерянность, смущение, тревога, паника, страх, ужас.
исступление, напряженность, настороженность, недоумение, растерянность, смущение, тревога, паника, страх, ужас.
Переживания с оттенком понижения настроения и гневливостью характеризовались антипатией, недовольством поведением окружающих, нетерпеливостью, раздраженностью, непереносимостью внешнего социального давления, указаний и замечаний в сочетании с чувством внутреннего дискомфорта, требующим эмоциональной разрядки. Феноменологически здесь отмечались такие переживания, как антипатия, брюзгливость, возбуждение, возмущение, вражда, вспыльчивость, гнев, горячность, ехидство, злоба, злорадство, злость, злопыхательство, ирония, мизантропия, негодование, ненависть, неприязнь, раздражение, сарказм, скептицизм, ярость.
В переживаниях с пониженным настроением и чувством субъективного внутреннего дискомфорта доминировали повышенная чувствительность, ранимость, внутренняя неудовлетворенность окружающими и собой чаще без повышения активности и без необходимости внешней эмоциональной разрядки. Синонимический ряд представлен такими феноменами, как брезгливость, впечатлительность, досада, гадливость, зависть, изнуренность, любовь, ревность, сентиментальность, сопереживание, сочувствие, сен-ситивность, эмотивность.
К переживаниям со склонностью к смене (колебаниям) настроения и противоречивости относились состояния с основополагающим признаком — неустойчивостью эмоционального реагирования или противоречивостью эмоций, что проявлялось эмоциональной лабильностью, слабодушием, амбивалентностью, аффективной инконти-ненцией, недержанием аффекта, паратимией, циклотимией.
Эмоциональные состояния с оттенком снижения уровня эмоционального реагирования характеризовались собственно снижением уровня эмоционального реагирования, безразличием. Синонимический ряд был представлен такими феноменами, как безразличие, безучастность, равнодушие, апатия.
При эмоциональных состояниях с оттенком нейтрального эмоционального реагирования преобладали эмоционально-нейтральные феномены, не сопровождавшиеся ни повышением, ни понижением настроения, ни субъективными переживаниями, ни снижением уровня эмоционального реагирования. Синонимический ряд включал беззаботность, беззлобность, безмятежность, безрадостность, беспечность, беспристрастность, бесстрастие, бесстрашие, бестрепетность, бесчувственность, индифферентность, интерес, невозмутимость, недоумение, ошеломление, резонанс аффективный, синтон-ность, спокойствие, сопереживание, удивление, успокоенность, алекситимию, ангедо-нию, аноргазмию.
Формирование патологического влечения происходило при каждом из перечисленных депрессивных переживаниях. Однако наиболее типичным для различных форма зависимостей был спектр аффективных расстройств с доминированием скуки.
Анализ патогенетически значимых для становления наркозависимости аффективных расстройств обнаруживает некий парадокс, заключающийся в том, что основой патологического влечения большинство специалистов называют депрессивные переживания, тогда как базой наркозависимости — гипертимную акцентуацию характера с преобладанием маниакального спектра эмоциональных феноменов (Пятницкая, 1994). Переживания с оттенком повышения настроения характеризуются уровнем эмоционального реагирования, проявляющимся избыточной активностью, улыбчивостью, восторженностью, радостью, готовностью принимать окружающих такими, какие они есть, отказом от конфронтации, уживчивостью и демонстрацией расположения. У наркозависимых это может выражаться в виде азарта, благоговения, благодушия, блаженства, вдох-
718
Проблема коморбидной патологии в аддиктологии
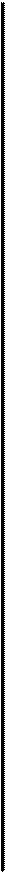 новения, веселья, воллюста, восторга, восхищения, воодушевления, гордости, добродушия, жизнерадостности, задора, истомы, наслаждения, нирваны, оргазма, радости, симпатии, счастья, упоения, умиления, экстаза, экзальтации.
новения, веселья, воллюста, восторга, восхищения, воодушевления, гордости, добродушия, жизнерадостности, задора, истомы, наслаждения, нирваны, оргазма, радости, симпатии, счастья, упоения, умиления, экстаза, экзальтации.
Одним из частых и значимых для формирования зависимого поведения (чаще наркозависимости и пищевых зависимостей) аффективных симптомов называется алексити мия. Термин «алекситимия» означает «недостаток слов для выражения чувств». Термин был предложен П. Сифнеосом для обозначения ведущего, по его мнению, психического расстройства, лежащего в основе психосоматических заболеваний, — ограниченной способности индивида к восприятию собственных чувств и эмоций, их адекватной вербализации и экспрессивной передаче. П. Сифнеос полагал, что эмоциональная невыразительность создает конфликтную ситуацию в межличностной сфере, а эмоциональное напряжение трансформируется в патологические физиологические реакции.
В современной интерпретации это понятие включает в себя трудности в описании собственных чувств, в дифференциации чувств и телесных ощущений, сужение аффективного опыта, снижение способности к символизации, бедность фантазий и воображения, предпочтение фокусированности внимания на внешних объектах (Эйдемиллер, Макарова, 2000).
«Алекситимики» бесконечно долго и детально описывают физические ощущения, часто напрямую не связанные с основным страданием или заболеванием, в то время как внутренние ощущения, характеризующие эмоциональную жизнь, излагаются ими в терминах раздражительности, скуки, пустоты, усталости, недифференцированного возбуждения или напряжения. Эмоциональная сфера личностей с чертами алекситимии слабо дифференцирована, аффекты неадекватны, воображение развито недостаточно, уровень абстрактно-логического мышления невысок. «Алекситимики» отличаются неразвитой фантазией, тенденцией к импульсивности, бедностью межличностных связей. Типичны для них также инфантилизм, чрезмерный прагматизм, дефицит рефлексии, эмоциональная неустойчивость с частыми «срывами». Их преобладающий образ жизни — действие. Взаимодействие с такими людьми приносит ощущение скуки и бессмысленности контакта. «Алекситимику» трудно работать со снами, поскольку он редко их вспоминает и скупо описывает.
Для объяснения синдрома алекситимии J. S. Neman выделяет две модели: «отрицания» и «дефицита». Модель «отрицания» предполагает глобальное торможение аффектов, поэтому в данном случае можно говорить о «вторичной алекситимии» и рассматривать ее как психологическую защиту, предполагая обратимость. Ряд авторов (Sifneos, 1973; Ересько, Исурина, Кайдановская, Карвасарский, 1994) считает, чтоу многих больных алекситимические проявления необратимы, несмотря на длительную, интенсивную и искусную глубинную психотерапию. Такого рода алекситимия является первичной. Для ее объяснения используется модель «дефицита», вызванного биохимическими, нейрофизиологическими или генетически обусловленными нарушениями (Эйдемиллер, Макарова, 2000).
Л. II. Урванцев (1998) выделяет несколько групп черт, характерных для страдающих алекситимией: расстройства аффективных функций, нарушения когнитивных процессов, нарушение самосознания и особое восприятие мира («специфическая картина мира» с недостаточностью его чувственного переживания).
Как социокультуральный феномен, алекситимия связана с низким социальным статусом, с невысоким уровнем образования, с недостатком словесной культуры. В рамках психоанализа алекситимия рассматривается как защитный механизм, действующий против невыносимых для личности аффектов. Действительно, личности с алекситимически-
Зависимости в структуре психопатологических симптомов и синдромов
719
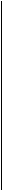 ми чертами чаще высказывают жалобы соматического характера, что в ряде случаев является признаком соматизации аффекта.
ми чертами чаще высказывают жалобы соматического характера, что в ряде случаев является признаком соматизации аффекта.
Если подавление чувств, эмоциональных реакций, в том числе на ситуацию опасности, жесткая регламентация эмоциональных проявлений становятся хроническими, превращаясь в стиль жизни, то межличностные взаимоотношения становятся дистанцированными, приобретают черты поверхностности и формальности. Нивелирование эмоциональных проявлений придает поведению нейтральность и безучастность, а текущим эмоциональным реакциям — оттенок безразличия.
Алекситимия как проявление дефекта развития представляет собой, по мнению Л. П. Урванцева (1998), неспецифическим расстройством в переживании и протекании эмоций, «досимволическим стилем психики», характерным для лиц с низким уровнем дифференцированности психических структур. Такую психику можно отнести к пре-невротическому уровню. Алекситимики используют незрелые механизмы психологической защиты, такие как отреагирование, отрицание, проективную идентификацию. Непосредственной причиной подобного дефекта развития может быть расстройство ранних отношений «мать—ребенок», негативно влияющее на становление представлений о мире и о собственной личности.
В. В. Николаева устанавливает связь феномена алекситимии с особенностями психической саморегуляции, основываясь на концепции смысловых образований личности (Б. С. Братусь, Ф. Е. Василюк). Важный источник устойчивости, свободы и саморазвития личности — это рефлексия, позволяющая осознать смысл собственной жизни и деятельности и являющаяся частным механизмом личностно-мотивационного уровня саморегуляции. Дефицит рефлексии выражен в том, что «алекситимик» неспособен управлять своими побуждениями, гибко перестраивать их в соответствии с изменяющимися условиями текущей жизненной ситуации, поскольку в процессе онтогенеза потребность в саморегуляции не была сформирована. Невозможность реализации актуальных потребностей ведет к хронизации эмоций и, как следствие, к стойким соматическим изменениям.
По мнению Н. Krystal (1982,1983), многие аддиктивные пациенты не способны распознавать и идентифицировать переживаемые ими внутренние чувства. J. McDouglass (1984) обозначил таких пациентов «диз-аффективными», т. е. лишенными аффектов, а L. Wurmser (1974), характеризуя эмоциональное обнищание, которое аддиктивные пациенты ощущают в себе и в своих межличностных отношениях вследствие дефицита эмоций, использовал термин «гиперсимволизация». Кроме того, L. Wurmser (1974) обнаружил, что, в отличие от проблем развития, затрудняющих аддиктивным больным доступ к собственным чувствам и их проявление, нарушения эмоционального развития так же часто заставляют таких пациентов страдать от прямо противоположной проблемы, когда аффекты переживаются как подавляющие и непереносимые. Именно этот факт позволил автору считать основой аддиктивных расстройств «дефект аффективной защиты».
С точки зрения Е. J. Khantzian (1990), один из мотивов использования наркотиков — это мотив преодоления пассивного, вызывающего смущение опыта переживания собственной «безэмоциональности», алекситимичности и преобразования его в активный опыт контроля над собственными чувствами, даже если они и причиняют боль.
Наиболее часто зависимое поведение связывают с преморбидной патологией волевой деятельности — компульсивностью, что позволило L. Wurmser (1987,1996) отметить, что «понятие "аддиктивное поведение" синонимично понятию тяжелой компульсивно-сти». Под компульсивностью при этом понимается ненасытность, автоматичность и бесконечная повторяемость. В психиатрии компульсивностью обозначается форма нарушенного поведения, когда действия, поступки возникают в связи с непреодолимыми
720
Проблема коморбидной патологии в аддиктологии
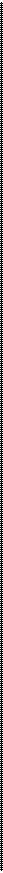 влечениями, побуждениями и совершаются насильственно, хотя и осознаются как неправильные. Данный психопатологический симптом может входить в структуру различных синдромов и быть первичным по отношению к зависимому поведению.
влечениями, побуждениями и совершаются насильственно, хотя и осознаются как неправильные. Данный психопатологический симптом может входить в структуру различных синдромов и быть первичным по отношению к зависимому поведению.
По мнению А. С. Андреева, А. И. Ковалева, А. О. Бухановского и соавт. (2001), независимо от конкретного содержания при т. н. болезни зависимого поведения прежде всего поражается мотивационная сфера, а ведущее расстройство адресовано к произвольной деятельности. Отмечается, что физическое влечение может приходить на смену обсессивному, но и возникать изначально.
Одним из психопатологических симптомов, на базе которых способно формироваться зависимое поведение в детском возрасте, является акайрия — расстройство, характеризующееся назойливостью, «прилипчивостью» пациентов, склонностью к повторению одних и тех же вопросов, просьб, стереотипных обращений.
29.2. Зависимости в структуре психических заболеваний
Учитывая, что связь между отдельными психопатологическими симптомами-синдромами и зависимостями не вызывает сомнений и доказана, можно предполагать, что должны существовать корреляции между различными формами зависимого поведения и отдельными психическими заболеваниями и расстройствами, в структуру которых облигатно входят значимые психопатологические феномены.
Первым в ряду заболеваний, на базе которых можно предполагать развитие зависимого поведения, обычно называется эпилепсия. Известно, что в рамках изменений психики и личности при эпилепсии часто представлена и аффективная ригидность, и расстройства настроения, и компульсивность, и склонность к магическому мышлению (последняя, по мнению D. Meers, входит в структуру патологической зависимости).
Наиболее часто эпилепсия упоминается в литературе в связи с патологической склонностью к азартным играм — гемблингом (игровой зависимостью). Высокая коморбид-ность с фазовыми и пароксизмальными аффективными расстройствами позволяет предположить, что азартная игра может выступать своего рода антидепрессантом, смягчая дисфорические проявления (Попов, Вид, 1992).
Предполагается (Зайцев, 2000), что у игрока в процессе игры развивается состояние аффекта. Аффект — стремительно и бурно протекающий эмоциональный процесс взрывного характера — может дать не подчиненную сознательному волевому контролю разрядку в действии. Аффективное состояние выражается в заторможенности сознательной деятельности. Вследствие чего в аффективном действии в той или иной мере может быть нарушен сознательный контроль в выборе действия. Действие в состоянии аффекта, т. е. аффективное действие, как бы «вырывается» у человека, не вполне регулируется им. Сходное развитие психофизиологического состояния типично для эпилептического пароксизма.
При эпилептической болезни происходит формирование антиципационной несостоятельности (прогностической некомпетентности), что также может обусловливать становление зависимого поведения, в частности наркомании. Нами (В. Д. Менделевич, Т. В. Скиданенко) проводилось экспериментально-психологическое исследование больных эпилепсией с целью количественной оценки нарушения у них антиципационной деятельности. Пациенты были разделены на две группы (без изменений личности и с признаками изменений личности). Исследование антиципационных способностей и прогностической деятельности на основании ТАС (ПК) и модифицированного теста Розен-цвейга дало следующие результаты (табл. 18-19).
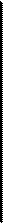
 Зависимости в структуре психических заболеваний 721
Зависимости в структуре психических заболеваний 721
Таблица 18
Распределение типов вероятностного прогнозирования у обследованных (по данным модифицированного теста Розенцвейга)
| Типы вероятностного прогнозирования | I группа, % | II группа, % |
| Моновариантный | 62,9 | 84,6 |
| Нормовариантный | 28,6 | 15,4 |
| Поливариантный | 8,5 | — |
Таблица 19 Распределение антиципационной состоятельности у обследованных
| Группа | Временная | Пространственная | Личностно-ситуативная | Общая | ||||
| состоят. | несост. | состоят. | несост. | состоят. | несост. | состоят. | несост. | |
| I II | 66.6% 41,1% | 33,3% 58,9% | 76,5% 48.7% | 23,5% 51,3% | 42,9% 23,1% | 57,1% 76,9% | 47.6% 25.6% | 52,4% 74.4% |
Как видно из приведенных в таблицах данных, у подавляющего большинства пациентов (80%) присутствовал моновариантый тип вероятностного прогнозирования. Причем отмечалось его достоверное преобладание у больных с изменениями личности. Этот факт логичен и не требует специального пояснения. Отмечено также достоверное преобладание у лиц без изменений личности нормовариантного типа вероятностного прогнозирования.
По результатам теста антиципационной состоятельности, позволяющего оценивать структуру прогностической компетентности по трем составляющим (личностно-ситуа-тивной, временной и пространственной), достоверное преобладание прогностической некомпетентности было обнаружено по всем составляющим. В эксперименте было выявлено (а в клинике подтверждено), что больные эпилепсией значительно чаще ошибались в собственных прогнозах как в сфере антиципации житейских ситуаций (поведения и поступков окружающих), так и в сфере предвосхищения времени и пространственного упреждения развития событий.
Таким образом, можно предполагать, что становление зависимого поведения у пациентов с эпилепсией может быть обусловлено наряду с иными причинами и нарушениями прогностической деятельности.
Расстройства шизофренического круга (шизофрения, шизотипическое расстройство), так же как и эпилепсия, нередко становятся базой для формирования различных форм зависимого поведения. Связь данных расстройств многообразна. При шизофрении появление зависимостей, к примеру, от психоактивных веществ, может быть обусловлено симптомами тревожно-депрессивного круга. В подобных случаях наркотики, алкоголь или никотин становятся своеобразным терапевтическим средством, снижающим уровень тревоги и улучшающим эмоционального состояние пациентов. Наиболее распространена у больных шизофренией никотиновая зависимость. В ее рамках рассматривается и физиологический, и психологический аспекты. Известно, что среди пациентов психиатрических клиник, большинство которых составляют больные шизофренией, курение встречается достоверно чаще по сравнению как с психически здоровыми людьми, так и с лицами, имеющими иные психические расстройства.
722
Проблема коморбидной патологии в аддиктологии
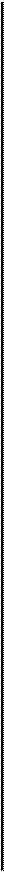 Нами (Менделевич, Кулагин, 1991) было предпринято клинико-психологическое и клинико-психопатологическое исследование 60 мужчин, больных шизофренией, находившихся на стационарном лечении. В качестве группы сравнения были обследованы 25 пациентов с эпилепсией. Как показали исследования, 91,7% больных шизофренией оказались курящими, что значительно превышало число курящих здоровых мужчин в популяции. По данным Э. В. Малая (1977), в России насчитывается от 70 до 75% курящих мужчин. Из больных эпилепсией курили лишь 68%.
Нами (Менделевич, Кулагин, 1991) было предпринято клинико-психологическое и клинико-психопатологическое исследование 60 мужчин, больных шизофренией, находившихся на стационарном лечении. В качестве группы сравнения были обследованы 25 пациентов с эпилепсией. Как показали исследования, 91,7% больных шизофренией оказались курящими, что значительно превышало число курящих здоровых мужчин в популяции. По данным Э. В. Малая (1977), в России насчитывается от 70 до 75% курящих мужчин. Из больных эпилепсией курили лишь 68%.
Среди больных шизофренией можно было выделить три группы пациентов, в зависимости от структуры курения. Из 60 мужчин основной группы курили постоянно (и дома, и в стационаре) 80% больных, причем только в психиатрическом стационаре — 11,7%, не курили совсем 8,3% обследованных. В группе больных эпилепсией распределение оказалось следующим: постоянно курили 60%, только в стационаре — 8% и не курили совсем — 32%. Как видно из приведенных данных, курящих среди больных шизофренией оказалось больше, чем среди больных эпилепсией, причем число куривших в стационаре также преобладало. Именно этот контингент больных привлек наше внимание.
Анализ никотинопотребления больных шизофренией показал, что увеличение интенсивности курения среди пациентов коррелирует, с одной стороны, с резким ухудшением психического состояния, появлением и нарастанием таких симптомов, как трево га, беспокойство, ажитация, а с другой — с массивной психотропной терапией, сопровождающейся нейролептическим синдромом с преобладанием акатизии. Увеличение никотинопотребления (в 2-3 раза) среди больных шизофренией отмечалось чаще при помещении их в психиатрический, а не в соматический стационар.
Обращал на себя внимание и тот факт, что интенсивность курения в стационаре имела склонность к видоизменению. Пациенты, курившие лишь в стационаре, чувствовали значительную тягу к сигарете в первые же сутки поступления в больницу: им требовалось свыше 20 сигарет или папирос в сутки. Свою потребность курить они объясняли желанием успокоиться, снять тревожное настроение. Пациенты с преобладанием в клинической картине заболевания депрессивных идей (тоскливого настроения) значительно реже прибегали к курению как к средству нормализации эмоционального состояния. При доминировании в клинике паранойяльных или параноидных расстройств интенсивность курения практически не отличалась от таковой у больных с тревожным радикалом, поскольку эти симптомокомплексы имели тенденцию к сочетанию. Большинство больных шизофренией и после медикаментозного купирования тревожно-депрессивного симптомокомплекса продолжали много и часто курить. Доминирующим мотиво-образующим (в плане никотинизма) оставалось двигательное беспокойство — неусидчивость, невозможность длительное время находиться в однообразной позе. Подобное состояние наблюдалось на фоне максимальной насыщенности нейролептиками и было расценено нами как проявление нейролептического синдрома (акатизии), субъективно практически не отличимого от психопатологического феномена — тревоги. В течение 2-3 недель интенсивность курения оставалась такой же высокой, затем постепенно начинала снижаться, что коррелировало как с нормализацией психического состояния (исчезновением тревоги при сохранении в части случаев паранойяльного синдрома), так и с купированием нейролептического симптомокомплекса.
Если в структуре заболевания пациентов с эпилепсией отсутствовали тревога и нейролептическая акатизия, то в мотивации курения не было желания снять болезненное состояние как по словам самих пациентов, так и по результатам клинических наблюдений. Не отмечено в контрольной группе и корреляций между структурой никотинизма, с одной стороны, и тяжестью болезненного состояния и терапией — с другой.
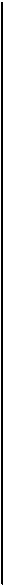 Зависимости в структуре психопатологических симптомов и синдромов 723
Зависимости в структуре психопатологических симптомов и синдромов 723
Анализ причин изменения структуры никотинизма при помещении душевнобольных в психиатрический стационар позволил выдвинуть несколько гипотез. Основой доводов в пользу курения среди больных шизофренией, как показали исследования, является физиологическая потребность снятия болезненного эмоционального состояния (тревоги, ажитации) и последствий нейролептической терапии (акатизия) с помощью никотина. Не последнюю роль в увеличении интенсивности курения в психиатрическом стационаре играют психологические факторы, в частности большое количество свободного времени (незанятость) в условиях ограниченных возможностей выбора деятельности. Наши исследования дают возможность предполагать, что никотин способен приводить к исчезновению эмоциональных расстройств не только психологического, но и психопатологического уровней.
Особая, отличная от иных групп, структура никотинизма наблюдалась нами у больных с т. н. шизофреническим дефектом (18 мужчин). Клиническая картина заболевания характеризовалась негативными симптомокомплексами — нарастающей аутизацией, апатией и абулией, кататоническими стереотипиями, дезинтеграцией мышления. Большинство больных этой группы настойчиво однотипно требовали предоставить им папиросы, обращались к персоналу и другим больным. Однако, получая возможность курить, душевнобольные, как правило, использовали папиросы неприкуренными. Они имитировали процесс курения, стереотипно манипулировали папиросой во рту, применяя ее в качестве своеобразной соски.
Клинический анализ позволяет предположить, что никотинизм (пристрастие к курению) больных с шизофреническим дефектом — это составная часть болезненных нарушений волевого процесса. Он отражает механизм шизофренической диссолюции — расщепления, распада психической деятельности, возвращения психического функционирования на более низкий уровень развития. Потребность в сигарете у больных с шизофреническим дефектом можно понимать как возврат к формам орального автоматизма.
Психопатологические симптомы и синдромы в рамках дефекта при шизофрении способны формировать широкий спектр расстройств зависимого поведения (от девиаций стиля поведения до психопатологических сверхценных увлечений — по нашей классификации— Менделевич, 1998).
Интересен тот факт, что наиболее часто расстройства зависимого поведения формируются на базе шизотипическогорасстройства, в структуру которого входят симптомы, нередко определяющие развитие зависимостей — психический инфантилизм, магическое, метафорическое, гипердетализированное мышление, компульсивность в виде навязчивых размышлений без внутреннего сопротивления часто с дисморфофобичес-ким, сексуальным или агрессивным содержанием. Вследствие вышеперечисленного у таких пациентов часто формируются пищевые или сексуальные зависимости, а в случае присоединения к клинической картине признаков аутизма облегчается формирование интернет-зависимости.
Биполярное аффективное расстройство нередко упоминается в литературе в связи с риском развития алкогольной и никотиновой зависимостей (Crocq, 2001; Sullivan, Kendler, 2001). При этом рассматривается несколько вариантов коморбидности: 1) зависимость от психоактивного вещества вызывает или провоцирует развитие аффективного расстройства; 2) наоборот, аффективное расстройство вызывает потребность, а затем зависимость употреблять психоактивное вещество, обладающее антидепрессивным эффектом; 3) оба расстройства могут развиваться независимо друг от друга, но иметь сходные факторы риска и патогенетические механизмы.
724
Проблема коморбидной патологии в аддиктологии
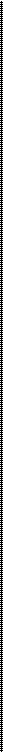 Во многих работах, особенно психодинамического направления, прослеживается мысль о том, что наркозависимость является своеобразным невротическим расстрой ством (по терминологии L. Wurmser, 1987 — «тяжелой формой невроза»). Причем, по мнению того же автора, у большинства наркоманов обнаруживается фобическое ядро, инфантильный невроз, на чем и основывается последующая патология. «В навязчивых поисках наркомана, как в зеркале, отражается компульсивное избегание объектов, характерных для фобического пациента» (Wurmser, 1995). Считается, что наркотики постоянно используются в качестве искусственной аффективной защиты.
Во многих работах, особенно психодинамического направления, прослеживается мысль о том, что наркозависимость является своеобразным невротическим расстрой ством (по терминологии L. Wurmser, 1987 — «тяжелой формой невроза»). Причем, по мнению того же автора, у большинства наркоманов обнаруживается фобическое ядро, инфантильный невроз, на чем и основывается последующая патология. «В навязчивых поисках наркомана, как в зеркале, отражается компульсивное избегание объектов, характерных для фобического пациента» (Wurmser, 1995). Считается, что наркотики постоянно используются в качестве искусственной аффективной защиты.
Имеется точка зрения о том, что распространенность алкогольной зависимости и невротических расстройств взаимосвязаны и обусловлены социальными нормами. В условиях запрета на потребление алкоголя этническими, религиозными нормами алкоголизм встречается в единичных случаях, а уровень заболеваемости неврозами высок. И наоборот, в условиях терпимого отношения к потреблению алкоголя число случаев заболеваемости невротическими расстройствами снижается (Popham, 1953; Laighton, 1969; Shore, Kinzie, Hampson, 1973; Westermeyer, 1982).
Наши исследования не обнаружили взаимосвязи развития наркозависимости и базовых симптомов невротических расстройств, несмотря на тот факт, что в структуре неврозов часто присутствуют феномены, на базе которых может формироваться зависимое поведение (например, внушаемость, прогностическая некомпетентность). Факты, указывающие на то, что причинами употребления наркотиков могут быть низкая устойчивость к психическим перегрузкам и стрессам, сниженная приспособленность к новым сложным ситуациям, плохая переносимость конфликтов (Врублевский, Цетлин, 1987; Попов, 1994, и др.), не объясняют патогенетические механизмы формирования зависимости, а лишь регистрируют ситуативную связь начала употребления психоактивных веществ с психоэмоциональным состоянием человека.
ГЛАВА 30
СТРАТЕГИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ








