Глава 28 судебно - экспертные аспекты аддиктологии
28.1. Судебно - психиатрическая наркология
28.1.1. Судебно - психиатрическая экспертиза лиц ,
злоупотребляющих психоактивными веществами ,
в уголовном процессе
При судебно-психиатрическом освидетельствовании лиц с психическими расстройствами Уголовный кодекс РФ предусматривает два основных решения, вытекающих из категории вменяемости и невменяемости. Формула невменяемости определена в ст. 21 УК РФ и характеризуется двумя критериями: медицинским (биологическим) и психологическим (юридическим). Биологический критерий формулы невменяемости нейтрален с юридической точки зрения. Он охватывает все варианты психической патологии, в том числе и наблюдающиеся при состояниях, не исключающих вменяемости. В то же время наличие этого критерия в формуле невменяемости обязательно, поскольку с правовой точки зрения невменяемость есть невозможность лица во время совершения противоправного деяния осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и (или) руководить ими именно вследствие психического расстройства.
Основная смысловая нагрузка формулы невменяемости заключена в психологическом критерии, отсутствие которого даже при констатации биологического критерия исключает возможность решения вопроса в сторону невменяемости.
Психологический критерий формулы невменяемости в общих психологических понятиях — невозможность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и (или) руководить ими — выражает ту степень болезненных нарушений психики, когда исключается возможность вменения в вину совершенного противоправного деяния. При вынесении экспертного заключения в сторону вменяемости подразумевается способность лица к правильному пониманию значения своих действий и возможность свободного выбора своих поступков, а также — наличие способности к пониманию противоправности своих поступков и наказуемости за содеянное, способности сопоставлять совершаемые деяния с правовыми и морально-этическими нормами.
Все эти психические функции реализуются посредством критических способностей, способности прогнозирования, связанных с ними уровня интеллекта и памяти, запаса знаний, функции мышления.
Принципиален и тот факт, что психологический критерий касается психического состояния лица в целом и ни в коей мере — отдельных его психических функций. Заключая в себе обобщенную характеристику психической деятельности, этот критерий не может определяться каким-то отдельным клиническим признаком.
672
Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
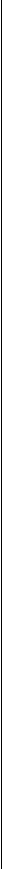 Судебно-психиатрическая оценка лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами (ПАВ), также основывается на общих клинических принципах и экспертных подходах и включает в себя сопоставление особенностей психического состояния подэкс-пертных с медицинским и юридическим критерием невменяемости. Экспертное заключение в этих случаях определяется степенью выраженности клинических составляющих наркологического заболевания и особенностями его течения. При этом имеющиеся психопатологические расстройства должны быть соотнесены с категориями «хронического психического расстройства», «временного психического расстройства» и «слабоумия», являющимися вариантами медицинского критерия невменяемости.
Судебно-психиатрическая оценка лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами (ПАВ), также основывается на общих клинических принципах и экспертных подходах и включает в себя сопоставление особенностей психического состояния подэкс-пертных с медицинским и юридическим критерием невменяемости. Экспертное заключение в этих случаях определяется степенью выраженности клинических составляющих наркологического заболевания и особенностями его течения. При этом имеющиеся психопатологические расстройства должны быть соотнесены с категориями «хронического психического расстройства», «временного психического расстройства» и «слабоумия», являющимися вариантами медицинского критерия невменяемости.
Судебно-психиатрическая оценка лиц, совершивших правонарушения в состоянии острой интоксикации (опьянения) психоактивными веществами. При судебно-психи-атрической оценке состояний острой интоксикации ПАВ основным является вопрос, можно ли эти состояния считать болезненными и лишают ли они лицо возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и (или) руководить ими при совершении противоправного деяния. Дело в том, что с общебиологической точки зрения состояние интоксикации ПАВ — это состояние нарушенного биопсихического равновесия (нормального жизненного гомеостаза), а стало быть, болезненное, т. е. имеются основания признать наличие медицинского критерия невменяемости.
При этих болезненных состояниях у индивида далеко не всегда сохраняется возможность отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими.
Еще на заре развития правовых отношений в римском и древнегерманском праве состояние опьянения считалось отягчающим вину обстоятельством. В Средние века каноническое право также ставило состояние опьянения в вину совершившему правонарушение. Король Франции Франциск I, организуя борьбу с чрезмерным употреблением алкоголя, в 1536 г. издал ордонанс, по которому лицо в состоянии опьянения подвергалось различным видам наказания от палочной экзекуции до отрезания ушей при повторном появлении в общественном месте в состоянии опьянения. В Англии за аналогичный проступок полагалось наказание от денежного штрафа до помещения в тюрьму. Кроме этого, состояние опьянения не служило смягчающим вину обстоятельством и не освобождало от уголовного наказания.
Буржуазное право не было столь ортодоксально в отношении алкогольного опьянения, как средневековое. Оно проявляло определенную двойственность в вопросе о наказании за деяние, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, за счет введения понятия непреднамеренности и случайности опьянения. Таким образом, в зависимости от обстоятельств возникновения состояния опьянения или особенностей личности правонарушителя, вопросы уголовного наказания могли решаться по-разному. Наиболее ярким примером этого служит итальянское фашистское законодательство Муссолини.
Российское законодательство, в отличие от буржуазного европейского, в отношении пьяниц было достаточно суровым. Начиная с законов Петра I, вопрос о наказуемости правонарушителя, находившегося в состоянии опьянения, всегда ставился четко и однозначно. Статья 43 Петровского «Воинского устава» гласила: «Когда кто пьян напьется и в пьянстве своем злого решит, тогда тот не токмо чтобы в том извинение получил, но по кипе нишею жестокостью наказуем имеет быть». В статье 113 «Свода законов» 1834 г. сказано, что «всякий, совершивший деяние в состоянии опьянения, признается виновным». Царское правительство в 1912 г. издало закон, запрещающий злоупотребление алкогольными напитками и предусматривающий уголовную наказуемость пьяниц.
Судебно-психиатрическая наркология
673
 Ma первом съезде русских психиатров С. С. Корсаков сказал, что необходимо взыскивать за пьянство, ибо по отношению к опьяневшему попустительство приносит больший вред, чем строгость, основанная не на жестокости, а на разумном стремлении предотвратить зло, вызываемое алкоголизмом.
Ma первом съезде русских психиатров С. С. Корсаков сказал, что необходимо взыскивать за пьянство, ибо по отношению к опьяневшему попустительство приносит больший вред, чем строгость, основанная не на жестокости, а на разумном стремлении предотвратить зло, вызываемое алкоголизмом.
Советское законодательство также однозначно относилось к оценке лиц, совершивших правонарушение в состоянии опьянения алкоголем и наркотиками. Согласно ст. 12 УК РСФСР, состояние алкогольного и наркотического опьянения не может служить основанием для освобождения от уголовной ответственности. Напротив, наличие одурманивания алкоголем и наркотиками во время совершения правонарушения относилось к отягчающим вину обстоятельствам (ст. 39 УК РСФСР).
В существующей практике констатация алкогольного и наркотического опьянения в период совершения противоправного деяния (при имеющихся прочих критериях ин-кульпации), независимо от степени выраженности его симптомов, исключает невменяемость, если только не отмечается признаков, позволяющих расценить состояние как качественно другое, именно достигающее психотического уровня.
Непсихотические формы наркотического опьянения по аналогии с простой формой алкогольного опьянения, независимо от их тяжести и степени утраты лицом способности отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими, никогда не рассматривались в аспекте критериев невменяемости.
Однако углубленное и системное изучение вопросов соотношения психопатологических нарушений, личностных и ситуационных условий, появление в УК РФ ст. 22 дает основания рассматривать указанную проблему с иных позиций.
Состояния алкогольного и, тем более, наркотического опьянения часто имеют достаточно сложную клиническую картину и проявляются многообразными аффективными, невротическими, психосенсорными и вазо-вегетативными нарушениями. Даже при непсихотических формах опьянения наряду с этим могут наблюдаться разнообразные нарушения мышления и расстройства восприятия отсенестопатий до иллюзорных переживаний. Сохранение аллопсихической и интрапсихической ориентировки в этих случаях, отсутствие бессвязности мышления свидетельствуют о сохранности сознания, а значит, о неправомерности решения вопроса в сторону экскульпации этих лиц. В то же время нарушения мышления от изменения его темпа до утраты последовательности суждений, иллюзорные расстройства свидетельствуют о том, что такие лица не обладают полной способностью оценивать правосохранность своего поведения и руководствоваться этой оценкой.
Не подлежит сомнению, что связанные с состоянием интоксикации ПАВ психические расстройства, не достигающие психотического уровня, не могут не оказывать влияние на поведение индивида. Это ставит подобные расстройства в промежуточное положение между состояниями, подпадающими под критерии экс- и инкульпации, а значит, предполагает возможность применения к ним ст. 22 УК РФ. Согласно этой статье, вменяемое лицо, которое во время совершения преступления не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, подлежит уголовной ответственности, но психические расстройства, не исключающие вменяемости, учитываются судом (т. н. ограниченная вменяемость).
Термин «ограниченная вменяемость» выносится за рамки УК РФ и не упоминается ни в названии ст. 22 УК РФ, ни в ее тексте, однако сама формулировка статьи об уголовной ответственности лице психическим расстройством, не исключающим вменяемости, фактически легализует это понятие и позволяет использовать его в практике судебно-психиатрической экспертизы.
22 Зак 3806
674
Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
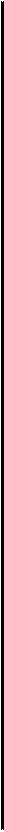 Несмотря на давнюю историю вопроса об ограниченной вменяемости, он практически не освещался в отечественной литературе, а если и обсуждался, то обычно в негативном плане (Кандинский, 1890; Сербский, 1896;Лунц, 1966). В то же время еще Н. И. Фе-линская (1969) отмечала, что с ростом психиатрических знаний и более точной квалификацией особенностей и глубины расстройств психической деятельности необходима дальнейшая разработка вопросов, касающихся вменяемости, и в первую очередь для группы лиц с пограничными нарушениями психической деятельности. Здесь имелось в виду, что вследствие тех или иных отклонений психической деятельности лицо, совершающее противоправное деяние, не обладает полной способностью оценивать противоправность своего поведения и руководствоваться этой оценкой.
Несмотря на давнюю историю вопроса об ограниченной вменяемости, он практически не освещался в отечественной литературе, а если и обсуждался, то обычно в негативном плане (Кандинский, 1890; Сербский, 1896;Лунц, 1966). В то же время еще Н. И. Фе-линская (1969) отмечала, что с ростом психиатрических знаний и более точной квалификацией особенностей и глубины расстройств психической деятельности необходима дальнейшая разработка вопросов, касающихся вменяемости, и в первую очередь для группы лиц с пограничными нарушениями психической деятельности. Здесь имелось в виду, что вследствие тех или иных отклонений психической деятельности лицо, совершающее противоправное деяние, не обладает полной способностью оценивать противоправность своего поведения и руководствоваться этой оценкой.
К настоящему времени накоплен пока еще весьма небольшой опыт применения ст. 22 УК РФ. Ее введение нарушает дихотомическую четкость клинических и экспертных оценок психического состояния большинства испытуемых, в том числе и лиц с синдромом зависимости от ПАВ. Это создает значительные трудности для врачей судебно-психиатрической службы.
Еще В. X. Кандинский (1890) отмечал, что гносеологически проблема ограниченной вменяемости связана с изучением роли субъективного фактора (активности сознания и личности) как ведущего в криминогенной причинно-следственной цепочке, что, в свою очередь, может отражать характер и степень имеющихся у субъекта расстройств. Еще до появления формулы невменяемости (1883) в законодательстве к обстоятельствам, уменьшающим вину, относили легкомыслие и крайнее невежество. В. X. Кандинский (1890) указывал, что ограниченно вменяемыми в ряде случаев могут признаваться лица, не обладающие сильной волей. Такое же мнение высказывают современные немецкие психиатры (Taschner, Manke, 1971). Естественно, подобные формулировки не могли и, тем более, не могут удовлетворить ни юристов, ни психиатров. Однако они заслуживают определенного внимания.
Вопрос о возможности и правомерности применения ст. 22 УК РФ к лицам, находившимся при совершении противоправного деяния в состоянии острой интоксикации ПАВ, неизменно связан с изучением психопатологических состояний, возникающих в очевидной и в причинно-следственной связи с активным поведением лица. Так, состояние опьянения, как правило, возникает вследствие произвольного приема ПАВ, причем произвольным является не только сам факт приема, но и доза, в значительной мере определяющая поведение лица. Еще Гиппократ рассматривал пьяниц как людей, добровольно вызывающих у себя безумие. В. П. Осипов (1926) по этому поводу писал, что «с медицинской стороны, алкоголь — яд, и всякий выпивший должен считаться отравленным, т. е. больным человеком, с другой стороны — пьяница сам привел себя в состояние опьянения. Вот почему законодательство, борясь с преступностью и стремясь с помощью наказания предупредить преступления, не может признавать опьянение обстоятельством, исключающим ответственность». Поэтому юристы всегда решали этот вопрос в сторону наказуемости пьяницы на том основании, что лицо, злоупотребляющее ПАВ, не является душевнобольным человеком и должно знать о возможных последствиях употребления спиртного или любого другого этого ПАВ.
Как известно, противоправные действия могут иметь место в двух формах — в виде умысла и в виде неосторожности. Преступление признается умышленным, если лицо, его совершившее, осознавало общественный характер своих действий (или наоборот, бездействия). Преступление квалифицируется как совершенное по неосторожности, если совершившее его лицо предвидело возможные социально негативные последствия своих действий, не имело умысла на их достижение, но не смогло или не пыталось их предот-
Судебно-психиатрическая наркология
675
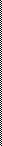 вратить. И в том и в другом случае, когда у индивида нарушена способность понимания общественной опасности своего действия или бездействия и его последствий, возможна постановка вопроса об экскульпации этих лиц. То есть важно, чтобы конкретное лицо не только осознавало формальную сторону своих действий, но и их общественный характер, необходимо, чтобы сохранялось понимание того значения, которое имеет данный поступок как преступление (Трахтеров, 1939).
вратить. И в том и в другом случае, когда у индивида нарушена способность понимания общественной опасности своего действия или бездействия и его последствий, возможна постановка вопроса об экскульпации этих лиц. То есть важно, чтобы конкретное лицо не только осознавало формальную сторону своих действий, но и их общественный характер, необходимо, чтобы сохранялось понимание того значения, которое имеет данный поступок как преступление (Трахтеров, 1939).
При судебно-психиатрической экспертизе лиц, совершивших противоправные деяния как в виде умысла, так и по неосторожности, важно установить не только, осознавало ли данное лицо формальную сторону своих действий (их «фактический характер»), но и их общественную опасность, сохранялось ли у лица понимание того значения, которое имеет данный поступок как преступление. Применительно клипам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения это означает, что лицо, сознательно приводящее себя в состояние одурманивания, одновременно понимает возможные общественно опасные последствия такого поступка. Именно поэтому лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, подлежит уголовной ответственности (ст. 23 УК РФ) и в отношении инкриминируемого ему деяния является вменяемым.
Поддерживая данную точку зрения, Н. В. Канторович (1965) писал, что, «если бы закон стал на чисто медицинские позиции и оставил бы ненаказуемыми преступления, совершенные в состоянии опьянения, это было бы явно нецелесообразно и привело бы к увеличению преступности». Каждому известны возможные, в том числе и криминальные последствия действия алкоголя и наркотических веществ, поэтому каждый может эти последствия предвидеть и не доводить себя до степени опьянения, ограничивающей возможность отдавать себе отчет в своих действиях и руководить своими поступками» (Тимофеев, 1961).
Действующее уголовное законодательство не останавливается на медицинских аспектах данного вопроса в плане соответствия или несоответствия медицинскому критерию невменяемости состояния опьянения ПАВ. Оно просто указывает, что лицо в состоянии алкогольного или наркотического опьянения подлежит уголовной ответственности. Это означает, что констатация состояния опьянения у лица в период совершения им противоправного деяния не служит основанием для экскульпации этого лица. Это связано с тем, что лицо, еще будучи трезвым и намеренно приведя себя в состояние опьянения, могло и должно предвидеть возможность совершения им общественно опасных действий и поэтому в случае совершения преступления должно нести уголовную ответственность.
Формулировка ст. 23 УК РФ находится в противоречии с традиционно используемым в практике судебно-психиатрической экспертизы и легализованным МКБ-10 диагнозом «патологическое опьянение». Данная статья исключает из медицинского критерия невменяемости само состояние алкогольного и наркотического опьянения, не уточняя, что это не касается его психотических форм. Об этом сказано в комментариях к УК РФ, но комментарий к Закону законом не является. Следовательно, диагностическая формула в виде «психотической формы опьянения» или «патологического опьянения» может использоваться в общемедицинской практике, но противоречит экспертному заключению о невменяемости в судебно-психиатрической практике. В этих случаях более уместной и адекватной УК РФ оказывается диагностическая формула в виде психопатологической синдромальной квалификации психического состояния (например, сумеречное помрачение сознания, острый делирий, острый галлюциноз).
Статья 22 УК РФ не исключает уголовной ответственности лица. Однако она позволяет суду учитывать, что субъект преступления при его совершении не мог в силу имею-
676
Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
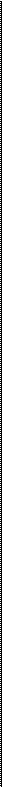 щихся у него психических нарушений в полной мере отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. При этом Уголовный кодекс не указывает, каким образом суд может осуществлять этот «учет». В связи с тем, что состояние опьянения ПАВ не включено в перечень обстоятельств, отягчающих наказание (ст. 63 УК РФ), этот «учет» может быть только в сторону его смягчения.
щихся у него психических нарушений в полной мере отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. При этом Уголовный кодекс не указывает, каким образом суд может осуществлять этот «учет». В связи с тем, что состояние опьянения ПАВ не включено в перечень обстоятельств, отягчающих наказание (ст. 63 УК РФ), этот «учет» может быть только в сторону его смягчения.
Большинство стран, имеющих многолетний опыт применения категории ограниченной вменяемости, вносят четкие законодательные ограничения ее применения. Так, в УК Швейцарии, Финляндии, Австрии, Греции и Аргентины есть статья, уточняющая, что если психические расстройства, не исключающие вменяемость, возникли при активной роли субъекта преступления, то форма ограниченной вменяемости к нему применяться не может. Это объясняется тем, что ограниченная вменяемость рассматривается не как особая промежуточная категория между вменяемостью и невменяемостью, а как производная от вменяемости. Следовательно, ее считают обстоятельством, не освобождающим, как невменяемость, от уголовной ответственности, а только смягчающим ее (Антонян, Бородин, 1987). Именно поэтому принятие решения о возможности применения к субъекту преступления категории ограниченной вменяемости должно соотноситься с изучением роли субъективного фактора (активности сознания и личности) в криминальной причинно-следственной ситуации.
Применительно к лицам, совершившим преступление в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, это означает, что развивающиеся в состоянии опьянения психические расстройства непосредственно связаны с фактором произвольности действий субъекта преступления. Однако действующий УК РФ не содержит конкретных ограничений на применение ст. 22 УК РФ, что дает возможность ее использования в отношении данной категории субъектов преступлений. В таких случаях применение ст. 22 УК РФ в сторону смягчения наказания, как это подразумевается в отношении лиц со всеми другими пограничными психическими расстройствами, не отвечает принципам уголовного нрава и не способствует предупреждению преступлений.
В то же время УК РФ приводит конкретный перечень обстоятельств, при констатации которых возможно смягчение наказания (ст. 61 УК РФ). К ним относятся ситуации, когда преступление совершено «...вследствие случайного стечения обстоятельств» (п. «а» ч. 1 ст. 61), «...в результате физического или психического принуждения (п. «е» ч. 1 ст. 61), «...во исполнение приказа или распоряжения» (п. «ж» ч. 1 ст. 61).
В соответствии с этим при решении вопроса о возможности применения ст. 22 УК РФ в таких случаях должен проводиться тщательный анализ не только развивающихся в результате приема ПАВ психических расстройств, но и тех обстоятельств, при которых возникло состояние опьянения: 1) произвольность приема ПАВ, приведение в состояние опьянения насильственным путем или путем обмана; 2) осведомленность лица о действии употребляемого им ПАВ; 3) наличие или отсутствие предшествующего субъективного опыта употребления данного ПАВ; 4) связь приема данного ПАВ с какими-либо иными психическими расстройствами (например, компульсивное патологическое влечение, депрессивное или гипоманиакальное состояние и т. д.).
Если лицо было приведено в состояние опьянения насильственным путем или путем обмана, если оно не было осведомлено о психофизическом действии данного ПАВ, если оно не имело субъективного опыта его применения или употребление было обусловлено атарактическими или адциктивными механизмами, то в этих случаях возможно применение ст. 22 УК РФ. Поскольку не подлежит сомнению, что состояние одурманивания часто лишает опьяневшее лицо способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемых им противоправных действий и руководить ими.
Судебно-психиатрическая наркология
677
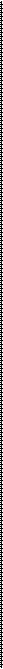 Если же использование ПАВ было связано с культуральными и ситуационными факторами либо с гедонистическими мотивами и субъект преступления был хорошо осведомлен, в том числе и по собственному опыту, о возможных последствиях этого употребления, то в данном случае применение к этому лицу ст. 22 УК РФ неправомерно. Суд вправе учитывать перечисленные выше обстоятельства, но уже как усугубляющие вину. Это представляется тем более актуальным, что на фоне роста «пьяной преступности» состояние опьянения исключено законодательством из перечня обстоятельств, усугубляющих вину субъекта преступления.
Если же использование ПАВ было связано с культуральными и ситуационными факторами либо с гедонистическими мотивами и субъект преступления был хорошо осведомлен, в том числе и по собственному опыту, о возможных последствиях этого употребления, то в данном случае применение к этому лицу ст. 22 УК РФ неправомерно. Суд вправе учитывать перечисленные выше обстоятельства, но уже как усугубляющие вину. Это представляется тем более актуальным, что на фоне роста «пьяной преступности» состояние опьянения исключено законодательством из перечня обстоятельств, усугубляющих вину субъекта преступления.
Решение экспертных вопросов с обязательным учетом причинно-следственных связей не распространяется на лиц, состояние которых в период совершения общественно опасных действий было расценено как психотическое (интоксикационный психоз, психотические формы опьянения). Это в первую очередь связано с тем, что возникающее в таких случаях «болезненное состояние» не является прямым результатом самого факта употребления ПАВ. В его генезе принимают участие гораздо более сложные по сравнению с простыми, неосложненными формами наркотического опьянения механизмы, в том числе и биологические. Это — качественно иное, болезненное состояние психической деятельности, требующее и иной категориальной судебно-психиатрической опенки.
Поэтому принципиально важно при судебно-психиатрическом освидетельствовании лиц, совершивших ООД в состоянии острой интоксикации ПАВ, отграничить непсихотические формы опьянения от психотических, поскольку экспертное решение в этих случаях различно. Под психотическим расстройством понимают проявления психической деятельности, вызывающие резкую дезорганизацию поведения индивидуума и находящиеся в грубом противоречии с реалиями окружающего мира. К расстройствам психотического уровня принято относить все виды помраченного сознания, обманы восприятия, бред, витальные нарушения аффекта.
Дифференциальная диагностика психотических и непсихотических форм опьянения ПАВ, как правило, вызывает значительные затруднения. Это связано с внешним сходством форм поведения подэкспертных, обусловленных, с одной стороны, психотическими, с другой — непсихотическими феноменами. В том и другом случае могут наблюдаться сходная моторика, вазовегетативные проявления, аффективные и амнести-ческие нарушения. В рамках как психотических, так и непсихотических состояний могут отмечаться неадекватные, нередко на первый взгляд безмотивные агрессивные действия. При всех формах одурманивания могут быть изменения самосознания (переоценка своих возможностей, способностей и физической силы), иллюзорное искажение восприятия окружающего мира и другие признаки, иногда внешне напоминающие проявления психоза.
Наиболее надежным и достоверным дифференциально-диагностическим критерием психотической формы опьянения служат признаки помраченного (сумеречного, оней-роидного и оглушенного, за исключением обнубиляции) или расстроенного (параноидного, галлюцинаторно-параноидного)сознания.
К основным, обязательным для дифференциальной диагностики признакам психотической формы опьянения любым ПАВ, относятся следующие: пространственно-временная дезориентировка, невозможность контакта и совместных действий с кем-либо; грубые деперсонализационные расстройства в виде чувства раздвоенности своего «Я» и страха сойти с ума; бредовые и галлюцинаторные переживания, витальный страх; расстройство внимания на уровне апрозексии (полного его выпадения); нарушение процессов мышления в сторону его ускорения, вплоть до скачки идей и бессвязности (инкогеренции), различных проявлений синдрома психического автоматизма (от непро-
678
Судебно-экспертные аспекты аддикгологии
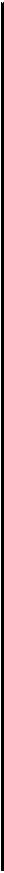 извольности мыслей до их чуждости); эмоциональные нарушения, порой доходящие до степени экстаза, развернутой мании или дисфории с брутальным поведением.
извольности мыслей до их чуждости); эмоциональные нарушения, порой доходящие до степени экстаза, развернутой мании или дисфории с брутальным поведением.
К косвенным признакам состояния опьянения психотического уровня относятся: кататимность расстройств восприятия, внушаемость больных, их неспособность к активному вниманию, грубое, хотя и временное, интеллектуальное снижение, явления эмоциональной слабости с легкой и частой сменой полярных эмоциональных состояний, двигательная расторможенность, суетливость, нецеленаправленность и автоматизм действий, безмотивность и жестокий характер противоправных деяний. К косвенным признакам относятся также последующий сон и запамятование своих поступков. Все эти признаки могут наблюдаться как при психотических, так и непсихотических формах опьянения. Они не имеют самостоятельного значения, и каждый по отдельности не является показателем психотического или непсихотического опьянения.
В некоторых случаях, например при совершении ООД в состоянии опьянения галлюциногенами, значительные трудности вызывает диагностика психотического или непсихотического уровня опьянения. Если при опьянении психопатологическая симптоматика ограничивается иллюзорными обманами восприятия или яркими непроизвольными представлениями, сохраняется ориентировка в месте и времени, поведение лица грубо не дезорганизуется, а в контакте с окружающими не нарушается, то такое состояние нельзя считать психотическим. В случае развития зрительных галлюцинаций или грезоподобных онейроидных переживаний с дезориентировкой в окружающем, с неадекватным поведением такое состояние следует считать психотическим, с соответствующими экспертными выводами.
При возникновении в структуре опьянения психостимуляторами мании и депрессии с экспертной точки зрения закономерен вопрос: достигает ли выраженность этих состояний психотической степени или нет? Если при мании обнаруживаются грубые проявления маниакальной триады с усилением аффекта, ускорением мышления и чрезмерной психомоторной активностью, карикатурной переоценкой собственной личности, утратой критического отношения к себе, полной дезорганизацией поведения, то такое состояние можно считать психотическим. Тот же подход необходимо использовать и при диагностике депрессивного состояния.
В случаях, когда на момент совершения ООД у больных обнаруживается развернутая картина психотического состояния, их судебно-психиатрическая оценка не вызывает сомнения. Все они признаются невменяемыми в соответствии с критерием наличия временного расстройства психической деятельности.
Диагностические трудности при судебно-психиатрической оценке острых психотических состояний может вызвать их атипичная клиническая картина с включением полиморфной симптоматики, кратковременность психотического приступа, фрагментарные воспоминания о случившемся или полное их отсутствие и недостаточность свидетельских показаний (при психотических формах опьянения). Экспертную оценку может также затруднить необходимость соотнесения психотического эпизода с моментом совершения ООД. При судебно-психиатрической оценке в этих случаях важно определение фазы развития состояния острой интоксикации, во время которой было совершено правонарушение. Психотическое состояние может охватывать не всю картину опьянения, а быть лишь кратковременным эпизодом в его динамике. В связи с этим правонарушение может быть совершено как в психотической, так и непсихотической фазе острой интоксикации. Так, сумеречное помрачение сознания при патологическом опьянении может развиться на фоне простого или измененного алкогольного опьянения, делири-озно-онейроидный синдром и состояние спутанности при гашишной интоксикации
Судебно-психиатрическая наркология
679
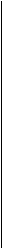 могут возникнуть внезапно на высоте опьянения либо в его начале. Опьянение седативно-снотворными веществами характеризуется определенной фазностью. Психотические эпизоды отмечаются обычно во второй его фазе. Кокаиновый делирий может развиться в течение суток после начала интоксикации и самопроизвольно купироваться по ее окончании. Психозы при употреблении галлюциногенов могут иметь четкую двухфазную динамику. В начале опьянения клиническая картина исчерпывается аффективными расстройствами, и лишь в конце возникает эпизод помраченного сознания. Делириозные расстройства при вдыхании ингалянтов развиваются только в виде кратковременного эпизода на высоте интоксикации. Вскоре после прекращения вдыхания вещества сознание полностью проясняется и галлюцинации прекращаются. В связи с этим принципиальным представляется не просто выяснение формы опьянения (психотическая-непсихотическая), но и квалификация интоксикационных расстройств, относящихся к периоду совершения данным лицом противоправного деяния. Больные, перенесшие острый психоз, могут быть экс-кульпированы как в соответствии с критерием временного, так и хронического психического расстройства. В последнем случае также констатируется острый психоз, присутствовавший в момент совершения ООД, но он возник на фоне выраженных изменений личности, не достигающих, однако, степени слабоумия, что может быть квалифицировано как психоорганическое снижение личности или стойкое когнитивное расстройство.
могут возникнуть внезапно на высоте опьянения либо в его начале. Опьянение седативно-снотворными веществами характеризуется определенной фазностью. Психотические эпизоды отмечаются обычно во второй его фазе. Кокаиновый делирий может развиться в течение суток после начала интоксикации и самопроизвольно купироваться по ее окончании. Психозы при употреблении галлюциногенов могут иметь четкую двухфазную динамику. В начале опьянения клиническая картина исчерпывается аффективными расстройствами, и лишь в конце возникает эпизод помраченного сознания. Делириозные расстройства при вдыхании ингалянтов развиваются только в виде кратковременного эпизода на высоте интоксикации. Вскоре после прекращения вдыхания вещества сознание полностью проясняется и галлюцинации прекращаются. В связи с этим принципиальным представляется не просто выяснение формы опьянения (психотическая-непсихотическая), но и квалификация интоксикационных расстройств, относящихся к периоду совершения данным лицом противоправного деяния. Больные, перенесшие острый психоз, могут быть экс-кульпированы как в соответствии с критерием временного, так и хронического психического расстройства. В последнем случае также констатируется острый психоз, присутствовавший в момент совершения ООД, но он возник на фоне выраженных изменений личности, не достигающих, однако, степени слабоумия, что может быть квалифицировано как психоорганическое снижение личности или стойкое когнитивное расстройство.
Судебно-психиатрическая экспертиза стойких психических расстройств вследствие зависимости от психоактивных веществ. Продолжительное время в общественном сознании складывался достаточно негативный образ больных наркологическим заболеванием и, в частности, больных наркоманией. В первую очередь это было связано с убеждением об их повышенной общественной опасности и криминальной активности.
Многочисленные исследования показывают, что развитие различных форм зависимости от ПАВ сопровождается учащением привлечения этих лиц к уголовной ответственности, при этом структура преступности среди них зависит от вида ПАВ, в отношении которого формируется зависимость. Лица с алкогольной зависимостью чаше совершают имущественные правонарушения и правонарушения против личности (убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, грабежи, разбойные нападения). Эти данные по структуре правонарушений, совершенных лицами с алкогольной зависимостью, отражают общие тенденции роста преступности, наблюдающиеся последние годы на территории России, где преступления, сопряженные с физическим и психическим насилием над личностью, с причинением телесных повреждений занимают значительное место в общей структуре преступности.
В отличие от этого, лица, страдающие наркоманией, чаше всего (по нашим данным, до 36,8%) совершают противоправные действия, связанные с изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом наркотиков. Это соответствует данным по общему массиву преступности, согласно которым преступность, связанная с наркотиками, выросла за 2004 г. в 4,2 раза, а число привлекаемых к уголовной ответственности сбытчиков наркотиков увеличилось в 2,3 раза. Аналогичного мнения придерживаются В. Е. Пелипас и И. О. Соломандина (1994). Они считают, что в основном страдающие наркоманией лица совершают незаконные операции с наркотическими средствами без цели сбыта. Наряду с этим среди лиц, страдающих наркоманией, наблюдается снижение доли особо тяжких преступлений — убийств и покушений на убийство, нанесений тяжких телесных повреждений. Возможно, именно такое изменение в структуре преступности больных наркоманией по сравнению с общим массивом преступности позволяет некоторым зарубежным исследователям считать, что потребление наркотиков не относится к факторам, провоцирующим преступное поведение.
680
Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
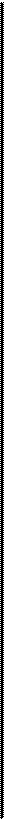 Наибольшей криминогенной активностью отличаются больные на второй стадии развития зависимости от ПАВ. Они же чаще совершали наиболее тяжкие противоправные действия, направленные против личности, против общественной безопасности и порядка.
Наибольшей криминогенной активностью отличаются больные на второй стадии развития зависимости от ПАВ. Они же чаще совершали наиболее тяжкие противоправные действия, направленные против личности, против общественной безопасности и порядка.
В подавляющем большинстве случаев на первой стадии формирования зависимости от ПАВ противоправные действия определяются не болезненными психопатологическими переживаниями, в том числе и синдромом патологического влечения к ПАВ, а социально детерминированы. Противоправному поведению способствует асоциальное окружение, неправильные социально-нравственные ориентиры вследствие воспитания, корыстные и другие психологически понятные мотивы. Формирующееся при этом патологическое влечение к ПАВ, даже если оно и не является основным мотивом совершения противоправных деяний, имеет некоторое опосредованное значение. Противоправное поведение обычно — это следствие формирования установок, характерных для лиц с антиобщественной направленностью, где система норм и ценностей допускает удовлетворение потребностей путем совершения криминальных действий. Отсутствие положительных социальных установок, общественная пассивность, эгоизм, ограниченность потребностей на бытовом уровне, слабый профессиональный и общеобразовательный рост в сочетании с криминальным окружением, отсутствием должного контроля со стороны семьи и близких, злоупотребление наркотическими веществами или алкоголем — таковы основные факторы совершения антиобщественных и антисоциальных поступков.
Однако даже преморбидно положительные социальные ориентиры в виде оценки значимости объекта, представляющего социальную ценность, не предопределяют дальнейший социальный маршрут. Это связано с тем, что они подвержены определенным динамическим сдвигам в процессе социальной и групповой интеракции. Поэтому возникновение социальной дезадаптации в форме снижения квалификации, частой перемены мест работы, нарушений семейных отношений способствуют включению таких лиц в группу с антисоциальной направленностью.
У индивидов с 1-й стадией формирующейся зависимости от ПАВ противоправная активность обычно связана с таким личностными особенностями, как утрата этических принципов и эмоциональных привязанностей, извращенные этические представления и стереотипы, принятые в референтной группе, в которую входило данное лицо, повышенная возбудимость, взрывчатость, агрессивность, слабость волевого контроля. Повышенная внушаемость и пассивная подчиняемость, снижение морально-этических норм, извращенное понимание этических принципов приводят к совершению правонарушений против личной и общественной собственности.
Трудно бывает отнести те или иные личностные девиации, принимающие участие в формировании общественно опасного поведения, за счет развивающейся зависимости от ПАВ либо сочетанной с ней другой психической патологии. Это, по-видимому, и не принципиально, поскольку криминальная активность — одна из форм социальной дезадаптации, и именно в этом плане нужно рассматривать личностные и поведенческие особенности таких лиц для объяснения механизмов совершения ими противоправных деяний.
По мнению Ю. А. Александровского (1976), «психическая адаптация индивида является результатом деятельности целостной самоуправляемой системы, активность которой обеспечивается не просто совокупностью отдельных компонентов (подсистем), а их взаимодействием и содействием, что порождает новые интегративные качества, не присущие отдельным подсистемам». При этом состояние психической дезадаптации и сопряженная с ней социально-бытовая дезадаптация — это результат нарушения функцио-
Судебно-психиатрическая наркология
681
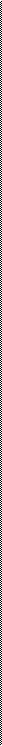 нальных возможностей всей адаптационной системы в целом, в том числе и внешней. В этой связи не представляется принципиально важным разграничивать генез массы личностных особенностей, принимающих участие в той или иной форме социальной активности, в том числе и криминальной. Тем более что лежащие и основе криминальной активности социально-психологические и конституционально-биологические факторы тождественны преморбидно-личностным особенностям лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами.
нальных возможностей всей адаптационной системы в целом, в том числе и внешней. В этой связи не представляется принципиально важным разграничивать генез массы личностных особенностей, принимающих участие в той или иной форме социальной активности, в том числе и криминальной. Тем более что лежащие и основе криминальной активности социально-психологические и конституционально-биологические факторы тождественны преморбидно-личностным особенностям лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами.
У больных на 2-й стадии зависимости от ПАВ независимо от ведущего клинического синдрома совершение противоправных действий также определяется социальными факторами, аналогичными свойственным больным на первой стадии зависимости. Однако в этих случаях особенности ведущего клинического синдрома, не являющиеся основной причиной совершения правонарушений, имеют некоторое опосредованное значение. Значительную долю эксцессов обычно составляют правонарушения, вытекающие из таких характерологических особенностей этих больных, как повышенная возбудимость, взрывчатость, агрессивность, нарушение волевого контроля: это правонарушения против личности, против общественной безопасности и порядка. Повышенная внушаемость, снижение морально-этических задержек как результат присоединившейся наркомании и отрицательного психологического влияния приводят к совершению преступлений против личной и общественной собственности.
На 3-й стадии зависимости от ПАВ особенности социальной адаптации больных и совершение ими общественно-опасных действий тесно связаны со спецификой их психического состояния. Несмотря на относительную сохранность профессиональных навыков и бытовых стереотипов, большинство из них, как правило, нигде не работают, отмечается стойкая утрата трудоспособности. Некритичность, неспособность к осмыслению ситуации и сопоставлению своих действий с социально-ограничительными нормами и правилами морали, повышенная возбудимость и расторможенность влечений способствуют совершению правонарушений, направленных против порядка и общественной безопасности, против общественной и личной собственности.
Поскольку до 36% всей криминальной активности лиц с признаками наркомании приходится на долю противоправных действий, сопряженных с наркотиками, интересно изучение связи криминальной активности этих лиц с их патологическим влечением к наркотикам. Проведенные нами исследования показали, что в большинстве случаев не представляется возможным установить какую-либо связь антиобщественной деятельности этих лиц с той или иной формой патологического влечения к наркотическим средствам, а криминальная активность, в том числе и сопряженная с наркотиками, оказывается больше обусловленной социальными стереотипами, навязанными либо перенятыми у окружающих. В то же время примерно в трети случаев обнаруживается разной степени интенсивности связь имеющегося патологического влечения с совершенным антиобщественным действием.
В наиболее простом виде это выражается в тех случаях, когда хранение либо товарные действия с наркотическими средствами совершаются в силу имеющегося патологического влечения к приему наркотиков. Поскольку именно на первой стадии наркомании динамика патологического (обсессивного) влечения определяется ритмом наркотизации и его дезактуализацией только в состоянии наркотического опьянения, именно здесь эти лица прибегают к постоянному хранению наркотического вещества либо к необходимости его приобретения.
В течение многих лет судебно-психиатрической оценки лиц с различными видами зависимости от ПАВ (хронический алкоголизм, нарко- и токсикомании) в практике су-
682
Судебно-экспертные аспекты адаиктологии
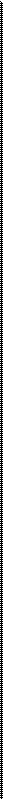 дебно-психиатрической экспертизы используются традиционные подходы к ним как к состояниям, включающим лишь медицинский критерий невменяемости, что при отсутствии юридического критерия безоговорочно обусловливает инкульпацию этих лиц. Вопрос об экскульпации ставится и, тем более, решается положительно достаточно редко, исключительно по фактору наличия временного болезненного расстройства психической деятельности в виде сложных психотических форм наркотического опьянения, интоксикационных психозов. Здесь не имеются в виду наркомании, осложняющие течение других психических заболеваний, где экспертные вопросы решаются на основании методов, выработанных в отношении каждой отдельной нозологической формы.
дебно-психиатрической экспертизы используются традиционные подходы к ним как к состояниям, включающим лишь медицинский критерий невменяемости, что при отсутствии юридического критерия безоговорочно обусловливает инкульпацию этих лиц. Вопрос об экскульпации ставится и, тем более, решается положительно достаточно редко, исключительно по фактору наличия временного болезненного расстройства психической деятельности в виде сложных психотических форм наркотического опьянения, интоксикационных психозов. Здесь не имеются в виду наркомании, осложняющие течение других психических заболеваний, где экспертные вопросы решаются на основании методов, выработанных в отношении каждой отдельной нозологической формы.
Возможно, такой однозначный подход к решению экспертных вопросов в отношении лиц, страдающих алкогольной зависимостью или наркоманией, связан с традиционными взглядами на алкоголизм и наркоманию как на явление больше социальное, нежели биологическое. Возможно, большое влияние здесь на отечественную школу оказывают зарубежные исследования, рассматривающие различные проявления патологии сферы влечений, в том числе и патологического влечения, в рамках личностных девиаций, «расстройств личности» (DSM-III-R), «поведенческих агрессивных» и «антисоциальных личностных расстройств». При этом основное внимание акцентируется не на психопатологической структуре имеющихся расстройств сферы влечений, а на изучении социально-психологических механизмов и биологических факторов, способствующих их возникновению (Rodenburg, 1971;Haslam, 1975;Paleologo, 1977; Kanmeier, 1975). Наибольшее количество работ посвящено вопросам «нарушения импульсивного контроля», однако и в них путаются такие клинически различные понятия, как физиологические влечения, расстройство сферы влечений, патологические влечения (Veno, 1974; McManus, 1984;Kolko, 1985; 1989; Evans, 1986; Marshall etal., 1988).
Внесение и учет социальных моментов в судебно-психиатрические решения в отношении лице различными видами зависимости наглядно демонстрируется при постановке вопроса об их ограниченной вменяемости. Так, в законодательствах многих стран, предусматривающих возможность признания уменьшенной вменяемости лиц с психическими аномалиями, оговаривается, что положения об ограниченной вменяемости (УК Польши, Дании) или даже о невменяемости (УК Швеции) не применяются, если обвиняемое лицо само вызвало тяжкое изменение или расстройство сознания с намерением совершить преступление (ст. 12 УК Швеции), либо если лицо совершило деяние в состоянии алкогольного опьянения или в другом одурманенном состоянии (ст. 24,25 УК Венгрии).
Экспертные вопросы в отношении лиц с синдромом зависимости от ПАВ следует рассматривать в плане определения глубины и динамики эмоционально-волевых и ин-теллектуально-мнестических изменений, отражающихся в поведении этих лиц, а также в характере совершаемых ими противоправных действий. С юридической точки зрения большое значение при решении вопроса о вменяемости имеет способность субъекта строить логически обоснованный и адекватно-мотивационный замысел, поскольку его наличие — один из атрибутов как гражданского акта, так и преступления.
В отношении больных с синдромом зависимости от ПАВ показателем глубины психических изменений, соответствующих медицинскому критерию невменяемости, обычно служат стойкое деструктивное поражение головного мозга с грубым психоорганическим дефектом в виде выраженного снижения показателей внимания, мышления, памяти, способности к прогнозированию, распада механизмов регулирования когнитивной деятельности, вследствие чего нарушается целостная структура интеллектуальных процессов, разлаживается сочетанное функционирование актов восприятия, переработки и фиксации новой информации, сопоставления ее с предшествующим опытом. Когнитив-
Судебно-психиатрическая наркология
683
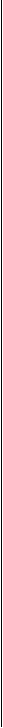 пая недостаточность может выражаться в трудностях восприятия, нарушении активного внимания, слабости запоминания. Определенное значение придается неадекватности аффектов переживаемым событиям, недостаточности инициативы и побуждений. В этих случаях часто имеют место эгоцентризм и консерватизм мышления, связанные с когнитивным дефицитом. Следует учитывать и повышенную внушаемость, расстройства критических способностей, трудность принятия самостоятельного решения в усложненных ситуациях, выраженную зависимость поведения от обстоятельств. Важным в связи с этим считается и нарушение адаптивного поведения, показателем дефицита которого служит нарушение приспособляемости в данной культурной группе и в таких сферах, как профессиональная деятельность, социальная и гражданская ответственность, коммуникативность, исполнение ежедневных обязанностей, личная независимость и самоудовлетворение. Нарушения поведения у лице выраженными психическими и поведенческими расстройствам и вследствие злоупотребления ПАВ в период судебно-психиат-рической экспертизы могут быть разной степени интенсивности и проявляться пассивностью, зависимостью от поведения и мнения окружающих, неадекватной (как завышенной, так и заниженной) самооценкой, агрессивностью и аутоагрессивностью. импульсивностью, неумением себя контролировать.
пая недостаточность может выражаться в трудностях восприятия, нарушении активного внимания, слабости запоминания. Определенное значение придается неадекватности аффектов переживаемым событиям, недостаточности инициативы и побуждений. В этих случаях часто имеют место эгоцентризм и консерватизм мышления, связанные с когнитивным дефицитом. Следует учитывать и повышенную внушаемость, расстройства критических способностей, трудность принятия самостоятельного решения в усложненных ситуациях, выраженную зависимость поведения от обстоятельств. Важным в связи с этим считается и нарушение адаптивного поведения, показателем дефицита которого служит нарушение приспособляемости в данной культурной группе и в таких сферах, как профессиональная деятельность, социальная и гражданская ответственность, коммуникативность, исполнение ежедневных обязанностей, личная независимость и самоудовлетворение. Нарушения поведения у лице выраженными психическими и поведенческими расстройствам и вследствие злоупотребления ПАВ в период судебно-психиат-рической экспертизы могут быть разной степени интенсивности и проявляться пассивностью, зависимостью от поведения и мнения окружающих, неадекватной (как завышенной, так и заниженной) самооценкой, агрессивностью и аутоагрессивностью. импульсивностью, неумением себя контролировать.
Для достоверного диагноза в этих случаях должен констатироваться низкий уровень интеллектуального функционирования, приводящий к недостаточной способности адаптироваться к повседневным запросам нормального социального окружения.
По своим характеристикам эти психические нарушения приближаются к тотальному варианту органического слабоумия и могут быть соотнесены с понятием и «хронического психического расстройства», и «слабоумия» как вариантов медицинского критерия невменяемости.
Во всех остальных случаях (здесь не имеются в виду различные преходящие психические нарушения, отвечающие критериям «временного психического расстройства») развивающиеся в рамках синдрома зависимости психические и поведенческие расстройства не отвечают ни медицинскому, ни юридическому критерию невменяемости и не могут быть основанием для экскульпации лиц, у которых они выявляются.
При решении вопроса о вменяемости в отношении лиц с синдромом зависимости от ПАВ основополагающий критерий — констатация сохранности способности понимать систему морально-нравственных запретов и основных норм социально значимого поведения, возможности сознательно регулировать свое поведение в юридически значимых ситуациях и предвидеть последствия своих поступков. Этот факт — основной аргумент в пользу того, что более или менее выраженные психические и поведенческие расстройства, обусловленные хронической интоксикацией ПАВ, не определяют юридический критерий невменяемости, т. е. не достигают степени психических расстройств, дающей субъекту возможность понимать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию. Таким образом, решающим в этих случаях становится сохранение у субъекта преступления, несмотря на имеющиеся у него признаки психоорганического снижения и личностные нарушения, способности отражать реальную социально-психологическую ситуацию и в соответствии с ней осознавать, определять и организовывать свое поведение, а также понимать правовое значение собственных поступков, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания.
Поскольку до 1997 г. отечественное уголовное законодательство не упоминало о психических расстройствах в раках вменяемости, существовал строгий дихотомический
684
Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
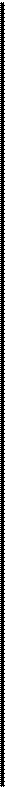 подход при вынесении экспертного заключения (вменяем—невменяем). В соответствии с этим закон предъявлял, по сути, одинаковые требования и к психически здоровому лицу, и к лицу, в силу имеющихся у него психических расстройств испытывающему затруднения в адекватном регулировании своего поведения. Несмотря на это, в целом ряде случаев суды допускали возможность признавать психические аномалии обвиняемого в качестве обстоятельств, смягчающих его уголовную ответственность (Антонян, Бородин, 1987). Данная ситуация объяснялось тем, что имеющиеся улица психические расстройства, в том числе и связанные со злоупотреблением ПАВ, часто (нередко — весьма существенно) влияют на поведение субъекта преступления, и это требует их учета при назначении наказания и его отбывании.
подход при вынесении экспертного заключения (вменяем—невменяем). В соответствии с этим закон предъявлял, по сути, одинаковые требования и к психически здоровому лицу, и к лицу, в силу имеющихся у него психических расстройств испытывающему затруднения в адекватном регулировании своего поведения. Несмотря на это, в целом ряде случаев суды допускали возможность признавать психические аномалии обвиняемого в качестве обстоятельств, смягчающих его уголовную ответственность (Антонян, Бородин, 1987). Данная ситуация объяснялось тем, что имеющиеся улица психические расстройства, в том числе и связанные со злоупотреблением ПАВ, часто (нередко — весьма существенно) влияют на поведение субъекта преступления, и это требует их учета при назначении наказания и его отбывании.
Возможность и необходимость применения оценочной категории ограниченной вменяемости при судебно-психиатрической экспертизе лиц с наркологическими заболеваниями обусловлена, прежде всего, тем, что наблюдаемые в данной нозографической группе психические и поведенческие расстройства представляют собой континуум от легких и незначительных нарушений психики до выраженных, от преходящих и обратимых — до стойкий и глубоких. Поэтому одни проявления этого континуума могут быть соотнесены с вменяемостью, другие — с невменяемостью, и очень многие — с нормой ст. 22 УК РФ.
При определении юридического критерия статьи 22 УК РФ используется формулировка ст. 21 УК РФ о способности лица «осознавать фактический характер и общественную опасность своих действия (бездействия) либо руководить ими». Если при невменяемости указанная способность утрачивается полностью, то применение ст. 22 УК РФ возможно, когда она сохранена, но «не в полной мере».
Сохранение, но не в полной мере сознательного волевого контроля над своим поведением может быть обусловлено достаточно широким кругом психических расстройств (т. н. медицинский критерий) — от неврозоподобных и психопатоподобных до выраженных психоорганических. О применении ст. 22 УК РФ к субъекту преступления правомерно говорить лишь в тех случаях, когда имеющееся у него психическое расстройство соответствует требованиям обоих критериев — и медицинского, и юридического.
У лиц с синдромом зависимости от ПАВ наиболее частыми аффективные, психопа-то- и неврозоподобные нарушения, специфические личностные изменения, психоорганическое снижение и расстройства в сфере побуждений (т. н. синдром патологического влечения к ПАВ). Эти психические расстройства не соответствуют критериям экскуль-пации, однако зачастую лишают этих лиц способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемых ими действий и руководить ими. Не менее важную роль в этом играет и часто наблюдающаяся у наркологических больных парциальная интеллектуальная слабость в отношении вопросов, связанных с наркотизацией, при сохранности общего интеллектуального уровня.
Развивающиеся вследствие злоупотребления ПАВ личностные расстройства и психические нарушения, как стойкие, так и в рамках фазных наркологических состояний (острая интоксикация, абстинентный синдром), нередко влияют на социальную активность этих лиц. У лиц с зависимостью от наркотических средств это проявляется не только в снижении уровня социального функционирования, но и в специфическом сужении спектра их противоправной активности на действиях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Когда антисоциальная активность лице наркоманической зависимостью — следствие развивающихся у них в связи с наркоманией психических расстройств и находит свое отражение в совершении в том числе и противоправных действий, связанных с регулярным употреблением наркотических средств (приобретение, хранение, перевозка), в этих случаях можно говорить о недостаточном прогнозирова-
Судебно-психиатрическая наркология
685
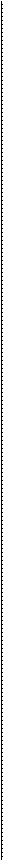 нии ими своих действий и их последствий, снижении критических способностей в оценке ситуаций, связанных с употреблением наркотиков, что соответствует юридическому критерию ч. 1 ст. 22 УК РФ и позволяет ставить вопрос о ее применении.
нии ими своих действий и их последствий, снижении критических способностей в оценке ситуаций, связанных с употреблением наркотиков, что соответствует юридическому критерию ч. 1 ст. 22 УК РФ и позволяет ставить вопрос о ее применении.
Достаточно сложна судебно-психиатрическая оценка лиц с абстинентными расстройствами, проявившимися в период инкриминируемого им деяния, отягощенными комплексом соматовегетативных и психических нарушений, основное из которых — актуализация компульсивного патологического влечения к ПАВ.
Компульсивное патологическое влечение отражает неодолимую потребность в совершении определенного действия, связанного с употреблением одурманивающего средства, имевшего когда-то целесообразный характер (психологически понятная мотивация), но потерявшего адекватную мотивационную актуальность. При этом качество неодолимости затрагивает двигательную сферу и сферу побуждений при относительной интактности ассоциативных и интеллектуальных процессов. В данном случае объект влечения, как правило, противопоставляется личности, не отождествляется с ней, а снижение интеллектуального контроля в большей степени связано с искажением морально-нравственных и социально-ограничительных представлений, чем с интеллектуальным снижением. Все это не позволяет применить понятие юридического критерия невменяемости к лицам с указанной патологией.
Однако в структуре компульсивного патологического влечения доминируют эмоционально-волевые и аффективные нарушения, вплоть до аффективно суженного сознания. Всем лицам с синдромом зависимости свойственна парциальная интеллектуальная слабость в вопросах, связанных с употреблением психоактивных средств, что не позволяет им в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемых противоправных действий (интеллектуальный признак) или руководить ими в силу имеющихся расстройств психической деятельности в виде неодолимости влечения (волевой признак).
Наиболее приемлемым при судебно-психиатрической экспертизе таких лиц представляется вынесение решения о применении статьи 22 УК РФ, не исключающей уголовную ответственность лица и его наказание и подразумевающей, что во время совершения противоправного деяния у него была ограничена способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими в силу имеющихся расстройств психической деятельности.
При наличии обсессивного варианта влечения в клинической картине зависимости и при выявлении его в период, относящийся к совершению правонарушения, судебно-психиатрические подходы должны быть иными.
Если на начальных этапах истории обсессий они относились к расстройствам мышления (Westphal, 1877), то в дальнейшем их происхождение, в соответствии со взглядами В. Morel (1860), связывали с нарушением эмоциональной сферы и воли (Janet, 1903; Korreniowski, Pyzynski, 1978). Несмотря на то что навязчивости всплывают в сознании больного помимо его воли и не могут быть им изгнаны из сознания произвольно, данное психопатологическое расстройство не затрагивает интеллект больных и их критические способности. Восприятие больными навязчивых переживаний как чуждых и ненужных с критическим к ним отношением свидетельствует о сохранении интеллектуального контроля над происходящими в психике психопатологическими процессами, и следовательно, применительно к данному случаю мы не можем ставить вопрос об интеллектуальной составляющей юридического критерия невменяемости.
О сохранности критического осмысления ситуации в целом и о сохранении возможности прогноза медицинских и социальных последствий своих действий говорит наблю-
686
Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
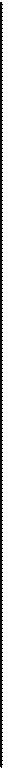 даемый в этих случаях более или менее выраженный процесс борьбы мотивов с критическим анализом всех доводов «за» и «против», адекватное ситуации поведение, когда эти лица проявляют определенную осторожность при приеме ПАВ и принимают все необходимые меры к сокрытию своего противозаконного поведения. Этим объясняется тот факт, что на этапе обсессивного влечения к ПАВ эти лица гораздо реже привлекаются к уголовной ответственности за совершение противоправных действий, связанных с манипуляциями с ПАВ, нежели на этапе формирования компульсивного влечения.
даемый в этих случаях более или менее выраженный процесс борьбы мотивов с критическим анализом всех доводов «за» и «против», адекватное ситуации поведение, когда эти лица проявляют определенную осторожность при приеме ПАВ и принимают все необходимые меры к сокрытию своего противозаконного поведения. Этим объясняется тот факт, что на этапе обсессивного влечения к ПАВ эти лица гораздо реже привлекаются к уголовной ответственности за совершение противоправных действий, связанных с манипуляциями с ПАВ, нежели на этапе формирования компульсивного влечения.
Лежащая в основе навязчивых явлений слабость волевой сферы находится под жестким контролем интеллекта. Он и определяет в зависимости от стойкости и социальной ориентации морально-нравственных и социальных установок поведение больных. Прямое отражение это находит в процессе борьбы мотивов. Его продолжительность и содержательная сторона определяются не столько и не только слабостью волевых процессов, сколько представлениями о социально-ограничительных нормах, морально-нравственными установками, социально-правовой осведомленностью данного индивида. Это положение подтверждает и тот факт, что обычно реализуются только навязчивые мысли и образы и совершаются только навязчивые действия, не угрожающие жизни самого больного, окружающих, и не противоречащие его морально-этическим установкам. Таким образом, волевой компонент юридического критерия невменяемости находится в прямой связи с интеллектуальным. А имеющиеся эмоционально-волевые нарушения и особенности ассоциативной сферы не достигают той выраженности, когда можно было бы говорить о том, что они оказывают влияние на способность этих лиц понимать фактический характер своих действий (бездействия) либо руководить ими. Следовательно, применение в этих случаях статьи 22 УК РФ необоснованно.
При судебно-психиатрической экспертизе лиц с зависимостью от ПАВ необходимо учитывать, что синдром патологического влечения к ним в любом его клиническом варианте (обсессивное или компульсивное) наряду с другими психическими расстройствами — это один из клинических проявлений синдрома зависимости, когда все они выступают в сложной многомерной зависимости. При вынесении экспертного заключения в таких случаях должен применяться системный подходе изучением всех факторов клинико-социального континуума, включающего предшествующий и последующий за совершением преступления период: личностные (в том числе и преморбидные) особенности, наркологический анамнез, общее психическое состояние, особенности аффективно-волевой сферы в плане возможности или невозможности сопротивляться приему ПАВ, наличие факторов, искажающих привычную форму опьянения (психогения, соматическое заболевание, черепно-мозговая травма, непривычное наркотическое вещество и т. д.), характер правонарушения и его связь с состоянием опьянения, соотношение компульсивного патологического влечения к ПАВ с состоянием опьянения. При этом следует учитывать, что актуализация патологического влечения к ПАВ не коррелирует с состояниями наркотического опьянения, следовательно, правовые подходы к этим состояниям должны быть различными. Не менее важно и необходимо учитывать механизм развития патологического влечения, его первичный или вторичный характер.
Решение экспертных вопросов о вменяемости или невменяемости лица неразрывно связано с проблемой назначения этим лицам различных мер медицинского характера, наиболее традиционным из которых до недавнего времени было принудительное лечение.
Освидетельствование наркологических больных с целью назначения принудительного лечения относится, в соответствии с ныне действующей инструкцией Минздрава СССР, к судебно-наркологической экспертизе (Временная инструкция о производстве
Судебно-психиатрическая наркология
687
судебно-наркологической экспертизы. М., Минздрав СССР, 1988). Судебно-наркологи-ческую экспертизу проводят, согласно этой инструкции, как психиатры-наркологи, так и судебные психиатры, правда используют термин «судебно-наркологическая экспертиза» далеко не всегда. Многие из этих специалистов назначение наркологическим больным принудительного лечения считают частью судебно-психиатрической процедуры.
Инструкция 1988 г. разграничивает полномочия в проведении судебно-наркологической экспертизы между психиатрами-наркологами и судебными психиатрами. Если вопрос о назначении наркологическому больному принудительного лечения — единственный в постановлении (определении) о назначении экспертизы, с которым следователь (суд) обращается к экспертам, освидетельствование проводится наркологами специальных комиссий наркологических диспансеров. F-сли же наряду с назначением принудительного лечения в постановлении (определении) ставятся вопросы, относящиеся к компетенции судебных психиатров (обычно это касается вменяемости—невменяемости), то проводится судебно-психиатрическая экспертиза, отвечающая на все вопросы, как наркологические, так и психиатрические. При этом не требуется дополнительного, кроме судебно-психиатрического, освидетельствования подэкспертного еще и специальной комиссией наркологического диспансера либо включение в СПЭК нарколога.
Принятые в последнее десятилетие в Российской Федерации законодательные акты внесли существенные изменения в правовую базу процедуры назначения принудительных мер медицинского характера, осуществляемых в отношении больных алкоголизмом и наркоманиями. Ранее в стране принудительное лечение при наркологических заболеваниях назначалось: 1) лицам, не являющимися правонарушителями, но уклоняющимися от медицинской помощи (лечение в ЛТП); 2) лицам, совершившим преступление, в отношении которых принудительное лечение применяется наряду с исполнением уголовного наказания (лечение в исправительных учреждениях в соответствии с бывшей статьей 62 УК РФ). В 1993 г. принудительные меры, предпринимаемые в отношении первой категории лиц, были законодательно отменены, а лечебно-трудовые профилактории (ЛТП) системы МВД, осуществлявшие эти меры, ликвидированы.
В декабре 2003 г. было отменено принудительное лечение осужденных от алкоголизма и наркомании, соединенное с исполнением наказания. В этой ситуации меры, предусмотренные ч. 2 ст. 22 УК РФ, представляются единственно возможными по оказанию необходимой для лиц с зависимостью от ПАВ лечебно-реабилитационной помощи в местах отбывания наказания. Это тем более важно в отношении лиц с наркотической зависимостью, основной спектр антисоциальной активности которых ограничивается противоправными действиями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств. Следовательно, проводимое таким лицам в соответствии с ч. 2 ст. 22 УК РФ амбулаторное принудительное лечение является важной мерой по профилактике их повторной противоправной активности.
В случае условного осуждения, в соответствии с ч. 5 статьи 73 УК РФ, «суд .. .может возложить на условно осужденного исполнение определенных обязанностей: [...] пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от27.05.98 № 9 (касается только больных наркоманиями) уточняет некоторые положения статьи 73 УК РФ: «Неисполнение условно осужденным [...] обязанности может служить основанием для решения в установленном законом порядке вопроса об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда».
Таким образом, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, на условно осужденных лиц может быть «возложена обязанность» по прохождению курса лечения от алкоголизма.
688
Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
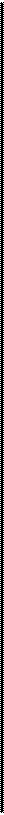 наркомании или токсикомании. Данная мера в правовом отношении существенно отличается от принудительного лечения, регламентируемого ранее статьями 97-104 УК РФ. Эта мера, в частности, не требует регулярных комиссионных освидетельствований, продления и отмены судом. В действующем уголовном законодательстве не говорится о том, в каких формах — амбулаторной или стационарной — должна осуществляться указанная обязанность. Этот вопрос, очевидно, отнесен к компетенции специалистов, проводящих лечение.
наркомании или токсикомании. Данная мера в правовом отношении существенно отличается от принудительного лечения, регламентируемого ранее статьями 97-104 УК РФ. Эта мера, в частности, не требует регулярных комиссионных освидетельствований, продления и отмены судом. В действующем уголовном законодательстве не говорится о том, в каких формах — амбулаторной или стационарной — должна осуществляться указанная обязанность. Этот вопрос, очевидно, отнесен к компетенции специалистов, проводящих лечение.
В части 6 УК РФ говорится о том, что контролирует поведение условно осужденного уполномоченный на то специализированный государственный орган (имеются в виду органы, исполняющий наказание, — уголовно-исполнительные инспекции Минюста РФ). В установленном законом порядке условное осуждение может быть отменено, после чего приговор суда вступает в силу. Такая возможность служит дополнительным дисциплинирующим фактором и побуждает пациента к более добросовестному исполнению предписаний врача.
Судебно-психиатрическая экспертиза лиц, совершивших правонарушения в психотическом состоянии, вызванном злоупотреблением ПАВ. Согласно данным ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, среди всех экскульпированных больных доля лиц с алкогольными психозами составляет более 12%. Больные с алкогольными психозами чаще, чем лица с другими психическими заболеваниями, совершают опасные действия, направленные против жизни, здоровья и достоинства личности (76,1%), причем 41,4% из них составляют такие особо опасные деяния, как убийство, попытка убийства, нанесение тяжких телесных повреждений. Имущественные и правонарушения против общественной безопасности и порядка составляют незначительную долю.
Противоправная активность лиц в психотическом состоянии определяется ведущим в структуре психоза психопатологическим синдромом, а также типом его течения. Наибольшее количество опасных для жизни правонарушений совершают больные с сумеречным расстройством сознания (100%). В группе острых психозов лидируют психозы с делириозной симптоматикой (86% больных совершают ООД против личности). В группе хронических психотических состояний наиболее криминогенны психозы с бредовой (в 90% случаев совершены ООД против личности) и галлюцинаторно-бредовой симптоматикой (в 92% случаев ООД были направлены против личности). Наибольшую социальную опасность представляют больные с бредом ревности. Их противоправные действия всегда направлены против жизни и здоровья личности.
При сравнении криминогенное™ одинаковых психопатологических синдромов в структуре острого и хронического психозов оказалось, что больные с хроническим течением параноидного и галлюцинаторно-параноидного синдрома чаше совершают правонарушения, направленные против личности, чем больные с острым течением этих же синдромов. Больным с острым алкогольным параноидом свойственны в основном правонарушения, направленные против общественной безопасности и порядка. Больные алкогольными энцефалопатиями по сравнению с больными психотическими формами алкоголизма значительно реже замечены в правонарушениях, направленных против личности.
Исходя из предложенной М. М. Мальцевой и В. П. Котовым (1992) классификации механизмов совершения общественно опасных действий психически больными, при остром и хроническом течении алкогольного психоза (за исключением энцефалопатии) обнаруживается прямая связь общественно опасного поведения больных с имеющейся у них продуктивно-психотической симптоматикой. Так, среди всех правонарушений у больных с психотическими формами алкоголизма преобладают ООД, совершенные по продуктивно-психотическим мотивам. Среди них превалируют ООД, совершенные по
Судебно-психиатрическая наркология
689
механизму бредовой защиты. Этот механизм наблюдается и при психотической форме опьянения, и при острых психозах. У больных с острым алкогольным галлюцинозом и параноидом отмечается и пассивный, и активный варианты этого механизма, чаще всего отражающие различные этапы психоза. В начале психотического расстройства действия больных направлены на защиту от мнимых преследователей. Это выражается в реакции «осадного положения», когда больные баррикадируются от мнимого нападения (пассивный вариант). В дальнейшем возникает агрессия в отношении преследователей, т. е. совершение ООД происходит по механизму «преследования преследователей» (активный вариант). При этом особо опасные криминальные действия реализуются в период максимального эмоционального напряжения, с выраженным аффектом ярости, злобы и страха.
Правонарушения, совершенные по мотивам бредовой мести, характерны для страдающих хроническими параноидными психозами. У больных с бредом ревности они реализуются агрессивными действиями, направленными на «неверных» супругов. Иногда этот же механизм наблюдается при развитии параноидных идей ущерба, обкрадывания, отравления. Правонарушение в таких случаях совершается больными на высоте аффективного напряжения.
В группу правонарушений, совершаемых без бредовой мотивации поведения, входят ООД, связанные с наличием устрашающих зрительных, императивных вербальных галлюцинаций и элементов синдрома психического автоматизма. Они встречаются в основном у больных с делириозным расстройством сознания. Во время психотического эпизода поведение больных полностью определяется содержанием имеющейся у них патологической продукции без ее критической переработки и осмысления. Криминальная активность, связанная с этими расстройствами, в частности, возрастает при сочетании в структуре психоза зрительных и вербальных обманов восприятия с аффектом страха и ужаса. Часто клиническая картина таких расстройств характеризуется видениями надвигающихся зверей, чудовищ, бесов, вурдалаков и т. д. Действия больных в этих случаях носят характер самообороны с агрессивно-наступательными тенденциями. Кри-миногенность возрастает, когда аффекты страха, тревоги, злобы и тоски достигают своей кульминации.
Механизм совершения ООД, связанный с дезорганизацией поведения, отмечается при сумеречном расстройстве сознания и характеризуется полной невозможностью осмысления окружающего. В таких состояниях больные глубоко дезориентированы, их поведение определяется беспорядочным психомоторным возбуждением с нарастающим аффектом злобы, тоски, страха, что и приводит к совершению ООД. В структуре описанных нарушений нельзя исключить механизма бредовой защиты, хотя его не всегда возможно выявить объективно из-за глубины нарушений сознания и последующей амнезии психопатологической продукции.
В структуре правонарушений, совершенных по негативно-личностным механизмам, преобладают ситуационно спровоцированные действия. Это больше характерно для больных хронической энцефалопатией. В реальной жизненной ситуации такие люди совершают поступки, обусловленные отсутствием критической оценки обстоятельств, повышенной внушаемостью, связанной с выраженным в той или иной степени эмоционально-волевым и интеллектуально-мнестическим дефектами.
Все лица, совершившие ООД в состоянии острого или хронического интоксикационного психоза, признаются невменяемыми.
В заключение следует указать, что судебно-психиатрическое освидетельствование лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления ПАВ
690
Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
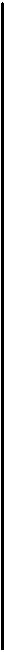 должно проводиться объединенными усилиями эксперта-психиатра и эксперта-нарколога. Только так возможна комплексная оценка психического состояния подэкспертного с учетом нозологической принадлежности болезни, синдромальных характеристик, наличия или отсутствия тех особенностей психического состояния, в связи с которым данное лицо соответствует или не соответствует указанным в законе критериям формулы невменяемости и принудительного лечения. Поэтому в этих случаях наиболее целесообразным представляется привлечение к проведению судебно-психиатрической экспертизы врача-нарколога.
должно проводиться объединенными усилиями эксперта-психиатра и эксперта-нарколога. Только так возможна комплексная оценка психического состояния подэкспертного с учетом нозологической принадлежности болезни, синдромальных характеристик, наличия или отсутствия тех особенностей психического состояния, в связи с которым данное лицо соответствует или не соответствует указанным в законе критериям формулы невменяемости и принудительного лечения. Поэтому в этих случаях наиболее целесообразным представляется привлечение к проведению судебно-психиатрической экспертизы врача-нарколога.
28.1.2. Судебно - психиатрическая экспертиза лиц ,
злоупотребляющих психоактивными веществами ,
в гражданском процессе
Ограничение дееспособности лиц, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками.
За последние годы в новых экономических условиях участились случаи нарушения гражданских прав лиц, злоупотребляющих ПАВ, а также членов их семей. Находясь под воздействием ПАВ, эти лица оказываются неспособными отстоять свои имущественные интересы и становятся объектом манипуляций со стороны различного рода мошенников.
Практика работы судов показывает, что в последнее время все чаще возбуждаются дела по признанию той или иной юридической сделки (обычно это купля-продажа недвижимости) недействительной на основании того, что один из участников сделки находился в состоянии опьянения тем или иным ПАВ либо в состоянии «запоя». Это и оказывается в последующем предметом судебно-психиатрического экспертного исследования в рамках судебного разбирательства.
Согласно современным взглядам судебной психиатрии на данную проблему, несмотря на присутствующие при этом психические нарушения и особенно — расстройство критических способностей, лицо в состоянии простого алкогольного или непсихотической формы наркотического опьянения сохраняет возможность понимать значений своих действий и руководить ими. А это означает, что все совершенные им в таком состоянии юридические сделки не могут быть по критерию болезненного расстройства психической деятельности признаны недействительными. При подобном положении дел единственной мерой, способной в какой-то мере защитить интересы как самого больного хроническим алкоголизмом или наркоманией, так и его семьи, служит признание таких лиц ограниченно дееспособными.
Согласно ст. 30 Гражданского кодекса РФ, если совершеннолетний гражданин злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими средствами и тем самым ставит свою семью в тяжелое материальное положение, он может быть ограничен в дееспособности. С момента вступления решения суда в силу над этим лицом устанавливается попечительство.
Установление ограниченной дееспособности лиц, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотиками, преследует две цели. С одной стороны, это одна из косвенных мер борьбы с алкоголизмом и наркоманиями, а с другой — защита интересов лиц, в той или иной мере зависящих материально от больного наркологическим заболеванием. В случае, когда суд получает объективные доказательства о прекращении данным лицом злоупотребления алкоголем или наркотиками, он вправе полностью восстановить его дееспособность.
Учитывая тот факт, что ограничение дееспособности совершеннолетнего гражданина является существенным вторжением в его правовой статус, установление ее законом
Судебно-психиатрическая наркология
691
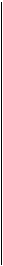 допускается при наличии на то серьезных оснований. Предпосылки вынесения такого решения носят исключительно социальный характер и не имеют отношения к медицинским аспектам проблемы алкоголизма и наркоманий.
допускается при наличии на то серьезных оснований. Предпосылки вынесения такого решения носят исключительно социальный характер и не имеют отношения к медицинским аспектам проблемы алкоголизма и наркоманий.
Первое и необходимое условие для постановки вопроса об ограниченной дееспособности лица в судебном порядке — признание факта злоупотребления им спиртными напитками или наркотическими веществами. Соответствующая статья Гражданского кодекса не оговаривает обязательного присутствия у данного лица хронического алкоголизма или наркомании, а также — нахождение его на диспансерном учете в связи с этим. Лишь чрезмерное и систематическое употребление спиртного, находящееся в противоречии с интересами семьи и приводящее к тяжелому материальному положению, дает право на ограничение дееспособности данного лица (Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1979, №8).
Причинно-следственная связь между фактом злоупотребления лицом тем или иным ПАВ и тяжелым материальным положением его семьи — обязательное условие, поскольку основной целью признания лица ограниченно дееспособным является защита интересов семьи, материально от этого лица зависящей.
Ограничение дееспособности граждан определяется судом в порядке, установленном гражданско-процессуальным кодексом РСФСР (ст. 29 ГПК РСФСР).
Как показывает практика, дела по признанию лиц ограниченно дееспособными возбуждаются, как правило, прокурорами. Общественные организации, а также органы опеки, попечительства, психиатрические лечебные учреждения редко используют предоставленное им законом такое же право.
В статьях 126 и 259 ГПК РСФСР определены требования, которым должно соответствовать заявление об ограничении дееспособности. В нем должны быть изложены факты, подтверждающие, что данное лицо чрезмерным и систематическим злоупотреблением спиртными напитками ставит свою семью в тяжелое материальное положение. В связи с этим суды должны располагать следующими материалами: показаниями заявителей, отражающими факты чрезмерного злоупотребления спиртными напитками, вследствие чего семья данного лица несет тяжелый материальный ущерб, материалами о нарушениях данным лицом общественного порядка, актом обследования материальных условий жизни, документами о составе семьи, справкой о заработке, характеристикой с места работы, актом медицинского обследования о наличии у данного лица признаков хронического алкоголизма или пристрастия к злоупотреблению спиртными напитками. Решение суда, вынесенное только на основании медицинского заключения о наличии у данного лица признаков хронического алкоголизма и наркомании, неправомерно, поскольку подобное решение, в соответствии со статьей 30 ГК РФ, допускается только при условии, что тяжелое материальное положение семьи связано со злоупотреблением им спиртными напитками независимо оттого, есть ли у него признаки хронического алкоголизма или нет.
По статье 261 ГПК РСФСР дело о признании гражданина ограниченно дееспособным суд рассматривает в присутствии его самого, прокурора и представителя органа опеки и попечительства (сотрудник отдела здравоохранения, префектуры либо представитель лечебного учреждения). Поскольку в данных делах не предусматривается иска, значит, в них нет и предполагаемых субъектов спорного правоотношения. Поэтому лица, в отношении которых рассматривается данное дело, по статье 4 и 258 ГПК РСФСР именуются не ответчиками, а заинтересованными лицами, а члены семьи, терпящие ущерб от таких субъектов, принимают участие в процессе как заявители независимо оттого, какая инстанция возбудила данное дело.
692
Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
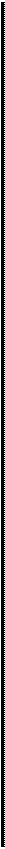 Префектура в течение месячного срока обязана назначить ограниченному в дееспособности лицу попечителя, без согласия которого данный гражданин не сможет принимать участие в правовых актах установленного судом объема.
Префектура в течение месячного срока обязана назначить ограниченному в дееспособности лицу попечителя, без согласия которого данный гражданин не сможет принимать участие в правовых актах установленного судом объема.
Статья 30 ГК РФ предусматривает возможность отмены судебного решения об ограничении дееспособности гражданина. Это происходит в тех случаях, когда основания, по которым была применена эта мера, «отпали». При этом нигде нет уточнения того, что понимается под термином «отпали». По-видимому, речь идет о таком прекращении или уменьшении злоупотребления спиртными напитками или наркотиками, когда данное лицо уже не ставит свою семью в тяжелое материальное положение.
Признание сделки, совершенной дееспособным гражданином, злоупотребляющим ПАВ, недействительной. Статья 30 ГК РФ не влияет на результаты юридической сделки, совершенной гражданином в период, предшествующий признанию его судом ограниченно дееспособным. В этих случаях права гражданина могут быть защищены в соответствии со статьей 177 ГК, гласящей, что «сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, признается судом недействительной по иску этого гражданина».
Данная статья ГК содержит лишь юридический (психологический) критерий, и врачу-эксперту предоставляется возможность самому решать вопрос о том, при каких болезненных состояниях, в том числе и связанных с употреблением ПАВ, гражданин не мог понимать значения своих действий или руководить ими.
Проведение судебно-психиатрической экспертизы по иску о признании сделки, совершенной лицом, страдающим алкоголизмом или наркоманией, недействительной, крайне важно. Эти больные часто к моменту совершения сделки имеют длительный алкогольный анамнез, находятся в состоянии опьянения или запоя, что обусловливает необходимость оценки не только психических расстройств, связанных с алкогольной болезнью, но и клинических особенностей, привнесенных и связанных с запоем.
Не является основанием для применения к гражданину ст. 177 ГК РФ ни формальная констатация у него признаков алкогольной зависимости, ни констатация у него в период совершения юридической сделки состояния алкогольного опьянения. В данном случае важен не просто факт наличия у него тех или иных психических расстройств, а то, мог ли гражданин понимать значение своих действий или руководить ими в исследуемой ситуации.
Формирование различных видов зависимости происходит часто на фоне более или менее выраженной церебрально-органической недостаточности, связанной с патологией раннего периода развития, перенесенными черепно-мозговыми травмами, нейроин-фекциями. Это приводит к формированию у таких больных патохарактерологических особенностей и эмоционально-волевых нарушений, становящихся почвой для быстрого формирования патологической зависимости от ПАВ. В свою очередь, систематическая интоксикация алкоголем и наркотиками приводит к дальнейшему заострению патологических личностных особенностей. У больных с алкогольной зависимостью (по С. Г. Жис-лину) формируется алкогольный характер, отмечается усиление аффективной окраски всех переживаний, что оказывает несомненное влияние на большинство действий и суждений больных, образуется повышенная эмоциональная откликаемость и легкость аффективной индукции, возрастание лабильности аффекта, склонность к полярным его колебаниям. Особенность таких больных — повышенная внушаемость, тесно связанная с изменениями в аффективной сфере. Преобладание астенической и апатической симптоматики, сопровождающейся снижением побуждений, ограничением контактов, без-
Судебно-психиатрическая наркология
693
различием к своему будущему, ограниченностью круга интересов, а также нарастающая интеллектуальная недостаточность со снижением способности к прогнозированию последствий своих действий и критической оценки ситуации в целом, делает таких больных наиболее виктимными в плане возможных злоупотреблений при совершении имущественных сделок.
Для определения способности понимать фактический характер своих действий и руководить ими у лица, злоупотребляющего алкоголем или наркотиками, необходимо в первую очередь оценить сохранность интеллектуально-мнестических функций, волевой сферы, критических и прогностических способностей. При этом следует иметь в виду, что при алкоголизме нередко наблюдается сочетанная травматическая и церебрально-сосудистая патология, усложняющая клиническую картину и утяжеляющая течение основного заболевания, а в состоянии алкогольного опьянении могут усугубляться имеющиеся у больного даже незначительные интеллектуально-мнестические нарушения, проявляющиеся в рамках различных специфических для синдрома зависимости психопатологических симптомов.
Наиболее специфичен для больных алкоголизмом амнестический синдром. Его главный признак — фиксационная амнезия в виде неспособности больного удерживать в памяти поступающую информацию о текущих событиях. Наличие у подэкспертного амнес-тического синдрома свидетельствует о его неспособности понимать значение своих действий и руководить ими при совершении каких-либо юридических сделок. Такого рода заключение правомерно не только при наличии у подэкспертного в период совершения сделки классического корсаковского психоза, но и при более легком амнестическом синдроме с не столь грубыми и необратимыми, как при корсаковском психозе, расстройствами памяти (т. и. корсаковоподобные состояния). Эти состояния могут наблюдаться у больных алкоголизмом на II и III стадиях течения заболевания, а также в конце запоев.
При заканчивающемся запое признаки опьянения легкой или средней степени выраженности сочетаются с абстинентными расстройствами, что может затруднять диагностику проявлений фиксационной амнезии, если она имеется. Это связано с тем, что в состоянии алкогольного опьянения может нарушаться непосредственное запоминание, а абстинентные нарушения могут влиять на мнестические функции из-за возникающих в структуре абстинентного синдрома затруднений при концентрации внимания. В этих состояниях затрудняется оценка ситуации в целом, что обусловливает недостаточную ориентировку в окружающем, нарушает оценку воспринимаемых образов, снижает способности к самоконтролю, искажает волевые усилия и выбор продуктивных и адекватных способов достижения цели.
В то же время лица в состоянии алкогольного опьянения легкой степени, сочетающегося с абстинентными расстройствами, обычно ориентированы в месте пребывания, их поведение адекватно ситуации, они могут совершать довольно сложные действия, связанные, например, с процедурой заключения сделки. При этом они проявляют беспечность, беззаботность, иногда — благодушие и эйфорию. После совершенной сделки эти лица могут амнезировать большую часть происшедших событий, хотя общий смысл бывшей процедуры какое-то время способны удерживать в памяти. Наблюдающееся при этом грубое несоответствие тяжести имеющихся у подэкспертного в период совершения сделки проявлений опьянения и абстинентного синдрома, с одной стороны, и расстройств памяти — с другой, позволяет констатировать наличие амнестических нарушений.
При выявлении корсаковского или «корсаковоподобного» состояния нельзя забывать о сопутствующих им периферических неврологических расстройствах в форме полиневрита или полиневропатии. В этих случаях обнаруживаются снижение рефлексов
694
Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
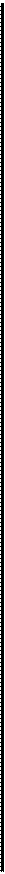 (особенно ахилловых), атрофия мышц ног, отвисание стоп вплоть до вялых параличей. Возможны и центральные неврологические расстройства с глазодвигательными симптомами, пирамидными знаками, мозжечковыми и другими расстройствами.
(особенно ахилловых), атрофия мышц ног, отвисание стоп вплоть до вялых параличей. Возможны и центральные неврологические расстройства с глазодвигательными симптомами, пирамидными знаками, мозжечковыми и другими расстройствами.
Достаточно сложна диагностика у больных алкоголизмом «другого стойкого когнитивного расстройства» (шифр Fix.74 по МКБ-10), что может проявляться более легкой и более тяжелой степенью выраженности.
Когнитивные расстройства в легкой степени выраженности наблюдаются улиц на 1 и II стадиях алкогольной зависимости и рассматриваются обычно в рамках типично алкогольных изменений личности, церебрастении, неврозо- и психопатоподобных расстройств, различных вариантов заострения или патологического развития личности. При этом у больных выявляются незначительные или умеренно выраженные интеллектуаль-но-мнестические нарушения с конкретным и обстоятельным мышлением, недостаточной способностью к абстрагированию, шаблонностью и склонностью к рутине в профессиональной деятельности, невозможностью приобретать новые знания и навыки, сужением круга интересов, утратой бывших ранее увлечений. Все это, однако, не лишает этих лиц способности понимать значение своих действий или руководить ими.
Когнитивные расстройства более тяжелой степени выраженности обнаруживается чаще на отдаленных этапах течения алкоголизма. Такого рода расстройства приводятся обычно в рамках алкогольной деградации, органического снижения личности, алкогольной энцефалопатии и т. д. У больных обнаруживается выраженный интеллектуальный дефект в виде обеднения восприятия окружающего, затруднения при анализе получаемых впечатлений, неспособности отделять главное от второстепенного. Мышление характеризуется замедленностью, торпидностью, суждения — примитивностью. Больные не могут понять тонкий смысл складывающихся ситуаций, реально оценивать свое положение в обществе, совершают бестактные поступки. Отмечается выраженное снижение памяти, в особенности на недавно произошедшие события. Мнестические нарушения не достигают, однако, степени фиксационной амнезии. Характерны также грубые эмоционально-волевые нарушения в виде возбудимости, импульсивности, недержания аффекта. При этом больные не способны контролировать свои эмоции даже в ответственных для них ситуациях. Обычно обнаруживаются резко выраженная истощаемость, неспособность к концентрации внимания, затруднения при выполнении любой сколько-нибудь сложной и ответственной работы. Эти больные вялы, пассивны, апатичны, их интересы обычно сосредоточены лишь на физиологических потребностях. Возможны и другие психоорганические проявления: непереносимость жары, психосенсорные расстройства, пароксизмальные состояния.
Эти нарушения психики обычно сочетаются с рассеянной неврологической микросимптоматикой, признаками полиневрита, хотя последние более характерны для амнес-тического синдрома.
При выраженном когнитивном расстройстве особенно заметны явления социальной деградации. Больные либо вообще теряют работу, либо способны выполнять только самые простые производственные обязанности. На этом этапе болезни они обычно теряют семью, проживают вне брака (хотя при особо благоприятном отношении со стороны близких семейные отношения могут сохраняться). В быту эти лица беспомощны, неряшливы, склонны к иждивенческому типу отношений с окружающими, хотя способность к элементарному самообслуживанию все же сохраняется. Однако серьезные житейские проблемы они, как правило, решить не могут. Поэтому наличие у подэксперт-ных когнитивных нарушений тяжелой степени лишает их способности понимать значение своих действий или руководить ими.
Судебно-психиатрическая экспертиза при сексуальных аддикциях (парафилиях) 695
На III стадии алкоголизма аффективные и волевые нарушения приобретают еще более выраженные формы. На первый план выступают проявления «этической деменции», одновременно становятся более заметными психические изменения по органическому типу вследствие токсической энцефалопатии с грубыми нарушениями памяти, мышления, расстройством концентрации внимания, резким снижением умственной работоспособности, критических и прогностических функций. В этих случаях обычно диагностируется состояние деменции, по существу являющееся завершающим этапом развития приведенного когнитивного нарушения, когда интеллектуально-мнестические и эмоционально-волевые расстройства достигают своего максимума. Мышление распадается, больные становятся пассивными и апатичными, неспособными работать и обслуживать себя в быту. При выявлении у больного признаков деменции вопрос о применении к немуст. 177 ГК РФ всегда решается положительно.
Статья 177 ГК РФ может быть применена и по отношению к наркологическим больным, при совершении юридической сделки находившимся в психотическом состоянии.
28.2. Судебно - психиатрическая экспертиза при сексуальных аддикциях ( парафилиях )
Современные подходы к парафилиям (нарушениям сексуального предпочтения) заложены в 1980 г. DSM-III, определившей их как необычные или причудливые образы или действия, которые могут быть настойчиво и непроизвольно повторяемыми и обычно включают в качестве наиболее предпочтительного для сексуального удовлетворения нечеловеческий объект, повторяющуюся активность с людьми, подразумевающую реальное или изображаемое страдание или унижение, или повторяющиеся сексуальные действия с партнерами без их согласия.
В DSM-III-R общими для всех парафилий были критерии их тяжести, подразделявшейся на три степени: 1) легкая: личность испытывает выраженный дистресс от периодических парафильных побуждений, однако никогда не реализует их; 2) средняя: личность изредка реализует парафильные побуждения; 3) тяжелая: личность реализует парафиль-ные побуждения с периодическим постоянством.
Таким образом, степень тяжести парафилий увязывалась с характером соотношения между идеаторной и поведенческой активностью и ставилась в зависимость от способности индивида противостоять беспокоящим его парафильным импульсам. В DSM-IV общими для всех парафилий стали два критерия:
1) существование на протяжении не менее 6 месяцев периодически повторяющихся, интенсивных, сексуально возбуждающих фантазий, сексуальных побуждений или поведения;
2) фантазии, сексуальные побуждения или поведение вызывают клинически значимый дистресс либо нарушение в социальной, профессиональной или других важных областях функционирования.
Здесь оба компонента клинической картины парафилий — идеаторный и собственно поведенческий — уравнены в своей клинической значимости.
Необходимо учитывать коморбидность парафилий: отмечается, например, их связь с другими нарушениями контроля импульса (расстройствами влечения в традиционном понимании), другими формами аддикции (Borrego, 1995) и обсессивно-компульсивны-ми расстройствами (Pearson, 1990). Е. Coleman (1990) говорил также о связи компульсив-ного сексуального поведения с генерализованными тревожными расстройствами и ди-стимиями. К тому же патологическое состояние может соответствовать диагностичес-
696
Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
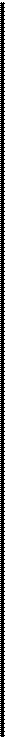 ким критериям сразу нескольких категорий, неслучайно в отношении парафилий давно дискутируется вопрос о возможности применения к ним в некоторых случаях категорий обсессивно-компульсивного расстройства и расстройства контроля импульса (McElroy etal., 1992).
ким критериям сразу нескольких категорий, неслучайно в отношении парафилий давно дискутируется вопрос о возможности применения к ним в некоторых случаях категорий обсессивно-компульсивного расстройства и расстройства контроля импульса (McElroy etal., 1992).
С одной стороны, парафилий есть самостоятельная группа психических расстройств в рамках «Расстройств зрелой личности и поведения» (F65). С другой — те же парафилий в некоторых ситуациях теряют свою клиническую самостоятельность, рассматриваясь в качестве отдельных симптомов других психических расстройств самого разного ранга. Наиболее показательны в этом смысле диагностические указания к рубрике F07 «Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга», среди которых дважды упоминаются расстройства сексуального поведения (предъявление неадекватных сексуальных притязаний без учета последствий или социальных условностей, гипосексуапьность или изменение сексуального предпочтения). Притом говорится, что для установления достоверного диагноза требуется не более двух подобных признаков в дополнение к анамнестическим данным или другим свидетельствам дисфункции головного мозга, клиническая картина органического расстройства личности (например, личностного синдрома лимбической эпилепсии) формально может исчерпываться проявлениями аномальной сексуальности.
Наличие обсессивных мыслей «без внутреннего сопротивления» с сексуальным или агрессивным содержанием рассматривается как отдельный диагностический критерий шизотипического расстройства (F21). Наконец, по соседству с парафилиями располагается «Эмоционально лабильное расстройство личности» (F60.3), диагностическим критерием пограничного типа которого является «расстройство и неопределенность образа Я, целеполагания и внутренних предпочтений (включая сексуальные)».
Таким образом, парафилий могут рассматриваться как составная часть некоего психического расстройства, так и приобретать значение расстройства самостоятельного, выступая в роли особого медицинского критерия невменяемости (ограниченной вменяемости). Современные представления отметают прежнее понимание сексуальных перверсий как лишенных психопатологического своеобразия состояний, доказывая существование парафилий как сложных клинических образований, характеризующихся, подобно иным видам психической патологии, различной степенью нарушения и аффективной, и когнитивной сферы психики.
Выявляемые улице парафилиями клинико-психопатологические расстройства создают возможность их сопоставления с составляющими юридической формулы невменяемости:
1. Интеллектуальный критерий: 1) осознавание фактического характера действий — искажения сознания, выявляющиеся на разных этапах развертывания аномального поведения; 2) осознавание общественной опасности действий — степень усвоения или искаженное усвоение норм поведения, затрагивающих сексуальную активность. Недостаточная интериоризация этих норм может быть следствием особых вариантов дизонтогенетического развития, приводящих к обучению нестандартным формам сексуального поведения без понимания их несоответствия общепринятым.
2. Волевой критерий: способность руководить действиями — первостепенное значение здесь имеет клиническая квалификация парафилий как эго-дистонических или эго-синтонических, а также выделение аномальных механизмов регуляции поведения.
 Судебно-психиатрическая экспертиза при сексуальных аддикциях(парафилиях) 697
Судебно-психиатрическая экспертиза при сексуальных аддикциях(парафилиях) 697
28.2.1. Расстройства сознания при аномальном сексуальном поведении
На возможность изменения сознания при парафильных реализациях указывал еще Р. Крафт-Эбинг (1898). Так, приводя историю больного Верцени, прибегавшего к садис-тически-гомицидным актам, сопровождавшимся антропофагией, он писал, что тот «при совершении своих преступлений не сознавал, что вокруг него делается». Р. Крафт-Эбинг (1898) предполагал, что это, очевидно, было связано с «прекращением апперцепции и инстинктивности действий, обусловленных чрезмерным половым возбуждением». Наиболее известны случаи сочетания девиантной сексуальной активности с пароксизмаль-ными состояниями при эпилепсии. Еще Е. С. Lasegue(1877), M. Freyer( 1890) отметили случаи сочетания эпилептических припадков с эксгибиционизмом. Л. А. Эпштейн (1928) приводил наблюдения эпилептических психозов, когда в клинической картине преобладают «психоцеребральные симптомы», включающие элементарные автоматизмы в виде кусания, щипания, плевков, стремления обнажаться, что сопровождается сексуальным возбуждением. К автоматизмам «болезненного» сна он относил, наравне с сомнамбулизмом и ночными пароксизмами, также сексуальное возбуждение, мастурбацию, квитирование, создающие у наблюдателя видимость произвольных и сознательных действий с последующей их полной амнезией.
Девиантная сексуальная активность при височной эпилепсии может входить в структуру эпиприпадка и носить характер автоматизмов. Так, W. Mitchell et al. (1954) наблюдали случай своеобразного фетишизма, когда припадок развивался при взгляде на английскую булавку, при этом больной совершал чмокающие движения губами и нередко испытывал оргазм. В рамках психомоторного припадка были описаны случаи эякуляции (Niedermeyer, 1957), сексуального возбуждения с соответствующими генитальными ощущениями (Bente, Kluge, 1953; Reethetal., 1958; Freemon, Nevis, 1969), автоматизмы, «симулировавшие» картину эксгибиционизма (Hooshmand, Brayley, 1969), педофиль-ные действия (Хаит, 1979).
Н. Gastaut, H. Coliomb (1954) квалифицировали эксгибиционистский акт не только как фазу психомоторного припадка, но и наблюдали случаи постиктального сексуального возбуждения при височной эпилепсии, сопровождавшегося непристойным поведением, эксгибиционизмом или сексуальным насилием. Поскольку такие акты в постпри-ступном состоянии не повторялись, причину их возникновения видели в утрате моральных ограничений, вызванной постприступным помрачением сознания. D. Blumer, А. Е. Walker (1967,1969,1975) характерным для интериктального периода эпилепсии считали появление перверсных актов в виде гомосексуализма, фетишизма, трансвестизма, а для постиктального — эксгибиционизма.
J. W. Mohr et al. (1964), анализируя случаи эксгибиционизма у больных эпилепсией, не подвергали сомнению сочетание сексуального возбуждения, автоматизированных действий и помрачения сознания. Фиксировались эпилептические эквиваленты в виде сумеречных состояний с автоматизмами, приводящие к внезапному сексуальному побуждению или к самоубийству, а правонарушения в виде полового насилия, эксгибиционизма чаще совершались после сумеречных состояний (Скрипкару, Пирожинский, 1969).
Связь девиантной сексуальной активности с поражением височной доли подтверждается и фактами пароксизмальной гиперсексуальности в момент психомоторного припадка при опухолях височных долей (Bente, Kluge, 1953; Reethetal., 1958; Lachner, 1959: Parigi, 1964), исчезновения перверсии после односторонней височной лобэктомии (Jones.
698
Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
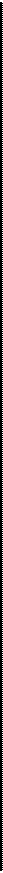 Frei, 1979). Неоднократно подчеркивалась тесная связь повреждения лимбической системы (связанной с сексуальной чувствительностью) с аномальным сексуальным поведением (Kolarsky, 1967;Blumer, 1969; Jones, Frei, 1979; Ellison, 1982;Теминссоавт.. 1988). Так, отмечались перверсные формы сексуальности при повреждении миндалевидного комплекса, отвечающего за интеграцию эмоциональных выражений, характерных для сексуальной мотивации (Pillery, 1966), синдром, включающий гиперсексуальность, повышенную оральность, психическую агнозию при поражении височной доли и лимби-ческих структур (гиппокампа, миндалины) (Kluver, Busy, 1939; Marlowe et al., 1975), случаи эксгибиционизма и других форм патологии сферы инстинктов и влечений при поражении стриопаллидарной и лимбической системы (Ачкова, Терзиев, 1987), появление сексуальной агрессии при повреждении лимбических структур височных долей (Garza-Trevino, 1994). S. Spenser (1983) замечал, что наличие сексуальной ауры с оргазмом чаще встречается при локализации эпилептогенного очага в лимбической системе передних височных отделов. Он же при обследовании больных с лобной эпилепсией отметил, что у них наряду с полиморфными пароксизмами наблюдаются приступы эксгибиционизма. Автор делал вывод, что при сексуальных автоматизмах эпилептогенный очаг чаще локализуется в лимбическом отделе лобных долей.
Frei, 1979). Неоднократно подчеркивалась тесная связь повреждения лимбической системы (связанной с сексуальной чувствительностью) с аномальным сексуальным поведением (Kolarsky, 1967;Blumer, 1969; Jones, Frei, 1979; Ellison, 1982;Теминссоавт.. 1988). Так, отмечались перверсные формы сексуальности при повреждении миндалевидного комплекса, отвечающего за интеграцию эмоциональных выражений, характерных для сексуальной мотивации (Pillery, 1966), синдром, включающий гиперсексуальность, повышенную оральность, психическую агнозию при поражении височной доли и лимби-ческих структур (гиппокампа, миндалины) (Kluver, Busy, 1939; Marlowe et al., 1975), случаи эксгибиционизма и других форм патологии сферы инстинктов и влечений при поражении стриопаллидарной и лимбической системы (Ачкова, Терзиев, 1987), появление сексуальной агрессии при повреждении лимбических структур височных долей (Garza-Trevino, 1994). S. Spenser (1983) замечал, что наличие сексуальной ауры с оргазмом чаще встречается при локализации эпилептогенного очага в лимбической системе передних височных отделов. Он же при обследовании больных с лобной эпилепсией отметил, что у них наряду с полиморфными пароксизмами наблюдаются приступы эксгибиционизма. Автор делал вывод, что при сексуальных автоматизмах эпилептогенный очаг чаще локализуется в лимбическом отделе лобных долей.
Особое место занимает сочетание пароксизмальных эпилептических состояний и оргазмоподобных переживаний. Проведенные исследования биоэлектрического потенциала коры головного мозга (Mosovich, Taliaferro, 1954) подтвердили сходство между электрическими разрядами во время эпилептического припадка и разрядами во время оргазма, что говорит об одних и тех же механизмах их возникновения, независимо от различия вызвавших их причин. Некоторые исследователи наблюдали случаи, когда оргазм вызывал эпилептический припадок. D. Blumer, A. E. Walker(1975) отмечали, что сексуальное возбуждение может быть результатом пароксизмального разряда или следовать за клиническим припадком, случаи, когда реализация сексуальной активности провоцировала припадок, причем передавал роль «запускающего» фактора эмоциям, связанным с сексуальным поведением.
Л. О. Бадалян с соавт. (1996) считают, что общим для сексуальных пароксизмов является возникновение во время приступа сексуальных переживаний, мыслей, ощущений, действий. Ими описаны не только пароксизмальные состояния, вызывающие сексуальные эксцессы, но и состояния с противоположной зависимостью, когда переживания сексуального характера могут провоцировать возникновение пароксизма. Так, к последним они относят оргазмолепсию — эпилептические приступы в момент коитального оргазма, когда начало оргастических ощущений знаменует выключение сознания. К простым парциальным приступам авторы причисляют эпилептические приступы оргазма, приводя такие их отличия от физиологического оргазма, как возможность ощущения их больным локально, возникновение при отсутствии сексуальной стимуляции, невозможность подавления волевым усилием, нередкость сочетания с другими эпилептическими феноменами: судорожными и абдоминальными приступами, психосенсорными припадками. Чаще они возникают в самом начале приступа, могут сопровождаться движениями тела, сходными с таковыми при коитусе, при этом возможны утрата сознания и появление судорог по мере развития приступа, что свидетельствует о вторичной генерализации. Ведущая роль в генезе этих приступов придается опухолям височных долей правого полушария. По мнению R. Ruth (1980), оргастические приступы возникают при локализации патологического очага в субдоминантном полушарии головного мозга. G. M. Remillard et al. (1983) отмечали, что эпилептические приступы оргазма не наступают до периода половой зрелости, а оргазм при таких приступах не является первым в

 Суяебно-психиатрическая экспертиза при сексуальных аддикциях (парафилиях) 699
Суяебно-психиатрическая экспертиза при сексуальных аддикциях (парафилиях) 699
жизни больного. В связи с этим Л. О. Бадалян с соавт. (1996) делают предположение, что в восприятии оргазма во время приступа играет роль память об ощущениях, возникающих при физиологическом оргазме. В отличие от женщин, у мужчин эпилептические приступы обычно протекают либо с эрекцией и эякуляцией, либо только с одним из этих компонентов и часто сопровождаются сексуальными автоматизмами в сумеречном состоянии сознания: эксгибиционизмом, мастурбацией, развратными действиями. Эпилептические сексуальные автоматизмы могут также быть и единственными проявлениями височного пароксизма в виде сумеречного помрачения сознания как эквивалента эпиприпадка, когда они не сопровождаются эротическими ощущениями, причем в этих случаях отсутствуют объективные признаки возбуждения (эрекция, эякуляция). Такие сексуальные автоматизмы рассматриваются М. М. Одинак, Д. Е. Дыскиным (1997) в одном ряду с иными автоматизмами: мимическими, речевыми, оральными, амбулаторными и т. д.
А. Н. Лачкепиани (1990), причисляя пароксизмы гиперсексуальности при височной эпилепсии к таким редким эпилептическим феноменам, как синдром Эббеке, «множественная личность» и «личностная и поведенческая диссоциация», проводит сравнение между их проявлениями у детей и взрослых. В качестве иллюстрации он приводит наблюдение пароксизма мастурбации, когда у больного с периодичностью раз в неделю возникали периоды сексуального возбуждения, выражающиеся в ощущении, что по «височно-лобной области внутри черепа проходит теплая приятная волна», после чего появлялась потребность в разговоре на эротические темы с незнакомыми девушками, а оргазм достигался путем мастурбации. При отсутствии амнезии отмечалась неспособность «воспрепятствовать ходу» приступа. Подчеркивается более сложный характер приступа у взрослых, поскольку он осуществляется при участии высших психических процессов, когда есть мотивированность эмоций, но с характерным переходным режимом работы мозга в период припадка, и, хотя первоначально возникновение гиперсексуального состояния всецело обусловлено активностью эпилептического очага, в дальнейшем, на фоне измененного сознания, включаются механизмы самораздражения.
Состояния нарушенного сознания, когда имеют место девиантные сексуальные проявления, не исчерпываются эпилептическими пароксизмами. Так, Дежерин, останавливаясь на значении «истерического сна» для судебной психиатрии, указывал как на установленный факт, что в этом состоянии возможно изнасилование. Зингер и Фишер раздельно друг от друга привели наблюдения нарколептических припадков во время полового акта, отмечая идиопатический характер этих психопатологических феноменов (цит. по: Эпштейн, 1928). Среди характерных для поражения лобно-базальной коры проявлений А. С. Шмарьян (1949) называл судорожные состояния, сопровождающиеся приступами резкого аффективного и сексуального возбуждения с эксгибиционизмом и «страстными позами» на фоне резких головных болей и хватательными движениями с последующим переходом в тонические судороги и длительный сон. Он также указывал, что нередко при базально-лобно-стволовых поражениях наблюдаются сумеречные состояния сознания с резким расторможением инстинктов и влечений, особенно полового, с выраженным приапизмом. Иногда в таких состояниях больные совершают насилие с непреодолимыми извращенными влечениями (педофилическими, гомосексуальными, содомическими) с последующей полной или частичной амнезией.
К. Г. Дорофеенко (1979) показал, что парафильный акт при гипоталамическом синдроме часто протекает на фоне измененного сознания, проявляющегося то в виде оглушенности, то в виде «ориентированных» расстройств сознания. Девиантные сексуальные действия сочетались с диэнцефальными кризами различно: в одних случаях чередо-
700
Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
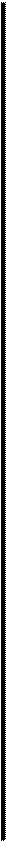 вались с ними, в других — служили их началом, в третьих — входили в структуру криза и представляли собой как бы отдельный его симптом. Диэнцефальным кризам отводится роль предрасполагающего фактора для реализации парафильной активности по типу т. н. фиксированных влечений, причем парафильные акты — эксгибиционистский, садистический, вуайеристский, полиморфный — преобладали над несексуальными расстройствами влечений. Б. В. Шостакович, А. А. Ткаченко( 1992) наблюдали эксгибиционистские акты при гипоталамическом синдроме, когда нарушение сознания носит «мерцающий» характер и сочетается с вегетативной симптоматикой. По их данным, у некоторых лиц наблюдались состояния, сопровождающиеся психопатологическими проявлениями в виде нарушений восприятия с дереализационными элементами, гипер- и гипостезия-ми, парестезиями различных модальностей, частичной дезориентировкой в пространстве, времени и в собственной личности в виде деперсонализационных состояний с ощущением измененности, отчужденности, насильственности своих действий, мыслей, чувств, с последующей амнезией в виде переходов от четкого понимания содеянного до полного запамятования.
вались с ними, в других — служили их началом, в третьих — входили в структуру криза и представляли собой как бы отдельный его симптом. Диэнцефальным кризам отводится роль предрасполагающего фактора для реализации парафильной активности по типу т. н. фиксированных влечений, причем парафильные акты — эксгибиционистский, садистический, вуайеристский, полиморфный — преобладали над несексуальными расстройствами влечений. Б. В. Шостакович, А. А. Ткаченко( 1992) наблюдали эксгибиционистские акты при гипоталамическом синдроме, когда нарушение сознания носит «мерцающий» характер и сочетается с вегетативной симптоматикой. По их данным, у некоторых лиц наблюдались состояния, сопровождающиеся психопатологическими проявлениями в виде нарушений восприятия с дереализационными элементами, гипер- и гипостезия-ми, парестезиями различных модальностей, частичной дезориентировкой в пространстве, времени и в собственной личности в виде деперсонализационных состояний с ощущением измененности, отчужденности, насильственности своих действий, мыслей, чувств, с последующей амнезией в виде переходов от четкого понимания содеянного до полного запамятования.
По мнению Н. Mester (1984), ссылки на взаимосвязь эпилепсии и эксгибиционизма исходят из эпизодического характера последнего, его импульсивности, а также — наличия эксцессивного возбуждения во время самого акта, когда может возникать помрачение сознания. Среди наблюдений R. Hunter et al. (1973) были случаи длительного трансвестизма и фетишизма, задолго предшествовавшие эпилептическим припадкам у мужчины, страдающего височной эпилепсией. Согласно J. Money (1990), парафилии у некоторых больных не просто сосуществуют с височной эпилепсией (в виде двойного диагноза), но между эпизодическими приступами сексуального поведения и эпилептическими припадками бессудорожного типа имеется сходство. Отмечается (Hooshmand et al., 1969; Hoenig et al., 1979; Ткаченко с соавт., 1999), что у больных с сексуальными пароксизмами могут наблюдаться парафильные нарушения в виде эксгибиционизма, трансвестизма, фетишизма, садизма и в межприступном периоде, протекая на фоне формально сохранного сознания. Кроме того, К. Имелинский (1986) обращал внимание на то, что само по себе сильное сексуальное возбуждение вызывает сужение поля сознания и снижение чувствительности рецепторов и органов чувств, а в работах, посвященных исследованию речевых, поведенческих и других характеризующих состояние сознания показателей, половой акт предлагается рассматривать в качестве модели для изучения состояния измененного сознания (Спивак, 1989). Таким образом, во-первых, установление паро-ксизмального состояния не исключает диагноза парафилии, а во-вторых, само по себе парафильное влечение может сочетаться с нарушением сознания непароксизмальной природы.
Э. Н. Разумовская (1935,1938) в рамках исключительных состояний приводила случаи импульсивного воровства у фетишиста, сопровождавшиеся сексуальным возбуждением, изменением сознания, преимущественно аффективно суженным, «пробелами» воспоминаний, неосознанностью совершаемых действий, имеющих автоматический характер. Б. В. Шостакович, А. А. Ткаченко (1992) при описании импульсивного эксгибиционизма отмечали, что непосредственно перед его реализацией наблюдалось резкое изменение психического состояния с появлением чувства безысходности, отрешенности и безразличия к окружающему, собственные поступки воспринимались как не зависящие от воли, производящиеся машинально, что сопровождалось такими признаками нарушения сознания, как нечеткость восприятия окружающего, обращенной к больному речи и элементами дезориентировки. После выхода из этого состояния отмечался некоторый период неясного сознания с затруднением контакта, растерянностью,
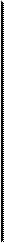 Судебно-психиатрическая экспертиза при сексуальных аддикциях (парафилиях) 701
Судебно-психиатрическая экспертиза при сексуальных аддикциях (парафилиях) 701
нецеленаправленностью и непоследовательностью поступков, а также частичная, а нередко и полная амнезия случившегося. Авторы указывали и на возможность искажения сознания при компульсивной реализации влечения, в частности, на определенном этапе динамики парафилий. Они отмечали, что предшествующая реализации борьба мотивов сопровождается нарастанием напряженности, раздражительности, а сдерживание возникшего влечения приводит к усилению эмоционального напряжения, увеличению интенсивности побуждения, в результате чего реализация уже неподвластного индивиду желания происходила на фоне суженного сознания с искажением восприятия окружающего, с последующим появлением субъективного чувства облегчения и парциальной амнезии некоторых этапов девиантного акта, чаще следующих за обнажением.
А. Я. Перехов (1995), исследующий феноменологию компульсивного влечения при фетишном трансвестизме, указывает, что у больных в состоянии кроссдрессинга сознание, заполненное главенствующими устремлениями, сужается, внимание полностью концентрируется на деятельности и получении психотропного эффекта, не ощущается течение времени, частично игнорируется окружающая реальность, из-за чего не замечается появление свидетелей, не воспринимаются посторонние звуки. В последующем же отмечается частичность, фрагментарность воспоминаний относительно того, что не имело прямого отношения к кроссдрессингу, наряду с четким, «облегченным» всплы-ванием в памяти воспоминаний, касающихся мельчайших характеристик и признаков одежды, тактильных ощущений, цвета и запаха косметики и т. д., что объясняется автором избирательной активацией памяти к воспоминаниям кататимного аномального сексуального содержания.
P. Snaith (1983) и К. Имелинский (1986) отмечают, что реализация девиантного сексуального влечения может сопровождаться психогенным сужением поля сознания. D. Burget, J. V. W. Bradford (1995) высказывалось предположение, что среди сексуальных правонарушителей, частично или полностью амнезировавших период деяния, определенный процент занимают лица с органическими и психогенными диссоциативными расстройствами, что позволило ввести специальный термин для их обозначения — «па-рафилические фуги» (Money, 1992), характеризующий внешне целенаправленное поведение при его действительной непроизвольности. Эти состояния рассматриваются, с одной стороны, как близкие к психомоторным припадкам, с другой — в одном ряду с диссоциативными расстройствами. А. А. Ткаченко с соавт. (1997) отмечают, что пара-фильные акты часто сопровождаются речевыми и моторными автоматизмами, расхождением психосенсорных и психомоторных компонентов поведения, аффективными нарушениями, диссоциацией между субъективными переживаниями и психофизиологическими проявлениями, амфитимическими состояниями, утратой эмпатического восприятия в состоянии измененного сознания.
Согласно Е. Ю. Яковлевой (2001), у лиц с парафилиями кратковременные расстройства наиболее часто отвечают критериям «Органического диссоциативного расстройства» (F06.5) и представлены трансами, квалифицируемыми в соответствии с F44.3 («Трансы и состояния овладения»), а также пунктом F44.7 («Смешанные диссоциативные (конверсионные) расстройства»), предполагающим кодировку состояний с различными сочетаниями нарушений сенсорной, моторной, мнестической сфер, нарушениями личностной идентичности. У испытуемых без парафилий отмечалось преобладание диагностики сумеречных состояний как органического, так и конверсионного генезов, квалифицируемых в соответствии с критериями подрубрики F44.88 — «Другие уточненные диссоциативные (конверсионные) расстройства (включая психогенные сумеречные состояния)».
702
Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
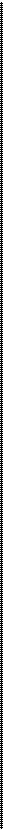 28.2.2. Расстройства самосознания при аномальном сексуальном поведении
28.2.2. Расстройства самосознания при аномальном сексуальном поведении
При экспертной оценке парафилий необходимо рассмотрение «информационных объектов», имеющих отношение к психосексуальности: полового самосознания, поло-ролевой Я-концепции как относительно устойчивых представлений индивида о самом себе, о полоролевых стереотипах поведения с возможностью отклонения от них за счет сниженного эмоционального к ним отношения или же за счет их искаженности или недифференцированности. Я-концепция включает в себя оценочный аспект самосознания, неразрывно связанный с понятием критичности.
При аномалиях сексуального влечения выявлены структурные и содержательные нарушения половой идентичности: ее фемининность, идентификация с женскими по-лоролевыми стереотипами, недостаточная эмоциональная усвоенность мужской половой роли (формальность представлений об образе мужчины, расхождение полоролевых предпочтений и полоролевых стереотипов), недифференцированность паттернов поло-ролевого поведения по маскулинности. Указанные особенности могут отражать и более ранние нарушения целостного самосознания, приводящие к диффузности, текучести «Я» (Дворянчиков, Герасимов, Ткаченко, 1997; Дворянчиков, Ткаченко, 1998).
Эффективность участия Я-концепции в саморегуляции определяется следующими условиями: необходимо достаточно четкое осознание актуального образа «Я», осознание образа желаемого «Я», эти образы должны быть сопоставимы, т. е. должна иметься возможность для их сравнения и осознания рассогласования, что и обусловливает в конечном счете саморегуляцию. Поэтому недостаточная четкость осознания образа «Я» подразумевает потенциальную возможность нарушений саморегуляции.
Дисгармоничная полоролевая социализация отражает недостаточно полимотивированный характер сексуального поведения и, как следствие, слабую его опосредован-ность. Так, формальность и атрибутивность представлений о половой роли может ограничивать мотивацию сексуального поведения и, таким образом, сексуальная деятельность из полимотивированной и опосредованной становится мономотивированной, приобретая более упрощенный и свернутый характер. Нарушения усвоенности половой роли могут отражаться на упрощении структуры сексуальных сценариев, обусловливая их стереотипизацию и ригидность.
Только в том случае, когда потребность становится опосредованной (сознательно поставленной) целью, возможно сознательное управление ею (Коченов, 1980; Зейгар-ник, 1986). М. И. Бобнева (1975) отмечала, что, будучи усвоенными, интериоризирован-ными, превратившись в факторы внутреннего мира человека, социальные нормы воздействуют на поведение через систему внутренних факторов регуляции — самосознание, самооценку, мотивационную систему, т. е. становятся собственно личностными факторами регуляции поведения. При слабой интериоризации или сознательном игнорировании социальных норм они, как правило, представлены в сознании в виде формально знаемых мотивов, не оказывая в большинстве случаев регулятивного воздействия на поведение. 3. Старович (1993) указывает, что частой причиной сексуальных расстройств становятся нарушения межличностной коммуникации. Сосредоточение внимания в основном на собственной личности приводит к снижению интереса к личности партнера, нарушению восприятия, отсутствию внимания к содержанию контактов, специфическому формированию метакоммуникации. Речь идет о снижении количества метакоммуникантов (незнание языка общения, нарастающее чувство непонимания) или, наоборот, об их чрезмерном увеличении (с целью манипулирования партнером), а так-
 Судебно-психиатрическая экспертиза при сексуальных аддикциях (парафилиях) 703
Судебно-психиатрическая экспертиза при сексуальных аддикциях (парафилиях) 703
же — о создании неприемлемых метакоммуникантов (откладывание обсуждения возникших проблем, пренебрежение необходимостью диалога).
При описании субъективной феноменологии парафилий можно говорить не только о нарушениях осознавания себя (субъекта), но и окружающей реальности, частью которой является объект действия. Образ сексуального партнера — один из важнейших факторов, определяющих формирование сексуальных девиаций, поскольку в конечном итоге служит результирующим формирования самосознания и полоролевых стереотипов.
W. L. Marshall etal. (1995) предлагают поэтапную модель процесса эмпатии. Эмпати-ческий ответ сексуальных правонарушителей может варьировать как функция ситуации, характеристик жертвы и последующих попыток рационализации социально недопустимого поведения. Стадия узнавания эмоции (различение эмоционального состояния другого) — предпосылка к последующим стадиям. То есть, чтобы понять эмоциональное состояние другого, нужно сначала узнать эмоцию. Второй этап — оценка перспективы — включает помещение себя непосредственно в положение другого и прочувствование ситуации с его точки зрения. Насильники часто неспособны оценивать состояние жертвы и поэтому продолжают нападение. Третья стадия — эмоциональный ответ — вовлекает переживание, прочувствование той же самой эмоции. Сексуальные насильники могут быть особенно несовершенны в этой области из-за ограниченного эмоционального репертуара. Наконец, ответное решение подразумевает выбор поведения на основе информации, собранной на предыдущих стадиях эмпатического процесса. Предполагается, что сексуальные преступники могут быть успешными на первых трех этапах эмпатического процесса, но все еще продолжать агрессивные действия, что отражает недостаток в способности принятия решения.
При исследовании восприятия жертв насильниками и педофилами-инцестниками (Phelen, 1995) оказалось, что правонарушитель часто погружен в себя, он извращает реакции жертвы в предвкушающе-последовательной манере, ожидая от нее желания и наслаждения от столкновения, что отражает неспособность компетентно оценивать состояние другого человека. J. F. Porter и J. W. Critelli (1994) ближе всего подошли к исследованию четвертого шага в процессе эмпатии, установив, что несексуально агрессивные мужчины использовали более запрещающий диалог с собой при прослушивании аудиозаписей моделируемого насилия по сравнению с оценивающими себя как сексуально высоко агрессивных.
Нет сомнений в том, что различные когнитивные процессы (неадекватные ожидания и искаженные когнитивные схемы) играют важную роль в возникновении сексуального насилия, хотя ведутся серьезные споры относительно того, относятся ли эти когнитивные аспекты к предикторам деликта или стратегиям поддержания чувства собственного достоинства после него. Дня большинства могут быть истинными оба эти положения; в любом случае обе эти проблемы существенно затрагивают социальную компетентность. Когнитивные искажения определены как последовательные ошибки в мышлении, происходящие автоматически. Эти конструкты рассматривались как причинно связанные с этиологией и обеспечением дисфорических состояний, депрессии и тревожности (Beck, 1995). Применительно к сексуальным правонарушителям, с одной стороны, когнитивные искажения «относятся к самоутверждениям, которые позволяют отрицать, минимизировать, оправдывать или рационализировать свое поведение» (Murphy, 1990), с другой стороны, стабильные паттерны искаженного мышления и восприятия могут быть причиной сексуального криминала. Эти модели говорят о важности рассмотрения когнитивных переменных при оценке сексуального преступления.
704
Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
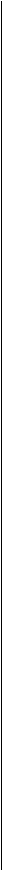 Ожидания сексуальных правонарушителей и их отношение к женщинам и детям обычно традиционны и консервативны (Howells, Wright, 1978), согласуясь с неукоснительным поддержанием представлений о сексуальных правах мужчин (Hanson, Gizzarelli, Scott, 1994). G. G. Abel с соавт. (1984,1989) отметили более определенно, что, по крайней мере, педофилы имеют ожидания, узаконивающие сексуальную активность с детьми, они описывают детей в сексуальных терминах как желающих близости, не получающих вреда от сексуального контакта со взрослым (Hanson и др., 1994; Hayashino, Wurtele, Klebe, 1995). 3. Старович (1991) отмечал, что многие гетеросексуальные педофилы при просмотре фотографий с изображением девочек усматривают в их поведении черты взрослого сексуального кокетства, и даже типичная детская мимика воспринимается ими в том же ключе. Автор указывает, что к важнейшим причинам развития партнерской патологии в сфере сексуальности наряду с нарушениями межличностной коммуникации относится перенесение на партнера или связь с ним механизмов отношений из периода детства. И. А. Кудрявцев, Е. Г. Дозорцева, М. Б. Симоненкова (1991) показали нечеткость и слабую дифференцированность смыслового восприятия пола улице искажениями психосексуальных ориентации. Отмечена нечеткость восприятия половозрастных особенностей объекта сексуального влечения у испытуемых с педофилией, что проявляется в приписывании ребенку качеств взрослого, а также — установление ассоциативных связей между понятиями «Я» и «ребенок». Формальность восприятия возрастных особенностей ребенка проявляется при выполнении рисуночных методик: изображая ребенка, педофилы часто рисуют его с игрушкой, бантиками и т. д., т. е. подчеркивая тем самым, за счет внешних атрибутов, его возраст (Дворянчиков, Герасимов, Ткаченко 1997).
Ожидания сексуальных правонарушителей и их отношение к женщинам и детям обычно традиционны и консервативны (Howells, Wright, 1978), согласуясь с неукоснительным поддержанием представлений о сексуальных правах мужчин (Hanson, Gizzarelli, Scott, 1994). G. G. Abel с соавт. (1984,1989) отметили более определенно, что, по крайней мере, педофилы имеют ожидания, узаконивающие сексуальную активность с детьми, они описывают детей в сексуальных терминах как желающих близости, не получающих вреда от сексуального контакта со взрослым (Hanson и др., 1994; Hayashino, Wurtele, Klebe, 1995). 3. Старович (1991) отмечал, что многие гетеросексуальные педофилы при просмотре фотографий с изображением девочек усматривают в их поведении черты взрослого сексуального кокетства, и даже типичная детская мимика воспринимается ими в том же ключе. Автор указывает, что к важнейшим причинам развития партнерской патологии в сфере сексуальности наряду с нарушениями межличностной коммуникации относится перенесение на партнера или связь с ним механизмов отношений из периода детства. И. А. Кудрявцев, Е. Г. Дозорцева, М. Б. Симоненкова (1991) показали нечеткость и слабую дифференцированность смыслового восприятия пола улице искажениями психосексуальных ориентации. Отмечена нечеткость восприятия половозрастных особенностей объекта сексуального влечения у испытуемых с педофилией, что проявляется в приписывании ребенку качеств взрослого, а также — установление ассоциативных связей между понятиями «Я» и «ребенок». Формальность восприятия возрастных особенностей ребенка проявляется при выполнении рисуночных методик: изображая ребенка, педофилы часто рисуют его с игрушкой, бантиками и т. д., т. е. подчеркивая тем самым, за счет внешних атрибутов, его возраст (Дворянчиков, Герасимов, Ткаченко 1997).
Связанные с полом ожидания сцеплены с другими, семантически близкими представлениями, особенно касающимися агрессии и господства. Например, есть связь между принятием насилия вообще и сообщенной готовностью к изнасилованию (Malamuth, 1981), так же как и представлениями о полоролевых стереотипах (Check, Malamuth, 1983). J. В. Ргуоги L. M. Stoller (1994) рассказали о связи между полоролевыми стереотипами, социальной доминантностью и сообщенной вероятностью изнасилования. Ограниченное знание последствий сексуального нападения, которое может быть связано с недостатком сочувствия к жертвам, связано со склонностью к изнасилованию (Hamilton, Yee, 1990).
Сексуальные правонарушители интерпретируют сексуальную информацию обычно в совместимой с их основными представлениями манере, что связано с последующим сексуальным возбуждением. W. D. Murphy (1990) приводит три типа подобных процессов: оправдание действий в терминах этики или психологической потребности, минимизация вреда или снятие ответственности за последствия и, наконец, перемещение ответственности с себя на жертву. Т. Ward с соавт. (1998) при анализе рассказов осужденных педофилов идентифицировали множество отличительных познавательных действий, отдельных от содержания, — описание, объяснение, интерпретация, оценка, отрицание, минимизация и планирование, т. е. это разнообразные когнитивные действия, связанные с различными стадиями процесса аномальной активности. Например, оценка происходит после сексуального преступления. Таким образом сексуальные правонарушители используют специфические стили обработки информации, делая причинные приписывания и суждения, что впоследствии обеспечивает искажение воспоминаний, служащих укреплению прежних представлений.
Обычно социально неуместное поведение приводит к переживанию негативных эмоций типа вины или стыда. Опыт отрицательного эмоционального состояния привел
Судебно-психиатрическая экспертиза при сексуальных аддикциях (парафилиях) 705
бы поэтому к прекращению поведения. Однако когнитивные нарушения приостанавливают процесс саморегуляции, в результате чего аномальное поведение может осуществляться без отрицательных эмоциональных реакций. Сексуальные правонарушители характерно приостанавливают саморегулирование и в результате демонстрируют недостаток опыта эмоциональной несовместимости (инконгруэнтности). Т. Ward et al. (1995) отмечают «дефицитарность эмоционального реагирования, неадаптивность регуляции поведения и навыков разрешения проблем» в качестве потенциальных последствий когнитивного разрушения.
Процесс когнитивного разрушения определяет перемещение центра внимания от абстрактных, сжатых, более высоких уровней обработки к конкретным, нижележащим уровням. Поскольку внимание ограничено более низкими уровнями обработки, когнитивные процессы более высокого уровня — подобно самооценке — станут отщепляться от поведения. Согласно Т. Ward et al. (1995), «в когнитивно нарушенном состоянии самосознание становится более конкретным, сосредотачивается на сенсациях и движении», субъект не оценивает свои ненормативные действия отрицательно. Фактически индивид концентрируется на положительных аспектах действия (например, сексуальном возбуждении, оргазме). Сосредоточение на непосредственных эффектах поведения вызывает отказ рассматривать возможные отрицательные последствия в долгой перспективе (например, судебное преследование, причинение ущерба жертве) и, таким образом, становится путем ухода от отрицательных эмоций.
Дефицит интимности, сочувствия к жертвам и когнитивные искажения часто связывают с происхождением сексуальных аномалий. Важно, что все эти параметры указывают на недостаток понимания ожиданий, желаний, состояний и потребностей других людей. Проблемы сексуальных преступников в этих областях могут рассматриваться как частично являющиеся результатом дефицитарности в одном центральном механизме: способности оценивать психические состояния.
Теория представления относится к способности приписывать психические состояния себе и другим в попытке понять и объяснить поведение (Gopnik, Meltzoff, 1997). Представление является самым важным в социальных взаимодействиях, поскольку в большинстве социальных столкновений создается знание представлений, собственных и чужих, чтобы определить соответствующие направления действия. Это знание часто упоминается как теория представления, функционирующая для объяснения прошлого и прогноза будущего поведения (своего и других). Сексуальные рецидивисты типа педофилов и серийных насильников (Hudson, Ward, Marshall, 1996) демонстрируют дефициты теории представления. Хотя такие дефициты могут быть распространенными и давнишними, они способны проявляться только в сексуальном нападении при некоторых обстоятельствах. Правонарушители могут понимать свою неадекватность или интерпретировать поведение других людей лишь на абстрактном уровне. Они испытывают затруднения при оценке других людей как имеющих весьма различные ожидания и желания и не осознают, что такие психические состояния могут изменяться через какое-то время. Например, насильнику трудно понять, что женщина могла изменить свое мнение, хотя первоначально, казалось, она хотела близости. Обладание непредставительной концепцией желания означает, что он считал бы психическое состояние женщины продолжающимся и непосредственно вызванным ситуацией. Педофил может интерпретировать поведение жертвы как выражение желания секса и ожидания, что секс приемлем или даже расценен жертвой как выгодный.
Особый тип проблемы теории представления сексуальных правонарушителей — зависимый — включает неудачу применения существующей теории к соответствующей
23 Зак. 3806
706
Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
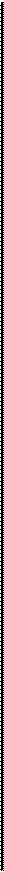 ситуации. Индивидуум может иметь адекватную теорию психических состояний и обладать способностью приходить к правильным выводам, но по некоторым причинам будет не в силах делать их. Это может обуславливаться воздействием других психологических или физических состояний или мотивационных факторов, например желанием избежать отрицательной самооценки. Среди таких состояний — стресс, сильные отрицательные или положительные эмоции, влияние лекарственных препаратов или других физических факторов. Подобные состояния могут вести к неудачной саморегуляции и, таким образом, к использованию менее сложных теорий представления или более «примитивных» форм, что может быть результатом непосильного познавательного груза и более элементарного кодирования. Сильные положительные эмоциональные эмоции могут также вредить функционированию теории представления и заставлять человека отказываться от использования знания психических состояний других людей в соответствующих контекстах. Сексуальное возбуждение — пример такого положительного эмоционального статуса, которое может сопровождаться неточными приписываниями психических состояний.
ситуации. Индивидуум может иметь адекватную теорию психических состояний и обладать способностью приходить к правильным выводам, но по некоторым причинам будет не в силах делать их. Это может обуславливаться воздействием других психологических или физических состояний или мотивационных факторов, например желанием избежать отрицательной самооценки. Среди таких состояний — стресс, сильные отрицательные или положительные эмоции, влияние лекарственных препаратов или других физических факторов. Подобные состояния могут вести к неудачной саморегуляции и, таким образом, к использованию менее сложных теорий представления или более «примитивных» форм, что может быть результатом непосильного познавательного груза и более элементарного кодирования. Сильные положительные эмоциональные эмоции могут также вредить функционированию теории представления и заставлять человека отказываться от использования знания психических состояний других людей в соответствующих контекстах. Сексуальное возбуждение — пример такого положительного эмоционального статуса, которое может сопровождаться неточными приписываниями психических состояний.
Другой тип вызванного состоянием ухудшения касается недостатка мотивации использовать существующее знание относительно психических переживаний или мотивации не применять это знание. Неудача сочувствия жертве или определения своего основного психического состояния вызвана желанием избежать самооценки скорее, чем неспособность понять то, что жертва могла испытать. На одном уровне правонарушитель осознает: то, что он планировал делать или уже сделал, неправильно. Конфликт между его ценностями и его текущим желанием вести себя в сексуально девиантной манере приводит к избеганию самопроверки. Это подобно состоянию когнитивного разрушения, где последствия ухода от отрицательной самооценки могут завершаться примитивным решением проблемы и далее — преступлением (Ward et al., 1997). Если такие индивидуумы продолжают использовать алкоголь или наркотики или неспособны управлять сильным эмоциональным состоянием, подобное ухудшение может происходить повторно.
Патология осознавания объекта выражается в деперсонификации, фетишизации и аутоэротизме, представляющих собой последовательный ряд феноменов отстранения от реального объекта с погружением во внутренний мир девиантных переживаний.
Деперсонификация — феномен, отражающий нарушения в системе субъект-субъектных отношений и определяющий лишение субъективности объекта, чья роль сводится к значению предмета, стимула для воспроизведения особого аффективного состояния либо воображения, реализации внутренних побуждений, связанных с приверженностью к определенным ситуациям. Деперсонификация может расцениваться как минус-феномен («выпадения»), когда восприятие объекта страдает, во-первых, на уровне непосредственной перцепции, во-вторых, на уровне категориального обобщения.
Фетишизация, или символизм, — феномен, отражающий нарушения в системе субъект-объектных отношений и определяющий знаковую самодостаточность предметного выбора, осуществляемого по формальным свойствам объекта: либо чисто внешним, либо с опорой лишь на одно из них, а также использование заместителей, не совпадающих с замещаемыми по функциональным свойствам, но имеющих сходство в физических эффектах при фиксированном манипулировании с ними. При фетишизме осознается само действие релизера как безусловного стимула сексуального возбуждения. Причем осознается как невозможность противостоять ему, так и невозможность рационального объяснения этого факта, что и порождает вторичную эмоциональную амбивалентность. Фетишизацию можно расценивать как плюс-феномен (появление в сознании того, что в норме отсутствует).
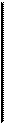 Судебно-психиатрическая экспертиза при сексуальных аддикциях (парафилиях) 707
Судебно-психиатрическая экспертиза при сексуальных аддикциях (парафилиях) 707
Психологический механизм деперсонификации связан с изначальной неспособностью или незрелостью эмпатии, или утерей этой способности в состояниях искаженного сознания. Ее эффекты заключаются в облегчении манипулятивной активности и в возможности в ее ходе использовать объекты для экспериментирования с ними как с носителями определенных качеств. Последние оказываются теснейшим образом связанными с освоением категорий, составляющих суть кризисных периодов становления идентичности и впоследствии становящихся важнейшими конструктами самосознания. Они могут быть представлены в виде следующих оппозиций:
1) живое—неживое (лишение признаков жизни). Здесь вполне уместны упоминания об использовании кукол или проституток, изображающих трупы, гомицидном поведении, часто с непониманием факта смерти, некрофильных и некросадистических проявлениях, случаях намеренного приведения жертв в бесчувственное состояние (обездвиженность как особый сексуальный стимул). М. Коул (1997) упоминает исследования новорожденных в возрасте от нескольких часов до двух-четырех месяцев, показывающих присутствие впечатляющего набора врожденных «скелетных» когнитивных структур. Последние включают «протознание» в широком спектре областей, в том числе интенцио-нальности и различении одушевленного и неодушевленного. Эти структуры получили название модулярных направляющих, охватывающих ранние филогенетически заданные когнитивные процессы. Эти процессы организуют интеллектуальное развитие детей вокруг нескольких ключевых онтологических областей, определяющих вид подходящих объектов и способы их действия друг на друга. Таким образом, распознание одушевленных и неодушевленных объектов — одна из первичных способностей, в силу чего ее нарушение (протодиэкризис) будет означать наиболее серьезный когнитивный или эмоциональный дефект;
2) мужское—женское (лишение признаков пола). Данная дихотомия определяет саму суть педофилии, поскольку, помимо формального преобладания возрастных искажений, основную роль здесь играет предпочтение объекта, лишенного очевидных половых отличий. Наглядны также случаи предпочтения орально- и анально-генитальных актов (одновременно отражающие установление отношений доминирования и иерархии), выбора гомосексуального объекта, наконец — симптома зеркала, где сходные тенденции прилагаются к собственному телесному облику;
3) детское—взрослое (лишение признаков возраста). Нарушение восприятия педо-фильных объектов, наделяющихся явно несоответствующими им более зрелыми качествами, сочетается с типично педофильными действиями (ощупывание и разглядывание), часто — с принудительной эпиляцией. Имеются и примеры поведения, направленного на вхождение в соответствующий образ (цисвестизм).
Таким образом, деперсонификация становится механизмом субъект-объектных смешений. Нетрудно заметить, что все три вышеперечисленные ее характеристики содержат манипуляции с собственной субъективностью. Суть этого процесса — подмена ее иной, с присвоением чужих, отсутствующих у себя самого качеств. По отношению к деперсонификации иные феномены в определенном смысле вторичны.
Аутоэротизм — внешнее сходство объекта и субъекта. Эмоциональное соответствие между некоторыми сексуальными правонарушителями (например, педофилами) и их жертвами (Marshall, Barbaree, 1990) относится к особым фактам. Часто отмечалось, что некоторые педофилы чувствуют себя более удобно и безопасно в кругу детей. Сложность взрослых взаимодействий может заставлять их ощущать себя уязвимыми и неадекватными, неспособными понять характер взрослых людей. Их влечение к детям поэтому является частично функцией чувства большей непринужденности и понятости. Способ-
708
Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
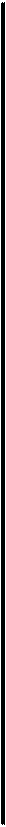 ность предсказывать и объяснять детское поведение привела бы таких лиц к ощущению большей эффективности и самоконтроля. Однако в большинстве случаев черты сходства субъекта и объекта сексуального влечения не осознаются. Иногда лишь эксперт обращает внимание на сходство предпочитаемого объекта с самим пациентом: эта задача облегчается, к примеру, в случаях сексуального насилия в детстве, когда возраст субъекта и объекта насилия совпадают. В тех же ситуациях, когда это осознание происходит и стабилизируется, становится возможен феномен нарциссизма.
ность предсказывать и объяснять детское поведение привела бы таких лиц к ощущению большей эффективности и самоконтроля. Однако в большинстве случаев черты сходства субъекта и объекта сексуального влечения не осознаются. Иногда лишь эксперт обращает внимание на сходство предпочитаемого объекта с самим пациентом: эта задача облегчается, к примеру, в случаях сексуального насилия в детстве, когда возраст субъекта и объекта насилия совпадают. В тех же ситуациях, когда это осознание происходит и стабилизируется, становится возможен феномен нарциссизма.
Нарушения идентификации проявляются в осознанном собственном сходстве с объектом (в некоторых случаях только в отдельных функциях — ощущениях, эмоциях, мышлении, в других — полностью) в ситуации сексуального контакта или девиантного поведения.
Д. Дайх сообщает, что подчас способность садистов представлять себе страдания и переживания жертвы может ошибочно расцениваться как свидетельство развитой эмпа-тии. Однако и в этих случаях речь идет о примитивном уровне развития эмпатии — эгоистической эмпатии, на котором еще нет четкой границы между собственными переживаниями и автономными переживаниями другого. Эмпатию отличают от идентификации, являющейся бессознательной. Быть в состоянии эмпатии означает воспринимать внутренний мир другого точно, с сохранением эмоциональных и смысловых оттенков. «Как будто становишься этим другим, но без потери ощущения "как будто". Так ощущаешь радость и боль другого, как он их ощущает, и воспринимаешь их причины, как он их воспринимает. Но обязательно должен оставаться оттенок "как будто", т. к. при его исчезновении возникает состояние идентификации» (Rogers, 1959), при котором страдает рефлексивность — важная характеристика произвольной активности, своего рода «обратная связь», сопровождающая действия (Хекхаузен, 1985). Различение «Я» и «не Я», способность воспринимать себя в качестве объекта, видеть себя «как бы посторонним взором», осуществлять мысленный диалог с самим собой — все это составляет суть самосознания как удвоения себя, обусловливающего субъективно ощущаемое «Я» и одновременно внешне, через поведение, отношение между субъектом и объектом, что проявляется как критика к себе, окружающему, своим действиям. Расстройство рефлективного «Я», «удвоения себя» и есть расстройство критики, проявляющееся вовне неспособностью действовать осознанно.
28.2.3. Расстройства волевой регуляции аномального сексуального поведения
Если рассматривать поведение как процесс, согласующий когнитивный и аффективный компоненты самосознания, то именно на поведенческий компонент будет ложиться основная тяжесть поддержания целостности самосознания и, в частности, половой идентичности при его искажении.
Дистония — синтония. Под эго-дистоническим отношением к своему сексуальному влечению понимается обычно наличие критики к нему, что позволяет пациенту с ним бороться. Для этого необходимо осознавание его чуждости, присутствие внутри-психического конфликта. В психопатологическом аспекте речь идет о навязчивом, об-сессивном характере влечения.
Понятие эго-синтонии отражает спаянность личности с аномальным влечением, невозможность критического отношения к нему и контроля над ним. Внутрипсихиче-ского конфликта при этом нет, действия приобретают характер импульсивных.

 Судебно-психиатрическая экспертиза при сексуальных аддикциях (парафилиях) 709
Судебно-психиатрическая экспертиза при сексуальных аддикциях (парафилиях) 709
Компульсивность—импульсивность. Под сексуальной компульсивностью понимают чуждость возникающих побуждений, их аутохтонный, насильственный характер. Присутствует понимание неестественности и болезненности своих переживаний, влечение возникает непроизвольно, часто на фоне аффективных нарушений, возникшее желание быстро приобретает характер доминирующей идеи, имеет выраженную побудительную силу, препятствуя осуществлению привычных действий, сопровождается борьбой мотивов. Реализации влечения сопутствует субъективное чувство облегчения, вскоре сменяющееся ощущением неадекватности совершенного поступка, снижением настроения с идеями самообвинения и самоуничижения, переживанием стыда и раскаяния, вялостью и разбитостью.
При импульсивных расстройствах сексуальное влечение возникает внезапно для больного, его реализации не предшествует внутренняя проработка и борьба мотивов. Не будучи даже осознанным, оно реализуется, часто без учета ситуации и обстановки. Этап выхода из этого состояния характеризуется кратковременным чувством облегчения и одновременно состоянием вялости, прострации.
Возможна интерпретация связи диагностических и патогенетических аспектов аномального сексуального поведения в рамках концепции аномальных механизмов как факторов регуляции поведения. К. Ясперс (1959) выделял следующие аномальные механизмы: 1) количественный, «когда количество, продолжительность и интенсивность явлений переходят грани обычного»; 2) фиксация; 3) регрессия; 4) расщепление. К проявлению первого можно причислить гиперлибидемию — патологическое усиление сексуального влечения, ограничивающее волевую регуляцию. Однако в отношении парафилий большее значение имеют три других.
Регрессия. В целом составляющие клинической картины (насильственность, аффективные искажения, нарушения сознания) позволяют включить парафильное поведение в круг протопатических синдромов. А. Л. Эпштейн (1936) указывал, что для последних характерны сдвиг личности в сторону эффективности с преобладанием тревожного, депрессивного или иного тягостно-неприятного тона переживаний, включающих насильственные и чуждые побуждения; преимущественно ноцицептивные, амфитимические или паратимические эмоции с разладом перцепторно-эпикритической системы и расстройством сферы «чистых ощущений» в виде блокировки, извращения восприятий различных модальностей на фоне разнообразных вегето-висцеральных проявлений; последующую расплывчатость и нечеткость ощущений, определяющих алекситимические состояния. И наконец, искажения сознания в различных его клинических вариантах. Если учесть, что протопатическая система является филогенетически древней, противостоящей более юной эпикритической, то формирование парафилий представляет собой не что иное, как проявление целостного механизма психического регресса. Тот факт, что данные психопатологические изменения достигаются или сопровождаются аномальными формами именно сексуального поведения, свидетельствует об уязвимости как раз составляющих самосознания, служащих структурным фундаментом этих поведенческих реализаций, т. е. связанных, прежде всего, с половозрастными идентичностями. Ра-зотождествление с привычными самоидентификациями происходит по мере перехода с одного на другой уровни, причем каждому из них соответствуют латентные самоидентификации со свойственными им противопоставлениями. Упоминавшиеся выше оппозиции (одушевленное—неодушевленное, взрослое—детское, мужское—женское) составляют суть тех онтогенетически ранних идентичностей, к которым возвращается субъект.
Под регрессивностью понимают появление паттернов поведения, характерных для более ранних этапов онтогенеза, чем тот, в котором находится данный индивид. Онтоге-
710
Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
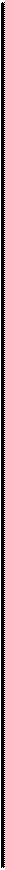 нетическая регрессия проявляется в выборе объекта по полу и возрасту. Характеризуя специфику становления общения у детей с аутизмом, В. Е. Каган (1981) говорит о задержке наступления этапов и парциальное™, незавершенности каждого из них при переходе к следующему, однако последовательность, характерная для нормальных детей, сохраняется. Такими этапами (по объекту) являются: аутизм, симбиоз с матерью, отношения со взрослыми, старшими, младшими и сверстниками. Принимая во внимание коммуникативную сущность сексуального контакта, нетрудно заметить, что выбор объекта сексуального влечения по различным причинам может осуществляться на любом из этих этапов — аутоэротическом, гомосексуальном, геронтофильном, педофильном. Вследствие незавершенности этапов возможно как бы «осколочное» их сочетание. Самый труднодостижимый, требующий прохождения всех этапов, — нормативный. Проявлением филогенетической регрессии выбора объекта представляется выбор по внешним признакам (регресс восприятия объекта до уровня релизеров).
нетическая регрессия проявляется в выборе объекта по полу и возрасту. Характеризуя специфику становления общения у детей с аутизмом, В. Е. Каган (1981) говорит о задержке наступления этапов и парциальное™, незавершенности каждого из них при переходе к следующему, однако последовательность, характерная для нормальных детей, сохраняется. Такими этапами (по объекту) являются: аутизм, симбиоз с матерью, отношения со взрослыми, старшими, младшими и сверстниками. Принимая во внимание коммуникативную сущность сексуального контакта, нетрудно заметить, что выбор объекта сексуального влечения по различным причинам может осуществляться на любом из этих этапов — аутоэротическом, гомосексуальном, геронтофильном, педофильном. Вследствие незавершенности этапов возможно как бы «осколочное» их сочетание. Самый труднодостижимый, требующий прохождения всех этапов, — нормативный. Проявлением филогенетической регрессии выбора объекта представляется выбор по внешним признакам (регресс восприятия объекта до уровня релизеров).
Различают также регресс активности. При онтогенетическом регрессе происходит возврат к поведенческим паггернам ранних стадий развития, наиболее яркий пример этого — типично педофильное поведение: разглядывание и ощупывание половых органов. Другим примером может быть имитационное поведение. Филогенетический регресс поведения выражается в воспроизведении архаических паттернов. Самым распространенный из них — социо-генитальный (обнажение и демонстрация половых органов). Если рассмотреть динамику изменения активности у лиц с парафилиями, удается проследить ее подчинение определенным закономерностям. Первичным феноменом здесь представляется «охота», являющаяся, по сути, поисковой, ориентировочной активностью, когда потребность еще не опредмечена. Второй этап — амбитендентность, движения намерения. Он может занимать секунды или растягиваться во времени, феноменологически оформляясь в обсессивно-компульсивный характер аномального сексуального влечения. Третий этап — смещенная активность. Содержательно он проявляется либо в деструктивных действиях, либо в сексуальных манипуляциях с объектом.
Регрессивное поведение всегда менее видоспецифично, чем предваряющее его. Таким образом, на определенном уровне регрессии роль личности и сознания в регуляции поведения минимальна, оно подчиняется общебиологическим, видовым закономерностям. При выраженных (в смысле сдвига в прошлое) видах регрессии отмечается высокая степень сходства с биологическими аналогами, что сочетается со структурно-динамическим регрессом поведения.
J. Bateson (1972) писал: «...когда человек не в состоянии расшифровать и комментировать сообщения других людей, он похож на саморегулирующуюся систему, лишившуюся своего регуляторного устройства, он обречен двигаться по спирали, совершая постоянные и всегда систематические искажения». Формой выражения этих искажений в условиях внутреннего конфликта представляется агонистическое поведение. Под ним понимают любое поведение, связанное с конфликтами. Внутрипсихический конфликт характерен для расстройств половой идентичности, базисных для развития парафилий. К видам агонистического поведения относятся комплекс фиксированных действий и смещенная активность.
Смещенная активность — это поведение, не связанное ни с одной из конфликтных тенденций, чаще представляющее собой наиболее легко вызываемые и наиболее легко выполняемые поведенческие акты (Hinde, 1977), каковыми для любого организма являются, прежде всего, поисковая (ориентировочная), а также пищевая и половая активность. К разновидностям смещенной активности относят: а) переадресованную активность, когда действие направляется на другой, не первоначально подразумевавшийся
 Судебно-психиатрическая экспертиза при сексуальных аддикциях (парафилиях) 711
Судебно-психиатрическая экспертиза при сексуальных аддикциях (парафилиях) 711
объект; б) регрессию, когда при возникновении препятствия для взрослого поведения развивается ювенильная активность.
По мнению А. Н. Корнетова, В. П. Самохвалова и др. (1990), о смещенной активности можно говорить, когда наблюдается усиление проявлений отдельных элементов поведения (или не в том контексте) или возникновение необычных для вида элементов поведения. При смещенной активности повышение уровня мотивационного возбуждения до экстремальных значений способно радикально изменить характер целенаправленных поступков вследствие нарушения процессов прогнозирования и эмоциональной оценки этапных и конечных результатов деятельности [эмоциональная «сверхоценка» этапных результатов инструментальной деятельности] (Судаков и др., 1990).
Фиксация. Стереотипность (ритуализация, клиширование) сексуального поведения, характерная для парафилий, выражается в предсказуемости без обратной связи, что проявляется в стремлении осуществить строго определенную активность. При этом следование стереотипу в полном объеме и достижение эмоционального состояния в разной степени зависит от реакции партнера: от абсолютной спонтанности до жесткой обусловленности, например реакцией испуга.
Другое выражение клишированности поведения — его связь с определенной территорией. У некоторых серийных сексуальных преступников отмечается также феномен неоднократного возвращения на место преступления. Обстановка при этом играет роль триггера воспоминаний, восстанавливающих чувство реальности происшедшего. В этом аспекте имеют значение два понятия этологии: индивидуальная территория, т. е. пространство, где человек имеет тенденцию доминировать, находиться в состоянии комфорта и возвращаться, и индивидуальное расстояние — дистанция, запускающая определенные виды поведения.
Механизмом такой фиксации может являться импринтинг. Основные черты имп-ринтинга определяются как предрасположение индивида к определенному мотивацион-ному научению и существование унаследованной реакции на заучиваемую стимуляцию. Половое импринтирование, ограниченное определенным чувствительным периодом предположительно раннего онтогенеза и проявляющееся по достижении половой зрелости, обусловливается единством раннего личного опыта с соответствующим предрасположением, причем процесс обучения лишь ограничивает предшествующее предпочтение (Хорн, 1988), выбирая среди конкурентных раздражителей наиболее приемлемый. По-видимому, асинхронии развития, лежащие в основе парафилий и расстройств половой идентичности, приводят, в частности, к искажению и временному сдвигу периодов чувствительности (критических периодов) к импринтингу.
Приведенные аспекты клишированности имеют общий признак — они характеризуют усиление, подчеркивание компонентов поведения, не связанных с личностью пациента, а имеющих видовой характер, поэтому для их обобщенной характеристики правомерно обращение к этологическим понятиям. Клишированность поведения у лиц с па-рафилиями позволяет говорить о приближении его по структуре к комплексам фиксированных (стереотипных) движений (КФД).
Ю. С. Шевченко (1996) отмечает, что, будучи жизненно необходимой формой видо-специфического поведения, КФД закрепляется в филогенезе интенсивным эмоционально положительным фоном, возникающим при его осуществлении. Последнее служит основой для включения КФД в социально-видовое, а также в индивидуально-специфическое адаптивное поведение (уменьшение боли, страха, ослабление эмоционального стресса за счет получения удовольствия или достижения гипноидного состояния, в том числе в результате стимуляции половых органов). Специальным термином — «вынуж-
712
Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
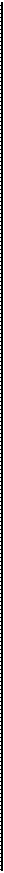 дающие формы поведения» — обозначаются поведенческие методы воздействия на состояния сознания, функции которых — «настраивать» ЦНС и снимать накопившиеся раздражения. Они создают чувство облегчения и благополучия, вызывают состояния экстаза, «пьянящий восторг риска», чувство единства, целостности. Подобные же состояния отмечаются лицами с аномальным сексуальным поведением после совершения деликта. Во многих случаях речь идет о нормализации аффективного фона, что дало возможность говорить об особой функции такого поведения — эмоциональной саморегуляции (Ткаченко, 1994). Частое появление релаксирующего, а не эротизирующего эффекта после аномального поведения указывает на вовлечение в процесс эмоциональной саморегуляции более ранних онтогенетических образований самосознания и, следовательно, на большую тяжесть расстройств.
дающие формы поведения» — обозначаются поведенческие методы воздействия на состояния сознания, функции которых — «настраивать» ЦНС и снимать накопившиеся раздражения. Они создают чувство облегчения и благополучия, вызывают состояния экстаза, «пьянящий восторг риска», чувство единства, целостности. Подобные же состояния отмечаются лицами с аномальным сексуальным поведением после совершения деликта. Во многих случаях речь идет о нормализации аффективного фона, что дало возможность говорить об особой функции такого поведения — эмоциональной саморегуляции (Ткаченко, 1994). Частое появление релаксирующего, а не эротизирующего эффекта после аномального поведения указывает на вовлечение в процесс эмоциональной саморегуляции более ранних онтогенетических образований самосознания и, следовательно, на большую тяжесть расстройств.
Аддиктивный этап динамики парафилий с уходом от реальности, изоляцией от общества с постепенным упрощением отношения к самому себе характеризуется выработкой определенного аддиктивного ритма, фиксацией на заранее предсказуемой эмоции, достигающейся стереотипным образом, и, что самое главное — с обретением иллюзии контроля своих аддиктивных реализаций, когда поведение функционирует как самообеспечивающаяся система. Ригидность и низкий полиморфизм поведения в этих случаях, очевидно, обусловлены механизмом, аналогичным КФД (Hinde, 1975).
Таким образом, для парафилий характерны фиксированные формы аномального сексуального поведения. К их отличительным чертам относятся следующие особенности (За-левский, 1985): 1) они детерминируются главным образом внутренним состоянием; 2) фиксироваться могут не только врожденные, но и приобретенные в индивидуальном опыте формы поведения; 3) в норме являющиеся компонентами обычного поведения, они становятся патологическими либо под действием чрезвычайно сильных раздражителей, либо в случаях генетически детерминированного чрезвычайно низкого их порога.
Приближение аномального сексуального поведения по структуре к комплексу фиксированных действий, смещенной активности означает снижение его осознанности. По мере перехода от онтогенетически значимого к филогенетически активируемому происходит утеря дифференциации переживаний с их сменой на внеличностные, архаичные и потому безотчетные и непроизвольные аффекты. Последние при этом могут совершенно не соответствовать осознаваемым побуждениям и потому восприниматься как абсолютно чуждые, насильственные образования.
Расщепление (диссоциация). К. Ясперс (1959) писал, что во всех случаях аномальны такие явления, как недоступность содержания психики сознанию, невозможность ее интеграции в личностный контекст. И считал понятие расщепления одним из фундаментальных в психопатологии. П. Жанэ указывал, что недостаток напряжения приводит к диссоциации иерархии действий, к вычленению и изоляции определенного звена, образующего миниатюрную психологическую систему, изолированную от связанной в целое психической жизни личности и функционирующую на более низком уровне напряжения. В центре такой системы находится фиксированная идея, т. е. комплекс представлений, эмоциональных состояний, остаточных воспоминаний и реакций личности. Диссоциация — это механизм дезинтеграции, проявляющийся снижением уровня сознания (сужением сознания), т. е. переходом саморегуляции с уровня семантического сознания на уровень сенсорного сознания, а также нарушением интеграционных функций структуры «Я» (Якубик, 1982). Небольшая выраженность дезинтеграции приводит к колебанию уровня сознания и ослаблению тождества (своеобразия «Я»), когда, например, ведущую роль начинают играть внутренние информационные структуры, отражающие мир фантазии и мечты. В этом смысле не случайна аналогия парафильного пове-
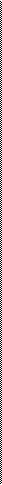 Судебно-психиатрическая экспертиза при сексуальных аддикциях (парафилиях) 713
Судебно-психиатрическая экспертиза при сексуальных аддикциях (парафилиях) 713
дения с поведением игровым, поскольку и для того, и для другого характерна сходная субъективная феноменология.
Процессуальность — фиксация на процессе, а не на результате деятельности, приобретающей незавершенный характер с нарастающей редукцией отдаленных целей поведенческого акта и пролонгацией его ближайших звеньев, подвергающихся схематизации и символизации. Процессуальность слагается из двух основных компонентов:
1. Незавершенность проявляется в нерезультативности деятельности, причем подразумеваемой и «входящей в замысел». Особенно это очевидно в тех случаях, когда сам по себе навык гетеросексуального (или иного) поведения сформирован, однако в ходе исполнения девиантного ритуала наблюдается отказ от логического, казалось бы, его завершения с ограничением предпринятых действий неким набором эротических или даже платонических элементов. Внешне явно сексуальное действие часто не завершается именно в сексуальном смысле (отсутствие эякуляции и оргазма). Именно это качество процессуальности определяет симптом «охоты», заключающийся в самостоятельной значимости поиска необходимого объекта. Причем само по себе это иногда длительное, блуждание, сочетающееся с соответствующим эмоциональным состоянием, оказывается самодостаточным, и по своей субъективной эффективности сравнимым с самим перверсным актом.
2. Пролонгация — намеренное продление осуществляемых действий, что достигается зачастую их усложнением и затруднением с помощью использования достаточно длительного и схематичного ритуала. Целью подобной модификации активности может быть продление восприятия и связанного с ним аффекта в силу самоценности данного воспринимательного процесса. В этом контексте становится до конца понятным высказывание К. Имелинского, который говорил, что суть садизма— переживание времени.
Процессуальность парафильного поведения достигается путем самоотстранения, т. е. отделением себя от самого действия. В отличие от слитности со своими действиями в неигровом поведении, игра дает возможность владеть своим действием, быть субъектом по отношению к нему, а следовательно — стать активным, свободным по отношению к действиям. Одно из следствий подобного различия •—специфика в степени осознанности. Если действия, направленные на результат, выступающие в качестве пути к определенной цели, имеют тенденцию к сокращению, редуцированию и, следовательно, к утере их сознательности, автоматизации, то в отношении игровых действий наблюдается обратная картина. Они, напротив, в силу самоустремленности тормозятся, что делает ощутимым их построение, и всегда сознательны и двусмысленны, проблемны. Таким образом задаются условия для дезавтоматизации отдельных элементов поведения при стереотипизации, т. е. автоматизации его целостной структуры.
Процессуальность рассматривается как доказательство того, что предметом таких действий является само действие, тогда как собственно результат остается внешним по отношению к нему. Поэтому действие оказывается направленным на самое себя и становится самодействием. В основе субъектных искажений лежит процедура отстранения как своих действий, так и своего «Я», когда человек до известной степени теряет себя, будучи не способен делать различия между собой и другими, и подчиняется механизмам «компенсирующего отождествления», т. е. идентификации (Хейзинга, 1992).
Условно можно выделить две оси диссоциации: 1) «горизонтальную», когда происходит отщепление сфер психической жизни (эмоциональной, двигательной) и 2) «вертикальную», когда не осознаются различные этапы поведенческого акта. При первом варианте чаще всего речь идет о неосознавании эмоций, отчуждении поведения, в одних случаях проявляющегося в позиции «наблюдателя» — «как бы со стороны смотрел на
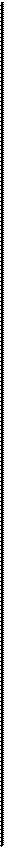 714 Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
714 Судебно-экспертные аспекты аддиктологии
себя», в других — в сомнениях, действительно ли он (испытуемый) это сделал. «Вертикальная» диссоциация отражает различные варианты осознавания этапов поведенческого акта. При нарушениях осознавания отчуждаться (отстраняться) может, прежде всего, та сторона психической деятельности, которая редко или никогда раньше не становилась содержанием сознания. В норме лучше осознаются цель и результат действия, сам же процесс (исполнение программы и контроль за ее протеканием), как правило, осуществляется на бессознательном уровне (Хомская, 1987). Осознание программы при отсутствии в сознании мотива порождает ощущение безличностности (аспонтанности, непроизвольности) или отчужденности (насильственное™, чувства овладения) переживаний в фантазиях, поведения в реализации. Осознание контроля за протеканием программы приводит к позиции наблюдателя, что у лиц с парафилиями наблюдается уже при фантазировании.
Механизм развития диссоциативных расстройств заключается в «потере сознательного контроля над психическими функциями...» (DSM-IV), когда в момент реализации девиантной сексуальной активности отчуждаются эмоции, телесные ощущения, собственное поведение, идеаторная активность. Указание на нарушение осознавания себя и окружающей действительности заложено уже в самом определении таких, например, диссоциативных расстройств, как состояния овладения и трансы (F44.3), подразумевающих «как потерю чувства личностной идентичности, так и полного осознавания окружающего».
Таким образом, аномальные механизмы отражают характер взаимодействия между различными сферами психики, в частности между составляющими самосознания, влияя на различные уровни регуляции. Экспертное заключение должно учитывать и специфику данных деликтов, поскольку в этих случаях решение вопроса о вменяемости может быть детализировано даже «по отдельным эпизодам преступления»: «... лицо, в состоянии вменяемости начавшее убийство, может впоследствии впасть в состояние временного расстройства душевной деятельности... и утратить возможность руководить своими действиями» (Дубинина, 1973). Возможность изменения психического состояния по мере развертывания поведенческого акта О. Д. Ситковская (1998) рассматривает как раз на примере серийных сексуальных убийств, выделяя два этапа развития поведения, основанного на патологическом сексуальном влечении. На первом этапе растет психологическое напряжение, субъект осознает это и борется, не желая попасть в «ситуацию воронки». Здесь он еще может сдержать себя при помощи волевых усилий, опираясь на известные ему способы компенсации. Неслучайно в своих показаниях многие из таких лиц упоминают об осознании ими возрастания состояния напряженности и о том, что в некоторых случаях им удавалось остановить развитие опасного влечения. Но если такие усилия безуспешны, наступает второй этап, когда субъект уже не может руководить своими действиями, удерживать себя от реализации влечения. При этом осознание значения своих действий может сохраняться.
В целом при обосновании экспертного заключения следует исходить из того, что процесс реализации принятого решения, выбор способа достижения цели регулируется интегративной коррекцией поведения со стороны самосознания и осознания окружающей действительности. На основе соответствия этих оценок осуществляется личностный контроль каждого этапа поведения. Таким образом, целесообразным представляется подход с вычленением в каждом конкретном случае разных вариантов сочетания признаков юридического критерия, что облегчает как саму процедуру экспертной диагностики, так и формулирование и обоснование экспертного заключения.
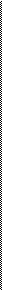 ГЛАВА 29
ГЛАВА 29








