Мотивационно-поведенческий компонент
(установки и поведение, связанные с болезнью)
iz
АФФЕКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
(эмоциональные процессы,
связанные с болезненными
проявлениями)
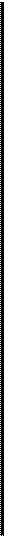 Рис. 24. Структура осознания болезни
Рис. 24. Структура осознания болезни
В частности, при наркологических заболеваниях когнитивный компонент включает в себя комплекс представлений о болезни, касающихся ее различных аспектов (знания о психоактивных средствах, симптомах наркотической зависимости, негативных последствиях употребления наркотиков, способах и методах лечебного воздействия, их эффективности, прогнозе наркомании и т. д.). Он формируется с помощью объективных (популярные и научные сведения о заболевании) и субъективных (представления, связанные с болезненными проявлениями) знаний. Аффективный компонент осознания болезни представляет собой совокупность эмоциональных процессов, возникающих под действием болезненных проявлений (например, абстинентного синдрома). К мотивационно-пове-денческому компоненту относят внешние поведенческие реакции и их мотивационные составляющие. К наиболее важным из них относят установки на лечение и установки на полный отказ от употребления наркотиков (Валентик, 1992).
По мнению большинства авторов, правильность внутренней картины болезни, адекватность осознания своего заболевания и достаточный уровень критичности определяются, прежде всего, интеллектуальным уровнем индивида, его способностями к логическим рассуждениям, степенью информированности в медицинских вопросах. Однако нельзя не заметить, что во многих случаях высокий интеллектуальный уровень и огромная клиническая эрудиция не спасали даже крупных медиков от искаженного понимания собственной болезни. Н. А. Белоголовый, последний ассистенте. П. Боткина, вспоминал о своем учителе: «Блестящий диагност сделал неверное заключение о собственной болезни. Тяжелые приступы стенокардии трактовал как результат рефлекторных влияний желчного пузыря, не допуская наличия сколько-нибудь глубоких изменений в сердце. Умер от коронарокардиосклероза. В мышце сердца были найдены следы двух инфарктов миокарда». Подобные случаи, по всей видимости, обусловлены существованием малоосознаваемых установок, что делает проблему осознания болезни еще более сложной.
Осознание болезни при наркологических заболеваниях. Нарушения осознания болезни относятся к числу ключевых проявлений заболеваний, обусловленных приемом психоактивных средств. В начале 1960-х гг. для их обозначения при алкоголизме профессором И. И. Лукомским( 1977) был предложен термин «алкогольная анозогнозия», получивший широкое распространение в наркологической практике. В настоящее время его использование считается недостаточно обоснованным. Термин «анозогнозия» был заимствован из неврологии, где использовался для характеристики игнорирования симптомов поражения головного мозга. Например, игнорирование центральной слепоты
612
Нейропсихологические и патопсихологические аспекты аддиктологии
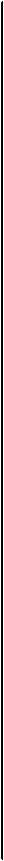 при двустороннем поражении затылочных долей (А. Антон) или игнорирование двигательных дефектов при центральном гемипарезе, когда больной знал о своем дефекте, соглашался с его существованием, но не придавал этому факту должного значения (А. Ба-бинский). При наркологических заболевания речь идет о нарушении признания болезни, варьирующем в чрезвычайно широких пределах. Кроме того, термин «анозогнозия» подчеркивает органический генез нарушений, что далеко не всегда верно для наркологических заболеваний. Проблема осознания болезни и его нарушений наиболее тщательно и подробно изучалась при алкогольной зависимости. Природу алкогольной анозог-нозии объясняют «активацией механизмов психологической защиты», «нарушением личностного компонента мышления», «изменением иерархии потребностей и мотивов личности», «недостаточной осведомленностью больных об алкоголизме как о болезни», «нарушением оценочной функции эмоций и аффективной невовлеченностью алкоголиков в ситуацию болезни», «выраженным расщеплением между сенситивным и интеллектуальным компонентами ВКБ», «нарушением сложного соотношения психофизиологических условно-рефлекторных систем», преморбидным органическим и травматическим поражением головного мозга, наличием психоорганических расстройств, сопровождающихся нарушениями мышления различной степени выраженности. В настоящее время большинство исследователей считают алкогольную анозогнозию сложным и многообразным явлением, внутренняя структура и происхождение которого зависят от многих факторов. К важнейшим из них относят стадию и длительность заболевания, выраженность и клинические особенности патологического влечения к алкоголю, личностно-социальные характеристики больных. Существует множество классификаций вариантов алкогольных нарушений осознания болезни. В качестве одной из наиболее детальных можно привести классификацию нарушений осознания болезни при алкоголизме Е. Цилли с соавт. (1993): 1) анозогнозия (упорное, бездоказательное отрицание болезни вследствие действия механизмов психологической защиты, основными из которых являются вытеснение и отрицание); 2) неустойчивая нозогнозия (осознание болезни на фоне депрессии, абстинентного синдрома или в состоянии опьянения); 3) амбивалентная нозогнозия (критичность к своему состоянию и осознание болезни демонстрируются только в присутствии врача); 4) гипернозогнозия (преувеличение тяжести симптомов заболевания); 5) паранозогнозия (аутодиагностика алкоголизма у пациентов с бытовым пьянством); 6) частичная нозогнозия (понимание болезненности одних и отрицание болезненности других симптомов); 7) формальная нозогнозия (вынужденное признание болезни при отсутствии внутренней убежденности в наличии заболевания). В ряде случаев выделяют активное (защита алкогольного поведения с отказом от лечения у истеро-идных и возбудимых психопатов, а также у лиц с проявлениями алкогольной деградации) и пассивное (формальное признание алкогольной проблемы без ее эмоциональной переработки) отрицание болезни (Рыбакова, 1992). Э. Е. Бехтель (1974) предлагает оценивать клинико-динамические характеристики анозогнозии при алкоголизме как стабильность (постоянство) и тотальность (степень выраженности), как правило, коррелирующие с его стадиями и состоянием больных.
при двустороннем поражении затылочных долей (А. Антон) или игнорирование двигательных дефектов при центральном гемипарезе, когда больной знал о своем дефекте, соглашался с его существованием, но не придавал этому факту должного значения (А. Ба-бинский). При наркологических заболевания речь идет о нарушении признания болезни, варьирующем в чрезвычайно широких пределах. Кроме того, термин «анозогнозия» подчеркивает органический генез нарушений, что далеко не всегда верно для наркологических заболеваний. Проблема осознания болезни и его нарушений наиболее тщательно и подробно изучалась при алкогольной зависимости. Природу алкогольной анозог-нозии объясняют «активацией механизмов психологической защиты», «нарушением личностного компонента мышления», «изменением иерархии потребностей и мотивов личности», «недостаточной осведомленностью больных об алкоголизме как о болезни», «нарушением оценочной функции эмоций и аффективной невовлеченностью алкоголиков в ситуацию болезни», «выраженным расщеплением между сенситивным и интеллектуальным компонентами ВКБ», «нарушением сложного соотношения психофизиологических условно-рефлекторных систем», преморбидным органическим и травматическим поражением головного мозга, наличием психоорганических расстройств, сопровождающихся нарушениями мышления различной степени выраженности. В настоящее время большинство исследователей считают алкогольную анозогнозию сложным и многообразным явлением, внутренняя структура и происхождение которого зависят от многих факторов. К важнейшим из них относят стадию и длительность заболевания, выраженность и клинические особенности патологического влечения к алкоголю, личностно-социальные характеристики больных. Существует множество классификаций вариантов алкогольных нарушений осознания болезни. В качестве одной из наиболее детальных можно привести классификацию нарушений осознания болезни при алкоголизме Е. Цилли с соавт. (1993): 1) анозогнозия (упорное, бездоказательное отрицание болезни вследствие действия механизмов психологической защиты, основными из которых являются вытеснение и отрицание); 2) неустойчивая нозогнозия (осознание болезни на фоне депрессии, абстинентного синдрома или в состоянии опьянения); 3) амбивалентная нозогнозия (критичность к своему состоянию и осознание болезни демонстрируются только в присутствии врача); 4) гипернозогнозия (преувеличение тяжести симптомов заболевания); 5) паранозогнозия (аутодиагностика алкоголизма у пациентов с бытовым пьянством); 6) частичная нозогнозия (понимание болезненности одних и отрицание болезненности других симптомов); 7) формальная нозогнозия (вынужденное признание болезни при отсутствии внутренней убежденности в наличии заболевания). В ряде случаев выделяют активное (защита алкогольного поведения с отказом от лечения у истеро-идных и возбудимых психопатов, а также у лиц с проявлениями алкогольной деградации) и пассивное (формальное признание алкогольной проблемы без ее эмоциональной переработки) отрицание болезни (Рыбакова, 1992). Э. Е. Бехтель (1974) предлагает оценивать клинико-динамические характеристики анозогнозии при алкоголизме как стабильность (постоянство) и тотальность (степень выраженности), как правило, коррелирующие с его стадиями и состоянием больных.
Значительный вклад в изучение механизмов нарушений осознания болезни при алкоголизме внес В. В. Политов (1975). Он считал, что первой стадии соответствует анозогнозия, обусловленная недостаточностью знаний и представлений больного об алкоголизме, второй — вызванная действием защитных психологических механизмов, третьей — образовавшаяся вследствие формирования психоорганического синдрома. В дальнейшем, более подробно изучив клинические проявления, автор стал выделять лишь две разновидности алкогольной анозогнозии: реактивную (с участием механизмов психоло-
Осознание болезни при наркологических заболеваниях
613
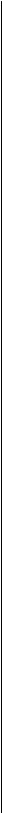 гической защиты) и энцефалопатическую (имеющую в своей основе органический радикал), каждая из них включала три клинических варианта. Помимо этого В. В. Политов (1977) различал нарушения осознания болезни по степени выраженности: I) парциальная анозогнозия (признание отдельных симптомов болезни и негативных последствий при наличии рационализации фактов злоупотребления алкоголем и переоценке своих возможностей бросить употребление алкоголя «в любой момент»); 2) тотальная анозогнозия; 3) отсутствие анозогнозии (осознание болезни).
гической защиты) и энцефалопатическую (имеющую в своей основе органический радикал), каждая из них включала три клинических варианта. Помимо этого В. В. Политов (1977) различал нарушения осознания болезни по степени выраженности: I) парциальная анозогнозия (признание отдельных симптомов болезни и негативных последствий при наличии рационализации фактов злоупотребления алкоголем и переоценке своих возможностей бросить употребление алкоголя «в любой момент»); 2) тотальная анозогнозия; 3) отсутствие анозогнозии (осознание болезни).
Проблема осознания болезни при опийных наркоманиях разработана недостаточно. Литературные данные, касающиеся данного вопроса, достаточно противоречивы. Существует мнение об отсутствии «истинной анозогнозии» у наркоманов, т. к. они оценивают себя достаточно адекватно даже по таким параметрам, как тяжесть зависимости и степень личностных изменений. Другие исследователи утверждают, что снижение или отсутствие критики к заболеванию и собственной личности — это наиболее характерная черта наркоманов. Нет единства и в оценке механизмов возникновения этого феномена при наркотической зависимости. Одни авторы объясняют нарушения осознания болезни значительной деформацией личности, другие — аффективными нарушениями, третьи— органическим поражением центральной нервной системы.
И. П. Лысенко (1988), изучив в сравнительном аспекте личностно-психологические особенности больных алкоголизмом и опийной наркоманией, сделал вывод о большей выраженности нарушений критичности у первых. В отличие от больных алкоголизмом, в большинстве случаев демонстрирующих полную утрату критики к злоупотреблению алкоголем, опийные наркоманы не выявляют «истинной анозогнозии», оценивают себя и свое заболевание достаточно адекватно. Однако у них более стремительное формирование наркотической зависимости приводит к значительным нарушениям в психологической сфере (в частности, смыслообразующей и побудительной функции социально значимых мотивов). Кроме того, у больных опийными наркоманиями И. П. Лысенко с соавт. (1988) выявили выраженную диссоциацию рациональной и эмоциональной оценки последствий злоупотребления наркотиками. В качестве подтверждения последнего вывода можно привести результаты более поздних исследований П. Ю. Дупленко (1995). Он обнаружил у страдающих наркотической зависимостью позитивное отношение к наркотикам в 29%, нейтральное — в 29%, негативное — 41 % случаев. Около 48% обследованных отмечали положительные последствия приема наркотиков, а 36% не исключали возможности их дальнейшего употребления.
Результаты исследований Т. А. Киткиной (1993) свидетельствуют о том, что снижение или отсутствие критики к заболеванию и собственной личности — неотъемлемая черта наркоманов. А. Н. Ланда (1989) обосновывает такую точку зрения нарушениями личностной и познавательной сфер, выявленными им при проведении экспериментально-психологического исследования больных наркоманиями (лабильность самооценки и самоописания, их зависимость от психофизического состояния больных, неадекватно высокий уровень притязаний [постановка маловероятных, недостижимых целей], неоднозначное отношение к наркомании, переоценка своих возможностей). А. Н. Ланда (1989) считает это следствием систематического употребления наркотиков, что создает повышенный положительный фон для восприятия окружающего и собственной личности и формирует стойкую позитивную установку по отношению к себе и своим возможностям.
А. В. Надеждин (1995) считает, что в основе нарушений осознания болезни — амбивалентное отношение к наркотикам и их двоякая оценка больным: и как причины заболевания, и как единственного средства избавления от абстиненции. Противоречивость двух
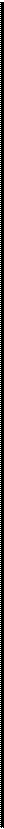 614 Нейропсихологические и патопсихологические аспекты аддиктологии
614 Нейропсихологические и патопсихологические аспекты аддиктологии
равноценно значимых мотивов — «отказ от наркотиков» или «дальнейшее продолжение употребления наркотиков» — служит базой подсознательного конфликта, поддерживающего порочный круг психической зависимости.
Б. А. Асташкевич (1989) определил максимальное осознание болезни при наркоманиях и токсикоманиях лишь на стадии психической зависимости. Усиление анозогности-ческих тенденций по мере прогрессирования заболевания он объясняет эмоциональным огрубением, нарастанием личностных изменений, ослаблением критического отношения к себе и своим возможностям: «Наркоманы становятся все более и более ненадежными, утрачивают не только нравственные, но и даже эстетические и гигиенические навыки, проявляют безграничное безволие, полное отсутствие терпения и настойчивости, крайнюю неустойчивость мыслей, чувств и воли». Б. А. Асташкевич утверждает, что даже длительная психотерапевтическая работа с «выхолощенным сознанием» наркомана дает сомнительные результаты.
М В. Демина (2005) считает, что нарушение осознания наркологической болезни нельзя рассматривать как проявление психологической защиты, поскольку этот феномен тесно вплетается в доминантную сверхценную структуру синдрома патологического влечения и в своей эволюции полностью коррелирует с ее динамикой. В конструкции нарушенного сознания наркологической болезни основную роль играет аффективно-эмоциональный компонент, осуществляющий непосредственно-чувственное отражение субъектом протопатических болезненных ощущений, в первую очередь выражаемых переживаниями тревоги. Его функционирование подчиняется психопатологическим и патофизиологическим закономерностям. Синдромологическое содержание нарушения сознания болезни у наркологических больных автор относит к проявлениям деперсонализации. Она здесь селективно захватывает лишь сферу переживания болезни, оставляя в значительной мере интактными другие компоненты самосознания, такие как возможность ориентировки в месте, времени и окружающей обстановке. Спектр деперсонали-зационных расстройств, определяющих нарушение переживания болезни, очень широк, может охватывать от небольшой части ее симптомов и доходить до полного отчуждения заболевания в целом. По мнению автора, когнитивный компонент, интеллектуальная составляющая внутренней картины болезни, относится к опосредованным и преимущественно психологическим феноменам.
Результаты проведенного комплексного клинико-психопатологического и экспериментально-психологического исследования осознания болезни позволили квалифицировать три варианта осознания болезни при опийных наркоманиях: отрицание болезни, частичное признание и полное признание болезни (Барбина, 2002). При отрицании болезни пациенты отказываются признать болезненный характер употребления наркотиков, интерпретируют его как «привычку», «увлечение», «интерес», отмечают у себя только единичные, непосредственно переживаемые, болезненные проявления (как правило, симптомы абстинентного синдрома), высказывают убежденность в положительном действии наркотиков на физическое здоровье, психические и творческие возможности, рационализируют негативные последствия применения наркотиков, связывая это с внешними причинами.
При частичном признании болезни отмечаются более объективные и обширные знания и субъективные представления о наркомании. Пациенты интерпретируют употребление наркотиков как аномальное и болезненное явление («плохая привычка», «болезнь», «роковая ошибка»). Они признают у себя большее количество, чем в предыдущей группе, проявлений наркотической зависимости (не только абстинентного синдрома, но и патологического влечения, личностных расстройств). Эмоциональное отношение
Осознание болезни при наркологических заболеваниях
615
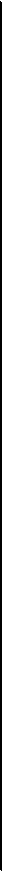 к болезни здесь проявляется и в отрицательных переживаниях, связанных с развитием заболевания (беспокойство за свое здоровье, озабоченность перспективами, взаимоотношениями с родственниками и близкими людьми). Частичное признание болезни неоднородно по своей клинико-психологической структуре. Обозначены три его разновидности: 1) с преобладанием когнитивной недостаточности; 2) с преобладанием аффективной недостаточности; 3) со смешанной недостаточностью. Первая разновидность выражается в неадекватных знаниях и субъективных представлениях о заболевании, адекватных переживаниях ее проявлений, вторая —■ в адекватных и сформированных знаниях и представлениях, но неадекватных переживаниях, третья — в неадекватных и слабо сформированных знаниях и представлениях, неадекватных переживаниях.
к болезни здесь проявляется и в отрицательных переживаниях, связанных с развитием заболевания (беспокойство за свое здоровье, озабоченность перспективами, взаимоотношениями с родственниками и близкими людьми). Частичное признание болезни неоднородно по своей клинико-психологической структуре. Обозначены три его разновидности: 1) с преобладанием когнитивной недостаточности; 2) с преобладанием аффективной недостаточности; 3) со смешанной недостаточностью. Первая разновидность выражается в неадекватных знаниях и субъективных представлениях о заболевании, адекватных переживаниях ее проявлений, вторая —■ в адекватных и сформированных знаниях и представлениях, но неадекватных переживаниях, третья — в неадекватных и слабо сформированных знаниях и представлениях, неадекватных переживаниях.
Полное признание болезни характеризуется наличием обширных и хорошо сформированных знаний и субъективных представлений о наркомании, адекватно отражающих картину заболевания (степень наркотической зависимости, выраженность основных симптомов и личностных изменений) и его развитие. Отношение к болезни характеризуется переживанием удрученности, ущербности, униженности, чувством вины и стыда за сложившуюся ситуацию и рецидив заболевания.
С целью изучения влияния основных клинических синдромов на динамику осознания болезни были исследованы особенности такого осознания на различных этапах течения заболевания: на выходе из состояния опийной интоксикации, на высоте абстинентного синдрома, на этапе ранней ремиссии при актуализированном и дезактуализиро-ванном патологическом влечении к наркотикам (Барбина, 2002). Установлено, что крайние варианты (полное признание и отрицание болезни), будучи сравнительно устойчивыми, изменяются незначительно при переходе из одного клинического состояния в другое. Частичное признание болезни носит неустойчивый характер — от полного признания в состоянии абстинентного синдрома до отрицания болезни при актуализации патологического влечения к опиатам. Для выхода из состояния опийной интоксикации характерно частичное признание и отрицание болезни. На высоте абстинентного синдрома происходит повышение уровня осознания болезни. Преобладают частичное и полное признание болезни. При актуализации патологического влечения к опиатам уровень осознания болезни снижается за счет увеличения удельного веса пациентов с отрицанием и частичным признанием болезни. Осознание болезни при опийных наркоманиях взаимосвязано с характером аффективных нарушений (тоскливая, тревожная, дисфори-ческая и апатическая депрессии). Тоскливая депрессия чаще сочетается с полным признанием болезни. Ее наличие не сопровождается отрицательными изменениями осознания болезни. Напротив, при частичном ее признании отмечаются отчетливые положительные изменения когнитивного и аффективного компонентов, достигающие полного признания проблемы. Тревожная депрессия более характерна для пациентов с частичным признанием болезни. На фоне умеренной тревожной депрессии отмечается повышение уровня осознания болезни за счет положительных изменений когнитивного компонента. При выраженной тревожной депрессии происходит его снижение, связанное с усугублением когнитивной или аффективной недостаточности. Дисфорическая депрессия преобладает у больных с отрицанием болезни. Заметных колебаний уровня осознания болезни здесь не отмечается.
Таким образом, феномен осознания болезни — значимое слагаемое клинико-психологической картины наркологических заболеваний. Его необходимо учитывать как важный диагностико-прогностический показатель и использовать при составлении терапевтических программ.
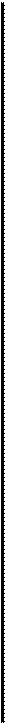 ГЛАВА 25 ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ АДДИКТОЛОГИИ
ГЛАВА 25 ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ АДДИКТОЛОГИИ
В последние два десятилетия все специалисты, связанные с проблемами молодежи и подростков, отмечают рост химической зависимости в этой возрастной группе. Особое беспокойство в последнее десятилетие XX в. вызвал бурный рост наркомании, преимущественно героиновой. Кроме того, существенно расширился ассортимент потребляемых ПАВ: появились новые для нашей страны синтетические наркотики — галлюциногены, психостимуляторы.
Параллельно с этим на рубеже веков Россия столкнулась с еще одной новой проблемой — проблемой пивного подросткового алкоголизма. Резко увеличилось число лиц, сочетанно потребляющих два и более ПАВ. Помимо химической зависимости в последние годы получили распространение такие виды нехимической зависимости, как гемб-линг и интернет-аддикции. Поскольку эти явления распространяются преимущественно на подростково-молодежные слои населения, проблема зависимости от ПАВ стала общенациональной и привлекает внимание специалистов самых разных областей знания: от врачей и психологов до социологов и юристов.
25.1. Факторы риска аддиктивного поведения в подростковом возрасте
В наркологии принято выделять три группы факторов, в той или иной степени влияющих на возникновение химической зависимости в обществе. Этосоциальные, психологические и медико-биологические факторы. Следует отметить, что в значительной степени такое деление условно, поскольку эти аспекты часто тесно переплетены между собой и находятся в постоянном взаимодействии, это особенно заметно при изучении их влияния в подростковой популяции (Личко, Битенский, 1991; Пятницкая, Найденова, 2002; Dawes et al., 2000, Schuckit, 2000).
Социальные факторы, способствующие развитию зависимости, можно разделить на две группы — макросоциальные и микросоциальные. Первая группа — это общество, в котором живет человек, включая его историю, культуральные традиции, мораль и нравственные ценности, политические и экономические проблемы, отношение к детям, семье, уровень терпимости к употреблению ПАВ, моду и т. д. Вторая группа — это непосредственное окружение человека, прежде всего семья и люди, с которыми он общается, от которых зависит, друзья и коллеги по учебе и работе и т. д.
Рассмотрим макросоциальные факторы, оказавшие, на наш взгляд, существенное влияние на сегодняшнюю наркологическую ситуацию в стране. Вторая половина 1980-х гг. отмечена последствиями действия Закона о борьбе с пьянством и алкоголизмом от 17.05.85. Законодательно был поднят предельный возраст (до 21 года), с которого разрешалась продажа спиртных напитков. Это сопровождалось резким дефицитом спиртного в торговой сфере, а также ростом нелегального производства и потребления дистиллированного (самогон) и недистиллированного алкоголя (брага, различные домаш-
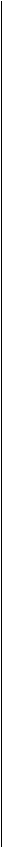 Факторы риска аддиктивного поведения в подростковом возрасте 617
Факторы риска аддиктивного поведения в подростковом возрасте 617
ние вина и наливки). Резко подскочило потребление суррогатов алкоголя (технические спирты, одеколоны, лосьоны и другие спиртсодержащие жидкости).
В результате действия Закона подростковая популяция в абсолютном большинстве оказалась как бы «отрезана» от употребления легальных спиртных напитков. Следует отметить, что в подростковой среде всегда существовали традиции потребления ПАВ, в том числе и алкоголя. Оценивая ситуацию начала 1980-х гг., можно сказать, что она в целом характеризовалась достаточно низким уровнем потребления наркотиков и токсикантов населением, за исключением асоциальных и антисоциальных семей. Потребление алкоголя отмечалась во всех социальных группах, причем в каждой имелись свои предпочтения. Так, подростки из средних и более состоятельных семей предпочитали вина, а учащиеся профтехучилищ чаще употребляли дистилляты и крепленые вина. Традиции массового употребления пива не было, в силу его дефицита.
Как показали дальнейшие события, аддиктивное поведение после принятия Закона не прекратилось, а приняло иные, более опасные по своим последствиям формы. Во второй половине 1980-х гг. происходит существенный рост потребления психоактивных токсических веществ, главным образом летучих ароматических соединений (ЛАС). Появляются первые сообщения о летальных исходах вследствие отравления от вдыхания паров клея «Момент». Проводятся исследования, показавшие устойчивую связь между токсикоманией вследствие злоупотребления ЛАС в подростковом возрасте и последующим быстрым развитием алкоголизма. Ранняя алкоголизация на том этапе характеризовалась достаточно широким использованием подростками суррогатов и нелегально произведенного алкоголя, отличавшихся высокой токсичностью, что также способствовало более злокачественному течению заболевания. Параллельно с этим в подростковой среде все чаше начинают потреблять наркотические ПАВ (главным образом препараты конопли и опийной группы). Иными словами, к началу 1990-х гг. алкогольные традиции начала 1980-х гг. в подростковой среде в силу объективных причин становятся утраченными.
С начала 1990-х гг. программа борьбы с пьянством и алкоголизмом оказывается фактически свернутой. Это происходит на фоне жесточайшего экономического кризиса, коренных политических перемен. Смена общественного строя и введение свободной торговли приводит к ликвидация государственной монополии, в том числе на производство и реализацию алкогольных напитков.
С этого же времени начинается стремительный рост потребления алкогольных напитков, в том числе и среди молодежи. Во второй половине 1990-х гг. наркологи сталкиваются с новым для практики явлением — пивным алкоголизмом, который получает наибольшее распространение именно в подростково-молодежной среде. Одновременно отмечается резкое увеличение злоупотребления психоактивными веществами: только за периоде 1991 по 1996 гг. отмечалось трехкратное увеличение официально зарегистрированных больных с диагнозом наркомания (Егоров и др., 1998).
В прошлом считалось, что важнейший макросоциальный фактор, способствующий распространению химической зависимости, — уровень жизни, контраст распределения доходов в обществе. Действительно, наиболее широко химическая зависимость распространена среди малообеспеченных слоев. Но оказалось, что и повышение благосостояния жизни общества также способствует алкоголизации и наркотизации: урбанизация привела к большей доступности алкоголя и наркотиков.
Как подчеркивают В. В. Чирко и М. В. Демина (2002), в 1990-е гг. социальный статус больного наркоманией сместился от преобладающего удельного веса антисоциальных и маргинальных элементов к доминированию формально благополучных людей. В число
618
Возрастные аспекты аддиктологии
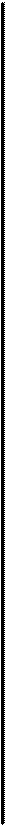 зависимых начали вовлекаться широкие социальные группы. Следствием этого стало и изменение отношения общества к проблеме наркомании. Она стала восприниматься уже не как нечто экстраординарное, трагическое и пугающее. Принадлежность к числу наркоманов становится в молодежной субкультуре свидетельством «посвященности», «избранности», «элитарности».
зависимых начали вовлекаться широкие социальные группы. Следствием этого стало и изменение отношения общества к проблеме наркомании. Она стала восприниматься уже не как нечто экстраординарное, трагическое и пугающее. Принадлежность к числу наркоманов становится в молодежной субкультуре свидетельством «посвященности», «избранности», «элитарности».
«Стиль жизни», мода на употребление алкоголя и наркотиков оказывают влияние как на уровень потребления, так и на предпочтение определенного ПАВ. С другой стороны, макросоциальные факторы могут быть и причиной ограничения употребления алкоголя и наркотиков.
Существенную роль играет распространение информации о ПАВ и химической зависимости, которую получают дети и подростки. Проведенные опросы выявили следующие источники такой информации: художественные и документальные фильмы, телепередачи, газетные и журнальные статьи, беседы со взрослыми (родителями, учителями, врачами), рассказы старших ребят и сверстников.
Массовая культура, как правило, способствует наркотизации. Например, движение хиппи оказало воздействие на массовое употребление марихуаны и галлюциногенов среди молодежи. Врачи, будучи составляющей социального фактора, могут оказывать как положительное (лечение больных с зависимостью, профилактика и ранняя диагностика зависимости), так и отрицательное влияние на наркотизацию (неправильная выписка лекарственных средств, способных вызвать зависимость).
В последнее время большинство исследователей склоняется к выводу, что именно микросоциальные факторы первостепенны в формировании химической зависимости в подростковом возрасте. Ближайшее окружение часто наиболее сильное влияет на алкоголизацию и наркотизацию (Malatestinic et al., 2005). Среди ближайшего окружения следует особенно выделять роль семьи (Kirkcaldy et al., 2004). Половина детей до 10 лет и 90% до 15 лет впервые алкоголизировалась под воздействием ближайших родственников, друзей, знакомых (Шабанов, 1999). Родители-алкоголики или наркоманы — это всегда повышенный фактор риска злоупотребления алкоголем и наркотиками у детей. Как показало исследование исландских ученых, при прочих равных условиях алкоголизация отца может стать решающим фактором раннего приобщения к ПАВ его детей (Adalbjarnardottir, Rafnson, 2002).
Неполная семья неоднократно упоминалась многими авторами и за рубежом, и в нашей стране в качестве обстоятельства, способствующего как делинквентности, так и злоупотреблению ПАВ. Однако немалая часть подростков, обнаруживших склонность и к тому, и к другому, выросла в полных, внешне вполне благополучных семьях. В то же время около 20-25% вполне социально адаптированных тинейджеров, не склонных ни к делинквентности, ни к злоупотреблению ПАВ, воспитываются в нашей стране в неполных семьях (цит. по: Личко, Битенский, 1991). Видимо, дело не просто в неполной семье, а в том, что в ней труднее осуществить правильное воспитание. Роль неправильного воспитания в семье считается значимым фактором, способствующим развитию химической зависимости в будущем (Максимова, 2000).
Не меньшее, а может быть, большее значение имеют семьи «деформированные» (т. е. с отчимом или мачехой) или распадающиеся, где родители находятся на грани развода. Постоянные конфликты неминуемо приводят к противоречивому воспитанию, когда каждый из старших «гнет свою линию» в отношении воспитания ребенка и подростка.
Самым главным фактором считаются асоциальные семьи с пьянством, криминальными склонностями родителей и жестоким отношением внутри семьи друг к другу (Битенский и др., 1989; Hotton, Haans, 2004). С такими семьями связаны безнадзорность
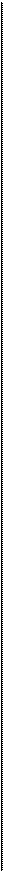 Факторы риска аддиктивного поведения в подростковом возрасте 619
Факторы риска аддиктивного поведения в подростковом возрасте 619
и жестокое отношение к детям. Данный тип воспитания получил название гипопротек-ции с эмоциональной холодностью вплоть до эмоционального отвержения (воспитание по типу «Золушки»). Обстановка дома побуждает подростка искать утешения среди себе подобных в уличных компаниях. Усвоенные от родителей представления о жизни и ее ценностях (асоциальное поведение, злоупотребление спиртным, принципы типа «У кого сила, тот и прав» и т. п.) подростки переносят в уличную группу, образуя свою асоциальную или криминогенную среду. Дурманящие вещества служат главным способом развлечений в подобных группах.
Гипопротекция может сочетаться с хорошим эмоциональным контактом (родители любят своего ребенка, хотя и не занимаются его воспитанием). Такая форма воспитания часто наблюдается в обеспеченных семьях, где родители целиком посвящают себя работе, карьере. В этом случае ребенок растет в ситуации вседозволенности, у него не вырабатывается привычка к организованности, планированию своего поведения. Преобладают импульсы, отсутствие представлений о том, что «хочу» должно быть на втором месте после «надо».
Не меньшее значение имеет гиперпротекция в воспитании, проявляющаяся в двух вариантах. Первый вариант—доминирующая гиперпротекция — выражается в том, что подростка с детства чрезмерно опекают и контролируют, следят за каждым шагом и все за него решают, подавляют малейшую самостоятельность. Второй — потворствующая гиперпротекция — заключается в том, что ребенка безмерно балуют, спешат удовлетворить малейшее желание, без удержу восхищаются как действительными способностями, так и мнимыми талантами, избавляют от всяческих трудностей, от необходимости самому чего-либо добиваться.
Воспитание по типу доминирующей гиперпротекции вызывает у ребенка гипертрофированную реакцию эмансипации. И повзрослевший подросток вообще выходит из-под контроля родителей, становится неуправляемым либо формирует приспособленческий, конформный тип личности, зависимый от влияния окружающей микросреды или от лидера, более активного, чем он сам. Асоциальные группы привлекают таких подростков тем, что там они чувствуют психологическую защищенность, отсутствие давления со стороны родителей. Кроме того, воспитание в условиях высокой моральной ответственности приводит к нервным срывам, формированию комплекса неполноценности при неудачах. У подростка возникает страх пред ситуацией напряженности, испытания, что в дальнейшем может стать толчком к употреблению ПАВ.
Потворствующая гиперпротекция (воспитание по типу «кумира семьи») приводит к формированию эгоцентризма, завышенной самооценки, непереносимости трудностей и препятствий на пути к удовлетворению желаний. При первых же столкновениях с реальностью такие подростки испытывают фрустрацию, что вызывает социальную дезадаптацию. Это может привести подростка к употреблению ПАВ.
И наконец, альтернирующее воспитание, когда к ребенку предъявляются противоречивые требования, в семье отсутствуют устои и традиции, а нормы поведения непостоянны, не менее опасно для формирования личности. Неконгруэнтность, т. е. несоответствие слов родителей интонации и мимике, часто встречается в случаях скрытого эмоционального отвержения ребенка, глубоко переживающего эту ситуацию. Он тонко чувствует фальшь отношений, понимает, что он «лишний», что его не любят. Еще более негатив-, ные последствия дает неустойчивое эмоциональное отношение со стороны родителей, особенно матери. Имеется в виду непоследовательность, немотивированность эмоциональных проявлений, когда похвала или упреки зависят от настроения взрослых, а не от объективного поведения ребенка. В результате ребенок усваивает, что все (ласка и не-
620
Возрастные аспекты аддиктологии
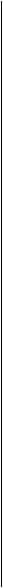 жность, раздражительность и строгость) зависит не от его поведения, а от внешних причин, обстоятельств, времени. Это приводит к формированию представления, что изменения своего психического состояния не зависят от собственных усилий. Став взрослым, такой человек, желая поднять настроение (если оно «не хочет» повышаться само собой), использует ПАВ.
жность, раздражительность и строгость) зависит не от его поведения, а от внешних причин, обстоятельств, времени. Это приводит к формированию представления, что изменения своего психического состояния не зависят от собственных усилий. Став взрослым, такой человек, желая поднять настроение (если оно «не хочет» повышаться само собой), использует ПАВ.
Помимо семьи большую роль играют друзья, соученики. Если их интересы никак не связаны с употреблением ПАВ, это достаточно мощный фактор противодействия аддик-тивному поведению. Наоборот, если компания, ближайшие друзья вовлечены в употребление ПАВ, то вероятность последующей алкоголизации и/или наркотизации индивида существенно возрастает. Приблизительно такое же влияние будут оказывать коллеги по работе, трудовой коллектив, куда попадает человек.
В одном из последних обзоров, посвященных микросоциальным факторам риска злоупотребления ПАВ подростками, В. Д. Москаленко (2004) выделяет как факторы риска, так и факторы защиты, препятствующие злоупотреблению. К факторам риска относятся: злоупотребление ПАВ родителями и другими родственниками, негативные отношения между родителями и детьми, плохой контроль родителей за поведением ребенка и его окружением, отсутствие руководства со стороны родителей жизнью ребенка, развод родителей и их неадаптированность к повторному браку, оторванные от реальности ожидания родителей в отношении ребенка, малая забота о детях и недостаточная сплоченность семьи, плохая успеваемость в школе, предпочтение мнения сверстников мнению родителей, проблемы с правоохранительными органами, низкий уровень притязаний подростков на будущее. К факторам защиты относятся: воспитание в семье с высокими морально-религиозными принципами, правильные социальные установки, отраженные в соответствующих правилах внутрисемейного поведения, сплоченность в семье и позитивные взаимоотношения в ней, интеллектуально-культурная ориентация жизни в семье, эмоциональная близость подростка с матерью и друг ими членами семьи, уважение семейных ценностей, привитые с детства навыки правильного общения с людьми, интерес к учебе и хорошая успеваемость.
Психологические факторы риска возникновения зависимости — это совокупность мотивов, побуждающих к употреблению алкоголя и наркотиков. Они определяют индивидуальный процесс приобщения к ПАВ. К ним относятся трудности приспособления к окружающей среде, конфликтность, неудовлетворенность, непонятость людьми, утомление, робость, осознание своей неполноценности, иными словами — фрустрация, состояние психического дискомфорта при неудовлетворении тех или иных потребностей. Именно наличие низкого фрустрационного порога представляется важнейшим психологическим фактором развития психической зависимости.
Часто молодые люди, употребляющие ПАВ, не могут объяснить причину своей зависимости. Они сводят все к непосредственным субъективным ощущениям, возникающим после приема ПАВ: изменению сознания, эйфории, релаксации. Были установлены три типа личностных мотиваций употребления ПАВ: 1) позитивная («для получения удовольствия»); 2) негативная («защита от тоски»); 3) нейтральная («для приспособления к окружающим», «по привычке»). Тем не менее в условиях отечественных реалий основным мотивом приема ПАВ у подростков является именно утрированная конформность со стремлением любой ценой быть «своим» в референтной микрогруппе, т. е. «нейтральная» мотивация приобретает первостепенное значение (цит. по: Чирко, Демина, 2002).
А. Е. Личко (1985) подчеркивал, что важную роль в развитии аддиктивного поведения играют преморбидные особенности личности, точнее — особые типы акцентуации характера.
Факторы риска аддикгивного поведения в подростковом возрасте
621
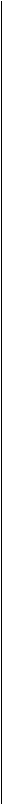 На примере ранней алкоголизации у подростков можно проследить, как та или иная акцентуация влияет на становление алкогольного варианта аддиктивного поведения. Подростки с акцентуациями неустойчивого, эпилептоидного, гипертимного и истеро-идного круга наиболее склонны к выпивкам. Алкоголизация у неустойчивых — это результат их тяготения к легким развлечениям, способность бездумно попадать под дурное влияние. Побудительный мотив — получить веселое настроение. Это перекликается с мнением К. Леонгарда (1989), что общей характерологической особенностью, предрасполагающей к алкоголизму, является сниженная способность к самоконтролю, тенденция действовать по минутному впечатлению. У неустойчивых акцентуантов чаше встречаются неглубокие степени опьянения. Сходный с неустойчивыми тип алкоголизации отмечается и у гипертимных подростков. У эпилептоидных подростков картина алкоголизации иная: короткая стадия эйфории, затем опьянение по дисфорическому типу — агрессия, аутоагрессия, может быть сексуальное насилие. Эпилептоиды напиваются до тяжелых степеней опьянения. Для них алкоголизация — это своеобразная «разрядка» накопившегося напряжения и раздражения. Истероиды и в алкоголизации остаются демонстративными: преувеличивают степень опьянения, с пафосом рассказывают сверстникам о большом количестве спиртного, которое они могут выпить. Иногда изображают алкогольных эстетов: рассказывают сверстникам, что они употребляют только элитные алкогольные напитки, причем определенного сорта.
На примере ранней алкоголизации у подростков можно проследить, как та или иная акцентуация влияет на становление алкогольного варианта аддиктивного поведения. Подростки с акцентуациями неустойчивого, эпилептоидного, гипертимного и истеро-идного круга наиболее склонны к выпивкам. Алкоголизация у неустойчивых — это результат их тяготения к легким развлечениям, способность бездумно попадать под дурное влияние. Побудительный мотив — получить веселое настроение. Это перекликается с мнением К. Леонгарда (1989), что общей характерологической особенностью, предрасполагающей к алкоголизму, является сниженная способность к самоконтролю, тенденция действовать по минутному впечатлению. У неустойчивых акцентуантов чаше встречаются неглубокие степени опьянения. Сходный с неустойчивыми тип алкоголизации отмечается и у гипертимных подростков. У эпилептоидных подростков картина алкоголизации иная: короткая стадия эйфории, затем опьянение по дисфорическому типу — агрессия, аутоагрессия, может быть сексуальное насилие. Эпилептоиды напиваются до тяжелых степеней опьянения. Для них алкоголизация — это своеобразная «разрядка» накопившегося напряжения и раздражения. Истероиды и в алкоголизации остаются демонстративными: преувеличивают степень опьянения, с пафосом рассказывают сверстникам о большом количестве спиртного, которое они могут выпить. Иногда изображают алкогольных эстетов: рассказывают сверстникам, что они употребляют только элитные алкогольные напитки, причем определенного сорта.
А. Е. Личко (1983,1985) подчеркивал, что именно акцентуанты неустойчивого круга наиболее подвержены риску развития аддиктивного поведения в целом, поскольку именно у них наиболее развита реакция группирования со сверстниками. С мнением А. Е. Личко полностью перекликаются и современные данные А. В. Надеждина (2002), проанализировавшего характерологические черты подростков с героиновой наркоманией, находящихся на стационарном лечении.
Вместе с тем в других исследованиях особенностей акцентуаций характера подростков с аддиктивным поведением и наркоманией было выявлено преобладание эпилептоидного и истероидного типа (Гузиков и др., 1993). В недавних публикациях появились сообщения о преобладании гипертимных и конформных акцентуантов наряду с эпилеп-тоидными в наркотизирующейся подростковой популяции (Романов, 2001). Есть исследования, где приводятся данные о преобладании различных типов акцентуаций при разных формах наркомании: среди больных эфедроновой наркоманией чаще всего встречаются истероидные акцентуанты, а среди опийных наркоманов — эпилептоидные (Шабанов, Штакельберг, 2000).
Мы исследовали особенности личности подростков с аддиктивным поведением с помощью ПДО (Иванов, Личко, 1992) и теста личностных акцентуаций (Дворщенко, 2002). Результаты наших исследований показали, что на современном этапе в популяции подростков как с героиновой, так и с алкогольной зависимостью доминируют гипертимные, истероидные и эпилептиоидные личности. Число неустойчивых акцентуантов среди подростков с аддиктивным поведением существенно снизилось. Особенности гипертимного, эпилептоидного и истероидного характеров позволяет таким подросткам занимать лидирующие позиции в группе. Опасность данной ситуации представляется в том, что именно потенциальные лидеры — наркоманы и алкоголики — будут способствовать вовлечению в аддиктивное поведение остальных подростков (Егоров, 2003). Исследование акцентуаций подростков с зависимостью от Интернета показало высокий процент истероидов и эпилептоидов. Отличие представленности различных типов характера от группы химических аддиктов заключалось в том, что шизоиды вышли на первое место
622
Возрастные аспекты алдиктологии
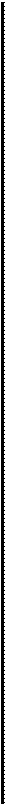 (около 30%), а число гипертимных акцентуаций наблюдалось в единичных случаях среди интернет-аддиктов (Егоров и др., 2005).
(около 30%), а число гипертимных акцентуаций наблюдалось в единичных случаях среди интернет-аддиктов (Егоров и др., 2005).
Следует отметить, что по мере развития химической зависимости наблюдается определенная динамика характерологических особенностей наркомана, независимо от пре-морбидного типа личности. Можно утверждать, что у аддиктов начинают преобладать черты неустойчивого типа акцентуации по А. Е. Личко (1983) — гедонистическая установка, отсутствие глубоких привязанностей, слабоволие, безделье и т. д. Эти черты как бы наслаиваются на другие конституциональные типы, затушевывая их. В результате обнаруживается смешанный тип акцентуации.
Медико-биологические факторы в последнее время — предмет пристального изучения ученых разных специальностей. Так, роль наследственной предрасположенности к химической зависимости в настоящее время не вызывает сомнений. Вероятность возникновения алкоголизма у детей алкоголиков, по разным данным, от 7 до 15 раз выше, чем в общей популяции (цит. по: Альтшулер, 1999). Вместе с тем одних наблюдений за этими фактами недостаточно, т. к. с равными основаниями ответственность за возникновение алкоголизма можно возложить и на средовой фактор — воспитание в атмосфере пьянства.
Окончательный ответ на вопрос о наследственной природе алкоголизма дали исследования, где прослеживалась судьба детей, родившихся от больных алкоголизмом, но усыновленных и воспитывавшихся в нормальных семьях, в одинаковых условиях с неродными братьями и сестрами. Оказалось, что у лиц из алкогольных семей риск развития алкоголизма в 3,5 раза выше, чем у их неродных братьев (Goodwin, 1988). В других исследованиях изучали судьбу двух групп близнецов из алкогольных семей — однояйцевых и двуяйцевых. Оказалось, что если один из однояйцевых близнецов болен алкоголизмом, то другой имеет в 2-2,5 раза более высокий риск развития алкоголизма, чем бывает у двуяйцевых близнецов (Москаленко, Ванюков, 1988). Таким образом, влияние генетического фактора на возникновение алкоголизма можно считать доказанным. В целом генетические факторы, вместе взятые, могут объяснить 60% разнообразия риска расстройств, вызванных алкоголем, а остальные 40% относятся к социокультуральным и другим жизненным событиям (Schuckit, Smith, 2001).
В отношении генетики наркоманий таких убедительных данных, как в случае с алкоголизмом, не получено. Имеются единичные работы, указывающие на повышенный риск наркомании у детей наркоманов (Dawes et al., 1997) и у близнецов с ранним началом потребления ПАВ (Iacono et al., 1999). Тем не менее существуют наблюдения о наличии у больных наркоманиями наследственной отягощенное™ алкоголизмом и наркоманиями, особенно по мужской линии. В связи с этим сформировалось мнение, что у детей от больных алкоголизмом и наркоманиями родителей существенно повышен риск развития этих заболеваний (Иванец и др., 1997). В семьях наркоманов с зависимостью от разных веществ (опиаты, кокаин, каннабис, амфетамины, финциклидин) обнаружено больше сходства, чем различий. Сходство касается прежде всего высоких частот алкоголизма как у родственников, так и у самих наркоманов (цит. по: Анохина, Москаленко, 2002). Согласно недавним американским исследованиям, о наличии хотя бы одного родителя, потребляющего наркотики, сообщили 80% из 200 обследованных лиц молодого возраста, страдавших героиновой наркоманией. Причем наркомания у матери положительно коррелировала с более ранним началом приобщения к ПАВ (Pugatch et al., 2001).
К факторам риска, частично обусловленным генетическими влияниями, можно отнести некоторые индивидуальные характеристики, усиливающие вероятность употребления ПАВ, злоупотребления ими и развития зависимости. Это повышенная импульсивность, стремление к поискам новизны, синдром детской гиперактивности, нарушения
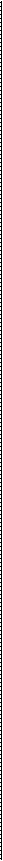 Факторы риска аддиктивного поведения в подростковом возрасте 623
Факторы риска аддиктивного поведения в подростковом возрасте 623
поведения в детстве (Москаленко, 2004). М. Schuckit и Т. Smith (2001) назвали этот комплекс «нейрональной и поведенческой расторможенностью».
К медицинским факторам риска М. Давес и его коллеги (Dawes et al., 2000) относят любые внутриутробные воздействия (от стресса в период беременности до инфекций, интоксикаций и нарушения пищевого режима), способные привести к патологии регуляции аффективной, когнитивной и поведенческой сферы ребенка, что впоследствии повлечет раннее начало потребления ПАВ.
Существуют и другие медицинские факторы риска при возникновении алкоголизма: наличие нервных и психических заболеваний с органической неполноценностью мозга (например, последствия черепно-мозговой травмы, эпилепсия) или расстройства личности (например, психопатии). Эти проблемы влияют на функциональные возможности головного мозга, уменьшая его способность переносить интенсивные или продолжительные нагрузки как в интеллектуальной сфере, так и в эмоциональной. В результате такие пациенты будут искать средство, помогающее им справиться с подобными нагрузками. И этими средствами зачастую становятся ПАВ. Американские исследователи Р. Хьюстон с коллегами (Houston et al., 2004) установили, что пограничное расстройство личности (психопатия) у подростков с алкоголизмом и наркоманией в анамнезе имеет органическую основу, что проявляется в снижении амплитуды волны Р300 вызванного потенциала и высоко коррелирует с поведенческими нарушениями, включающими злоупотребление ПАВ.
Западные исследователи среди медицинских факторов выделяют наличие расстройств аффективного спектра (тревога, депрессия) в подростковом возрасте в качестве предиктора развития аддикции (Kirkcaldy et al., 2004). Однако следует заметить, что аффективные расстройства более значимы для развития химической зависимости в более позднем возрасте и особенно у женщин (Schuckit, 2000).
Крупный специалист в области изучения биологических основ химической зависимости академик И. П. Анохина (2001) пришла к выводу, что «не может существовать единственного маркера для диагностики предрасположенности к злоупотреблению ПАВ, — это всегда комплекс маркеров, причем состав его может варьировать у различных субъектов».
И. П. Анохиной (2001) предложены следующие маркеры для диагностики индивидуальной предрасположенности к злоупотреблению ПАВ: 1) наличие двух кровных или более родственников, страдающих алкоголизмом или наркоманиями; 2) синдром минимальной мозговой дисфункции в детстве; 3) эмоциональная нестабильность, повышенная возбудимость, склонность к депрессиям; 4) трудный пубертат с преобладанием психического инфантилизма; 5) дефицит внимания; 6) раннее курение и злоупотребление алкоголем; 7) чувство неудовлетворенности, постоянный поиск новизны; 8) нейрофизиологический показатель — низкая амплитуда или отсутствие волны Р300 в вызванном слуховом корковом электрическом потенциале.
Четыре лабораторных показателя: 1) низкая концентрация в моче и крови дофамина, чему, как правило, сопутствует низкий уровень доксифенилаланина и высокое содержание диоксифенилуксусной кислоты; 2) низкая активность ДА-бета-гидроксилазы — фермента, контролирующего синтез дофамина; 3) повышенная частота встречаемости алле-ля А1 гена DRD2 (А1/А2 > 1) и гетерозиготного генотипа 9/10 ДАТ (>35%); 4) выявление участка семи тандемных повторов в гене DRD4.
Наличие более пяти из этих признаков (среди которых должно быть не менее 2-3 биологических) дает основание отнести обследуемого субъекта к группе высокого биологического риска в отношении алкогольной и наркотической зависимости.
624
Возрастные аспекты аддиктологии
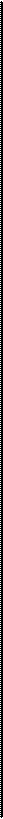 Вместе с тем есть фактор, на который мы никак не можем повлиять, — это подростковый возраст. Естественные изменения, происходящие с подростком в пубертате, могут сами по себе являться как мощными факторами риска, так и, в некоторой степени, факторами защиты от употребления ПАВ. Причем факторы риска подросткового возраста относятся ко всем трем вышеперечисленным группам. Поэтому мы считаем необходимым отдельно остановиться на данном вопросе.
Вместе с тем есть фактор, на который мы никак не можем повлиять, — это подростковый возраст. Естественные изменения, происходящие с подростком в пубертате, могут сами по себе являться как мощными факторами риска, так и, в некоторой степени, факторами защиты от употребления ПАВ. Причем факторы риска подросткового возраста относятся ко всем трем вышеперечисленным группам. Поэтому мы считаем необходимым отдельно остановиться на данном вопросе.
25.2. Подростковый возраст как фактор риска аддиктивного поведения
Подростковый возраст (пубертатный период) с давних пор считается фактором, способствующим развитию химической зависимости (Личко, Битенский, 1991, Пятницкая. Найденова, 2002; Schuckit, 2000, и др.). Этот же вывод оказался бесспорным не только для европейской, но и для мусульманской (Иран) культурной традиции (Parvizy et al., 2005). Известно, что если аддиктивное поведение возникает с подросткового периода, то риск формирования химической зависимости оказывается высоким. Так, до 75% алкоголиков и наркоманов начинают употреблять психоактивные вещества, будучи подростками. И наоборот, как показали американские исследования, если до 21 года человек никогда не курил, на принимал алкоголь и другие ПАВ, то вероятность того, что он в будущем станет аддиктом, почти равна нулю.
В подростковом возрасте, в период полового созревания, поведение в значительной степени определяется характерными для этого периода жизни реакциями эмансипации, группирования со сверстниками, увлечениями (хобби), имитациями и формирующимся сексуальным влечением (Личко, 1985). Именно эти реакции могут как способствовать злоупотреблению психоактивными веществами, так и препятствовать аддиктивному поведению. Поэтому имеет смысл подробнее остановиться на поведенческих реакциях пубертатного периода.
Реакция эмансипации проявляется стремлением высвободиться из-под опеки, контроля, руководства, покровительства со стороны родных, воспитателей, преподавателей, вообще всех старших по возрасту, от установленных ими порядков, правил и законов. Все, что уважается и ценится взрослыми, подростками отвергается. Реакция эмансипации может быть направлена как на конкретных взрослых (родители, учителя и т. д.), так и на все взрослое поколение в целом. В последнем случае, когда реакция эмансипации сочетается с реакцией группирования со сверстниками, поведение может становиться антисоциальным, достигать уровня молодежного бунта.
Одно из проявлений реакции эмансипации — особая форма поведения, получившая название «отравление свободой» (Личко, Битенский, 1991). Подобное поведение развивается, когда строго регламентированная жизнь подростка сменяется полной свободой, а повседневная опека — самостоятельностью. Все это может случиться, когда подросток вырывается из-под подавляющего семейного контроля, по окончании учебного заведения, во время побега из воспитательно-трудового учреждения, при выписке из больницы после длительной госпитализации и т. д. При «отравлении свободой» поведение подростка становится противоположным тому, что от него требовалось раньше. Привлекает именно то, что не дозволялось. Поэтому «отравление свободой» будет способствовать аддиктивному поведению с поисковой мотивацией, т. е. стремлению попробовать все, испытать на себе действие тех дурманящих веществ, которые можно раздобыть.








