«Успешный трудоголик» — это тот, кто благодаря своей работе добивается больших профессиональных/карьерных успехов.
«Трудоголик-неудачник» — это тот, кто рьяно занимается бесполезной деятельностью, которая никому не нужна. Он имитирует работу, заполняя пустоту в своей жизни.
«Скрытый трудоголик» — это тот, кто на людях сетует, как он не любит работать, а на самом деле все свои силы и любовь отдает работе. Одна «нога» трудоголика «растет» из страха перед близкими и глубиной (не структурированной работой) эмоциональных отношений с людьми, страха внутренней пустоты, которую надо заполнить. Другая «нога растет» из стремления к превосходству над всеми и совершенству (в детстве от трудоголика всегда что-то требовали и никогда не любили его таким, каким он был).
Р. Бурке (Burke, 2004), используя тест на работоголизм Спенса и Роббинса, выделил три группы работоголиков: аддиктов работы (Work Addicts), энтузиастов работы (Work Enthusiasts) и увлеченных аддиктов (Enthusiastic Addicts). Самые низкие показатели самооценки оказались у аддиктов работы.
Работоголизм связан с аддиктивными свойствами организаций, в которых работают работоголики. Такая организация представляет собой закрытую систему, ограничивающую способность своих сотрудников к самостоятельному мышлению и восприятию многих явлений, выходящих за рамки концепции этой системы. В советские времена это выражалось в сверхценном отношении к количественным показателям работы, в бесконечных «выполнениях и перевыполнениях плана, встречных планах», в фиксации внимания на формальной стороне работы — разного вида отчетах, рапортах, показателях. Иными словами — в стремлении произвести благоприятное внешнее впечатление. Ад-диктивной системе присущи признаки отдельного человека-аддикта (Короленко, Дмитриева, 2000).
Развитию работоголизма способствует также система мелочного контроля, постоянных проверок эффективности, качества и т. д. Такого рода подходы основаны на недоверии к человеку, неуважении его личности и способствуют формированию работо-гольного мышления со сниженными возможностями истинной самореализации.
Работоголик оказывает влияние на других членов семьи, не получающих от него эмоциональной поддержки. Члены семьи либо видят в нем пример, либо не принимают и идут по пути более деструктивных аддикций. Дети работоголиков часто злоупотребляют ПАВ.
Вместе с тем следует учитывать, что работоголизм может стать «спасительной» аддикцией для бывших наркоманов и алкоголиков на этапе реабилитации (Егоров, 2004; Hatcher, 1989).
20.2. Спортивная аддикция ( аддикция упражнений )
В современной науке о спорте принято различать спорт для здоровья (то, что раньше называлось физической культурой) и спорт высших достижений (профессиональный). Кроме того, выделяют и т. н. экстремальные виды спорта, в наши дни завоевывающие все большую популярность. Именно спорт высших достижений и экстремальный спорт несут в себе наибольший аддиктивный потенциал.
504
«Социально приемлемые» формы нехимических зависимостей
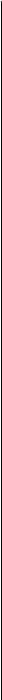 В последние десятилетия в западной литературе появляются публикации, посвященные аддикции упражнений. Аддикция упражнений впервые была упомянута П. Бэке-ланд (Baekeland, 1970), когда он исследовал эффект депривации физической нагрузки на паттерны сна. В дальнейшем концепция аддикции упражнений была популяризирована и разрабатывалась М. Сакс и Д. Паргман (Sachs, Pargman, 1984), предложившими термин «аддикция бега» (running addiction). Авторы описали своеобразный синдром отмены, развивающийся при депривации бега: тревога, напряжение, раздражительность, мышечные подергивания и т. д. В обзоре, посвященном аддикции упражнений, М. Мерфи (Murphy, 1994) указывает на три психофизиологических объяснения возникновения аддикции упражнений: термогеническая гипотеза, катехоламиновая гипотеза и эндорфиновая гипотеза. Термогеническая гипотеза предполагает, что упражнения увеличивают температуру тела, что снижает тонус мышц и уменьшает соматическую тревогу. Катехоламиновая и эндорфиновая гипотезы находятся в русле современных воззрений на нейрофизиологическую и нейрофармакологическую природу возникновения всех химических зависимостей.
В последние десятилетия в западной литературе появляются публикации, посвященные аддикции упражнений. Аддикция упражнений впервые была упомянута П. Бэке-ланд (Baekeland, 1970), когда он исследовал эффект депривации физической нагрузки на паттерны сна. В дальнейшем концепция аддикции упражнений была популяризирована и разрабатывалась М. Сакс и Д. Паргман (Sachs, Pargman, 1984), предложившими термин «аддикция бега» (running addiction). Авторы описали своеобразный синдром отмены, развивающийся при депривации бега: тревога, напряжение, раздражительность, мышечные подергивания и т. д. В обзоре, посвященном аддикции упражнений, М. Мерфи (Murphy, 1994) указывает на три психофизиологических объяснения возникновения аддикции упражнений: термогеническая гипотеза, катехоламиновая гипотеза и эндорфиновая гипотеза. Термогеническая гипотеза предполагает, что упражнения увеличивают температуру тела, что снижает тонус мышц и уменьшает соматическую тревогу. Катехоламиновая и эндорфиновая гипотезы находятся в русле современных воззрений на нейрофизиологическую и нейрофармакологическую природу возникновения всех химических зависимостей.
Помимо бега, в современной литературе приведены клинические случаи возникновения спортивной аддикции при занятиях разными видами спорта (Murphy, 1994; Griffiths, 1997), включая то, что мы называем спортом для здоровья (Kjelsas et al., 2003). В работе Е. Кьелсас с сотр. (Kjelsas et al., 2003) в результате использования специального опросника на аддикцию упражнений было показано, что у женщин существует прямая зависимость между количеством часов в неделю, уделяемых спорту, и риском развития зависимости.
Что касается занятий экстремальными видами спорта, то следует признать, что это возможный путь создания социально приемлемой формы зависимости при проведении профилактической и реабилитационной работы у детей и подростков с аддиктивным поведением (Егоров и др., 2001). Вместе с тем важно помнить, что спортивная аддикция, как и любая другая зависимость, легко может менять форму и переходить в другую, в том числе и химическую. Именно с этим связан высокий процент алкоголизма и наркомании среди бывших спортсменов. Поэтому экстремальный спорт может быть признан альтернативой химической зависимости, но альтернативой, таящей в себе определенную опасность.
20.3. Аддикция отношений
Такая аддикция в чистом виде характеризуется привычкой человека к определенному типу отношений. Аддикты отношений создают «группу по интересам». Члены этой группы постоянно и с удовольствием встречаются, ходят друг к другу в гости, где проводят много времени. Жизнь между встречами сопровождается постоянными мыслями о предстоящем свидании с друзьями.
Следует отметить, что привязанность человека к определенной группе может перейти в аддикцию отношений. Реабилитационные терапевтические сообщества, работающие по программе «12 шагов», такие как АА (анонимные алкоголики), АН (анонимные наркоманы), АК (анонимные кокаинисты) и др., при всей безусловной пользе в плане воздержания от приема ПАВ, делают своих членов аддиктами общения в данном сообществе. Выход из сообщества, как правило, заканчивается рецидивом. Жизнь, в том числе даже проведение досуга, отпуска, становится немыслимой без постоянного общения с себе подобными. Нечто похожее мы наблюдаем и в ряде реабилитационных центров, особенно религиозной направленности, вне которых бывшие химически зависимые прак-
Аддикция к трате дене(покупкам)
505
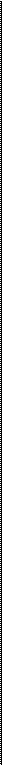 тически не могут существовать. В таких центрах можно констатировать возникновение аддикции отношений наряду с религиозной аддикцией.
тически не могут существовать. В таких центрах можно констатировать возникновение аддикции отношений наряду с религиозной аддикцией.
Высказанные мысли ничуть не умаляют необходимости проведения реабилитационных мероприятий с людьми, зависимыми от ПАВ. Это лишь еще одно напоминание, что «выздоровление» от химической зависимости очень часто сопровождается возникновением замещающей нехимической зависимости, в лучшем случае максимально социально приемлемой (Егоров, 2004).
20.4. Аддикция к трате денег ( покупкам )
Хотя неконтролируемое влечение совершать покупки упоминалось еще в работах Э. Крепелина и Е. Блейера в конце XIX в., на современном этапе научный интерес к этой проблеме возник относительно недавно. Р. Фабер (Faber, 1992) предложил шкалу из семи пунктов для выявления данной аддикции. Аддикция к трате денег была описана и типизирована также в соответствии с диагностическими критериями DSM-III-R для обсессив-но-компульсивного и аддиктивного расстройств в 1990-х гг. (McElroyetal., 1994, 1995). Авторы предложили четыре ее критерия, причем для диагностики достаточно наличия одного из них:
1) часто возникает озабоченность покупками или внезапные порывы что-либо купить, ощущаемые как непреодолимые, навязчивые и/или бессмысленные;
2) регулярно совершаются покупки не по средствам, часто покупаются ненужные вещи, или хождение по магазинам занимает значительно больше времени, чем изначально планировалось;
3) озабоченность покупками, внезапные порывы купить или связанные с этим особенности поведения сопровождаются ярко выраженным дистрессом, неадекватной тратой времени, становятся серьезной помехой как в повседневной жизни, так и в профессиональной сфере, или влекут за собой финансовые проблемы (например, долги или банкротство);
4) чрезмерное увлечение покупками или хождением по магазинам необязательно проявляется в периоды гипомании или мании.
Аддикция к трате денег проявляется повторным, непреодолимым желанием совершать множество покупок. В промежутках между покупками нарастает напряжение, которое может быть ослаблено очередной покупкой, после чего обычно возникает чувство вины. В целом для аддиктов характерен широкий спектр негативных эмоций, положительные эмоции вплоть до эйфории возникают только в процессе совершения покупки. У этой категории аддиктов растут долги, возникают трудности во взаимоотношениях с семьей, могут быть проблемы с законом. Иногда аддикция реализуется через интернет-покупки, которые совершаются не в супермаркетах, а в виртуальных магазинах.
Р. Фабер (Faber, 1992; цит. по: Lejoyeux et al., 2002) сообщает, что этим видом аддикции страдают 1,1% населения, средний возраст людей с этой зависимостью составляет 39 лет. Аддикция к трате денег начинается обычно в возрасте 30 лет, ею страдают преимущественно женщины (92% из всех аддиктов). Считается, что аддикция к покупкам начинается в более молодые годы: средний возраст обследованных ими женщин составил 17,5 лет. Д. Блэк (Black, 1996) приводит данные, что эта аддикция встречается у 2-8% в общей популяции, из которых женщины составляют 80-95%.
Аддикция к трате денег часто сочетается с аффективными расстройствами (50%), химической зависимостью (45,8%), в том числе алкоголизмом (20%) и пищевыми аддик-циями (20,8%). Высказывается предположение, что аддикция к трате денег может быть
506
«Социально приемлемые» формы нехимических зависимостей
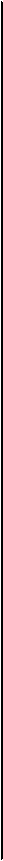 включена в семейный и, возможно, генетический «клинический спектр» расстройств, куда относятся аддиктивные и аффективные нарушения (Lejoyeux etal., 2002). Подтверждением сказанного могут служить данные о том, что, в свою очередь, 8% больных депрессией сообщили об эпизодах неконтролируемой траты денег для совершения покупок, причем все эти больные оказались женщинами (Lejoyeux etal., 1995).
включена в семейный и, возможно, генетический «клинический спектр» расстройств, куда относятся аддиктивные и аффективные нарушения (Lejoyeux etal., 2002). Подтверждением сказанного могут служить данные о том, что, в свою очередь, 8% больных депрессией сообщили об эпизодах неконтролируемой траты денег для совершения покупок, причем все эти больные оказались женщинами (Lejoyeux etal., 1995).
20.5. Религиозная аддикция
В последние годы проблема зависимости от религиозных организаций получила широкое распространение в связи с расширением деятельности самых разнообразных религиозных структур, в том числе и тоталитарных религиозных сект. Хотя религиозная аддикция может развиться в рамках любой конфессии, наибольшим аддиктивным потен-* циалом, безусловно, обладают секты, причем секты тоталитарные, применяющие разнообразные психотехники при вербовке неофитов и во время проведения религиозных ритуалов.
Большая часть людей попадает в секты в состоянии психологического кризиса, отчаянья. Секты используют именно это состояние, чтобы «помочь» человеку реализовать потребность заполнить душевный вакуум, снизить тревогу, обещая быстрое и окончательное решение вопросов. Секты стремятся к контролю. Посредником между Богом и членами общины выступает некий учитель, гуру, нередко наделенный практически неограниченной властью. Религиозную зависимость как раз и отличает устойчивая потребность переложить ответственность за свои взаимоотношения с Богом на сильного наставника, учителя или старца, который должен установить регламент взаимоотношений с Богом: что читать, что есть, сколько спать. Иногда религиозная зависимость может скрываться за вполне притягательными для определенного типа людей формулировками: «отсечь свою волю»; «принести свою свободу в жертву Богу в лице наставника». Вряд ли человек без воли и без уверенности в собственной ценности способен на какой-либо значимый поступок. Но, попав в кризисную ситуацию, бывает, что он непрестанно ищет, кто бы ему «дал совет», кто бы решил за него его проблемы. По мнению Ц. П. Короленко и Т. В. Дмитриевой (2001), «сравнение изменений, происходящих в психике человека в результате его участия в секте, с изменениями, возникающими при аддикции, может проводиться и с количественной стороны, выражаясь в том и другом случае в стремлении человека получать все больше переживаний».
Таким образом, религиозная зависимость, как и любая другая, становится одним из способов бегства от тревоги, ответственности, необходимости решать свои личностные и духовные проблемы. По мнению Ц. П. Короленко и Т. В. Дмитриевой (2001), аддикция к секте представляет большую опасность, чем пищевая или даже гемблинг, поскольку чаще вызывает психические нарушения шизофреноформного характера у религиозных аддиктов.
Вместе с тем нельзя отрицать, что религиозные сообщества оказывают существенную помощь при проведении реабилитационных программ с наркозависимыми. Как показывают зарубежные исследования, введение в реабилитационные программы алкоголиков и наркоманов тренингов, связанных с развитием духовности и воспитания религиозного чувства, положительно оценивается как самими пациентами, так и специалистами (Arnold et al., 2002; Cook, 2004). Опыт духовной реабилитации наркозависимых успешно применяется и в нехристианских конфессиях. Так, в Таиланде в буддийском монастыре Ват Тхамкрабок с 1957 г. проводится успешная программа реабилитации наркозависимых, где, помимо общеукрепляющих процедур, используются медитатив-
Другие нехимические аддикции
507
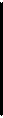
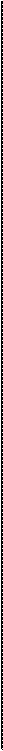 ные техники, а по окончании пациенты дают святой обет никогда не принимать наркотики в будущем. Эффективность реабилитации у прошедших программу составляет до 70% (Barrett, 1997).
ные техники, а по окончании пациенты дают святой обет никогда не принимать наркотики в будущем. Эффективность реабилитации у прошедших программу составляет до 70% (Barrett, 1997).
Однако, на наш взгляд, следует различать реабилитационные программы, проводимые традиционными конфессиями и тоталитарными сектами. Нужно признать, что эффективность в плане отказа от употребления ПАВ в ряде сект выше, чем в традиционных христианских реабилитационных центрах. Скорее всего, это связано с тем, что, помимо аддикции общения и религиозной аддикции, формирующейся во всех религиозных реабилитационных центрах, в сектах, использующих разные психотехники, во время проведения богослужений у последователей возникает измененное состояние сознания. Химические аддикты, особенно наркоманы, в прошлом принимали ПАВ именно с целью изменения сознания, поэтому подобные «богослужения» вызывают у них мощное подкрепляющее действие, подобно наркотику. Все это повышает аддикцию к секте, проводящей подобное «лечение». Так, активно действующая в России тоталитарная секта «Сайентология», созданная Р. Хаббардом, имеет свою антинаркотическую программу «Нар-конон», которая способствует устойчивому вовлечению в активные члены наркоманов, разочаровавшихся в традиционных методах лечения и реабилитации.
20.6. Другие нехимические аддикции
Ургентная аддшцпя. Проявляется в привычке находиться в состоянии постоянной нехватки времени. Пребывание в каком-то ином состоянии способствует развитию у человека чувства дискомфорта и отчаяния (Короленко, Дмитриева, 2000).
Зависимость от веселого автовождения (joy riding dependence, или синдром Тоада) описана Э. Макбрайдом (McBride, 2000) как вариант зависимого поведения у британских школьников, которые с середины 1990-х гг. в массовом порядке угоняли автомобили и мотоциклы с целью «веселого автовождения», получения удовольствия от риска и езды. Второе название — синдром Тоада—происходит от литературного персонажа м-ра Тоада из популярного среди молодежи романа К. Грэхэм «Ветер в ивовом лесу» (К. Grahame «The Wind in the Willows»). Тоад ведет асоциальный образ жизни, имеет особую привязанность к автомобилям и при этом личностно достаточно симпатичен. Э. Макбрайд провел анализ поведения Тоада с точки зрения аддиктологии и пришел к выводу, что подростки, повторяющие его поведение, — это аддикты, а синдром Тоада представляет собой разновидность технологических аддикции, поскольку автомобиль относится к достижениям высоких технологий XX в. По нашему мнению, синдром Тоада представляет собой реализацию подростковой поведенческой реакции имитации, а не собственно аддикцию. Аддиктивный компонент синдрома Тоада может быть рассмотрен как вариант спортивной аддикции (увлечение экстремальным спортом).
Духовный поиск. Эта форма нехимической аддикции была описана В. В. Постновым и В. А. Деречей (2004) на основании наблюдений за 9 больными алкоголизмом, находившимися в ремиссии и в процессе психотерапевтических занятий пытавшимися освоить различные духовные практики. При этом никто из больных не связывал эти занятия с реабилитационной программой, считая свои проблемы с алкоголизмом «уже решенными». Все больные до алкогольного срыва успели по нескольку раз поменять направление «духовных поисков». Еще одной особенностью этих больных был неизбежный срыв ремиссии после этапа выраженных расстройств адаптации в виде нарастания межличностных конфликтов, нервозности, раздражительности и вспышек немотивированной агрессии.
508
«Социально приемлемые» формы нехимических зависимостей
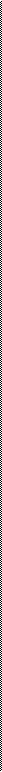 Направления духовного поиска были самые различные: участие в группах личностного роста, голотропное дыхание, телесно ориентированная терапия, группы встреч, эзотерические и религиозные знания.
Направления духовного поиска были самые различные: участие в группах личностного роста, голотропное дыхание, телесно ориентированная терапия, группы встреч, эзотерические и религиозные знания.
На наш взгляд, духовный поиск является вариантом, иногда сочетанием религиозной аддикции и аддикции отношений, и вряд ли должен выделяться как самостоятельная форма аддиктивного поведения. Альтернативным может быть предложение называть «духовным поиском» все варианты аддиктивного поведения, связанного с духовным ростом и самосовершенствованием. В этом плане он будет перекликаться с различными формами фанатизма.
Состояние перманентной войны. Эта форма аддиктивного поведения была описана теми же авторами (Постнов и др., 2004) у больных алкоголизмом ветеранов боевых действий, находившихся в состоянии ремиссии. Будучи в ремиссии, эти лица стремились к созданию опасных ситуаций, неоправданному риску: «Хотелось встряхнуться, давно не воевал». В этих ситуациях больные нередко совершали асоциальные и криминальные действия. Состояние перманентной войны, на наш взгляд, по своему генезу близко к аддиктивному занятию экстремальными видами спорта и, безусловно, является вариантом саморазрушающего поведения (см.: Личко, Попов, 1990).
20.7. Технологические аддикции
Для обозначения новых форм нехимических (поведенческих) аддикции, связанных с высокими технологиями, М. Гриффите (Griffiths, 1995) предложил термин «технологические зависимости», которые разделил на пассивные (например, зависимость от телевизора) и активные (интернет-игры). В последующем сюда добавились зависимости от различных электронных приборов (электронных ежедневников, игрушек типа тамагочи, и особенно мобильных телефонов), обозначаемые в западной литературе как гаджет-аддикции (от англ. gadjet — безделушка, техническая новинка).
Мы полагаем, что выделение в отдельную группу технологических аддикции оправдано по той причине, что, несмотря на широкое распространение, все они с точки зрения аддиктологии спорны в плане феноменологической самостоятельности. Особенность технологических аддикции, на наш взгляд, заключается в том, что объект зависимости (компьютер, мобильный телефон) на самом деле является предметом зависимости, средством реализации других поведенческих форм зависимого поведения. Ниже мы постараемся обосновать эту точку зрения.
20.7.1. Интернет - зависимости
Последние два десятилетия ознаменовались повсеместным распространением Интернета как в профессиональной, так и обыденной жизни десятков миллионов людей. Через Интернет делаются покупки, происходит общение, берется информация обо всех аспектах жизни, реализуются сексуальные и игровые пристрастия и многое другое. Как справедливо замечают израильские психологи Y. Amichai-Hamburger и Е. Ben-Artzi (2003), «кажется, нет такого аспекта в жизни, который не затронул бы Интернет».
В связи с возрастающей компьютеризацией и «интернетизацией» российского общества стала актуальной проблема патологического использования Интернета, за рубежом возникшая еще в конце 1980-х гг. Речь идет о т. н. интернет-зависимости (синонимы: интернет-аддикция, нетаголизм, виртуальная аддикция, интернет-поведенческая зависимость, избыточное/патологическое применение Интернета).
Технологические аддикции
509
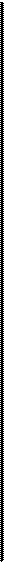 Первыми с интернет-зависимостью столкнулись врачи-психотерапевты, а также компании, использующие в своей деятельности Интернет и несущие убытки в случае, если у сотрудников появляется патологическое влечение к пребыванию в сети он-лайн. Родоначальниками психологического изучения феноменов зависимости от Интернета могут считаться два американца: клинический психолог К. Янг и психиатр И. Гольдберг. В 1994 г. К. Янг (Young, 2000) разработала и поместила на веб-сайте специальный опросник. В результате были получены почти 500 заполненных анкет, около 400 из которых были отправлены, согласно выбранному ею критерию, аддиктами. В середине 1990-х гг. для обозначения этого явления I. Goldberg (1996) предложил термин «интернет-аддик-ция», а также набор диагностических критериев для определения зависимости от Интернета, построенный на основе признаков патологического пристрастия к азартным играм (гемблинга).
Первыми с интернет-зависимостью столкнулись врачи-психотерапевты, а также компании, использующие в своей деятельности Интернет и несущие убытки в случае, если у сотрудников появляется патологическое влечение к пребыванию в сети он-лайн. Родоначальниками психологического изучения феноменов зависимости от Интернета могут считаться два американца: клинический психолог К. Янг и психиатр И. Гольдберг. В 1994 г. К. Янг (Young, 2000) разработала и поместила на веб-сайте специальный опросник. В результате были получены почти 500 заполненных анкет, около 400 из которых были отправлены, согласно выбранному ею критерию, аддиктами. В середине 1990-х гг. для обозначения этого явления I. Goldberg (1996) предложил термин «интернет-аддик-ция», а также набор диагностических критериев для определения зависимости от Интернета, построенный на основе признаков патологического пристрастия к азартным играм (гемблинга).
М. Орзак (Orzack, 1998) выделила следующие психологические и физические симптомы, характерные для интернет-зависимости:
Психологические симптомы:
• хорошее самочувствие или эйфория за компьютером;
• невозможность остановиться;
• увеличение количества времени, проводимого за компьютером;
• пренебрежение семьей и друзьями;
• ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером;
• ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности;
• проблемы с работой или учебой. Физические симптомы:
• синдром карпального канала (туннельное поражение нервных стволов руки, связанное с длительным перенапряжением мышц);
• сухость в глазах;
• головные боли по типу мигрени;
• боли в спине;
• нерегулярное питание, пропуск приемов пищи;
• пренебрежение личной гигиеной;
• расстройства сна, изменение режима сна.
Согласно исследованиям К. Янг (Young, 1998), опасными сигналами (предвестниками интернет-зависимости) являются:
• навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту;
• предвкушение следующего сеанса он-лайн;
• увеличение времени, проводимого он-лайн;
• увеличение количества денег, расходуемых на интернет.
Признаками наступившей интернет-аддикции, по мнению К. Янг (2000), служат следующие критерии:
• всепоглощенность Интернетом;
• потребность проводить в сети все больше и больше времени;
• повторные попытки уменьшить использование Интернета;
• при прекращении пользования Интернетом возникают симптомы отмены, причиняющие беспокойство;
• проблемы контроля времени;
• проблемы с окружением (семья, школа, работа, друзья);
• ложь по поводу времени, проведенного в сети;
• изменение настроения посредством использования Интернета.
510
«Социально приемлемые» формы нехимических зависимостей
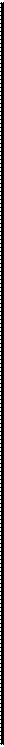 Распространенность этого расстройства составляет от 1 до 5% населения (Griffits, 2000; Young, 1998), причем более подвержены ему гуманитарии и люди, не имеющие высшего образования, нежели специалисты по компьютерным сетям. По данным корейских исследователей, среди старших школьников возможная интернет-аддикция регистрируется у 38% (Kim et al., 2005). Как показывают данные мониторинга аудитории пользователей Интернета (www.monitoring.ru), в России с 1992 по 2004 г. удельный вес подростков увеличился с 2 до 25%, т. е. подростки становятся все более активными пользователями сети, в связи с чем и увеличиваются случаи интернет-аддикции среди молодежи.
Распространенность этого расстройства составляет от 1 до 5% населения (Griffits, 2000; Young, 1998), причем более подвержены ему гуманитарии и люди, не имеющие высшего образования, нежели специалисты по компьютерным сетям. По данным корейских исследователей, среди старших школьников возможная интернет-аддикция регистрируется у 38% (Kim et al., 2005). Как показывают данные мониторинга аудитории пользователей Интернета (www.monitoring.ru), в России с 1992 по 2004 г. удельный вес подростков увеличился с 2 до 25%, т. е. подростки становятся все более активными пользователями сети, в связи с чем и увеличиваются случаи интернет-аддикции среди молодежи.
В пилотажном исследовании, проведенном К. Янг и Р. Роджерс (Young, Rodgers. 1998), 259 человек, из них 130 мужчин (средний возраст—31 год)и 129 женщин (средний возраст— 33 года), заполнили в он-лайновом режиме 16-факторный личностный опросник (16PF) Р. Кеттела и составленный Янг опросник интернет-зависимости. В соответствии с полученными данными аддикты характеризовались как обладающие высоким уровнем абстрактного мышления и уверенные в себе индивидуалисты, чувствительные и эмоционально реагирующие на других людей, настороженные и не проявляющие конформного поведения. Как утверждают исследователи, будучи индивидуалистами, аддикты легко адаптируются к длительным периодам относительной изоляции и способны довольствоваться лишь опосредованными контактами с другими людьми; некоторые из них склонны гипертрофированно (резко негативно или, наоборот, с пылким одобрением) реагировать на слова удаленных собеседников — с таким накалом эмоций, который не поощряется или табуируется в более традиционных формах общения («лицом к лицу»),
М. Шоттон (Shotton, 1989) разработала типологию зависимости от компьютера, включив туда три разновидности такой зависимости. Во-первых, это «сетевики» (networkers): они оптимистичны, в наибольшей степени — сравнительно с другими типами зависимости — социально активны и позитивно настроены к другим людям, имеют друзей, в том числе противоположного пола, поддерживают нормальные отношения с родителями. Компьютер для них — нечто вроде хобби: они могут интересоваться поиском в удаленных базах данных или, к примеру, играть в ролевые групповые игры типа MUD, однако при этом они меньше, чем другие выделенные типы зависимых от компьютеров людей, самостоятельно программируют, в меньшей степени интересуются приложениями, в частности компьютерной графикой или аппаратным обеспечением.
Во-вторых, это «рабочие» (workers) — самая малочисленная группа. Они владеют наиболее современными и дорогими компьютерами. Процесс программирования у них четко спланирован, программы пишутся ими для достижения нужного результата. Как правило, представители этой группы прекрасно учились или учатся, причем их не удовлетворяет стандартная программа обучения, и они посещают дополнительные учебные курсы. Для них характерна весьма строгая «рабочая этика»: например, неприемлем всякий род «компьютерного пиратства».
В-третьих, это «исследователи» (explorers) — самая многочисленная группа. Для них программирование сродни интеллектуальному вызову и одновременно развлечению. Они пишут сверхсложные программы, зачастую даже не доводя их до конца и принимаясь за новые, еще более сложные. Представители этой группы с удовольствием занимаются отладкой программ; компьютерное пиратство и хакерство они приемлют, полагая их «честной игрой» против других программистов (разработчиков программ) и/или администраторов вычислительных систем. С формальной стороны уровень образования у них ниже, чем, скажем, у «рабочих», при этом они не только не отстают от имеющих более весомые дипломы коллег, но и зачастую превосходят их объемом знаний. Амбиций также немного: ни высокие должности, ни большие оклады не играют для
Технологические аддикции
511
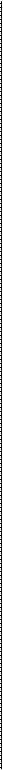 них главенствующей роли. Таким образом, к социальным критериям жизненного преуспевания они довольно равнодушны. Для «исследователей» компьютер — своего рода партнер и друг, он одушевлен, с ним проще взаимодействовать, нежели с людьми.
них главенствующей роли. Таким образом, к социальным критериям жизненного преуспевания они довольно равнодушны. Для «исследователей» компьютер — своего рода партнер и друг, он одушевлен, с ним проще взаимодействовать, нежели с людьми.
Среди интернет-зависимых отмечается более высокий уровень аффективных нарушений с преобладанием депрессии и обсессивно-компульсивных расстройств (Kraut et al., 1998; Shapira et al., 2000), а также маскированной депрессии в рамках малопрогреди-ентной шизофрении (Джолдыгулов и др., 2005). Корейские исследователи обнаружили у старших школьников с интернет-аддикцией более частую депрессию с повышенным риском суицида (Kim et al., 2005). Изучая личностные особенности с помощью опросника Айзенка у интернет-зависимых, Y. Hamburger и Е. Ben-Artzi (2000) обнаружили, что интроверты и эктраверты используют разные ресурсы Интернета. При этом у мужчин экстраверсия положительно коррелирует с использованием Интернета «для развлечения», а нейротизм отрицательно связан с использованием информационных сайтов. У женщин экстраверсия негативно, а нейротизм — положительно коррелировали с использованием информационных ресурсов Интернета. Позже те же авторы установили, что для интернет-аддиктов преимущественно женского пола характерно ощущение одиночества, которое они стараются снизить, проводя время за общением в чатах (Amichai-Hamburger, Ben-Artzi, 2003). Американский исследователь S. Caplan (2002) выделяет следующие особенности личности интернет-зависимых лиц: депрессия, одиночество, скромность и самолюбие.
Обобщив результаты разных исследований, Н. В. Чудова (2002) приводит следующий список черт интернет-аддикта: сложности в принятии своего физического «Я» (своего тела); трудности в непосредственном общении (замкнутость); склонность к интеллектуализации; чувство одиночества и недостатка взаимопонимания (возможно, связанное со сложностями в общении с противоположным полом); низкая агрессивность; эмоциональная напряженность и некоторая склонность к негативизму; наличие хотя бы одной фрустрированной потребности; независимость выступает как особая ценность; представления об идеальном «Я» недифференцированы, завышены или даже нереалистичны; самооценка занижена; склонность к избеганию проблем и ответственности.
Исследование личностных особенностей 75 молодых лиц мужского пола с признаками интернет-зависимости, проведенное А. Ю. Егоровым с коллегами (Егоров и др., 2005), показало, что по тесту личностных акцентуаций В. Дворщенко среди интернет-зависимых преобладают подростки с шизоидным (29,8%), истероидным (19,3%), лабильным и эпилептоидным (по 12,3%) типами акцентуации. Реже встречались неустойчивые и психастенические акцентуанты (по 7%) и в единичных случаях — астено-невротические (5,3%) и гипертимные (3,5%). В контрольной группе (здоровые испытуемые) преобладали гипертимные (22,2%), циклоидные (19,4%), психастенические (16,7%) и сензитивные (13,8%) типы акцентуации личности. В отличие от группы аддиктов, истероидные (11,1 %), эпилептоидные (8,3%) и шизоидные (5,6%) типы акцентуаций встречались достоверно реже. Среди интернет-аддиктов достоверно чаще присутствовал риск возможных личностных расстройств (психопатии) и социальной дезадаптации. У обследованных интернет-аддиктов риск алкоголизации оказался в 7 раз выше, чем в контроле, а выраженный и умеренный риск наркотизации — выше в 6,8 раза.
Относительное преобладание шизоидных акцентуантов среди интернет-аддиктов, по всей видимости, связано с особенностями деятельности в сети: это определенный уход от реальности, что свойственно шизоидам. Неожиданным может показаться достаточно большое число лиц с истероидной акцентуацией, которые, по идее, должны стремиться к постоянному нахождению «на виду», где они могли бы проявлять свои демонстратив-
512
«Социально приемлемые» формы нехимических зависимостей

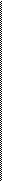
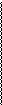 ные черты. Мы полагаем, что это та часть истероидных подростков, чьи потребности фрустрированы в реальном мире, и они стремятся к реализации свих истероидных черт в виртуальном мире (например, это может быть знакомство и общение в чатах, имеющее относительно истероидов элементы псевдологии). С фрустрацией потребностей в реальном мире связана и описанная корейскими исследователями т. н. аддикция к перевоплощению в киберпространстве, в последние годы отмечающаяся среди подростков (Lee, Shin, 2004).
ные черты. Мы полагаем, что это та часть истероидных подростков, чьи потребности фрустрированы в реальном мире, и они стремятся к реализации свих истероидных черт в виртуальном мире (например, это может быть знакомство и общение в чатах, имеющее относительно истероидов элементы псевдологии). С фрустрацией потребностей в реальном мире связана и описанная корейскими исследователями т. н. аддикция к перевоплощению в киберпространстве, в последние годы отмечающаяся среди подростков (Lee, Shin, 2004).
В плане особенностей характера интернет-аддикты отличаются и от подростков с химической зависимостью. У последних преобладают гипертимные, неустойчивые, эпи-лептоидые и истероидные типы акцентуаций и крайне редки шизоиды (Личко, Битен-ский, 1991; Егоров, 2003). Вместе с тем повышенная склонность к алкоголизации и наркотизации, обнаруженная у интернет-аддиктов, свидетельствует о наличии общих психологических черту лиц, склонных к разным формам аддиктивного поведения.
Исследование сферы потребностей с помощью 16-факторного личностного опросника Р. Кеттелла показало, что в контрольной и экспериментальной группах четко прослеживается качественное различие потребностей молодых людей в общении. В контрольной группе выявилось преобладание «компанейского» вида общения. Среди интернет-аддиктов оказалось, что подростки, имея высокую, доминирующую потребность в общении близком, «по душам» (высокие показатели по фактору А и Q2), при этом не имеют достаточной социальной смелости (фактор Н) для установления отношений с окружающими людьми в реальном мире. Интернет-аддикты низко адаптивны и застенчивы, что мешает им искать близких себе людей и налаживать тесные доверительные взаимоотношения как со сверстниками, так и с взрослыми. Возможно, удовлетворение их потребностей в поддержке, одобрении, общении смещается из рамок повседневной жизни в жизнь виртуальную. В целом подростки с аддикцией имеют фрустрированную потребность в общении, что им заменяет Интернет.
Самооценка интернет-аддиктов оказалась существенно ниже, чем в контрольной группе (40,1 против адекватной 62,6, по методике Дембо—Рубинштейн). Известно, что за такой низкой самооценкой могут скрываться два психологических аспекта: подлинная неуверенность в себе (являющаяся зачастую чувством неполноценности) и «защитная», когда декларирование самому себе собственного неумения, отсутствия способностей и т. п. позволяет не прилагать никаких усилий, в данном случае, к адаптации «себя-взросле-ющего» к новым социальным условиям.
Самоотношение исследовалось с помощью теста «Самоотношение» В. Столина и С. Патилеева (1993), позволяющего выявить три уровня самоотношений, различающихся по степени обобщенности: 1) глобальное самоотношение как интегральное чувство «за» или «против» своего «Я»; 2) самоотношение, дифференцированное по самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе; 3) уровень конкретных действий (готовности к ним) в отношении к своему «Я» (саморуководство, самопоследовательность, самопринятие). Обнаружено, что: 1) существуют значимые различия в выраженности интегрального чувства «за»/«против» своего «Я» между интернет-зависимыми и интернет-независимыми подростками. Показатели интернет-зависимых подростков более низкие, чем у интернет-независимых; 2) обнаружены значимые различия по самоинтересу как модальности самоотношения между интернет-зависимыми и интернет-независимыми подростками. Самоинтерес у интернет-зависимых подростков менее выражен, чем у интернет-независимых; 3) между интернет-зависимыми и интернет-независимыми подростками выявлены статистически значимые различия в выраженности самообвинения как уровня конкретных действий по от-
Технологические аддикции
513
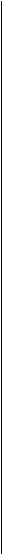
 ношению к себе. У интернет-зависимых более высокие показатели по шкале самообвинения, в отличие от интернет-независимых подростков; 4) отмечены значимые различия между группами по выраженности самоинтереса как уровня конкретных действий по отношению к себе. У интернет-независимых подростков этот уровень значительно выра-женнее, чем у интернет-зависимых.
ношению к себе. У интернет-зависимых более высокие показатели по шкале самообвинения, в отличие от интернет-независимых подростков; 4) отмечены значимые различия между группами по выраженности самоинтереса как уровня конкретных действий по отношению к себе. У интернет-независимых подростков этот уровень значительно выра-женнее, чем у интернет-зависимых.
Корреляционный анализ данных выявил следующие особенности самоотношения у интернет-зависимых подростков:
• отсутствие корреляционных связей интегрального чувства по отношению к своему «Я» с остальными факторами самоотношения;
• отсутствие значимых связей с факторами самопонимания и самоинтереса;
• факторы самопринятия, ожидания положительного отношения других, самоуверенности, аутосимпатии и обращенности на внимание окружающих имеют большое функциональное значение в системе самоотношения у интернет-зависимых подростков, однако единым системообразующим фактором самоотношение данной группы не обладает;
• ведущий уровень в оценке себя — эмоциональный;
• ведущий уровень конкретных действий — самопринятие.
Можно предположить, что для интернет-зависимого такое измененное самовосприятие желаемо и одобряется им и виртуальным сообществом, с которым он активно взаимодействует. Соответственно, с помощью Интернета реализуется уход от себя настоящего (Егоров и др., 2005).
У интернет-зависимых людей проявляются скрытые формы и других аддикции: сексуальная аддикция переходит в «киберсекс»; коммуникативные зависимости, такие как псевдология, крусодерство (Менделевич, 2003) проявляются в «кибернет-отношениях»; пристрастия к азартным играм находят выход в своеобразном интернет-гемблинге. Д. Гринфилд (Greenfield, 1999) подчеркивает, что зависимости от Интернета очень часто (в 20% случаев, по его данным) сопутствует сексуальная аддикция. Экран монитора, пишет он, действует гипнотически и вводит пользователей в трансоподобные состояния, отчего, скажем, любовные послания приобретают особую эффективность: побочным эффектом является фиксация зависимости от Интернета.
К. Янг (Young, 1998) охарактеризовала пять основных типов интернет-зависимости:
1) обсессивное пристрастие к работе с компьютером (играм, программированию или другим видам деятельности);
2) компульсивная навигация по WWW, поиск в удаленных базах данных;
3) патологическая привязанность к опосредованным Интернетом азартным играм, он-лайновым аукционам или электронным покупкам;
4) зависимость от социальных применений Интернета, т. е. от общения в чатах, групповых играх и телеконференциях, что может в итоге привести к замене имеющихся в реальной жизни семьи и друзей виртуальными;
5) зависимость от «киберсекса», т. е. от порнографических сайтов в Интернете, обсуждения сексуальной тематики в чатах или закрытых группах «для взрослых».
М. Griffiths (1998) выдвинул гипотезу, что интернет-аддикция может формироваться на базе различных форм использования Интернета: возможного средства коммуникации при отсутствии контакта лицом к лицу, интереса к непосредственному содержанию сайта (например, порносайты), он-лайновой социальной активности (например, общение в чатах или игры с участием нескольких человек). Полемизируя с К. Янг, М. Griffiths (1999) утверждает, что многие интенсивные пользователи Интернета не являются собственно интернет-аддиктами, а используют сеть для реализации других аддикции. В отли-
17 Зак. 3806
514
«Социально приемлемые» формы нехимических зависимостей
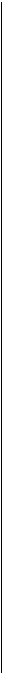 чие от М. Гриффитса, J. Kandell (1998) определил интернет-аддикцию как патологическую зависимость от Интернета вне связи с формой активности в сети.
чие от М. Гриффитса, J. Kandell (1998) определил интернет-аддикцию как патологическую зависимость от Интернета вне связи с формой активности в сети.
Расширяя дефиниции интернет-аддикции, предложенные К. Яш; R. Davis (2001) предложил когнитивно-поведенческую модель патологического использования Интернета. Он выделил две формы интернет-аддикции, которые обозначил как специфическое патологическое использование Интернета (Specific Pathological Internet Use) и генерализованное патологическое использование Интернета (Generalized Pathological Internet Use). Первая форма представляет собой зависимость от какой-либо специфической функции Интернета (он-лайновые сексуальные службы, он-лайновые аукционы, он-лайновая продажа акций, он-лайновый гемблинг). Тематика аддикции сохраняется, она также может быть реализована и вне Интернета. Вторая форма представляет собой неспециализированное, многоцелевое избыточное пользование Интернетом и включает проведение большого количества времени в сети без ясной цели (общение в чатах, зависимость от электронной почты), т. е. в значительной степени связана с социальными аспектами Интернета.
Соглашаясь с К. Янг о неоднозначности феномена интернет-аддикции и поддерживая точку зрения М. Гриффитса, мы считаем, что зависимость от Интернета представляет собой сборную группу разных поведенческих зависимостей, где компьютер — лишь средство их реализации, а не объект. Таким образом, мы считаем возможным выделить следующие типы интернет-зависимых людей:
интернет-гемблеры пользуются разнообразными интернет-играми, тотализаторами, аукционами, лотереями и т. д.;
интернет-трудоголики реализуют свой работоголизм посредством сети (поиск баз данных, составление программ и т. д.);
интернет-сексоголики посещают разнообразные порносайты, занимаются виртуальным сексом;
интернет-эротоголики — любовные аддикты, которые знакомятся, заводят романы посредством сети;
интернет-покупатели, реализующие аддикцию к трате денег посредством бесконечных покупок он-лайн;
интернет-аддикты отношений часами общаются в чатах, бесконечно проверяют электронную почту и т. д., т. е. заменяют реальную аддикцию отношений на виртуальную.
Как и другие химические и нехимические аддикции, разные формы интернет-зависимости могут переходить одна в другую и сосуществовать в различных комбинациях.
Следует выделить еще один важный аспект, связанный с интернет-аддикцией и влияющий на становление иных форм девиантного поведения. Это серьезные опасности, с которыми дети и подростки могут встретиться, непосредственно находясь в режиме он-лайн:
• эксплуатация доверия к детям: их могут соблазнить на совершение непристойных действий;
• доступ к порнографии: дети могут наткнуться на порнографию ввиду ее широкого распространения в сети. Программное обеспечение, ограничивающее доступ детей в такие сайты, не всегда срабатывает, а часто вообще отсутствует, его может не быть в школе, в библиотеке;
• неподходящие контент-сайты с деструктивным содержанием, например с инструкциями по изготовлению бомбы или наркотических веществ. Родителям следует интересоваться сайтами, которые посещают дети, и быть внимательными к любым изменениям поведения ребенка;
Технологические аддикции
515
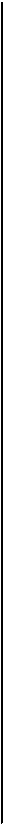 • увлечение играми типа DOOM, QUAKE, сетевыми играми с насилием повышает агрессивность детей. Родителям надо знать, в какие игры играет ребенок, быть готовыми предложить конструктивную альтернативу. Совершенно очевидно, что с ростом компьютеризации в странах СНГ будет неуклонно увеличиваться число и интернет-аддиктов, особенно среди молодежи.
• увлечение играми типа DOOM, QUAKE, сетевыми играми с насилием повышает агрессивность детей. Родителям надо знать, в какие игры играет ребенок, быть готовыми предложить конструктивную альтернативу. Совершенно очевидно, что с ростом компьютеризации в странах СНГ будет неуклонно увеличиваться число и интернет-аддиктов, особенно среди молодежи.
20.7.2. Зависимость от мобильных телефонов ( SMS - аддикция )
Мобильные телефоны в последнее десятилетие стали повседневным атрибутом нашей жизни. В крупнейших городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Казань и др.) число зарегистрированных номеров мобильных телефонов уже превысило или приближается к числу абонентов городской телефонной сети. Наряду с новыми моделями пользователям предлагаются и новые функции мобильных телефонов, помимо непосредственного разговора — почта, фото- и видеосъемка, игры и т. д.
Наибольшую популярность, особенно среди молодежи, завоевала возможность SMS-сообщений, когда абоненты могут обмениваться между собой недорогими, сравнительно короткими сообщениями. Так, согласно последним японским исследованиям, токийские школьники используют мобильные телефоны чаще для отправки сообщений, нежели для разговора. Эти же школьники утверждали, что мобильный телефон необходим им «для дружеских контактов» и они «не мыслят своей жизни без собственного мобильного телефона» (Kamibeppu, Sugiura, 2005).
SMS-зависимость характеризуется потребностью в общении посредством мобильных сообщений, число которых в течение суток может составлять несколько десятков. Общение с помощью SMS предпочитается и заменяет реальное общение, в том числе и в рамках любовных отношений. Для скорости написания сообщения нередко используется понятный пользователям жаргон, в основном состоящий из аббревиатур и сокращений слов и выражений. В отсутствии сообщений аддикт испытывает тревогу, раздражительность, у него снижается настроение. Имеются описания симптома т. н. «SMS-пальца», когда у аддикта в результате длительного использования клавиатуры мобильного телефона отмечаются боли в суставе, воспаление и гипертрофия мышц пальца, нажимающего на кнопки.
Исследовав патологических пользователей мобильных телефонов, австралийские исследователи А. Бьянчи и Дж. Филипс (Bianchi, Phillips, 2005) обнаружили, что это преимущественно молодые люди, экстраверты с пониженной самооценкой.
В последние несколько лет в России аддикция к мобильным телефонам или SMS-зависимость стала предметом широкого обсуждения в СМИ, включая Интернет. К сожалению, профессиональных исследований этого феномена пока не проводилось. В популярных статьях в лучшем случае содержатся упоминания западных публикаций (хотя в зарубежной научной печати их единицы), а в худшем — полупрофессиональные рассуждения о «мобильной наркомании» и ее последствиях. Очевидно, серьезные клинико-психологические исследования данного феномена еще впереди.
Создается впечатление, что, как и в случае с интернет-аддикциями, при SMS-зависи-мости мы сталкиваемся с характерным для всех технологических аддикции феноменом: мобильный телефон является не объектом, а средством реализации других форм аддик-тивного поведения. Посредством передачи сообщений могут реализовываться любовная аддикция и аддикция отношений.
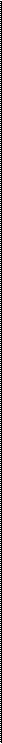 516 «Социально приемлемые» формы нехимических зависимостей
516 «Социально приемлемые» формы нехимических зависимостей
20.8. Любовная аддикция
По мнению Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитриевой (2000), существуют три вида аддикций отношений —любовные, сексуальные и избегания, соприкасающиеся друг с другом. У них общие предпосылки возникновения: проблемы с самооценкой, неспособность любить себя, трудности в установлении функциональных границ между собой и другими. Поскольку такие лица не могут установить границы своего «Я», у них отсутствует способность к реальной оценке окружающих. Для этих людей существуют проблемы контроля: они позволяют контролировать себя или пытаются контролировать других. Характерны навязчивость в поведении, в эмоциях, тревожность, неуверенность в себе, импульсивность действий и поступков, проблемы с духовностью, трудность в выражении интимных чувств.
Любовная аддикция — это аддикция отношений с фиксацией на другом человеке. Такие отношения, как правило, возникают между двумя аддиктами; они получили название соаддиктивных или созависимых. Наиболее характерные соаддиктивные отношения развиваются у любовного аддикта с аддиктом избегания. При таких отношениях на первый план выступает интенсивность эмоций и их экстремальность как в положительном, так и в отрицательном смысле. В принципе, созависимые отношения могут возникнуть между родителем и ребенком, мужем и женой, друзьями, профессионалом и клиентом и т. д. (Короленко, Дмитриева, 2000).
Идея о том, что любовные отношения также могут носить аддиктивный характер, была высказана четверть века назад (Simon, 1982). Как отмечает Т. Тиммрек (Timmreck, 1990), термин «любовная аддикция» применим к лицам, навязчиво добивающимся восстановления прежнего, доставляющего удовольствие уровня отношений с бывшим объектом любви. Дисфункциональные эмоциональные состояния, такие как недоверие, чувство отклонения, потеря себя, укоренившийся гнев, ощущение неудачи, потери и масса других отрицательных эмоций и вслед за этим множество саморазрушающих моделей поведения возникают в эмоционально раненом любовном адцикте. На отсутствие настоящей интимности в отношениях при любовной аддикций указывает Е. Нельсон с коллегами (Nelson et a!., 1994). Вместе с тем среди психотерапевтов преимущественно аналитического направления высказываются сомнения в существовании любовной (и даже сексуальной) аддикций как собственно аддиктивного феномена (Усков, 2000).
По данным зарубежных исследователей, переживания «страстной», «роковой» и «неразделенной» любви в той или иной мере знакомы 62-75% взрослых людей (цит. по: Хмарук, 2005). Несмотря на такую высокую распространенность любовных аддикций, они пока не стали объектом широких научных исследований.
По мнению И. Н. Хмарука (2005), значимость проблематики любовных (эротических) аддикций заключается в том, что они:
• поражают преимущественно лиц молодого возраста;
• приводят к быстрой десоциализации этих людей, что заканчивается значительным прямым и косвенным экономическим ущербом для каждого из них, их семей и общества в целом;
• повышают уровень аутодеструктивного и аутоагрессивного поведения у аддиктов;
• повышают уровень суицидального риска;
• повышают криминализацию и виктимизацию пациентов;
• способствуют большому количеству коморбидных расстройств;
Кроме того, на настоящий момент отсутствует единое понимание природы, психопатологии, клинической динамики, подходов к терапии и профилактике данного расстройства.
Любовная аддикция
517
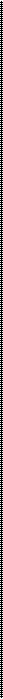 В последнее десятилетие в зарубежной литературе описывается новый вариант любовной аддикции — сталкерство (stalking). Оно объединяет элементы поведения, включающие повторные и продолжающиеся попытки навязать другому человеку нежелаемое знакомство и/или контакт. Знакомство и общение может осуществляться по телефону, в письмах, с помощью электронной почты, граффити; контакт происходит при приближении к жертве, во время ее сопровождения и постоянной слежки (Mullen et al„ 1999). Сталкерство — в значительной степени культуральный феномен, распространенный преимущественно в западной цивилизации, оно несет реальную угрозу жертвам этого явления (Mullen et al., 2005). М. Зона и его коллеги (Zona et a!., 1993) выделили три группы сталкеров: эротоманы (сексуальные аддикты), невротики-ананкасты и сталкеры с навязчивой любовью (любовные аддикты). В свою очередь, П. Мюллен с сотрудниками (Mullen et al., 1999) выделил пять групп сталкеров, различающихся по мотивам стал-керства: отвергнутые, ищущие интимность, социально отвергнутые, обиженные и хищники. Угрожают своим жертвам и портят их имущество чаще обиженные сталкеры, а на прямое нападение чаще идут отвергнутые и хищники. Сталкерство распространено и среди женщин, причем их мотивация при этом отличается от мотивации сталкеров-мужчин. Наиболее типично для женщин-сталкеров стремление добиться максимальной интимности от жертвы, которую они ранее знали. При этом такая женщина играет роль профессионального «спасителя» (Purcell et al., 2001). На данный момент феномен стал-керства в России научно не исследовался.
В последнее десятилетие в зарубежной литературе описывается новый вариант любовной аддикции — сталкерство (stalking). Оно объединяет элементы поведения, включающие повторные и продолжающиеся попытки навязать другому человеку нежелаемое знакомство и/или контакт. Знакомство и общение может осуществляться по телефону, в письмах, с помощью электронной почты, граффити; контакт происходит при приближении к жертве, во время ее сопровождения и постоянной слежки (Mullen et al„ 1999). Сталкерство — в значительной степени культуральный феномен, распространенный преимущественно в западной цивилизации, оно несет реальную угрозу жертвам этого явления (Mullen et al., 2005). М. Зона и его коллеги (Zona et a!., 1993) выделили три группы сталкеров: эротоманы (сексуальные аддикты), невротики-ананкасты и сталкеры с навязчивой любовью (любовные аддикты). В свою очередь, П. Мюллен с сотрудниками (Mullen et al., 1999) выделил пять групп сталкеров, различающихся по мотивам стал-керства: отвергнутые, ищущие интимность, социально отвергнутые, обиженные и хищники. Угрожают своим жертвам и портят их имущество чаще обиженные сталкеры, а на прямое нападение чаще идут отвергнутые и хищники. Сталкерство распространено и среди женщин, причем их мотивация при этом отличается от мотивации сталкеров-мужчин. Наиболее типично для женщин-сталкеров стремление добиться максимальной интимности от жертвы, которую они ранее знали. При этом такая женщина играет роль профессионального «спасителя» (Purcell et al., 2001). На данный момент феномен стал-керства в России научно не исследовался.
Нередко объектом сталкеров становятся врачи, в,первую очередь психиатры и психотерапевты. По мнению австралийских исследователей, они интересуют две группы сталкеров: I) пациенты, культивирующие в себе романтические или инфантилные ожидания, приводящие их к надеждам на установление отношений. Эти надежды могут усилиться на основе бредовых убеждений (эротоманический бред), а также необоснованных предположений, что доктор «одинок и доведен до отчаянья», либо нереалистических ожиданий возможности быть просто поклонником; 2) пациенты, культивирующие в себе возмущение против профессионалов-врачей, обычно основанное на предполагаемом ятрогенном нанесении вреда или преступной халатности (Pathe et al., 2002).
Любовные (эротические) аддикции рассматриваются как форма болезни нехимически зависимого поведения и соответствуют таксону F63.8 МКБ-10. Другие расстройства привычек и влечений (Хмарук, Степанова, 2005). Для любовных аддикции, как и для других форм зависимого поведения, характерны следующие клинические проявления:
• трудноконтролируемая тяга к повторному совершению поведенческих актов;
• сниженная способность контролировать эти действия по ходу эпизода;
• отсутствие ясной рационализации мотивов этих действий, причиняющих психологический, социальный и правовой ущерб как самому пациенту, так и его окружению;
• поглощенность реализацией аномального влечения.
Признаки любовных аддикции, приведенные Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитриевой (2000), заключаются в следующем:
1. Непропорционально много времени и внимания уделяется человеку, на которого направлена аддикция. Мысли о «любимом» доминируют в сознании, становясь сверхценной идеей. Процесс носит в себе черты навязчивости, сочетаясь с насильственнос-тью, от чего чрезвычайно трудно освободиться.
2. Аддикт находится во власти переживания нереальных ожиданий в отношении другого человека, находящегося в системе этих отношений, без критики к своему состоянию.
518
«Социально приемлемые» формы нехимических зависимостей
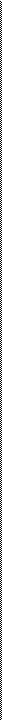 3. Любовный аддикт забывает себя, перестает заботиться о себе и думать о своих потребностях вне аддиктивных отношений. Это распространяется и на отношение к родным и близким. У аддикта имеются серьезные эмоциональные проблемы, в их центре страх, который он старается подавить. Страх часто находится на уровне подсознания. Страх, присутствующий на уровне сознания, — это страх быть покинутым. Своим поведением аддикт стремится избежать покинутости. Но на подсознательном уровне представлен страх интимности. Из-за этого аддикт не в состоянии перенести «здоровую» близость. Он боится оказаться в ситуации, где придется быть самим собой. Это приводит к тому, что подсознание ведет аддикта в ловушку, и он подсознательно выбирает себе партнера, который не может быть интимным. По-видимому, это связано с тем, что в детстве аддикт потерпел неудачу, пережил психическую травму при проявлении интимности к родителям.
3. Любовный аддикт забывает себя, перестает заботиться о себе и думать о своих потребностях вне аддиктивных отношений. Это распространяется и на отношение к родным и близким. У аддикта имеются серьезные эмоциональные проблемы, в их центре страх, который он старается подавить. Страх часто находится на уровне подсознания. Страх, присутствующий на уровне сознания, — это страх быть покинутым. Своим поведением аддикт стремится избежать покинутости. Но на подсознательном уровне представлен страх интимности. Из-за этого аддикт не в состоянии перенести «здоровую» близость. Он боится оказаться в ситуации, где придется быть самим собой. Это приводит к тому, что подсознание ведет аддикта в ловушку, и он подсознательно выбирает себе партнера, который не может быть интимным. По-видимому, это связано с тем, что в детстве аддикт потерпел неудачу, пережил психическую травму при проявлении интимности к родителям.
Признаки аддикции избегания:
1. Уход от интенсивности в отношениях со значимым для себя человеком (любовным аддиктом). Аддикт избегания проводит время в другой компании, на работе, в общении с другими людьми. Он стремится придать отношениям с любовным аддиктом «тлеющий» характер. Налицо амбивалентность отношений с любовным аддиктом: они важны, но он их избегает, не раскрывает себя в этих отношениях.
2. Стремление к избеганию интимного контакта с использованием техник психологического дистанцирования. На уровне сознания у аддикта избегания находится страх интимности. Аддикт избегания боится, что при вступлении в интимные отношения он потеряет свободу, окажется под контролем. На подсознательном уровне это страх покинутости. Он приводит к желанию восстановить отношения, но держать их на дистантном уровне.
Процесс аддикции позволяет выделить в нем несколько этапов:
1. Период, когда интенсивные эмоциональные переживания будут иметь положительный знак. Этап знакомства аддиктов: аддикт избегания производит впечатление на любовного аддикта.
2. Развитие фантазирования. Происходит связь ранее имевшихся фантазий с реальным объектом, что несет радость и чувство освобождения от неприятных ощущений жизни как неинтересной и серой. Любовный аддикт на пике фантазирования проявляет все большую требовательность к партнеру, что способствует уходу аддикта избегания от этих отношений.
3. Развитие осознания того, что в отношениях не все в порядке. На каком-то этапе любовному аддикту приходится признать, что его покидают. Возникают явления отнятия с характерными для них депрессией, дистимией и безразличием. Начинается анализ произошедшего с целью вернуть все назад. Отношения разрушаются, но в будущем могут быть восстановлены либо с прежним, либо с другим партнером.
В отношениях аддиктов отсутствуют здоровые разграничения, без чего невозможна ни интимность между партнерами, ни признание права на собственную жизнь. Это приводит к тому, что они обвиняют друг друга в нечестности, используют сарказм, преувеличения и оскорбления.
Вместе с тем любовный аддикт и аддикт избегания тянутся друг к другу вследствие «знакомых» психологических черт. Несмотря на то что привлекающие черты другого могут быть неприятными, вызывать эмоциональную боль, они привычны с детства и напоминают ситуацию переживаний в нежном возрасте. Возникает влечение к знакомому. Оба вида аддиктов обычно не увлекаются неаддиктами. Последние кажутся им скучными, непривлекательными; они не знают, как себя с ними вести.
Любовная аддикция
519
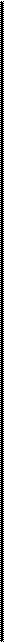 Существуют факторы, способствующие влечению любовных аддиктов к аддиктам избегания:
Существуют факторы, способствующие влечению любовных аддиктов к аддиктам избегания:
• привлекательность того, что знакомо;
• привлекательность ситуации, содержащей в себе надежду на то, что «раны детства» могут быть излечены на новом уровне;
• привлекательность возможности реализации фантазий, созданных в детстве.
По мнению И. Н. Хмарука(2005), факторами, способствующими провоцированию
любовных (эротических) аддикций, являются: утрата объекта эротической привязанности (реальная или мнимая), потеря уверенности в позитивном отношении с его стороны, угроза расставания на фоне нарастающего конфликтного взаимодействия либо ситуация «любовного треугольника».
Мотивы обращения за психологической и психотерапевтической помощью лиц с признаками любовной аддикций в ситуации кризиса эмоционально-значимых отношений, по наблюдению И. Н. Хмарука и Ю. С. Степановой (2005), таковы:
1) потребность в эмпатической поддержке, принятии («желание поговорить, выплакаться, выговориться» как результат острой реакции на стресс);
2) желание найти одобрение (либо оправдание) своего поведения у врача-психотерапевта или консультанта-психолога;
3) желание найти поддержку в осуждении «недостойного (плохого)» поведения партнера;
4) желание получить «психологический анализ» причин поведения партнера с целью «повлиять на него» («сделать так, чтобы он (она) понял»);
5) потребность разобраться в истинных причинах происшедшего с целью найти способы конструктивного разрешения сложившейся ситуации.
Рассмотрение любовных аддикций («патологической любви») как одной из нехимических форм аддиктивного поведения открывает новые перспективы изучения этого сложного феномена и терапевтических возможностей с позиций аддиктологии.








