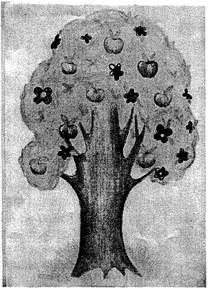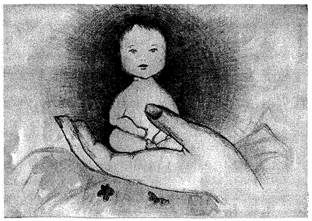С: Вот, мы дойдем сейчас вот до рынка сначала, а потом туда (показывает в сторону театра «Балтийский Дом»).
Следующим объектом съемки стала ограда с узорами и дворик на улице Ленина.
С: Вон еще дворик красивый, да? Давайте его сфотографируем. Здесь у меня знакомые жили. Но, в общем-то, даже дело не в этом, просто мы говорили о городе, о старом, вот он и есть.
Затем мы пришли на Ситный рынок, и Сергей сделал несколько снимков внутри. Я обратила внимание на потолок, отремонтированный, застекленный, солнечная сторона закрыта жалюзи.
150
Применение визуально-нарративного подхода
П.: Красиво смотрится.
С: Раньше тоже было хорошо, но чистоты я не помню. Зато помню, что всегда было изобилие: мясо, зелень, фрукты.
П.: Что Вы любили здесь покупать?
С: Зелень, помидоры, огурцы. Это единственное было место, где можно было купить недорогие, качественные продукты. Если сравнивать с Кузнечным, то цены здесь были приемлемые. Сейчас здесь чище стало. Раньше-то здесь все стены масляной краской были покрашены. Может быть, сейчас даже светлее стало.
После этого мы направились в сторону театра «Балтийский Дом», и Сергей его сфотографировал.
С: Бывший кинотеатр «Великан». Ходили туда кино смотреть, я тогда молод был. Теперь он как-то по-другому выглядит. Это парк Ленина.
П.: Теперь он Александровский парк называется.
Прогулка с Алексеем
Алексей, 42 года, образование среднее, по профессии портной. Посетил одну консультацию в Ц.С.А. Проблема, с которой он обратился — поиск работы. Основными темами, обсуждаемыми на консультациях, были: восстановление прав на жилье; поиск работы; восстановление недостающих документов; как познакомиться с женщиной. Алексей — мужчина среднего роста, нормального телосложения, при общении часто улыбается, шутит, темп речи быстрый.
На мое предложение принять участие в прогулке с фотоаппаратом согласился с большим энтузиазмом. На первом же занятии, для создания настроя на прогулку, была заполнена анкета.
1. Вы режиссер фильма, который хотите снять. Как Вы назовете
этот фильм?
Ответ: «Ностальгия».
2. Место прогулки. Ответ: Дворцовый мост.
3. О чем будет этот фильм?
Ответ: Если и будет присутствовать грусть, то немного. Мне нравится, красиво там. В принципе, можно и здесь (имеется в виду район Купчино), но я выбираю там, на Дворцовой площади.
151
Т.А. Андреева
4. Тема прогулки.
Ответ: Ностальгия и, может, что-то еще.
5. Цель прогулки.
Ответ: Умиротворение, спокойствие, так как сейчас есть тревога, неурядицы мелкие и крупные.
6. Почему выбрано именно это место города?
Ответ: Это место, где я родился, и его люблю. Я жил на Сенной площади (площади Мира), родился на улице Рылеева. Но я не хочу туда заходить. Там сейчас нечего делать: окружение, знакомые, все не нравится.
7. Маршрут, которым мы пойдем.
Ответ: Исаакиевская площадь, Дворцовая площадь, Дворцовый мост. Я очень часто так гулял, когда был на свободе.
Встреча была назначена у станции метро «Нарвская» 1 июля 2004 г. в 16:00. Когда я подошла, Алексей уже ждал меня. Я напомнила ему, что маршрутом руководит он сам, как мы и договаривались на прошлом занятии. По пути следования поезда Алексей несколько раз менял решение о том, на какой станции выйти. Сначала он хотел выйти на станции метро «Канал Грибоедова», затем сказал, что мы выйдем на «Сенной площади», откуда он проведет меня коротким путем до Исаакиевской площади. Мы пересекли Сенную площадь. Около магазина «Океан» перешли деревянный мост через канал Грибоедова и проходными дворами направились к Исаакиевской площади. По пути, пересекая улицу Рылеева, Алексей показал дом, сообщив, что жил в нем, когда был подростком. Когда мы переходили мост через Мойку, глядя на Исаакиевский собор, он сказал, что за все годы так и не побывал в нем.
Алексей, практически не останавливаясь, сфотографировал Исаакиевский собор.
П.: Почему Вы захотели первым кадром снять Исаакиевский собор?
А.: Потому что это очень красивое здание.
Направляясь к Адмиралтейству, Алексей показал мне клумбу с цветами, находящуюся в Александровском саду.
А.: Помню, на этой клумбе всегда росли красивые цветы. У меня с ней связано много историй.
П.: А какая история связана с этими цветами? А.: Я иногда их воровал вечером. П.: А какие там были цветы?
152
Применение визуально-нарративного подхода
А.: Там разные были цветы — тюльпаны, гладиолусы, какие-то редкие были цветы. Я их срывал, чтобы девушке подарить. П.: Розы были? А.: Были, конечно. Разные розы.
Когда мы подошли к памятнику M.II. Пржевальскому, Алексей его сфотографировал.
А.: В детстве я любил на этого верблюда забираться.
П.: Почему Вы сфотографировали памятник сбоку?
А.: Не знаю, мне понравилось отсюда. Не знаю, почему я его сбоку сфотографировал. Мне не памятник, но верблюд нравится. Я здесь очень часто гулял с родителями. Потом уже взрослыми, когда с ребятами гуляли, тоже залезали.
П.: Когда лазить перестали на верблюда?
А.: Ну это я вот только сегодня не залез (смеется). А так бы мог сам наверх залезть. Я не обращаю внимания, как кто обо мне подумает. Если мне это нравится, я это сделаю.
Когда мы направлялись в сторону Эрмитажа, разговор зашел о том, что в молодые годы человек подчас не задумывается о последствиях совершаемых поступков.
П.: Вам уже дважды пришлось за это поплатиться. А.: Даже трижды. В те годы это была романтика. П.: Сколько лет Вам было, когда Вы были осуждены первый раз? А.: Около двадцати.
П.: Мы идем маршрутом, которым Вы ходили с друзьями в молодости?
А.: Да, мы часто ходили именно этим маршрутом.
П.: Когда освободились, Вы уже гуляли в этих местах?
А.: Был.
П.: Давно?
А.: Месяца полтора назад.
Затем Алексей захотел сфотографировать парусник, проплывающий мимо Ростральной колонны, но не успел. Далее он рассказал о том, что когда им с друзьями было по 17 лет, однажды они более трех часов катались по Неве на буксире, заплатив какую-то символическую сумму владельцу.
А.: Я чувствую себя иностранцем: хожу и фотографирую места, которые есть на всех открытках.
153
Т.А. Андреева
Следующим объектом для фотосъемки стала Петропавловская крепость. Фотографируя, Алексей пояснил, что это значимый кадр, потому что за то время, пока его не было в городе, Петропавловский собор был покрашен и отреставрирован. Идя затем вдоль Невы, мы говорили о том, как приятно гулять по красивой набережной и любоваться прекрасными видами реки и дворцов.
П.: Как Вам кажется, какая цель получилась у нашей прогулки? А.: Просто отдых, пройти по знакомым местам, расслабиться, забываешь о неурядицах, просто так гуляя...
Затем мы направились в сторону Марсового Поля. На газоне нам встретился куст пионов, и Алексей его быстро сфотографировал.
П.: Чем Вас привлекли эти пионы?
А.: У нас на даче, в Павловске, росли огромные кусты пионов. Мама сажала. Я все детство проводил летом на даче. С мая вся семья уезжала.
П.: А что потом?
А.: Потом родители развелись, и бабушка дачу продала. Сказала: «Раз это никому не нужно, то и я работать не смогу».
П.: Сколько Вам тогда было лет?
А.: Лет двенадцать.
П.: Из-за чего родители развелись?
А.: Отец пил.
По пути к собору Спаса-на-Крови Алексей признался, что опасается опять попасть в заключение: для него это будет уже третий раз. Опять заговорил о том, что уже трижды получал жилье и терял его, попадая в тюрьму. Он добавил, что ощущает себя в Ц.С.А. как в гостях. Не чувствует себя свободным, хочется, чтобы был свой дом. Он стал рассказывать о том, как шесть лет назад получил комнату через полтора месяца после освобождения, а теперь обещают жилье не раньше, чем через полгода. Затем Алексей сфотографировал собор Спаса-на-Крови, сказал, что это очень красивый собор и что он всегда любуется им, когда проходит мимо. Алексей захотел сфотографировать собор и с другой стороны, выбрав для съемки один из куполов. Когда мы шли вдоль канала Грибоедова, он рассказывал о том, как был осужден в последний раз за преступление, которого не совершал. Затем он обратил внимание на то, как красиво светится купол на Доме Книги, но сфотографировать решил Казанский собор.
154
Применение визуально-нарративного подхода
Сравнительный анализ поведения клиентов и тем прогулок
Прогулка с Александром
Александром основное внимание было уделено периоду детства (от 3 до 5 лет). Важнейшим действием во время прогулки являлось «картографирование» местности, помогавшее Александру заново пережить свое прошлое и соотнести его с настоящим. Каждый объект фотосъемки, каждый сделанный кадр словно «высвечивал» лучом света все новые и новые его воспоминания о периоде детства. Ведущая тема — тема Героя, его сопряженного с опасностью путешествия и последующего возвращения («Как бы победа, я как бы не погиб»). Темы, звучавшие во время прогулки с Александром, по их субъективной значимости для него можно представить в следующем порядке: история о жизни в родительской семье; любимые места детства; любимая игра детства; родной двор; творчество, которым он занимался на «зоне» (стихи, эссе); обстоятельства, из-за которых утратил жилье.
Прогулка с Сергеем
Малоразговорчивый, тяжело поддающийся расспросам и как бы вовсе не способный к анализу, Сергей во время прогулки постепенно оживился, стал жестикулировать. Тихая, невнятная речь преобразилась в четкие фразы, голос зазвучал громче. Его рассказ о жизни на свободе в процессе прогулки и «история об успешном бизнесе» показались мне очень интересными. Я бы, пожалуй, назвала эти две темы ведущими в нарративе Сергея. Он оказался довольно талантливым рассказчиком, да и сама прогулка длилась около четырех часов. Основные затронутые им темы — предстоящий суд, помощь адвоката, работа художником, творчество, как заработать на жизнь, взаимоотношения с дочерью, бизнес, которым он занимался. Не проговаривалась, но отчетливо слышалась тема: «Почему все-таки так получилось, что меня осудили?»
155
Т.А. Андреева
Прогулка с Алексеем
Во время фотосессии наиболее важной для Алексея оказалась тема детства (от 2 до 8 лет) — где любил гулять, кто родители, какие у них были отношения, а также тема отрочества (формы проведения досуга в подростковом возрасте). Часто в связи с воспоминаниями о детстве и отрочестве звучала тема «Любимый маршрут».
Таким образом, для подопечных Ц.С.А. первое место по значимости занимали следующие темы: воспоминания о жизни на «зоне», как и за что были получены первая, вторая (и т. д.) судимости. Во время прогулок с фотоаппаратом появляться и иные темы, такие как воспоминания о детстве (Александр), воспоминания о детстве и юности (Алексей), жизнь на свободе (Сергей).
Складывалось впечатление, будто темы, связанные с судимостью и пребыванием в местах лишения свободы, теряли свою значимость для клиентов, когда они попадали в определенные места города, заглушались нахлынувшими воспоминаниями, которые преподносила сама среда, окружающая гуляющего. Александр настойчиво придерживался темы детства, счастливых прогулок в парке с няней, безоблачной жизни в родительском доме. Тема «Как и за что получил судимость» была затронута им лишь исподволь, в рассказе об игре в узника. В то же время тема узника у Александра тесно переплетается с темой Героя. Узник из фильма «Королевство кривых зеркал» для него, несомненно, является героическим персонажем.
Сергеем тема детства (период до 8 лет) была затронута лишь косвенно — через фотографирование дворика детства и садика в этом дворе, через рассказ о колокольном звоне. Алексей в начале прогулки настойчиво придерживался темы «Любимого маршрута», однако увиденный куст пионов навел его на воспоминания о более ранней поре жизни, когда он был ребенком (5-10 лет).
Можно признать, что в выборе клиентами объектов для фотографирования в большинстве своем был заключен глубокий символический смысл, отражающий их потребности и чувства, хотя ими это часто не осознавалось. Некоторые потребности и чувства, очевидно, были навеяны контекстом терапевтических отношений и могли отражать переносы.
Таким образом, можно констатировать изменение значимости тем в зависимости от среды, в которой происходило мое общение с клиентами, а также видов деятельности и структуры взаимоотношений. Так,
156
Применение визуально-нарративного подхода
за пределами Ц.С.А. клиенты имели возможность почувствовать себя более свободно и даже ощутить себя проводниками. Им принадлежала решающая роль в выборе и съемке объектов, они вели повествование, а я лишь помогала им в этом. Во время же консультаций в Ц.С.А., находясь в институциональной среде, подконтрольной администрации, они чувствовали себя ведомыми. Это не могло не акцентировать их внимание на теме судимости и о пребывания на «зоне», заставляло их включать психологические защиты и «фильтровать» информацию, обсуждаемую с психологом.
Четвертый и пятый этапы работы с фотографиями не были осуществлены. Осенью я вновь посетила Ц.С.Л. в надежде продолжить консультации и обсуждение результатов фотосессий. Оказалось, однако, что за лето контингент проживающих там едва ли не полностью сменился. Судьба тех, с кем я проводила консультации, сложилась следующим образом: Александр познакомился с женщиной и стал жить в ее доме, в пригороде; Сергей вскоре после наших занятий был вновь осужден за кражу; Алексей устроился на работу и, по словам заместителя директора Центра, посвящал ей очень много времени.
Проанализировав свой опыт общения с клиентами, я сделала определенные выводы. Александр показался мне весьма творческим человеком. Его рассказ о детстве, философские размышления во время нашей прогулки и нашего общения на консультациях, его стихи, которые он писал в течение долгих лет жизни на «зоне», производили сильное впечатление и свидетельствовали о его значительных личностных ресурсах. Тема детства, не звучавшая в ходе консультаций, стала для него центральной во время прогулки. Образ матери, женщины в различных ее значимых ролях был, несомненно, определяющим при выборе Сергеем объектов для фотосъемки. Выбор им для фотосъемки нескольких скульптур, изображавших женщин, воспоминания о Яло, героине фильма «Королевство кривых зеркал», его желание сфотографировать меня для того, чтобы заполнить пустоту павильона в Парке Победы — все это не могло не свидетельствовать об актуальной для него потребности в общении с женщиной, воспринимаемой им в качестве источника внутренней опоры и надежды, а также того, что может придать смысл его жизни.
Сергей производил впечатление неуверенного, сомневающегося в себе человека. Он не видел никаких перспектив для себя на свободе, ему пришлось бы приложить слишком много усилий для того, чтобы адаптироваться к той жизни, от которой он отвык, находясь на «зоне».
157
Т.А. Андреева
Однако его рассказ о жизни на свободе, оживившаяся по мере продвижения по маршруту речь, волнение, звучавшее в его голосе, когда он затрагивал тему бизнеса, подавали надежду на то, что этот человек еще сможет многое начать заново. Но Сергей сделал другой выбор.
Для Алексея оказалось важным не то, что снимаемые им объекты есть на всех известных открытках, а то, что они словно открывались ему заново, помогли оживить значимые переживания и надежды. Во время прогулки, перемещаясь в воспоминаниях от подросткового возраста к детству и путешествуя своим любимым маршрутом, Алексей словно искал выход из сложившейся жизненной ситуации. Возможно, в дальнейшем именно это помогло ему успешно включиться в поиски работы.
Заключение
В ходе фотосессий под предлогом прогулки решались важнейшие задачи реабилитации. Делая снимки, клиенты рассказывали об определенных моментах своей жизни, при этом они более открыто, нежели во время консультаций в Ц.С. А., делились воспоминаниями и выражали свои чувства и надежды. Чрезвычайно важно, что во время прогулок их отношения с психологом складывались иначе, чем в институциональной среде; они могли почувствовать себя проводниками и даже Героями путешествия по жизни. Они делали самостоятельный выбор, осуществляли «картографирование» своего жизненного пространства.
Это не могло не повышать их самооценку. Важным фактором также служило присутствие специалиста, заинтересованного в их переживаниях и воспоминаниях. Совместная прогулка с психологом, более непринужденная, чем в учреждении, атмосфера общения помогали снять психологические защиты, обеспечивали более искреннее выражение клиентами своих чувств и позволяли получить доступ к личностно значимому для них психологическому материалу.
Следует отметить также стимулирующее воздействие прогулки на клиентов, их физическое и эмоциональное оживление, достигаемое благодаря взаимодействию с объектами окружающего мира. Процесс фотографирования можно уподобить визуальному «высказыванию»: за каждой
158
Применение визуально-нарративного подхода
фотографией скрываются определенные представления и переживания, порой — целое повествование или рассказ. Некоторые снимки могут оказаться первой страницей нового «романа». Неизбежная для этого вида творчества апелляция к реальности позволяет автору сохранить связь с социальным и культурным пространством, но в то же время оставляет практически неограниченные возможности для выбора и тем самым поддерживает авторскую позицию и субъективность восприятия.
Нельзя не признать, что в силу символичности и многозначности кадра фотография оказывается средством целостного и многомерного повествования, отражающего как осознаваемые, так и неосознаваемые аспекты опыта автора. Автор просто не успевает уследить за многообразием значений, которыми наполняются фотографируемые объекты в момент их выбора и съемки, когда они превращаются в символические образы. Только последующее длительное разглядывание снимков и размышление над ними позволяют постичь эти смыслы. Незавершенность нашей работы, к сожалению, не позволила этого сделать.
Выводы
Применение визуально-нарративного подхода в форме прогулок с фотоаппаратом, сопровождаемых созданием биографических повествований, в работе с бывшими заключенными помогло защитить их личные границы и перестроить терапевтические отношения в пользу большей свободы и инициативности клиентов.
Такие занятия положительно повлияли на их эмоциональное состояние, отношение к себе и к миру. Наиболее ресурсными оказались темы, связанные с детством и юностью, хотя в некоторых случаях затрагивался психологически сложный, травматичный материал.
Я расцениваю опыт общения с подопечными Ц.С.А. как интересный и очень важный для себя. Судьба людей, находящихся «на грани», переживших личную драму, оказавшихся «на обочине», но, несмотря на это, не утративших воли к продолжению своего путешествия по жизни, глубоко волнует меня.
159
Т.А. Андреева
Литература
Барби М. Визуально-нарративный подход к пониманию транссексуальной идентичности // Фототерапия: использование фотографии в психологической практике / Под ред. А.И. Копытина. М.: Когито-Центр, 2006. С. 162-189.
Копытин А.И. Применение фотографии в психотерапии // Фототерапия: использование фотографии в психологической практике / Под ред. А.И. Копытина. М.: Когито-Центр, 2006. С. 9-68.
Копытин А.И., Корт Б. Исцеляющие путешествия: техники аналитической арт-терапии. СПб.: Речь, 2007.
British Association of Art Therapists. Artists and art therapists: a brief description of their roles within hospitals, clinics and the community. London: BAAT, 1989.
Barry D. Artful inquiry: a symbolic constructionist approach to social science research // Qualitative Inquiry. 1996. 2 (4). P. 411-438.
Коррекция
психофизиологического состояния беременных женщин средствами музыки и рисования
Е.Л. Толчинская
Музыкальная терапия является одной из областей лечебной практики. К Брусциа определяет ее как целенаправленный процесс, «...в ходе которого психотерапевт помогает клиенту улучшить, сохранить или восстановить свое психическое здоровье, используя для этого музыкальный опыт и психотерапевтические отношения, которые, развиваясь в ходе занятий, выступают движущим фактором психических изменений» (Bruscia, 1989). В настоящее время в Российской Федерации накоплен определенный опыт лечебного и здо-ровьесберегающего использования музыки, отраженный, в частности, в работах Л.С. Брусиловского (Брусиловский, 1973), М.Л. Лазарева (Лазарев, 1993), В.И. Петрушина (Петрушин, 1997), СВ. Шушарджа-на (Шушарджан, 1998), В.М. Элькина (Элькин, 2000), А.Г. Юсфина (Юсфин, 2001). Проблемам музыкальной терапии посвящены также книги таких авторов, как К. Рюгер (Рюгер, 1998) и Г.-Г. Декер-Фойгт (Декер-Фойгт, 2003).
В некоторых случаях музыка в ее импрессивных (прослушивание музыки) и экспрессивных (исполнение музыки) формах используется в ходе занятий арт-терапией и психотерапии искусством. В книге
Е.А. Толчинская
А.И. Копытина «Тренинг коммуникации: арт-терапия» (Копытин, 2006) предлагаются различные техники, игры и упражнения, предполагающие применение музыки в комплексе с творческим самовыражением в других модальностях — рисунком, драматизацией, движением и танцем. Это позволяет предполагать, что сочетание музыки с иными экспрессивными формами повышает терапевтические возможности программы.
Известны примеры использования музыки в работе с беременными (Лазарев, 1993; Юсфин, 2001). М.Л. Лазарев указывает на три фактора лечебного, гармонизирующего воздействия музыки на организм беременной женщины: психолого-эстетический (ассоциации, эмоции, образный ряд); физиологический (воздействие на различные функции организма); физический, или вибрационный (вибрационное воздействие на клетки плода, приводящее к активизации биохимических процессов) (Лазарев, 1993). Д. Кэмпбелл отмечает, что музыка влияет на биохимические процессы организма: «Музыкальная стимуляция увеличивает выделение эндорфина и лимфоцитов, которые повышают сопротивляемость организма болезням» (Кэмпбелл, 1999, с. 89). Психологическое объяснение целебности музыкального влияния дает Г.-Г. Декер-Фойгт: «Музыка способна "поднять со дна" те слои переживаний, которые образовались в предвербальное время, т. е. задолго до того, как человек научился говорить» (Декер-Фойгт, 2003, с. 180).
Несмотря на многочисленные эмпирические свидетельства целебного, гармонизирующего воздействия музыки, его механизмы пока явно недостаточно изучены с применением современных методов научного исследования. Это, в частности, относится и к такой быстро развивающейся области психологической и психотерапевтической практики, как перинатальная психология и психотерапия.
Нами была построена программа психологической коррекции самочувствия беременных женщин средствами музыки. Реализация данной программы позволила изучить некоторые эффекты ее воздействия на беременных женщин, а также определить связь этих эффектов с особенностями музыкального восприятия, личностными свойствами и психическим состоянием пациенток.
162
Коррекция психофизиологического состояния беременных женщин
Задачи, материал и методы исследования
Задачи исследования включали:
• изучение личностных свойств и особенностей психического состояния беременных женщин;
• уточнение критериев подбора музыки, используемой с целью коррекции самочувствия беременных женщин, с учетом их личностных свойств и особенностей психического состояния;
• выбор формы организации психологической помощи беременным женщинам средствами музыки;
• исследование влияния программы музыкальной коррекции на самочувствие и эмоциональное состояние женщин;
• изучение диагностических возможностей восприятия музыки беременными женщинами;
• анализ динамики психического состояния беременных женщин под влиянием музыкальной коррекции;
• изучение влияния музыкальной коррекции на течение родов и психофизиологическое развитие детей.
Нами были использованы следующие методы исследования:
• опросник С. Будасси для определения акцентуаций характера;
• опросник Айзенка;
• 16-факторный опросник Р. Кеттелла;
• самоотчеты беременных женщин;
• методика САН;
• тест Люшера;
• измерение физиологических параметров (частота сердечных сокращений [ЧСС]; частота дыхания [ЧД]; контрольная пауза дыхания [КП] — показатель выносливости человека, проявляющийся в способности некоторое время обходиться без кислорода);
• методика изучения цветомузыкальных ассоциаций.
Работа осуществлялась нами на протяжении восьми лет на базе одной из поликлиник г. Сыктывкара. Музыкальная коррекция была проведена с 233 женщинами. Были также обследованы дети первого
163
Е.А. Толчинская
года жизни (35 человек), родившиеся от матерей, участвовавших в программе музыкальной коррекции. В контрольную группу вошли 100 респонденток из числа женщин, посещавших дневной стационар женской консультации, но не принимавших участия в программе музыкальной коррекции. Мы также изучили особенности развития детей 35 женщин, составивших контрольную группу, в течение первого года жизни.
Структура и содержание сеансов музыкальной коррекции
Сеансы музыкальной коррекции проводились два раза в неделю и длились по полтора часа. Курс включал от 5 до 16-18 занятий, в зависимости от срока беременности. В ходе каждого сеанса дважды проводились тестирование и замеры физиологических параметров (в начале и в конце сеанса).
Затем женщинам предлагались для прослушивания четыре произведения в «живом» фортепианном исполнении (исполнителем выступала автор исследования): шедевры классической музыки, народные песни и романсы без участия голоса и текста. Последовательность предъявления произведений была следующей: вначале звучало произведение, образно-эмоциональный строй которого соответствовал настроению слушателей, а затем исполнялись произведения, способствующие оптимизации состояния и созданию светлого мироощущения в конце сеанса. Некоторые занятия могли включать разучивание и исполнение женщинами колыбельных, а также песен, тексты которых описывают уход за детьми.
Во время звучания музыки женщины заполняли анкету, оценивая свое состояние по пятибалльной шкале. Им также предлагалось указать цветовые ощущения, возникающие у них при восприятии музыки.
Нередко первая часть сеанса включала рисование в качестве дополнительного диагностического и коррекционного средства, однако музыка рассматривалась как основной фактор психокоррекционного воздействия. Рисунки создавались в основном на фоне звучания классической и духовной музыки. Нередко женщинам предлагались
164
Коррекция психофизиологического состояния беременных женщин
темы для рисования: «Мой ребенок», «Я и мой ребенок», «Моя семья», «Рождение». В отдельных случаях создавались работы на свободную тему. Обсуждение рисунков, как правило, было непродолжительным и проводилось с целью уточнения ассоциаций, связанных с рисунком и его элементами.
Иногда во время сеансов женщинам предлагалась такая форма работы, как движение под музыку с целью общей активизации. Однако движения при этом были относительно спокойными и соответствовали характеру музыки.
Вторая часть сеанса была посвящена выполнению упражнения, развивающего навыки релаксации. На фоне звучания медитативной музыки в магнитофонной записи ведущим произносился текст кор-рекционной направленности.
Результаты исследования
Анализ показателей, отражающих личностные свойства и самочувствие беременных женщин, свидетельствует о том, что в начале курса в экспериментальной группе преобладали женщины подвижной (65,7% обследуемых) и чувствительной (31,4%) акцентуаций характера. Экстраверты составили 40%, интроверты — 31,4% обследуемых. 54,2% женщин обладали повышенным нейротизмом. Около трети беременных (28,3%) имели неудовлетворительное самочувствие; низкая активность наблюдалась у большинства (56,6%), при этом 59,4% обследуемых отличались хорошим настроением.
В ходе работы изучалась динамика состояния женщин на протяжении всего курса музыкальной коррекции, а также в течение каждого занятия. По итогам занятий снижение ЧСС наблюдалось в среднем у 54,2% женщин, что могло говорить о достижении ими состояния релаксации. ЧД уменьшалась в среднем у 25,5% обследуемых. У остальных эти показатели были неустойчивы. КП увеличивалась в течение сеанса у 61,2% женщин.
Наиболее неустойчивым показателем был уровень тревожности и энергии. У относительно небольшого числа женщин (17%) коэффи-
165
Е.А. Толчинская
циент вегетативной неустойчивости (определяемый с использованием теста Люшера) и коэффициент тревожности (также по цветовому тесту) менялись положительно. По результатам курса музыкальной коррекции уменьшение тревожности наблюдалось у 40% обследуемых, а отсутствие динамики в уровне тревожности — у 32%.
Поскольку одним из критериев оценки эффективности курса музыкальной коррекции служили качество родов и исход беременности, мы сравнили эти показатели в экспериментальной и контрольной группах. Оказалось, что при большем количестве случаев вынашивания в условиях психотравм, в экспериментальной группе (в экспериментальной группе таких случаев было 9,5%, а в контрольной группе — 6,4%) необходимость применения операции кесарева сечения и иных медицинских вмешательств была намного ниже, чем у женщин контрольной группы. Напротив, у женщин экспериментальной группы роды протекали нормально в 2,4 раза чаще, чем у женщин контрольной группы. Применить сформированные на занятиях навыки релаксации при родах смогли больше половины женщин, входивших в экспериментальную группу (52,3%).
Другим важным показателем эффективности курса музыкальной коррекции было постнатальное развитие детей в экспериментальной и контрольной группах. Сравнение их характеристик в обеих группах показало, что количество детей, развитие которых соответствует возрастной норме или опережает ее, в экспериментальной группе выше, чем в контрольной. Опережение в развитии у детей экспериментальной группы проявлялось в более раннем вставании, хождении и появлении речи, ярко выраженной реакции на музыкальные звуки. Отставание в развитии детей в экспериментальной группе наблюдалось в 5 раз реже, чем в контрольной (2,8% и 14,2% соответственно). Последствия родовых травм у детей экспериментальной группы проявлялись реже, чем у детей контрольной группы (25,7% и 45,7% соответственно). Большинство детей экспериментальной группы обнаружило особую восприимчивость к музыкальным стимулам (71,4%), чего нельзя сказать о детях контрольной группы (2,8%).Такая восприимчивость проявлялась в наличии заметной концентрации внимания и появлении улыбки при звуках музыки.
Зависимость особенностей восприятия музыки беременными женщинами от их личностных свойств и психического состояния представлена в таблицах 1, 2 и 3.
166
Коррекция психофизиологического состояния беременных женщин
Таблица 1
Зависимость особенностей восприятия беременными женщинами музыки
от их личностных свойств
| Особенности восприятия музыки | Личностные свойства |
| Положительная реакция на глубокое эмоционально-образное содержание музыки | Интровертность, музыкальность, богатый опыт музыкального восприятия |
| Отрицательная реакция на глубокое эмоционально-образное содержание музыки | Гипертимность, экстравертность при небогатом опыте музыкального восприятия |
| Приемлемость малопонятной по «языку» музыки | Высокий уровень слуховой культуры, креативность, профессиональные музыканты |
| Широкий круг музыкальных предпочтений | Развитое воображение, креативность, музыкальность, большой опыт музыкального восприятия, профессиональные музыканты |
| Отрицательная реакция на «поверхностную» музыку, популярные мелодии | Развитое воображение, опыт музыкального восприятия, профессиональные музыканты |
Таблица 2
Зависимость особенностей восприятия музыки беременными женщинами
от их психического состояния
| Особенности восприятия музыки | Психическое состояние |
| Повышенная чувствительность к громкой музыке | Психогенные реакции, невротическое состояние, повышенная тревожность |
| Отрицательная реакция на диссонансные и драматические звучания | Психогенные реакции, невротическое состояние, повышенная тревожность |
| Катарсическая реакция на волнующую, драматическую музыку | Напряженность, психогенные реакции |
Важную информацию о состоянии и личностных особенностях женщин несли в себе рисунки. В то же время изучение связи между содержательными и формальными особенностями рисунков беременных женщин с их состоянием и личностными характеристиками не являлось задачей нашего исследования. Поэтому мы ограничимся демонстрацией нескольких рисунков, считая их показательными примерами работ беременных женщин. Эти рисунки свидетельствуют, в частности, о положительном отношении женщин к ребенку,
167
Е.А. Толчинская
Таблица 3
Зависимость особенностей восприятия музыки беременными женщинами
от их личностных свойств и психического состояния
| Особенности восприятия музыки | Личностные свойства и психическое состояние |
| Положительная реакция на грустную музыку | Чувствительность, дистимность, депрессивное состояние |
| Отрицательная реакция на грустные, печальные образы в музыке | Гипертимность, повышенная тревожность, психотравма |
| Положительная реакция на печальную и драматическую музыку | Музыкальность, творческая направленность личности, профессиональные музыканты, зрелость, психофизиологическое благополучие |
| Положительная реакция на веселую, энергичную музыку | Экстравертность, гипертимность, психофизиологическое благополучие |
| Отрицательная реакция на веселую, энергичную музыку | Невроз, депрессивное состояние, тревожные интроверты |
| Неадекватность эмоциональных и цветовых реакций на музыку | Повышенная тревожность, напряженность, психическая травма, гипертимность |
| Высокая потребность в созвучности музыки своему состоянию | Психическая травма, невроз |
переживании материнских чувств, восприятии беременности как гармоничного, ресурсного состояния. Приводимые в качестве примера работы также могут рассматриваться в качестве особого средства символической, образной коммуникации женщины с ребенком. Есть основания предполагать, что как в процессе, так и после их создания женщины могли вести с ребенком некий «внутренний диалог», стараясь выразить свои чувства и мысли в «общении» с ним.
Анжела Т. (беременность 27 недель, второй ребенок) представила три работы: «Рождение», «Мой ребенок» и рисунок без названия. На первом рисунке изображено гнездо с вылупившимися птенцами, обогреваемыми оранжево-красным солнцем.
Второй рисунок выполнен с использованием основных цветов. Оранжево-желтое солнце ровным теплом согревает ребенка в ладони матери. Изображение оставляет впечатление зрелого материнства.
168
Коррекция психофизиологического состояния беременных женщин
|
|
|
|
Рис. 1. Первый рисунок Анжелы
Рис. 3. Третий рисунок Анжелы
|
|
Рис. 2. Второй рисунок Анжелы
169
Е.А. Толчинская
На третьем рисунке изображено яблоневое дерево с цветами и плодами. Крона нежно-зеленого цвета, яблоки — золотисто-желтые, а цветы — розовые и пурпурные. Рисунок передает ощущение чувственного полнокровия, представление о плодородии и благодати. Мощный ствол производит впечатление устойчивости, хорошей связи с землей и в то же время — устремленности ввысь.
Татьяна П. (беременность 30 недель, третий ребенок) при создании работы на тему «Мой ребенок» (рисунок 4) использовала основные цвета (красный, желтый, синий). Хотя рисунок, на первый взгляд, имеет отвлеченно-символический характер, на нем угадывается изображение детородного органа с плацентой (более крупный элемент композиции снизу, изображенный всеми тремя основными цветами), а также самого ребенка (округлый элемент композиции сверху, изображенный желтым цветом). Связь между матерью и ребенком представлена в виде устремленной ввысь конструкции в виде треугольника розового цвета. Обращают на себя внимание размытые контуры элементов рисунка, нежное «перетекание» одного цвета в другой при сохранении их чистоты и полупрозрачности. Возможно и иное «прочтение» символических элементов рисунка.
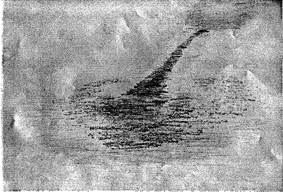
Рис. А. Рисунок Татьяны
Как Анжела, так и Татьяна по завершении курса музыкальной коррекции обнаружили психологическую готовность к родам. Роды прошли без осложнений, дети развиваются нормально.
170
Коррекция психофизиологического состояния беременных женщин
Заключение
Нами была создана методика осуществления коррекции психофизиологического состояния беременных женщин средствами музыки и изучены некоторые эффекты ее воздействия. В результате проведенных исследований с использованием набора психологических методик и физиологических замеров было показано, что сеансы музыкальной терапии оказывают благотворное воздействие на физиологические показатели, что позволяет говорить о достижении многими женщинами в ходе занятий состояния релаксации. Хотя уровень тревожности и энергии (определяемый с использованием теста Люшера) в ходе сеансов был неустойчив, преобладала тенденция к снижению тревожности и возрастанию энергии.
Сравнение исходов беременности в экспериментальной и контрольной группах позволяет сделать вывод о том, что участие в сеансах музыкальной коррекции снижает необходимость применения операции кесарева сечения и иных медицинских вмешательств при родах. Однако мы не можем утверждать, что положительные эффекты были достигнуты исключительно благодаря применению музыки. Поскольку в ходе сеансов женщины обучались навыкам релаксации, которые многие из них активно использовали в дальнейшем, в том числе при родах, профилактическое воздействие занятий можно связать с комплексом факторов.
Нельзя также не учитывать положительного влияния изобразительной деятельности на состояние женщин, поскольку многие из них в ходе сеансов рисовали. Создание рисунков позволяло участницам выразить и упорядочить свои чувства и представления, связанные с беременностью, предстоящими родами и ребенком, и во многих случаях служило своеобразным средством «общения» с ним.
Сравнение характеристик постнатального развития детей в экспериментальной и контрольной группах позволяет говорить о благоприятном воздействии сеансов музыкальной коррекции не только на женщин, но и на них.
Проведенное исследование позволяет говорить о некоторых особенностях восприятия музыки будущими мамами. Так, мы обратили внимание на то, что все они предпочитают лирические, мелодичные, негромкие мелодии. Большинство женщин отвергают громкие, диссо-нансные композиции, печальную и трагическую музыку.
171
Е.А. Толчинская
В то же время некоторые женщины положительно реагируют на грустную, драматичную, печальную и тревожную музыку Однако мы не можем сказать, какую терапевтическую ценность имеет прослушивание такой музыки и какие потребности женщин она удовлетворяет. Неадекватные реакции на музыку, проявляющиеся в несоответствии цветовых ассоциаций и чувств женщин эмоциональному и образному строю музыки, были характерны для психологически травмированных, тревожных женщин, а также пациенток, протекание беременности которых осложнено.
Результаты проведенного исследованиея позволяют сделать вывод о том, что особенности музыкального восприятия в какой-то мере могут служить одним из критериев оценки состояния слушателей. Однако нельзя не признать, что механизмы музыкального восприятия имеют комплексный характер. Эмоциональные и ассоциативные реакции на музыку могут быть опосредованы как психофизиологическим состоянием, так и особенностями личности слушателей, их культурным опытом, навыками музыкального восприятия, а если речь идет о специально организованных сеансах музыкальной коррекции или музыкальной терапии — то и от условий, в которых они проводятся, отношений участников сеансов с ведущим и иных факторов.
Проводимые нами занятия по целому ряду причин не могут быть отнесены к музыкальной терапии в строгом смысле этого слова: мы не прибегали к обстоятельному обсуждению чувств и ассоциаций женщин, вызываемых музыкальным материалом. Работа со сложными в психологическом отношении состояниями не входила в задачи нашей работы, хотя мы признаем, что многие беременные женщины, переживающие такие состояния, нуждаются в психологической помощи, котороая может включать в себя в том числе и применение элементов музыкальной терапии.
Литература
Брусиловский Л.С. Музыка в системе восстановительного лечения психически больных. Дисс. ...канд. мед. наук. Л.: Ленинградский НИИ им. В.М. Бехтерева, 1973.
Декер-Фойгт Г.-Г. Введение в музыкотерапию. СПб.: Питер, 2003.
172
Коррекция психофизиологического состояния беременных женщин
Копытин А.И. Тренинг коммуникации: арт-терапия. М.: Изд-во института психотерапии, 2006.
КэмпбеллД. Эффект Моцарта. Минск: БАСК, 1999.
Лазарев МЛ. Сонатал. Школа дородовой педагогики. М., 1993.
Петрушип В.И. Музыкальная психотерапия. М., 1997.
Рюгер К. Домашняя музыкальная аптечка. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.
Шушарджан СВ. Музыкотерапия и резервы человеческого организма. М.: Антидор, 1998.
Элъкин В.М. Целительная магия музыки. Гармония цвета и звука в терапии болезней. СПб., 2000.
Юсфин А.Г. Музыкальное восприятие в перинатальном периоде: проблема начала // Сборник материалов конференции по перинатальной психологии и медицине. 25-27 мая 2001 г. СПб., 2001.
Bruscia К. Defining music therapy. Sporing City, PA: Spring House Books, 1989.