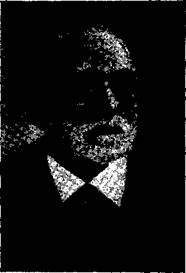Философия есть познание того, что есть. Высший закон, высшая задача философии заключается в том, чтобы помыслить вещи и сущности так, познать их такими, каковы они есть. [...]
Правдивость, простота, определенность — формальные признаки реальной философии. [...]
Пространство и время составляют формы бытия всего сущего. Только существование в пространстве и времени есть существование. Отрицание пространства и времени есть только отрицание их границ, а не их сущности. Вневременное ощущение, вневременная воля, вневременная мысль, вневременное существо — все это фикции. У кого нет вообще времени, у того не может быть ни времени, ни порыва к воле, не может быть никакого порыва к мысли. [...]
Пространство и время — формы раскрытия реального, бесконечного ( I , стр. 122—123).
Действительное отношение мышления к бытию таково: бытие — субъект, мышление — предикат. Мышление исходит из бытия, а не бытие из мышления (I, стр. 128).
Новая философия есть отрицание лак рационализма, так и мистицизма, как пантеизма, так и персонализма, как атеизма, так и теизма; она составляет единство всех этих противоположных истин, будучи абсолютно само стоятельной и чистой истиной (I, стр. 130).
Философия должна вновь связаться с естествознанием, a естествознание — с философией. Эта взаимная потребность, эта связь, коренящаяся во внутренней необходимости, будет продолжительнее, счастливее и плодотворнее по сравнению с мезальянсом между философией и теологией, существовавшим до сих пор (I, стр. 132).
Действительное в своей действительности или в ка честве действительности есть действительное в виде чувственного объекта, есть чувственное. Истинность есть
467
to Же самое, что действительность, чувственность. Только чувственное существо есть истинное, действительное существо. Только благодаря чувствам предмет дается в ис тинном смысле, а не посредством мышления для самого себя. Объект, данный вместе с мышлением или с ним тождественный, есть только мысль. [...]
Новая философия рассматривает и принимает во внимание бытие, каково оно для нас не только как мыслящих, но и как действительно существующих; следовательно, для нее бытие есть объект бытия, объект его са мого. Бытие как предмет бытия есть чувственное, созер цаемое, ощущаемое бытие, бытие, которое можно любить. Ведь только бытие как предмет бытия есть бытие и заслуживает это название. Таким образом, бытие есть тайна созерцания, ощущения, любви. [...]
Таким образом, любовь есть подлинное онтологиче ское доказательство наличности предмета вне нашей головы; и нет другого доказательства бытия, кроме любви, ощущения вообще. Существует только то, наличие чего доставляет тебе радость, отсутствие чего доставляет тебе скорбь. Различие между объектом и субъектом, между бытием и небытием, есть радостное и в той же степени скорбное различие. [...]
Новая философия коренится в истинности любви, в истинности чувства. В любви, вообще в чувстве всякий человек признает истинность новой философии. Новая философия в отношении своих основ есть не что иное, как сущность чувства, возведенная до сознания; она только подтверждает в уме и при помощи ума то, что исповедуется сердцем каждого настоящего человека; она есть возведенное к уму сердце. Сердцу не нужны абстрактные, метафизические или теологические объекты, ему нужны подлинные, чувственные объекты и существа. [...]
И объективно, и субъективно любовь служит критерием бытия — критерием истинности и действительности. Где нет любви, там нет и истины. Только тот представляет собой нечто, кто что-то любит. Быть ничем и ничего не любить — то же самое. Чем больше бытия в человеке, тем больше он любит, и наоборот. [...]
Исходной позицией прежней философии являлось следующее положение: Я — абстрактное, только мыслящее существо; тело не имеет отношения к моей сущности;
468
что касается новой философии, то она исходит из положения: Я — подлинное, чувственное существо; тело вхо дит в мою сущность; тело в полноте своего состава и есть мое Я, составляет мою сущность (I, стр. 182—186).
Объектами чувств служат не только «внешние» предметы. Человек дан самому себе только чувственно. Он сам себе предмет в качестве чувственного объекта. Тождество субъекта и объекта лишь абстрактная мысль в самосознании, оно может стать истиной и действительностью только в чувственном созерцании, которое человек получает от человека (I, стр. 189—190).
Пространство и время не простые формы явлений: они — коренные условия, разумные формы, законы как бытия, так и мышления (I, стр. 192).
Вещи должно мыслить не иначе чем какими они ока зываются в действительности. Что расчленено в действи тельности, то не должно также совпадать и в мысли. Если исключать из законов действительности мышление, идею, интеллектуальный мир неоплатоников, то это будет привилегией теологического произвола. Законы действительности представляют собой также законы мышле ния (I, стр. 194).
Действительное в своей действительности и полноте — предмет новой философии — составляет также предмет только для действительного и цельного существа. Поэтому познавательным принципом, субъектом новой философии является не Я, не абсолютный, то есть абстрактный, дух, — словом, не разум, взятый в абстрактном смысле, но действительное и цельное человеческое существо. Реальностью, субъектом разума является только человек. Мыслит человек, а не Я, не разум. [...] -
Прежняя философия утверждала: только разумное есть истинное и действительное; новая философия между тем говорит: только человеческое есть истинное и действительное; в самом деле, только человеческое может быть разумным; человек есть мера разума. [...]
Единство бытия и мышления истинно и имеет смысл лишь тогда, когда основанием, субъектом этого единства берется человек. Только реальное существо познает ре альные вещи; где мышление не есть субъект для самого себя, но предикат действительного существа, только там мысль тоже не отделена от бытия. Поэтому единство бытия и мышления не формальное в том смысле, чтобы
469
мышлению в себе и для себя было свойственно бытие как нечто определенное. Это единство всецело определяется предметом, содержанием мышления. [...]
Мир открыт только для открытой головы, а только чувства и являются отверстиями головы. Что же касается изолированного, в себе замкнутого мышления, мышления без чувств, без человека, вне человека, то это абсолютный субъект, который для другого не может и не должен быть объектом; именно потому, и несмотря на все напряжения, такой субъект никогда не найдет перехода к объекту, к бытию. Так же точно голова, отсеченная от туловища, не может перейти к овладению предметом, потому что у нее нет средств, нет хватательных органов. [...]
Новая философия есть полное, абсолютное, беспрекословное растворение теологии в антропологии, ибо в новой философии теология снимается не только в уме, как это было в прежней философии, но и в сердце, иначе говоря, растворяется в цельном, действительном человеческом существе. [...]
Человек отличается от животного вовсе не только одним мышлением. Скорее все его существо отлично от животного. Разумеется, тот, кто не мыслит, не есть человек, однако не потому, что причина лежит в мышлении, но потому, что мышление есть неизбежный результат и свойство человеческого существа. [...]
Новая философия превращает человека, включая и природу как базис человека, в единственный, универсаль ный и высший предмет философии, превращая, следовательно, антропологию, в том числе и физиологию, в универсальную науку. [...]
Искусство, религия, философия или наука составляют проявление или раскрытие подлинной человеческой сущ ности. Человек, совершенный, настоящий человек только тот, кто обладает эстетическим или художественным, ре лигиозным или моральным, а также философским или научным смыслом. Вообще только тот человек, кто не лишен никаких существенных человеческих свойств. «Я— человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Это высказывание, если его взять в его всеобщем и высшем смысле, является лозунгом современного философа. [...] Истина не в мышлении и не в знании, как таковом. Истина — в полноте человеческой жизни и существа. [...]
470
Отдельный человек как нечто обособленное не заклю-, чает человеческой сущности в себе ни как в существе моральном, ни как в мыслящем. Человеческая сущность налицо только в общении, в единстве человека с челове ком, в единстве, опирающемся лишь на реальность разли чия между Я и Ты. [...]
Истинная диалектика не есть монолог одинокого мыслителя с самим собой, это диалог между Я и Ты. [...]
Величайшим и последним принципом философии является поэтому единство человека с человеком. Все существенные отношения, принципы различных наук — это только различные виды и формы этого единства (I, стр. 198-204).
В психологии субъект и объект тождественны, в физиологии различны; психологическим объектом служу я самому себе, а физиологическим—другому; ощущение, которое дает мне мой желудок при голоде или мой мозг во время мышления, служит объектом только мне самому, но не может служить объектом физиологии и анатомии; мой мозг или желудок никогда не бывает объектом созерцания для меня самого, а может стать таковым только для другого. Итак, правда, что источник познания у психологии иной, чем у физиологии, но разница касается не предмета, как такового, а вида и способа познания: в одном случае оно непосредственное, тождественное с предметом, живое, в другом — опосредствованное, мертвое, историческое.
[...] Я различаю мышление от. мозгового акта и мыслю его самостоятельным. Но из того, что мышление для меня не мозговой акт, а акт, отличный и независимый от мозга, не следует, что и само по себе оно не мозговой акт. Нет! Напротив: что для меня, или субъективно, есть чисто духовный, нематериальный, нечувственный акт, то само по себе, или объективно, есть материальный, чувственный акт.
Тождество субъекта и объекта, которое мы только что обозначили как сущность психологии, в особенности применимо к мозговому акту и акту мысли. Мозговой акт есть высочайший акт, обосновывающий или обусловливающий наше Я, — акт, который поэтому не может восприниматься как различающийся от нас. В других органических процессах, например в процессе усвоения пищи, за субъективной, тождественной со мной, мне самому
471
приписываемой деятельностью следует объективная, отличная от меня деятельность организма; я беру пищу, обоняю, вкушаю, жую, проглатываю ее; но раз она проглочена, она вне сферы моей деятельности, моего 'сознания и воли, принадлежит как бы другому миру. Напротив, в мозговом акте как высочайшем акте деятельность произвольная, субъективная, духовная и деятельность непроизвольная, объективная, материальная тождественны, неразличимы. Даже для нашего сознания мышление по-,стольку-же произвольная, поскольку и непроизвольная деятельность. Но именно потому, что в нем исчезает противоположность между субъективной и объективной деятельностью, оно для нас абсолютно субъективно. Желудок, который у меня то полон, то пуст, сердце, биение которого я слышу и чувствую, голову как объект внешних чувств — короче, свое тело я воспринимаю только при посредстве мозгового акта, мозговой же акт — только посредством его самого, поэтому он для меня, по крайней мере непосредственно, уже не нечто объективное, от меня отличное. Этой неощутимостью и непредметностью мозгового акта объясняется и психологическое идолопоклонство древних народов и всех необразованных людей, которые помещают «душу, дух» вместо мозгового акта в сердцебиение или в акт дыхания (I, стр. 212—214).
Я, на котором психолог обосновывает существование нематериальной души, поэтому есть всего меньше наше истинное, объективное существо; оно — только .мысленное существо, только копия, которую психолог, однако, принимает за оригинал, только толкование нашего существа, которое он, однако, вставляет в самый текст (I, стр. 218).
Противоположность между телом и душой даже логически несостоятельна (I, стр. 220).
Истина не есть ни материализм, ни идеализм, ни физиология, ни психология; истина только антропология, истина только точка зрения чувственности, созерцания, потому что только эта точка зрения дает мне целостность и индивидуальность. Мыслит и ощущает не душа — потому что душа есть только олицетворенная и гипостазированная, превращенная в особое существо функция, или явление мышления, ощущения и воли — и не мозг, потому что мозг есть физиологическая абстракция, орган, вырванный из целостности, из черепа, из лица, из тела вообще, фиксированный как нечто самостоятельное. Но
472
органом мысли Мозг служит Лишь в связи с Человеческой головой и телом. Внешнее предполагает внутреннее, но внутреннее осуществляется только в своем проявлении. Сущность жизни есть проявление жизни. Проявление же жизни мозга есть голова. [...] Во дворце мыслят иначе, чем в хижине, низкий потолок которой как бы давит на мозг. На вольном воздухе мы иные люди, чем в комнате; теснота сдавливает, простор расширяет сердце и голову. Где нет случая проявить талант, там нет и талантов; где нет простора для деятельности, там нет и стремления, по крайней мере истинного стремления, к деятельности. Пространство — основное условие жизни и духа (I, стр. 224).
Чувственность есть действительность. Конечно, плоды жизни зарождаются и растут внутри, но зрелы они лишь тогда, когда вышли наружу. Существо, которое не есть предмет чувств, — дитя в утробе матери; только осязательное, видимое существо есть завершенное существо. Чувственность есть совершенство. [...] Рассудок, по крайней мере отвлеченный, есть смерть, чувство — жизнь вещей; рассудок, как смерть, разлагает их на их элементы; но они остаются самими собой лишь до тех пор, пока их элементы входят в союз чувств.
Деление человека на тело и душу, на чувственное и нечувственное существо, есть только теоретическое разделение; на практике, в жизни мы его отрицаем. [...] Различие тела и души есть не что иное, как метафизическое различие существования и существа, перенесенное в психологию. Тело есть существование человека; отнять тело — значит отнять существование; кто уже не чувствен, тот уже не существует. Можешь ли ты отделить существо от существования? Конечно, в мыслях можешь, но не в действительности. Уничтожение моего существования есть уничтожение меня самого, потому-то оно и болезненно. Боль, «ощущение» вообще есть не что иное, как громкий, очень понятный протест против различения и разделения тела и души, существования и существа, которое производит абстрактная мысль vox populi — vox dei (глас народа — глас божий), но populus (народ) в человеке есть именно ощущение (I, стр. 227—229).
Человек отличается от животных только тем, что он — живая превосходная степень сенсуализма, всечув-ственнейшее и всечувствительнейшее существо в мире.
473
Чувства общи ему с животным, но только в нем чувственное ощущение из относительной, низшим жизненным целям подчиненной сущности становится абсолютной сущностью, самоцелью, самонаслаждением. [...]
Если сущность человека чувственность, а не призрачный абстракт, «дух», то все философии, все религии, все учреждения, которые противоречат этому принципу, qe только в корне ошибочны, но и пагубны. Если вы хотите улучшить людей, то сделайте их счастливыми; если же вы хотите сделать их счастливыми, то ступайте к источникам всякого счастья, всех радостей — к чувствам. Отрицание чувств есть источник всякой испорченности, злобы, всего болезненного в человеческой жизни, утверждение чувств — источник физического, нравственного и теоретического здоровья. [...]
Человек обязан своим существованием только чувственности. Разум, дух творит книги, но не людей. [...]
Человек не может и не должен отрицать чувства; если же он отрицает их, противореча своей природе, то обязательно снова утверждает их, но теперь уже он не может утверждать их иначе как отрицательным, противоречащим самому себе, уродливым, фантастическим образом. Бесконечная сущность, которой человек приносит в религии в жертву свои чувства, есть не что иное, как сущность мира — как немирская, сущность чувственности — как нечувственная сущность, как объект фантазии или же и рассудка (I, стр. 231—233).
Что такое «дух»? Как относится он к чувствам? Как род к видам. Чувство универсально и бесконечно, но только в своей области, в своем виде; дух, напротив, не отделить никакой определенной областью, он просто универсален; он — сочетание, единство чувств, совокупность всех реальностей, в то время как чувства — только совокупности определенных исключительных реальностей. Поэтому дух не чувствен и сверхчувствен, поскольку возвышается над провинциализмом и ограниченностью чувств, сплавляет их провинциальный дух в общий дух; но вместе с тем он все же только сущность чувственности, поскольку он не что иное, как просто общее единство чувств (I, стр. 235).
Разум есть заключение, но именно потому как посылки, так и выводы этого заключения имеют характер чувственной сущности; дело разума только посредничать
474
между ними, связывать, приставлять связку к сущности, а не создавать сущность. «Чувствами читаем мы книгу природы, но понимаем ее не чувствами». Совершенно верно, но рассудком мы не вкладываем в природу какой-либо смысл впервые; мы только переводим и истолковываем книгу природы; слова, которые мы вычитываем в ней своими чувствами, не пустые произвольные знаки, а определенные, идущие к делу,- характерные выражения. [...] Чувства говорят все, но, чтобы понять их изречения, необходимо связать их. Связно читать евангелия чувств — значит мыслить (I, стр. 238).
Моей первой мыслью был бог, второй — разум, третьей и последней — человек. Субъект божества — разум, а субъект разума — человек. [...]
«Как может человек возникнуть из природы, другими словами, как из материи может возникнуть дух?» Прежде всего ответь мне на следующий вопрос: как может материя возникнуть из духа? Если ты не найдешь ответа на этот, во всяком случае разумный, вопрос, то ты поймешь, что только противоположный вопрос приведет тебя к цели. [...]
В чем же состоит мой «метод»? В том, чтобы посредством человека свести все сверхъестественное к природе, и посредством природы все сверхчеловеческое свести к человеку, но неизменно лишь опираясь на наглядные, исторические, эмпирические факты и примеры (I, стр. 265-267).
[...] Подобно тому как чувство без мышления не представляет собой чего-либо, так и мышление, разум не представляет собой чего-либо без чувства, ибо только чувство дает мне реальные, действительные предметы и существа.
Мышление, дух, разум по содержанию не говорят ничего другого, кроме того, что говорят чувства, они лишь говорят мне в связи то, что чувства говорят раздробленно, раздельно, — в связи, которая именно в силу этого и является и называется разумом. [...] Мы различаем и связываем вещи посредством разума, но на основе признаков различения и соединения, данных нам посредством чувств; мы разделяем то, что разделила природа, связываем то, что связала она, соподчиняем явления и вещи природы друг к другу в отношениях основания и следствия, причины и действия только потому, что и вещи
475
фактически, чувственно, предметно, действительно находятся точно в таком же отношении друг к другу.
Мышление разлагает, отыскивает и извлекает из явлений единое, одинаковое, общее; но для того чтобы найти его, оно должно сначала чувственно воспринять чувственные явления. [...] Лишенная мысли чувственность останавливается на отдельном явлении, объясняет его без размышлений, без критики, без исследования, без сравнения с другим явлением, объясняет непосредственно через себя самое; мыслящее же созерцание связывает различного рода чувственные факты, не имеющие как будто бы ничего общего друг с другом, в одно целое, во взаимосвязь, и человек мыслит только тогда, когда он поднимается до такого связывания чувственно воспринятого.
Но, поднимаясь на ступень мышления, человек отнюдь не достигает другого мира, царства духов, сверхземного мысленного мира; он остается на той же самой почве, на почве земли, и чувственности. Он лишь перемещает себя в сферу расширившегося, неограниченного, универсального чувственного созерцания (I, стр. 271—272).
Человек не есть цель природы — он есть это лишь в своем собственном человеческом ощущении, он есть высшее проявление ее жизненной силы, так же как плод не есть цель, а высшая, блестящая кульминационная точка, высшее жизненное стремление растения. [...] Если же жизнь и условия для жизни мыслить вместе, то образование земли, воды, воздуха, температуры и образование животных и растений есть единый акт; следовательно, происхождение, например, воды столь же непонятно, как и происхождение водного животного, или, наоборот, происхождение жизни становится в столь же малой степени чудом, как происхождение условия к жизни, для объяснения которого уже мыслящие теисты XVIII в. считали ненужным применять гипотезу Deus ex machina3. Конечно, жизнь не есть продукт химического процесса, не есть продукт вообще какой-нибудь отдельной силы природы или отдельного явления, к чему метафизический материалист сводит жизнь; жизнь есть результат всей природы (I, стр. 339—340).
«Если я, — говорится в «Системе природы» 4, [...] томимый мучительной жаждой, вижу источник, то в моей ли власти хотеть иль не хотеть удовлетворить столь силь-
476
ную потребность? Без сомнения, согласятся, что невозможно не хотеть ее удовлетворить, но скажут, что, если я узнаю в тот момент, когда я хочу уже напиться, что вода отравлена, я тем не менее удержусь от того, чтобы напиться, невзирая на свою жажду; скажут и выведут отсюда заключение, что я свободен. Но выведут неправильно, потому что, как жажда необходимо побуждала меня к тому, чтобы 'пить, пока я не узнал, что вода отравлена, столь же необходимо теперь это знание побуждает меня не пить. Требование или желание (le desir) сохранить себя делает недействительным первоначальный толчок, который жажда дала моей воле; вторая побудительная причина сильнее, чем первая; страх смерти необходимо берет верх над мучительным ощущением жажды; жажда, конечно, может быть столь мучительной, что легкомысленный человек, может быть, и рискнет выпить этой воды, невзирая на опасность, тем не менее и тогда как раз первоначальное побуждение или повод снова возобладает. Но будем ли мы пить воду или не будем, оба действия одинаковым образом необходимы; оба суть действия побудительной причины, имеющей величайшую силу или власть над нашей волей». Оба действия, конечно, необходимы, но так как в действительности вообще не существует абстрактной, то есть однообразной, безразличной и бессодержательной необходимости, то и здесь необходимость в обоих указанных случаях не одна и та же. Необходимость, побуждающая меня пить отравленную воду, находится в противоречии с моей сущностью и волей; необходимость же, побуждающая меня не пить, находится в согласии с ними. Я люблю жизнь, люблю ее необходимо, а потому столь же необходимо боюсь, гнушаюсь и ненавижу яд и все губительное и враждебное жизни вообще. «Система природы» права. Но эта необходимость есть необходимость искренняя, внутренняя, добровольная, желанная, тождественная с моим Я и постольку, или в этом смысле, свободная, в то время как необходимость необузданных желаний есть необходимость враждебная, ненавистная, нечеловеческая и. жалкая. Птица свободна в воздухе, рыба — в воде; каждое существо свободно там, где оно находится и действует в гармонии со своей сущностью; так и человек. Но тот, кто из-за жажды пьет отравленную воду, тот поступает не в соответствии со своим характером, не в согласии с самим собой, ибо он
477
хочет утолить только свою жажду, а не отравить самого себя, стало быть, поступает против своей воли, против своего существа, любящего и желающего любить самого себя, поступает увлеченный и отданный под власть своего желания как силы, отличной от него и враждебной ему (I, стр. 473-474).
Бытие предшествует мышлению. В мышлении я осознаю лишь только то, чем я уже являюсь без мышления: не существом, которое якобы ни на чем не основано, а существом, основывающимся на другом существе. [...]
В том-то и состоит коренная ошибка идеализма, что он ставит и разрешает вопрос об объективности и субъективности, о действительности или недействительности мира только с теоретической точки зрения5, в то время как мир, первоначально и прежде всего, есть объект разума только потому, что он есть объект желания, желания быть и иметь (I, стр. 566—567).
Следовательно, так называемый объект в такой же степени является объектом-субъектом, как и так называемый субъект есть по существу и неразрывно субъект- объект, то есть Я — это Ты = Я, человек — это человек мира или природы [...].
Если бы ощущение было замкнутой в себе картезианской, гностической, буддийской, нигилистической сущностью, то, конечно, было бы невозможно и даже бессмысленно желать найти переход от него к объекту, к чему-либо вне его; но ощущение является прямой противоположностью аскетической философии: оно вне себя от блаженства или боли, оно общительно и словоохотливо, жадно до жизни и наслаждения, то есть жадно до объекта, ибо без объекта нет наслаждения (I, стр. 569—570).
Как это пошло отказывать ощущению в том, что оно есть евангелие, извещение (Verkündung) от объективного спасителя. Как это пошло утверждать, что оно не доказывает и не содержит ничего объективного! [...]
Мое ощущение субъективно, но его основа или причина (Grund) объективна6. (I, стр. 572).
Я и Ты, субъект и объект, отличные и все же неразрывно связанные — вот истинный принцип мышления и жизни, философии и физиологии (I, стр. 575).
Я не имею ничего общего с теми философами, которые закрывают глаза, чтобы легче было думать. Я мыслю
478
при помощи чувств, главным образом зрения, основываю свои суждения на материалах, познаваемых нами посредством внешних чувств, произвожу не предмет от мысли, а мысль от предмета; предмет же есть только то, что су ществует вне моей головы. Я — идеалист только в области практической философии, где я не считаю границ настоящего и прошедшего границами человечества, границами будущего, где я непоколебимо верю, что многое, что кажется современным недальновидным и малодушным практикам фантазией, неосуществимой мечтой, призраком, станет совершившимся фактом завтра, то есть в следующем столетии; ведь то, что является столетием по отношению к отдельным личностям, можно считать днем в жизни человечества. Короче: я смотрю на идею как на веру в историческую будущность, в торжество истины и добродетели, и поэтому идея имеет для меня только политическое и нравственное значение. Зато в области собственно теоретической философии я в прямую противоположность философии Гегеля, где дело обстоит как раз наоборот, считаюсь только с реализмом и материализмом в указанном смысле (II, стр. 17—18).
Но в чем заключается сущность человека, сознаваемая им? Каковы отличительные признаки истинно человеческого в человеке? Разум, воля и сердце. Совершенный человек обладает силой мышления, _ силой воли и силой чувства. Сила мышления есть свет познания, сила воли — энергия характера, сила чувства — любовь (И, стр. 31—32).
Человек самого себя познает из объекта: сознание объекта есть самосознание человека. По объекту мы можем узнать человека и его сущность. В объекте обнаруживается сущность человека, его истинное объективное Я (II, стр. 34).
Человек никогда не может освободиться от своей подлинной сущности. Он может представить себе при помощи фантазии существо другого, высшего рода, но не может абстрагировать себя от своего рода, от своей сущности; определения сущности, которыми он наделяет этих других индивидов, почерпаются им из своей собственной сущности, и в его определениях отражается и объективизируется он сам. Вероятно, на других планетах нашей Солнечной системы есть мыслящие существа помимо человека, но, предполагая это, мы не изменяем
479
своей точки зрения, обогащаем ее лишь Количественно, а не качественно. Ведь если там действуют те же законы движения, что у нас, то так же обстоит дело с законами чувствования и мышления. Мы не допускаем, чтобы другие планеты были населены иными существами, чем мы; мы полагаем, что там живут еще другие существа, более или менее подобные нам (II, стр. 40—41).
«Ф[ейербах] облекает свой материализм в доспехи идеализма». О как голословно это утверждение! Пойми, «Единственный» 7, что Ф[ейербах] ни идеалист, ни материалист! Для Ф[ейербаха] бог, дух, душа, Я — пустые абстракции, но такие же пустые абстракции для него тело, материя, вещество. Истина, сущность, действительность для него только в чувственности. Разве ты когда-нибудь воспринимал, разве видел тело, материю? Ведь ты видел и воспринимал только вот эту воду, вот этот огонь, вот эти звезды, эти камни, эти деревья, этих животных, этих людей — всегда лишь вполне определенные чув ственные индивидуальные вещи и существа, но никогда не видел ни тела и ни души, ни духа и ни вещества, как таковых. Но в еще меньшей степени является Ф[ейербах] приверженцем философии абсолютного тождества, которая объединяет обе абстракции в третьей. Стало быть, ни материалистом, ни идеалистом, ни философом тождества нельзя назвать Ф[ейербаха]. Что же .он такое? Он в мыслях то же, что и в действительности, в духе то же, что и во плоти, в чувственном своем существе: он человек или, вернее — ибо существо человека Ф[ейербах] полагает только в общественности, — он общественный человек, Коммунист (II, стр. 420).
[...] Очевидно и бесспорно, что мы обязаны своим сохранением лишь особым действиям, свойствам и силам естественных существ; поэтому в конце концов мы не только имеем право заключить, что мы своим существованием обязаны только природе, но мы даже принуждены признать это. Мы живем среди природы, — так неужели наше начало, наше происхождение находится вне природы? Мы живем в природе, с природой, на счет природы, — так неужели мы произошли не от нее? Какое противоречие!
[...] Нельзя себе представить возникновение органической жизни как изолированный акт, как акт, следующий за появлением необходимых для жизни условий, это ско-
480
рее всего тот акт, тот момент, когда температура, воздух, вода, вообще земля приобрели соответствующие свойства, когда кислород, водород, углерод, азот вошли в такие соединения, которые вызвали существование органической жизни; этот момент вместе с тем был моментом, когда указанные вещества соединились для образования органических тел (II, стр. 435—436).
Взгляд, будто сама природа, мир вообще, Вселенная имеет действительное начало, что, следовательно, некогда не было ни природы, ни мира, ни Вселенной, есть убогий взгляд, который только тогда убеждает человека, когда его представление мира убого, ограниченно; это представление есть фантазия, бессмысленная и беспочвенная фантазия, будто некогда не было ничего действительного, ибо совокупность всей реальности, действительности и есть мир или природа (II, стр. 441).
Мы достаточно долгое время занимались и довольствовались тем, что говорили и писали, мы требуем, чтобы, наконец, слово стало плотью, дух — материей, довольно с нас как философского, так и политического идеализма; мы хотим теперь быть политическими материалистами (II, стр. 494).
«Чувственность» у меня не что другое, как истинное, не надуманное и искусственное, а действительно существующее единство материального и духовного, оно у меня поэтому то же, что действительность (II, стр. 505—506).
Как природа для меня есть первый предмет в религии, точно так же и в психологии, в философии вообще чувственное есть первое; но первое не только в смысле спекулятивной философии, в которой первое означает то, за пределы чего надо выйти, но и первое в смысле невыводимого из другого, через себя самого существующего и истинного. [...] Духовное — ничто вне и без чувственного. [...] Человек мыслит лишь при посредстве своей чувственно существующей головы, [...] разум имеет прочную чувственную почву под собой в голове, в мозгу, в том месте, которое является средоточием чувств (II, стр. 586— 587).
[...] Я понимаю под природой совокупность всех чувственных сил, вещей и существ, которые человек отличает от себя как нечеловеческое [...]. Или, беря слово практически, природа есть все то, что для человека — независимо от сверхъестественных внушений теистиче-
| 481 |
16 Антология, т. 3. ·
| 16* |
ской веры — представляется непосредственно, чувственно, как основа и предмет его жизни. Природа есть свет, электричество, магнетизм, воздух, вода, огонь, земля, животное, растение, человек, поскольку он является существом, непроизвольно и бессознательно действующим. Под словом «природа» я не разумею ничего более, ничего мистического, ничего туманного, ничего теологического. [...] Природа, говорю я, есть все, что ты видишь и что не является делом человеческих рук и мыслей. Или, если вникнуть в анатомию природы, природа есть существо или совокупность существ и вещей, чьи проявления, обнаружения или действия, в которых проявляется и существует их бытие, имеют свое основание не в мыслях или намерениях и решениях воли, но в астрономических или космических, механических, химических, физических, физиологических или органических силах или причинах (II, стр. 590-591).
Выводить природу из бога — все равно что желать вывести оригинал из изображения, из копии, вещь из мысли об этой вещи (II, стр. 620).
[...] Человек соразмерно или в согласии с природой своей абстрагирующей деятельности создает общие понятия, но в противоречии с природой действительных вещей предпосылает чувственным вещам общие понятия, представления, или созерцания пространства и времени, как их называет Кант, как условия или, вернее, первопричины и элементы их существования, того не соображая, что в действительности происходит как раз обратное, что не вещи предполагают существование пространства и времени, а, наоборот, пространство и время предполагают наличность вещей, ибо пространство, или протяженность, предполагает наличность чего-то, что протяженно, и время — движение: ведь время лишь понятие, производное от движения, — предполагает наличность чего-то, что движется. Все пространственно и временно; все протяженно и движется [...].
Вопрос о том, сотворил ли бог мир, вопрос вообще об отношении бога к миру есть вопрос об· отношении духовного к чувственному, общего или абстрактного к действительному, рода к индивидуумам [...]. Я замечу, однако, что этот вопрос принадлежит к числу важнейших и в то же время труднейших вопросов человеческого познания и философии, «то явствует уже из того, что вся
482
история философии вращается, в сущности говоря, вокруг этого вопроса, что спор стоиков и эпикурейцев, платоников и аристотеликов, скептиков и догматиков в древней философии, номиналистов и реалистов в средние века, идеалистов и реалистов, или эмпириков, в новейшее время сводится всецело к этому вопросу (II, стр. 622—623).
Я не отрицаю [...] мудрость, добро, красоту; я отрицаю лишь, что они в качестве этих родовых понятий являются существами в виде ли богов, или свойств бога, или в виде платоновских идей, или гегелевских самополагающихся понятий; я утверждаю только, что они существуют лишь в мудрых, добрых, прекрасных индивидуумах и, следовательно, как уже сказано, являются лишь свойства ми индивидуальных существ, что они не являются сами по себе существами, а только атрибутами или определениями индивидуальности, что эти общие понятия предполагают существование индивидуальности, а не наоборот (II, стр. 628).
То именно, что человек называет целесообразностью природы и, как таковую, постигает, есть в действительности не что иное, как единство мира, гармония причин и следствий, вообще та взаимная связь, в которой все в природе существует и действует (II, стр. 630).
[...] У нас нет никакого основания воображать, что если бы человек имел больше чувств или органов, он познавал бы также больше свойств или вещей природы. Их не больше во внешнем мире, как в неорганической, так и в органической природе. У человека как раз столько чувств, сколько именно необходимо, чтобы воспринимать мир в его целостности, в его совокупности (II, стр. 632— 633).
[...] Дух развивается вместе с телом, с чувствами, с человеком вообще; он связан с чувствами, с головой, с телесными органами вообще [...]. Духовная деятельность есть телесная, есть головная работа; она отличается от других родов деятельности только тем, что она есть деятельность иного органа, а именно деятельность головы (И, стр. 662). ·
[ЭТИКА]
К чему сводится мой принцип? К Я и к другому Я, к «эгоизму» и к «коммунизму», ибо и то и другое так друг, с другом связаны, как голова и сердце. Без эгоизма у тебя не будет головы, без коммунизма — сердца, [...]
483
Первая твоя обязанность заключается в том, чтобы сделать счастливым самого себя. Если ты сам счастлив, то ты сделаешь счастливыми и других. Счастливый может видеть только счастливых кругом себя (I, стр. 267).
Воля, уничтожающая тело и жизнь, уничтожает и себя самое, фактически доказывая тем самым, что без тела, без жизни она — ничто; что не тело я имею благодаря воле, а, наоборот, только благодаря своему телу и жизни я имею волю; то есть совсем не так, как это значится в гегелевской «Философии права» [...].
«Я могу то, что хочу», но только в том случае, если я хочу того, что могу; в противном случае моя воля беспочвенна и неосновательна, существуя только в воображении, ибо основу воли составляет возможность и способность добиться желаемого. Действительная, а не та воображаемая воля, которую обыкновенно смешивают с ней, является волей способной, уверенной в своем деле, соответствующей своему предмету и зрелой волей (I, стр. 448—449).
Беспристрастная, неопределенная воля, направленная без различия на все, даже самые противоположные вещи — воля in abstracto, воля в мысли, — в действительности является бессмыслицей. [...] Бесстрастная воля — это аффектированная, надуманная, искусственная воля (I, стр. 453).
[...] Там, где нет стремления, там нет и воли, но там, где нет стремления к счастью, там нет и стремления вообще. Стремление к счастью — это стремление стремлений. Каждое стремление — это безыменное стремление к счастью, ибо оно получает название только от предмета, в котором человек полагает свое счастье (I, стр. 460).
[...] Где нет стремления к счастью, там нет и воли, а если и есть, то самое большее это только шопенгауэровская воля, которая ничего не хочет (I, стр. 462).
[...] Мораль не может быть выведена и объяснена из одного только Я или из чистого разума, без чувств. Она может быть объяснена и выведена из связи Я и Ты, данной только посредством чувства в противоположность к мыслящему себя Я [...]. Принцип морали есть счастье, но не такое счастье, которое сосредоточено на одном и том же лице, а счастье, распределенное между различными лицами, включающее и Я, и Ты, стало быть счастье не одностороннее, а двустороннее или всестороннее. [...] Поэтому мораль не может абстрагировать от принципа счастья; если бы даже она отбросила свое собственное счастье, она должна была бы все ж таки признать счастье чужое; в противном случае отпадает основание и предмет обязанностей в отношении к другим, отпадает самая практика морали. Ибо там, где нет различия между счастьем и несчастьем, между радостью и горем, там нет различия и между добром и злом. Добро —это утверждение; зло— отрицание стремления к счастью (I, стр. 465—466).
Какой же иной может быть, таким образом, задача морали, как 'не той, чтобы сознательно и добровольно сделать законом человеческого мышления и действия эту связь между собственным и чужим стремлением к счастью, связь, обоснованную природой вещей, самой связью воздуха и света, воды и земли? Напротив,
484
мораль, разрывающая эту связь и делающая своим исходным пунктом и основой этого разрыва случаи, в которых обязанность человека и его стремление к счастью вступают в разлад между собой, — эта мораль, чем она может быть иным, кроме как произвольным человеческим установлением и казуистикой? (I, стр.469).
Моя совесть есть не что иное, как мое Я, ставящее себя на место оскорбленного Ты, не что иное, как представитель счастья другого человека, на основе и по повелению собственного стремления к счастью. Ибо только потому, что я знаю из собственного ощущения о том, что такое боль, только по тем самым мотивам, по которым я избегаю страдания, я могу испытывать угрызения совести по поводу страданий, причиненных другим. [...] Нравственная воля — это та воля, которая не хочет причинять зла, потому что не хочет сама терпеть его. Больше того, только воля, не желающая терпеть зла, стало быть, только стремление к счастью является нравственным законом и совестью, которая удерживает или должна удерживать человека от причинения зла.
Но это не то стремление к счастью, которое изображает себе и своим читателям Кант, ибо он из любви к своей примадонне — к долгу, дает не естественный и правдивый образ, но лишь карикатуру этого стремления; он представляет его только в образе брезгливого аристократа, а не в образе простодушного человека из народа. Поэтому он приписывает долгу добро, стремлению же к счастью — только приятное, то есть вещь или объект, который, по его мнению, родовым или видовым образом отличается от добра (I, стр. 471—472).
Стремление к свободе, тождественное со стремлением к счастью, — это сущность природы и сущность человека; оно есть не что иное, как человеческая природа, в отличие от остальной органической и неорганической природы (I, стр. 476).
Ни одно человеческое действие не случается, конечно, с безусловной абсолютной необходимостью, ибо между началом и концом, между чистой мыслью и действительным намерением, даже между решением и самым действием может еще выступить во мне бесчисленное количество посредствующих звеньев; но если не обращать внимания на подобное вторжение, то при данных усло-. виях, впечатлениях и обстоятельствах, при данном характере и темпераменте, при данном теле, короче, при сущности, таким именно образом определенной, я мог решиться и мог поступить только так, как я решился и поступил (I, стр. 480—481).
Но если даже поступок и был необходимым субъективно и объективно, необходимым при таких-то и таких-то внутренних и внешних условиях, то все же он кажется случайным после того, как он уже совершен, после того, как страсть удовлетворена, а настойчивые побудительные причины поступка даже исчезли из сознания или по крайней мере уже не ощущаются в своей первоначальной силе (I, стр. 485).
Материализм есть единственный солидный базис морали. [...]
Короче: воля не в силах сделать ничего без помощи материальных, телесных средств; мораль ничего не может без гимнастики и диэтетики (I, стр. 504—505).
Воля — это стремление к счастью. [...]
485
Стремление к счастью — это основное, первоначальное стремление всего того, что живет и любит, что существует и хочет существовать [...].
[...] Счастье [...] есть не что иное, как здоровое, нормальное состояние какого-нибудь существа, состояние хорошего здоровья или благополучия; такое состояние, при котором существо может беспрепятственно удовлетворять и действительно удовлетворяет его индивидуальным, характерным потребностям и стремлениям, относящимся к его сущности и к его жизни (I, стр. 578—579).
Эвдемонизм8 настолько врожден человеку, что мы совсем не можем мыслить и говорить, не пользуясь им, даже не зная и не желая этого. [...]
Какова страна, каков народ и человек, таково и его счастье. Чем ты, европеец, являешься, тем не являюсь я, азиат, именно индиец (а ведь индиец как раз и является первоначальным буддистом), и, следовательно, то, что является твоим счастьем, не является моим, то, что тебя ужасает, меня приводит в восторг, то, что для тебя является Медузой, то для меня является Мадонной (I, стр. 590—591).
[...] Человек вместе со своим стремлением к счастью является существом природы и [...] так же, как он сам создан и оформлен природой, точно так же, как его тело и дух, его голова и сердце созданы и определены, так же создано и определено его стремление к счастью (I, стр. 599).
[...] Немецкие моралисты ставили себе в особенную заслугу то, что они, как было упомянуто выше, вычеркнули из морали всякий эвдемонизм, то есть в действительности — всякое содержание. И все ж таки эти господа, которые ничего не хотят знать в морали об эгоизме, о стремлении к счастью, говорят и поступают по отношению к обязанностям, к самому себе так, как будто бы (какое лицемерие!) заповеди, на которые они опираются, не являются заповедями собственного, индивидуального стремления к счастью (I, стр. 605).
Долг есть только то, что здорово, то, что само уже в одном только своем выполнении является показателем и выражением здоровья или создает таковое, ибо существуют также и такие подчиненные обязанности или добродетели, которые являются только средством для целей здоровья, сами же не имеют ценности (I стр. 607).
В действительности мораль индивидуума, мыслимого как су ществующего самого по себе, —это пустая фикция. Там, где вне Я нет никакого Ты, нет другого человека, там нет и речи о морали; только общественный человек является человеком. Я есмь Я только посредством тебя и с тобою. Я сознаю себя самого только потому, что ты противостоишь моему сознанию как очевидное и осязаемое Я, как другой человек. [...]
Обязанности в отношении к себе только тогда имеют моральный смысл и ценность, когда они признаются косвенными обязанностями в отношении к другим; когда признается, что я имею обязанности по отношению к самому себе только потому, что у меня есть обязанности по отношению к другим — к моей семье, к моей общине, к моему народу, к моей родине. Хорошо и нравственно — это одно и то же. Но хорош только тот, кто хорош для других (I, стр. 617—618).
486
[...] Осуждает ли мораль собственное стремление к счастью или абстрагирует ли по меньшей мере от него как от стремления, ее порочащего? Нисколько; но мораль, конечно, не знает никакого собственного счастья без счастья чужого, не знает и не хочет никакого изолированного счастья, обособленного и независимого от счастья других людей или сознательно и намеренно основанного на их несчастье; она знает только товарищеское, общее счастье (I, стр. 621).
Добро — то, что соответствует человеческому стремлению к счастью; зло — то, что ему заведомо противоречит. [...] Собственное счастье, конечно, не есть цель и конец морали, но оно есть ее фундамент, ее предпосылка (1, стр. 623).
Делайте, что хотите, — вы никогда окончательно не вытравите весь и всяческий эгоизм из человека; но различайте — я не могу достаточно часто напоминать об этом, — различайте между злым, бесчеловечным и бессердечным эгоизмом и эгоизмом добрым, участливым, человечным; различайте между незлобивым, невольным себялюбием, находящим удовлетворение в любви к другим, и себялюбием произвольным, намеренным, находящим удовлетворение в равнодушии или даже в прямой злости по отношению к другим. Тот, кто отрицает всякое своеволие, отрицает также тем самым и сострадание. Для кого счастье является только себялюбием или только видимостью и вздором, для того также и несчастье, достойное сострадания, не является истиной; ибо крик боли в несчастье не менее себялюбив и суетен, чем возглас удовольствия и радости.
Тот, кто увлекается нирваной или какой-нибудь иной метафи
зической сверхчувственной реальностью или ничтожеством как
высшей для человека истиной, для того человеческое, земное
счастье является ничем, но ничем также является и человеческое
страдание и несчастье, по меньшей мере если он хочет быть по
следовательным. Только тот, кто признает истинность индивидуаль
ного существа, истинность стремления к счастью, только тот пи
тает хорошо обоснованное сострадание, согласованное со своим
принципом, со своей сущностью. [...] '
Моя совесть есть не что иное, как мое собственное Я, ставящее себя на место ущербленного Ты, не что иное, как заместитель счастья другого человека на основе и по повелению собственного стремления к счастью. [...]
Тот, кто не имеет стремления к счастью, не знает и не чувствует, что. такое несчастье, следовательно, не имеет никакого сострадания к несчастным; а кто не ощущает удвоенного, обострившегося и увеличившегося сострадания в том случае, если он сознает, что сделал другого несчастным, тот не имеет совести (I, стр. 625-628).
Совесть ведет свое происхождение от знания или связана со знанием, но она обозначает не знание вообще, а особый отдел или род знания — то знание, которое относится к нашему моральному поведению и нашим добрым или злым настроениям и поступкам (I, стр. 630).
Добродетель, долг не находятся в противоречии с собственным счастьем; они находятся в противоречии только с тем счастьем, которое хочет быть счастливым на счет других, на их несчастье. [...]
487
|
|
Желание другого да будет моим желанием, ибо желание другого — это мое собственное желание в его положении, на его месте. Гетерономия, а не автономия9, гетерономия как автономия hete - ros — другого — вот мой закон (I, стр. 635—636).
Интимнейшую сущность человека .выражает не положение: «Я мыслю, следовательно, я существую» 10, а положение: «Я хочу, следовательно, я существую». [...]
Кант написал свою мораль не для людей, а для всех возможных разумных существ. Лучше бы он написал свою мораль не для профессоров философии, которые одни только и являются вне человека этими разумными существами, но и для поденщиков и дровосеков, для крестьян и ремесленников! На каких совершенно иных началах он бы ее обосновал! Как трудно дается жизнь этим людям; как вся их деятельность уходит только на то, чтобы прокормить себя; как счастливы они, если могут накормить и одеть себя и своих близких! Как ясно у них гетерономия является автономией, эмпиризм — законом их морали! (I, стр. 638—639).
[...] То, что для религии является первым, т. е. богом, на самом деле, согласно свидетельству истины, является вторым, так как бог есть только объективированная сущность человека; а что религия признает вторым, т. е. человека, мы должны установить и признать как первое. Любовь к человеку не должна быть производной; она должна стать первоначальной. Только тогда любовь будет истинной, священной, надежной силой. Если человеческая сущность есть высшая сущность человека, то и практически любовь к человеку должна быть высшим и первым законом человека. Человек человеку бог — таково высшее практическое осново-начало, таков и поворотный пункт всемирной истории. Отношение ребенка к родителям, мужа к жене, брата к брату, друга к другу, вообще человека к человеку, короче, моральные отношения сами по себе суть истинно религиозные отношения. [...]
Они только там являются моральными, они только там имеют нравственный смысл, где они сами по себе почитаются религиозными. Подлинная дружба существует только там, где дружба • соблюдается с религиозной добросовестностью, как человек верующий соблюдает и хранит достоинство своего бога. Да будет же для тебя священна дружба, священна собственность, священен брак, священно благо каждого человека, но да будут они для тебя священны сами по себе! (II, стр. 308—309).
Где мораль утверждается на теологии, а право на божьих постановлениях, там можно оправдать и обосновать самые безнравственные, несправедливые и позорные вещи. [...] Все справедливое, истинное и доброе везде имеет в себе самом, в своем качестве, основание своей святости. Там, где относятся к морали серьезно, там она уже сама по себе почитается божественной см-лой. Если мораль не обоснована на себе самой, тогда не существует внутренней необходимости для морали и она отдается на безграничный произвол религии.
Таким образом, в вопросе об отношении самосознающего разума к религии речь идет только об уничтожении иллюзии — иллюзии не безразличной, но, напротив, действующей очень вредно на человечество и отнимающей у человека не только силу действительной жизни, но и понимание истины и добродетели [...].
488
Если мы, как сказано, изменим в обратном порядке религиозные отношения, и то, что религия считает средством, будем неизменно рассматривать как цель, и то, в чем она видит лишь нечто подчиненное, побочное и обусловленное, возвысим до значения причины, тогда мы разрушим иллюзию и осветим вопрос непомраченным светом истины (II, стр. 312^—313).
Быть без религии — значит, думать только о себе; иметь религию — значит, думать о других. И это единственная религия, которая не умрет по крайней мере до тех пор, пока на земле существует не один только «Единственный», ибо там, где имеются двое, муж и жена, там уже имеется и религия. Двойственность, различие, есть источник религии — Ты является богом для Я, ибо Я не существует без Ты, Я зависит от Ты; без Ты нет Я. [...]
Когда я парализован, руки и ноги другого служат для меня органами движения; когда я слеп, его глаза ведут меня; когда я ребенок, воля и ум моего отца являются моим умом и волей, моим для-себя-бытием, ибо в детстве я тысячу раз бываю вопреки своему желанию своим собственным врагом. Таким образом, человек оказывается богом человека! И только при помощи этого человече ского бога можно сделать излишним бога вне- и сверхчеловеческого (II, стр. 414—415).
«Дело в том, что Ф[ейербах] превращает религию в этику, а этику в религию». Да, он это делает в противоположность христианству [...], в котором этика как отношение человека к человеку занимает подчиненное место сравнительно с отношением человека к богу. Но Ф[ейербах] ставит человека выше нравственности [...]. Следовательно, Ф[ейербах] не нравственность делает мерилом человека, а, наоборот, человека мерилом нравственности: хорошо то, что сообразно человеку, что соответствует ему; дурно, негодно то, что ему противоречит. Стало быть, этические отношения священны для Ф[ейербаха] отнюдь Не «ради них самих» (разве только в противоположность христианству с его «ради воли божией»), они священны только ради человека, только потому что и поскольку они являются отношениями человека к человеку, то есть самоутверждениями человеческого существа. Таким образом, Ф[ейер-бах] действительно превращает этику в религию, но не этику самое по себе, in abstracto, не как цель, а только как следствие, не потому, что для него как для «просвещенного протестантизма», рационализма, кантианства нравственное существо, то есть существо нравственности, является религиозным, то ест высшим существом, • а потому, что таким существом является для него действительное, чувственное, индивидуальное человеческое существо (II, стр. 419—420).
Я употребляю, к ужасу лицемерных теологов и фантастов-философов, слово «эгоизм» для обозначения основы и сущности религии. [...] Я понимаю поэтому под этим словом не эгоизм человека по отношению к человеку, нравственный эгоизм, не тот эгоизм, который во всем, что он делает, даже как будто для других, соблюдает лишь свою выгоду, не тот эгоизм, который является характерной чертой филистера и буржуа и составляет прямую противоположность всякому дерзанию в мышления и действии, всякому воодушевлению, всякой гениальности и любви. [...] Я понимаю под эгоизмом эгоизм необходимый, неизбежный, не моральный, как я уже сказал, а метафизический, то есть эгоизм,
489
основывающийся на существе человека, без его ведома и воли, тот эгоизм, без которого человек не может жить: ибо для того, чтобы жить, я должен постоянно присваивать себе то, что мне полезно, и отстранять то, что мне враждебно и вредно [...]. Я понимаю под эгоизмом любовь человека к самому себе, то есть любовь к человеческому существу, ту любовь, которая есть импульс к удовлетворению и развитию всех тех влечений и наклонностей, без удовлетворения и развития которых человек не есть настоящий, совершенный человек и не может им быть; я понимаю под эгоизмом любовь индивидуума к себе подобным индивидуумам — ибо что я без них, что я без любви к существам, мне подобным? —любовь индивидуума к самому себе лишь постольку, поскольку всякая любовь к предмету, к существу есть косвенно любовь к самому себе, потому что я ведь могу любить лишь то, что отвечает моему идеалу, моему чувству, моему существу (II, стр. 546—547).
Всюду, где человек борется с эгоизмом в широком смысле этого слова — в религии ли, в философии ли или в политике, он впадает в чистейшую нелепость и безумие; ибо смысл, лежащий в основе всех человеческих влечений, стремлений, действий, есть удовлетворение человеческого существа, удовлетворение человеческого эгоизма (II, стр. 577).
[...] Добро есть не что иное, как то, что отвечает эгоизму всех людей, зло — не что иное, как то, что отвечает и что выгодно эгоизму отдельных человеческих классов и что, стало быть, идет за счет других [...]. Когда начинается в истории новая эпоха? Всюду тогда, когда против исключительного эгоизма нации или касты заявляет свой вполне законный эгоизм угнетенная масса или большинство, когда классы или целые нации, одержав победу над высокомерными претензиями господствующего меньшинства, выходят из жалкого и угнетенного состояния пролетариата на свет исторической и славной деятельности. Так и эгоизм ныне угнетенного большинства человечества должен осуществить и осуществит свое право и начнет новую эпоху истории. Упразднению подлежит не аристократия образования, духа — нет! Но недопустимо, чтобы немногие были благородны, а прочие — чернью; все должны, по крайней мере должны, быть образованны. Не должна быть отменена собственность вообще — нет! Но недопустимо, чтобы немногие имели собственность, а другие ничего не имели; собственность должна быть у всех (II, стр. 834—835).
ГУМБОЛЬДТ
Александр Гумбольдт (1769—1859) — великий немецкий естествоиспытатель, пионер научного исследования Земли. В 1789— 1790 гг. учился в Геттиигенском университете, в дальнейшем обучался в Торговой академии в Гамбурге, был учеником известного геолога А. Г. Вернера, β 1792—1797 гг. состоял β должности обер-бергмейстера. Многие годы Гумбольдт провел в путешествиях, исследовал Южную Америку, Западную и Юго-Западную Сибирь. Результатом этих путешествий, описанных Гумбольдтом в обширных трудах, были выдающиеся открытия в области географии, ботаники ц минералогии.
490
|
|
Главное произведение Гумбольдта — «Космос. Опыт физиче ского мироописания» («Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung», 1845—1862). В нем немецкий ученый попытался обоб щить все естественнонауч ные знания своего времени. Основную цель своего исследования Гумбольдт видел в том, чтобы понять явления в их всеобщей связи, понять природу как живое целое, движимое внутренними силами. Рассматривая с этих позиций природу, космос (это понятие служит ему для обозначения материального мира), Гумбольдт отвергает механистическое миропонимание и выдвигает отдельные диалектические положения. Однако натурфилософским взглядам ученого были присущи элементы механицизма в объяснении структуры космоса, происхождения и сущности органической жизни.
Философские воззрения Гумбольдта следует считать одной из ранних форм есте-ственноисторического материализма, которому присуще, как указывал В. И. Ленин, стихийное, философски-неоформленное убеждение в объективной реальности внешнего мира, объективном характере законов природы и возможности их познания. Все эти специфические черты естест-венноисторического материализма можно обнаружить в той или иной мере у Гумбольдта. В то же время философские взгляды ученого носят следы не преодоленного до конца влияния немецкого классического идеализма.
Ниже публикуются извлечения из кн.: А. Гумбольдт. Космос. Опыт физического мироописания. Перевод с немецкого Н. Фролова, ч. 1. М., 1866. Извлечения подобраны автором данного вступительного текста В. В. Мееровским и сверены им с оригиналом по изданию: A. Humboldt. Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Bd. 1. Stuttgart, 1874.
КОСМОС, ОПЫТ ФИЗИЧЕСКОГО МИРООПИСАНИЯ
I
Главным моим побуждением всегда было стремление обнять явления внешнего мира в их общей связи, природу как целое, движимое и оживляемое внутренними силами (стр. III).
Вступительные размышления о различной степени наслажде ния природой и о научном исследовании законов Вселенной (Weltgesetze).,
491
[...] Для разумного созерцания природа есть единство во множестве, соединение разнообразного — по форме и составу, совокупность естественных явлений и естественных сил, есть живое целое. Важнейшая цель разумного изучения природы состоит в том, чтобы в разнообразии познать единство, обобщить все то, что нам известно благодаря открытиям прежних времен; поверяя подробности, надо уметь выбирать между ними, не капитулируя перед их массой, помня возвышенное назначение человека — завладеть духом природы, скрытым под покровом явлений (стр. 9, 11).
Чем глубже проникаешь в сущность естественных сил, тем более постигаешь связь явлений (которые, будучи рассматриваемы изолированно и поверхностно, казались противостоящими всякому сближению); тем более становится возможным внесение простоты и краткости в изложение [общих идей]. Верный признак многочисленности и ценности открытий, которые предстоит сделать какой-либо науке, состоит в том, что ее данные находятся еще не связанными друг с другом и почти не соотносятся друг с другом, а многие из них, собранные с такой же тщательностью, кажутся даже противоречащими друг другу. [...]
В моих размышлениях о научном методе (Behandlung) общего мироописания речь идет не об единстве, выводимом из немногих основных принципов, данных нам разумом. То, что я называю физическим мироописанием (сравнительным изучением неба и земли), отнюдь не претендует на ранг (звание) рациональной науки о природе; оно — это мироописание — есть лишь разумное рассмотрение явлений природы, данных нам эмпирически, как некоего целого (стр. 31—32).
Человек не может воздействовать на природу, не может завладеть никакой из ее сил, если не знает законов природы, не умеет измерять и вычислять их. [...] Знание и изучение суть радость и право человечества; они суть части народного богатства и нередко замена благ, слишком скудно распределенных природой. [...]
Как в высших сферах мысли и чувства: в изучении истории, философии и красноречия, так и во всех областях естествознания, первая и возвышенная цель духовной деятельности есть внутренняя, а именно: отыскание законов природы, исследование правильного чередования форм, проникновение в необходимую взаимосвязь всех изменений, происходящих во Вселенной. [...]
Цель этого вступительного сообщения состояла не только в том, чтобы охарактеризовать важность естествознания, давно уже повсеместно признанную и не нуждающуюся в доказательстве; скорее эта цель состояла в желании раскрыть, каким образом, не нанося вреда основательному изучению специальных дисциплин, может быть найдена для всех естественнонаучных изысканий та высшая точка, с которой откроются все формы и силы [природы] как одно природное целое, одушевленное внутренним движением. [...] Представленное здесь мироописание или учение о Космосе, как я его понимаю, не есть энциклопедическое собрание самых общих и важных результатов, извлеченных из отдельных естественноисторических, физических и астрономических сочинений. Подобные результаты используются только как материал для мироописания и лишь в той степени, в какой они объясняют взаимодействие сил во Вселенной, взаимную зависимость природ-
492
них явлений. (...] Поэтому физическое мироописание не должно быть смешиваемо с так называемой энциклопедией естественных наук. [...] В учении о Космосе единичное будет рассматриваемо только в его отношении к общему как часть мировых явлений (стр. 36—39).
ГРАНИЦА И НАУЧНЫЙ МЕТОД ФИЗИЧЕСКОГО МИРООПИСАНИЯ
. [...] В моем опыте мироописания «Космос» принят в tow значении, какое дано этому слову всеобщим словоупотреблением в по-слепифагорейское время, так, как определил его неизвестный автор книги De Mundo, долго приписываемой Аристотелю ', — я им буду называть небо и землю, весь вещественный мир (Körperwelt) (стр. 47, 61).
Обнять многообразие явлений Космоса в единстве мысли, в форме чисто рациональной, умозрительной связи, по моему мнению, невозможно при настоящем состоянии наших эмпирических знаний. Опытные науки никогда не бывают оконченными, обилие чувственных наблюдений неисчерпаемо; ни одно поколение не сможет поставить себе в заслугу то, что оно обозрело всю совокупность (Totalität) явлений. Только там, где явления отобраны в группы, в некоторых однородных группах можно признать господство великих и простых законов природы. Чем более развиваются физические науки, тем более расширяется круг [явлений], подчиненных этому господству. [...]
Как в обобщении законов природы существуют градации, смотря по тому, обнимают ли они большие или меньшие группы явлений, более обширные или тесные области органических форм, так и в эмпирическом исследовании существуют свои ступени. Оно начинается с отдельных созерцаний, которые группируются по [признаку] однородности и приводятся в порядок. От наблюдения продвигаются к экспериментированию: к вызову явлений при определенных условиях, на основе направляющих гипотез, то есть на основе предчувствия внутренней связи явлений природы и ее сил. То, что было приобретено посредством наблюдения и эксперимента, ведет на основании аналогии и индукции к познанию эмпирических законов. Таковы фазы или как бы моменты, пробегаемые наблюдающим разумом и обозначающие отдельные эпохи в истории естествознания.
Две формы абстракции обнимают собой всю массу познания: количественная, определяющая отношения сообразно числу и величине, и качественная, [определяющая отношения] сообразно свойствам материи. Первая, более доступная, форма принадлежит математическому, вторая химическому знанию. [...]
Мы еще далеки от того времени, когда станет возможным объединить все наши чувственные созерцания в одно понятие о природе. Сомнительно, придет ли когда-нибудь подобное время вообще. Сложность проблемы и неизмеримость Космоса делают надежду на это почти напрасной. Но как ни недостижимо для нас полное решение проблемы, остается все же возможным частичное разрешение ее, стремление к уразумению мира явлений — эта высшая и вечная цель всякого исследования природы. Верный духу моих прежних сочинений, как и направлению моих занятий,
493
посвященных опытам, измерениям π исследованиям фактов, я и в этом труде ограничусь эмпирическим созерцанием. Это единственная почва, на которой я чувствую себя уверенно. Такая обработка эмпирических знаний, или, точнее говоря, их совокупности, нисколько не исключает ни упорядочения обнаруженного в соответствии с направляющей идеей, ни обобщения частного, ни постоянного изыскания эмпирических законов природы. Разумное познание (denkendes Erkennen), познание Вселенной на основе разума, без сомнения, представляло бы более возвышенную цель. Я далек от того, чтобы попытки, на которые сам не отваживаюсь, порицать оттого только, что до сих пор успех их оставался весьма сомнительным. [...]
Идея опытных наук и идея философии природы, развитой во всех ее частях (если только подобное развитие может быть когда-либо достижимым), не могут вступить в противоречие [друг с другом], если философия природы, согласно ее обещаниям, есть разумное понимание действительных явлений во Вселенной. Где же противоречие обнаруживается, то виной тому является или пустота спекуляций, или чрезмерные притязания эмпиризма, недопустимо расширяющие права опытного знания.
[...] Только там начинается наука, где дух овладевает материалом, где делается попытка подчинить массу опытов разумному познанию; наука есть дух в приложении его к природе. [...] Работа духа начинается в ту минуту, когда мышление, влекомое внутренней необходимостью, впитывает в себя материал чувственных наблюдений. [...]
История сохранила нам память о многочисленных попытках понять мир физических явлений в его многообразии, познать единую мировую силу (Weltkraft), пронизывающую, двигающую, перемешивающую всю Вселенную. Эти попытки в классической древности начинаются с физиологии и учений о первобытной материи ионической школы, в которой (при скудном материале фактов) эмпиризм не получил развития, господствовало идеальное стремление и природа объяснялась из чистого разума. Чем более с блестящим развитием всех естественных наук возрастал материал достоверного эмпирического знания, тем более охлаждалось стремление выводить сущность явлений и их единство как природного целого из отвлеченных понятий, покоящихся на одних умозрениях. В близком к нам времени математическая часть философии природы достигла выдающегося, великолепного развития. Методы и средства (анализ) [познания] были усовершенствованы одновременно. То, что приобретено теперь столь различными путями, разумным применением атомистических предположений, более общим и непосредственным контактом с природой, появлением и усовершенствованием новых орудий, — все это, составляя общее достояние человечества, должно теперь, как и в древности, стать предметом свободнейшей разработки философии в ее изменчивых формах и видах (стр. 63—67).
КАРТИНА ПРИРОДЫ. ОБЩИЙ ОБЗОР ЯВЛЕНИЙ
[...] Мы рассматриваем здесь Вселенную и делаем попытку наглядно изобразить ее в ее обеих сферах, небесной и земной. [...] Мы проникнем сначала в глубину всемирного пространства,
494
в область отдаленнейших туманностей, затем, постепенно опускаясь сквозь звездный слой, к которому принадлежит наша Солнечная система, к земному сфероиду, обтекаемому воздухом и морем, дойдем до изображения его вида, температуры и магнитного напряжения, до бесконечно разнообразной органической жизни, которая развивается на его поверхности под влиянием световых лучей. Таким образом, картина мира обнимает немногими чертами неизмеримые небесные пространства и микроскопически малые организмы животного и растительного царства, обитающие в наших стоячих водах или на выветривающейся поверхности скал. [...] Описательная картина природы, предполагаемая этим введением, не должна иметь в виду одни частности; для ее полноты не нужно исчислять все жизненные формы, все предметы природы и все ее процессы. Мыслитель, упорядочивающий [накопленный] материал, должен, противодействуя тенденции, стремящейся к бесконечному раздроблению познанного и собранного, избегать опасности чрезмерного эмпиризма. Значительная часть качественных сил материи или, говоря языком философии природы, качественных проявлений сил, несомненно, еще не может быть открыта. Отыскание единства в целом уже поэтому остается неполным. Наряду с радостью приобретенного познания в устремленном ввысь духе, уже недовольном настоящим, как бы присутствует страстное стремление к неоткрытым, неизвестным областям знания (стр. 75—76).
Картина природы, соответствующая требованиям одного чувственного созерцания, должна была бы начаться с изображения родной почвы. Она представила бы сначала земное тело (Erdkörper) в его величине и форме, в его с глубиной возрастающей плотности и теплоте, в его сложенных друг на друге твердых и жидких слоях; она изобразила бы отделение моря от земли, жизнь, развившуюся в этих обеих средах в виде клетчатой растительной и животной ткани, и, наконец, волнистый, бороздимый потоками, воздушный океан... Вслед за этим изображением чисто теллурических отношений взор подымался бы к небесным пространствам, и земля... под конец рассматривалась бы как планета. [...] Этот порядок идей знаменует путь первого чувственного созерцания [...], он начинается у исходной точки восприятия и переходит от известного и близкого к неизвестному и далекому. [...]
Но в сочинении, долженствующем изложить все уже познанное [...], в таком сочинении предпочтительнее следовать другому ходу мыслей. [...] Земное должно явиться как часть целого, как подчиненное этому целому. [...] Таким образом, физическое миро-описание, картина Вселенной, начинается не с теллурического мира, но с того, что наполняет небесное пространство. По мере же того как сфера созерцания пространственно ограничивается, умножается индивидуальное богатство различаемых предметов, обилие физических явлений, знание качественной разнородности материи. Из областей, в которых мы знаем только господство законов тяготения, мы опустимся к нашей планете, к запутанной игре сил в жизни Земли. Изображенный здесь естествоописатель-ный метод противоположен тому, с помощью которого утверждаются результаты [познания]. Один [метод] перечисляет то, что было уже доказано другим (78—80).
495
| БЮХНЕР |
Людвиг Бюхнер (Büchner, 1824—1899) — немецкий естество испытатель, врач по профессии, представитель «вульгарного» ма териализма. Участвовал в революции 1848—1849 гг., выступал за единую немецкую буржуазную республику. С 1852 г. приват-доцент в Тюбингене. В 1855 г. Вюхнер публикует свое сочинение «Сила и материя» («Kraft und Stoff»), принесшее ему широкую известность. Книга многократно переиздавалась и переводилась на другие языки (первый русский перевод был сделан в 1860 г.). За
|
|
это материалистическое сочи нение Вюхнер был лишен возможности преподавать в университете и вышел в отставку.
В дальнейшем он зани мается научной и литератур ной деятельностью, пишет и выпускает ряд произведений: (/Природа и наука» (1857 г.), «Психическая жизнь животных» (1876 г.), «Дарвинизм и социализм» (1894 г.) и др. Систематически дополнялось и перерабатывалось и главное его произведение — «Сила и материя», выдержавшее в Германии свыше 20 изданий.
Философские взгляды
Бюхнера формировались под
влиянием антропологического
материализма Фейербаха и
работ французского фило
софа-материалиста конца
XVIII в. П. Кабаниса (1757—
1808). У последнего Бюхнер
и другие «вульгарные» мате
риалисты (К. Фогт, Я. Молешотт) заимствовали, в частности,
положение о том, что мышление является материальным продук
том мозга. Однако следует иметь в виду, что Вюхнер впоследствии
не только отказался от этой упрощенной точки зрения, но и под
верг критике высказывание Фогта о том, что «мозг предназначен
для мышления, как желудок для пищеварения или печень для
выделения желчи из крови» (см. настоящий том, стр. 502).
При характеристике взглядов Бюхнера нужно учитывать, таким образом, что он проделал известную эволюцию и преодолел некоторые пороки, свойственные «вульгарному» материализму. Эта эволюция, получившая отражение в последних изданиях «Силы и материи», была вызвана, с одной стороны, достижениями естествознания в области изучения живой природы, а с другой стороны, воздействием на Бюхнера передовых философских идей, включая диалектический материализм. Бюхнер сочувственно цитирует, например, «Анти-Дюринг» Ф. Энгельса и солидаризируется по
496
существу с его положением, что движение есть способ существования материи (см. настоящий том, стр. 500).
Сказанное не означает, однако, что Бюхнер встал на путь сближения материализма с диалектикой. Механицизм и метафи зичность «вульгарного» материализма довлели над ним до конца жизни. Чуждо было ему и диалектика-материалистическое понимание сознания, процесса познания человеком объективной реальности, происхождения и сущности общественной жизни. В ряде же отношений Бюхнер приближался к позитивизму, третируя философию как науку, не понимая значение разработки теории познания, философских проблем естествознания и т. п. Он разделял также концепцию «социального дарвинизма».
Названные выше недостатки и ошибки «вульгарного» мате риализма были подвергнуты критике основоположниками марк сизма. В России его представители критиковались революцион ными демократами (Добролюбовым, Антоновичем). В. И. Ленин критиковал «вульгарных» материалистов за отрицание специфики сознания, за отождествление идеального с материальным.
К положительным же сторонам деятельности «вульгарных» материалистов (в первую очередь Л. Бюхнера) следует отнести популяризацию ими естественнонаучных знаний, пропаганду просветительского атеизма, борьбу с религиозным мировоззрением. (Так, Бюхнер стал одним из основателей «Немецкого союза свободомыслящих».)
Ниже публикуются отрывки из кн.: Л. Бюхнер. Сила и материя. Общедоступный очерк естественного мирового порядка. Дет ревод с немецкого Г. и С. Сониных. СПб., 1907. Извлечения подобраны автором данного вступительного текста В. В. Мееровским и сверены им с оригиналом по изданию: L. Büchner. Kraft und Stoff, oder Grundzüge der natürlichen Weltordnung. 21 Aufl. Leipzig, 1904.