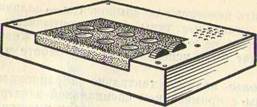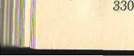В некоторых случаях, напротив, в письме выражается то, что в устной речи остается неразграниченным. Например, различный смысл предложений Вдали показался орел и Вдали по-
304
казался Орел или Надо отвести детей и Надо отвезти детей выражен чисто орфографическими средствами.
Из сказанного следует, что материальные средства устной и письменной речи, используемые для выражения и различения смысла, не вполне соответствуют друг другу, причем в одних случаях преимущество оказывается на стороне устного слова, в других — на стороне письма.
Устной речи свойственны некоторые особенности, касающиеся ее лексики и грамматики. Эти особенности более всего обусловлены тем, что, диалогическая по преимуществу, устная речь используется в повседневной жизни при непосредственном контакте между говорящими, которые находятся в определенной обстановке, имеют возможность не только слышать собеседника, но также зрительно воспринимать его артикуляцию и своеобразный «аккомпанемент» речи в виде выразительных движений (мимика лица, жесты, позы говорящего). В ходе беседы говорящий всегда имеет возможность учесть реакцию собеседника, повторить, уточнить, дополнить недостаточно ясно сказанное.
Диалог особенно хорошо представлен в общении людей близких, хорошо знакомых друг с другом, в кругу семьи, в обществе товарищей по работе, когда взаимное понимание достигается подчас с полуслова.
Говоря о лексических особенностях устной речи, следует отметить, что наряду с общеупотребительными стилистически нейтральными словами широкое применение находит в ней разговорно-бытовая лексика, включающая диалектные и просторечные слова.
Грамматические особенности устной речи более всего проявляются в ее синтаксисе, для которого характерно прежде всего преобладание простых предложений, сочинительных конструкций над подчинительными, всевозможных неполных предложений над полными.
Однако если от диалогической устной речи обратиться к монологической, к связному повествованию, то особенности устной речи в значительной мере сглаживаются и она сближается с развернутой письменной речью, для которой характерен более строгий, во многом своеобразный отбор слов и более сложные синтаксические конструкции.
Следует особо подчеркнуть первичность устной речи по othoj шению к письменной, которая является вторичной, производной от нее. Это выражается не только в том, что письменная речь формируется у нормально слышащего ребенка позже устной и на ее основе, но и в том, что у взрослых людей психофизиологический механизм процессов чтения и письма находится в тесной зависимости от устной речи. Особенно наглядно такая зависимость выражается в нарушениях письма, обусловленных расстройством устной речи, например при афазии, дизартрии, дис-лалии.
| 305 |
20 заказ 1703
 | |||
 | |||
20* |
Существенную особенность звучащей речи составляет ее быстротечность, последовательная смена ее элементов, сливающихся в более или менее распространенные непрерывные цепи.
В письменной речи предложения четко разделены интервалами на слова, а в печатных текстах — и слова на буквы.
Благодаря статичности начертаний слов они оказываются представленными как в виде последовательно расположенных отдельных элементов — букв, так и в виде целостной конфигурации, составленной из этих элементов.
Еще одна особенность устной речи состоит в том, что условия диалога, живого общения создают непосредственные мотивы речевой деятельности. В противоположность этому письменная речь, осуществляемая, как правило, в отсутствии того, кому она адресована, лишена столь непосредственных мотивов и носит характер значительно более абстрактной и произвольной деятельности.
Внутренняя устная речь отличается от внешней не только тем, что она не слышна, что связанные с ней речевые движения резко редуцированы, но также и своей крайней лексической и грамматической сокращенностью. Л. С. Выготский (1956), подчеркивая свернутость, эллиптичность, стенолрафичность внутренней речи, рассматривал ее как прямую противоположность письменной речи, отличающейся максимальной полнотой и развернутостью.
Характеризуя устную речь, мы сопоставили ее с письменной. Однако применительно к глухим следует упомянуть еще и о пальцевой разновидности речи — дактилологии. Несмотря на то что дактильные знаки воспроизводят буквенный код письменной речи, дактилология имеет родственные черты с устной речью. Подобно последовательно сменяющим друг друга звукам устной речи, адресованным слуху, дактилология представляет собой последовательную смену пальцевых знаков, адресованных зрению.
Как и устная речь, дактилология удобна в диалоге, в условиях непосредственного общения. Она так же сопровождается выразительными движениями. Благодаря изменению длительности экспозиции отдельных знаков, темпа их следования друг за другом, а также благодаря разной длительности перерывов между сериями знаков и присоединению к движениям пальцев движений предплечья в дактилологии могут найти некоторое отражение динамические и паузальные средства интонации.
3. Формирование устной речи
у нормально слышащего ребенка
Исходным и основным видом словесной речи в процессе ее усвоения нормально слышащим ребенком служит устное слово. Развитие устной речи происходит на основе общения ребенка с окружающими, в связи с различными видами его деятельности. Особо важную роль при этом играет развивающаяся функция
306
слухового и речедвигательного анализаторов, которые дают ребенку возможность воспринимать обращенную к нему речь, подражать ей и контролировать собственное звукопроизношение. Первый год жизни ребенка составляет как бы подготовительный период в формировании его речи. За это время ребенок проходит большой путь от первых недифференцированных реакций на звуки внешнего мира до (понимания известного числа простей» ших слов и фраз, от первого крика до богатого разнообразными звуками лепета и произнесения первых слов, усвоенных на основе подражания окружающим.
Второй и третий год жизни ребенка характеризуется быстрым накоплением словаря, овладением морфологической структурой слов и синтаксисом, развитием фонематического слуха и произносительных навыков. Важно отметить, что, практически широко пользуясь речью в общении с окружающими, опираясь на нее в процессе мышления, дети лишь постепенно овладевают значениями слов и грамматических форм, дифференцированным слуховым восприятием речи и произношением. В течение известного времени как рецептивная, так и экспрессивная сторона речи носят в значительной мере приближенный характер. Специфическим для устной речи проявлением такой приближенности являются, в частности, отмечаемое на втором году жизни ребенка неразличение на слух близких по звучанию фонем и слов, характерные отклонения в произношении (Н. X. Швачкин, 1948; А. Н. Гвоздев, 1948).
Изучение развития произносительной стороны речи детей показывает, что приближенность воспроизведения ими фонетического облика слов проявляется в искажении или замене фонем, в пропуске, вставке и перестановке фонем и слогов в словах.
Следует особо подчеркнуть склонность детей к усечению еще недоступных им по своей слоговой структуре слов («гла» вместо глазки, «си» вместо принеси и т. п.), а также к регулярной замене в словах некоторых еще недоступных для произношения фонем другими, близкими к ним по звучанию и артикуляции («коска» вместо кошка, «люка» вместо рука и т. п.). Все эти проявления приближенности произношения являются свидетельством еще недостаточно высокого уровня развития ана-литико-синтетической деятельности слухового и главным образом речедвигательного анализатора, что не позволяет ребенку преодолеть те или иные фонетические трудности.
Те же фонетические трудности принуждают детей в течение некоторого времени сохранять в своей речи наряду с приближенно произносимыми словами общепринятого языка лепетные, в частности звукоподражательные, слова («биби» — автомобиль, «ам-ам» — собака и т. п.).
К 3—4 годам устная речь нормально слышащего ребенка оказывается в основном сформированной. Дальнейшее ее развитие
307
 выражается главным образом в обогащении словаря, в усвоении ребенком все более сложных грамматических форм, более пол-дом овладении лексическими и грамматическими значениями. *
выражается главным образом в обогащении словаря, в усвоении ребенком все более сложных грамматических форм, более пол-дом овладении лексическими и грамматическими значениями. *
4. Возможность овладения устной речью при нарушенном слухе
Врожденное или рано наступившее нарушение слуха затрудняет, а в случае глухоты делает невозможным обычное, естественное усвоение устной речи, которая у нормально слышащего ребенка формируется на основе слухового восприятия речи окружающих и подражания ей.
Вместе с тем практически давно доказано, что в результате .специального обучения даже полностью глухие дети могут все „же овладеть устной речью. Этот факт находит свое объяснение в чрезвычайной пластичности высшей нервной деятельности, на которую постоянно указывал И. П. Павлов. Благодаря ей дефект слухового анализатора может быть в значительной мере ^компенсирован за счет других, сохранных анализаторов.
Проблема формирования устной речи у детей с нарушенным -слухом изучалась в различных аспектах многими советскими .сурдопедагогами и психологами. В ряде работ затронуты вопрос ,сы, касающиеся содержательной стороны устной речи глухих и слабослышащих детей, ее лексического состава и грамматического строения, вопросы мотивации, отношения детей к устной речи, усвоения ими навыков общения с помощью устного слова "(Р. М. Боскис, 1963; С. А. Зыков, 1961; Н. Г. Морозова, 1959; И. М. Соловьев, 1960; Ж. И. Шиф, 1968 и др).
В настоящей главе рассматриваются лишь некоторые вопросы, касающиеся преимущественно усвоения глухими и слабослышащими детьми навыков восприятия устной речи и навыков произношения.
Очевидным условием того, чтобы при нарушенном слухе ребенок мог овладеть устной речью, служит наличие в его распоряжении того или иного способа восприятия фонетической ее стороны.
При меньших степенях потери слуха это условие может быть осуществлено путем простого усиления громкости речи и дополнительного использования сохранных анализаторов, при больших компенсирующая роль этих анализаторов возрастает, а при тотальной (полной) глухоте их использование является единственным ресурсом.
Прямое или косвенное восприятие акустических средств, составляющих материальную основу таких фонетических элементов речи, как фонемы, словесное ударение, интонация, служит сенсорной (чувственной) базой, на которой строится усвоение и «функционирование устной речи.
Оно является необходимым условием, во-первых, для того, чтобы ребенок научился понимать обращенное к нему устное .308
слово, во-вторых, для того, чтобы он мог получать образцы, которым следует подражать, без чего невозможно усвоение произносительных навыков, и, в-третьих, для того, чтобы он мог контролировать свое произношение, сличать его с образцом, без чего также немыслимо научиться говорить.
Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения устной речи, необходимо выяснить, какие возможности в отношении восприятия фонетических элементов речи дают ему различные анализаторы, включая слуховой, если его функция оказывается в той или иной мере сохранившейся. При этом в связи с возможностями каждого анализатора важно иметь в виду и рассчитанные на него вспомогательные средства.
Роль, которую способен выполнять анализатор непосредственно или при использовании определенного вспомогательного средства, может быть очень различной. Анализатор может играть роль основного канала для восприятия речи в процессе общения и служить основой формирования произношения. Но он может играть и более скромную роль: служить только целям формирования произношения или выполнять помимо этого функцию дополнительного канала, лишь облегчающего восприятие речевой информации.
Рассмотрим, какие возможности для восприятия фонетических элементов речи дают ребенку с нарушенным слухом различные анализаторы. В связи с этим коснемся и тех вспомогательных средств, которые предназначены для повышения эффективности восприятия фонетической структуры речи.
5. Зрительный анализатор
Применительно к детям с наиболее резко выраженным нарушением слуха, которое квалифицируется как глухота, следует прежде всего остановиться на возможностях зрительного анализатора. При этом в первую очередь надо выяснить, в какой мере могут быть восприняты зрительно фонетические элементы речи по тем движениям речевых органов, которые можно видеть у говорящего человека. Такого рода условия имеют место при чтении с губ, которое служит обычным способом восприятия устной речи глухими.
Поскольку звучание речи обусловлено работой речевых органов, каждому элементу ее фонетической структуры соответствует некоторый комплекс речевых движений.
Если бы все эти движения были достаточно выражены оптически, то получился бы просто новый, оптический код, полностью эквивалентный акустическому, и на его основе оказалось бы принципиально возможным полное и дифференцированное восприятие фонетических элементов речи по оптическим их коррелятам.
309
 В действительности же лишь часть речевых движений находит свое непосредственное оптическое выражение, и то не всегда достаточно ясное и отчетливое. Так, например, действие мягкого нёба, мышц гортани и диафрагмы скрыты от глаза, а движения языка видны далеко не все, и многие из них недостаточно ясно. Хорошо видны только движения губ и нижней челюсти.
В действительности же лишь часть речевых движений находит свое непосредственное оптическое выражение, и то не всегда достаточно ясное и отчетливое. Так, например, действие мягкого нёба, мышц гортани и диафрагмы скрыты от глаза, а движения языка видны далеко не все, и многие из них недостаточно ясно. Хорошо видны только движения губ и нижней челюсти.
Неполноценность оптического отображения речевых движений влечет за собой недостаточную оптическую выраженность фонетических элементов речи.
Обратимся к фонемам. Лишь небольшая часть фонем русского языка характеризуется отчетливым и однозначным оральным (ротовым) рисунком. По существу сюда относятся только гласные а, о и у. Подавляющее большинство фонем объединяется в небольшое число групп, каждая из которых характеризуется присущим ей более или менее отчетливо выраженным оральным рисунком. В пределах таких групп фонемы оказываются оптически настолько сходными между собой, что при чтении с губ они постоянно смешиваются. Уже среди гласных различия между фонемами и, э, ы оказываются значительно менее четкими, чем между гласными а, о, у.
Среди согласных оптически сходны между собой в живой речи, например, парные звонкие и глухие (п—б, ф—в, ш—ж и др.), ротовые и носовые (ж — п, м — б, н — т, н — д), твердые и мягкие (п—п', т—т\ с—с' и др.). Из оптических признаков, присущих группам согласных, различных по месту артикуляции, наиболее отчетливо выражены групповые признаки двугубных фонем (п, п\ б, б', м, м'), губно-зубных (ф, ф\ в, в'), а также лабиализованных (произносимых с участием губ) переднеязычных (ш, ж, ч, щ). Значительно менее выражены оптические признаки остальных групп переднеязычных согласных (с, с', з, з\ ц, т, т' д, д', н, н\ л, л\ р, р') и среднеязычных (к\ г\ х\ й). Что же касается заднеязычных согласных (к, г, х), то их групповые оптические признаки оказываются вообще настолько слабо вы-. раженными, что фонемы эти нередко называют невидимыми.
Следует отметить, что даже те фонемы, которые в одних, более благоприятных фонетических условиях оказываются оптически достаточно дифференцированными, в других, менее благоприятных условиях становятся сходными. Например, согласные с и к довольно четко отличаются друг от друга в сочетаниях ака— аса и значительно меньше в слогах уку — усу или ики — иси, где соседство с «узкими» гласными в значительной мере стирает оптические различия между согласными.
В положении перед гласной фонемой у стираются различия между лабиализованными и остальными переднеязычными согласными. Например, в слоге су под влиянием регрессивной ассимиляции фонема с произносится при заблаговременном округлении губ. Тем самым оральный рисунок фонемы с сближается с оральным рисунком согласных ш, ж, ч, щ. В результате
310
слог су оказывается сходным со слогами шу, жу, чу, щу, а, например, слово сумка — со словами шубка, шуба, чумка.
Оральные рисунки фонем претерпевают существенные видоизменения в зависимости не только от соседства с другими фонемами, но и от того, находится ли фонема в начале, середине или конце слова, входит ли она в состав ударного или безударного слога.
Значительно видоизменяются оральные рисунки фонем также в зависимости от индивидуальных особенностей говорящего.
Таким образом, если нашим слухом вполне четко улавливаются и различаются в речи 42 фонемы языка, составляющие в своей совокупности определенный звуковой код, то в распоряжении читающего с губ оказывается далеко не полный, недостаточно разграниченный оптический эквивалент этого кода.
По данным В. И. Бельтюкова (1967), исследовавшего зрительное восприятие фонем в элементарных слогах, 42 фонемы русского языка оказываются представленными не более чем 15 оральными рисунками, с разной мерой отчетливости противопоставленными друг другу. Некоторые из этих рисунков объединяют до 4—6 фонем, оптическое сходство которых настолько велико, что они постоянно смешиваются между собой. Примерное распределение фонем по группам сходных видно из табл. 13.
| Таблица | 13 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| а | о у э | И | п | ф | ш | л' | р | с | т | т' | К | к' | ||
|
| ы | п' | ф' | ж | р' | с' | д | д' | г | г' | ||||
|
| б | в | ч | 3 | II | и' | X | х" | ||||||
|
| б' | в' | Щ | з' | л | |||||||||
|
| м | Ц | ||||||||||||
|
| м' | |||||||||||||
Рассмотренные особенности оптического отображения фонем затрудняют чтение с губ и приводят к характерным ошибкам их восприятия.
Показательны в этом отношении данные специальных экспериментов, в ходе которых глухим испытуемым с хорошими навыками чтения с губ предлагалось зрительно воспринять произносимые диктором фонемы русского языка, включенные в элементарные слоги. По данным В. И. Бельтюкова, правильное восприятие фонем при таких условиях составляет в среднем около 30% числа фонем, произнесенных диктором. Если учесть разную употребительность фонем в живой речи, то показатель будет несколько выше (примерно 40%).
311
Не удивительно, что при чтении с губ постоянно наблюдаются ошибки в восприятии фонем, которые выражаются в их смешении, пропуске и вставке.
Примером смешения фонем могут служить случаи, когда слово мама воспринимается как «папа» или «баба», слово чайка — как «шайка» и т. п. В качестве примера пропуска фонемы можно привести ошибочное восприятие слова шапка как «жаба» или слова сумка как «шуба». При обратных заменах в последних двух парах слов мы сталкиваемся со вставкой фонем.
Вставка или пропуск гласных фонем приводят к изменению числа слогов, т. е. к нарушению слогового ритма воспринимаемого слова. Это часто происходит под влиянием экскурсии и рекурсии речевых органов в связи с подготовкой к произнесению начальной фонемы слова, с переходом к нейтральной артикуляции после произнесения конечной фонемы, за которой следует пауза, или при переходе от одной согласной фонемы к другой при их стечении внутри слова.
Например, с появлением лишнего слога связаны ошибки, когда слово кошка воспринимается как «окошко», слово суп как «шуба», платок как «молоток». Обратные замены тех же слов сопряжены с пропуском слога.
Судить при чтении с губ об ударении в словах можно лишь по более энергичному и несколько более длительному произнесению ударного слога. Однако оба эти признака часто оказываются оптически мало выраженными, что ведет к характерным ошибкам, когда, например, слово чулки воспринимается как «сутки», слово мыла как «была».
Относительно интонации при чтении с губ можно судить лишь по ритму речевых движений и отчасти по мимике лица, жестам, в то время как важнейший компонент интонации — речевая мелодика — полностью выпадает.
Неполноценность оптического кода фонетических элементов речи, на котором базируется чтение с губ, отчетливо выступает при его сопоставлении не только с акустическим кодом речи, но также с графическим и дактильным.
Если иметь в виду не условия зрительного восприятия живой устной речи, а показ артикуляции, связанный с обучением произношению, то рамки оптического отображения речевых движений могут быть до некоторой степени расширены за счет утрировки и замедления артикуляции, раскрытия рта, позволяющего лучше видеть положение и движения языка, работу мягкого нёба.
Помимо непосредственного оптического отображения речевых движений основой для восприятия фонетических элементов речи с помощью зрительного анализатора могут служить динамические спектрограммы звучащей речи, получаемые на прибо* ре «Visible Speech» («Видимая речь»).
Этот прибор с помощью 10-полосных фильтров анализирует поступающую в микрофон речь и отображает результаты ана-
312
лиза на экране электроннолучевой трубки, на котором получается текущее непрерывное изображение спектра в виде светящихся пятен различной конфигурации, сохраняющееся в течение некоторого времени благодаря послесвечению экрана. Расположенные по вертикальной оси частотные полосы распределяются снизу вверх от 0 до 8000 гц и характеризуют частотный состав звука. Движение изображения слева направо по горизонтальной оси показывает изменение звука во времени. Амплитуда же звуковой волны, интенсивность звука отображается степенью яркости свечения соответственных участков спектра. Применение на выходе каждого из 10 каналов электродов позволяет представить спектр речи на электрохимической бумаге в виде спектрограммы, в которой изображение получается благодаря почернению бумаги, а степень этого почернения указывает интенсивность соответственного компонента речевого звука. На рис. 36 показан образец спектрограммы (или видеограммы) слова сам. Наряду с названным прибором, дающим наиболее полное отображение фонетической структуры, но довольно сложным по конструкции и дорогостоящим, существуют и другие, более простые и дешевые, которые дают, однако, менее полную визуальную картину звучащей речи или отображают только отдельные ее моменты,
стороны.
Из советских приборов такого рода можно указать, например, ВИР, И-2, виброскоп. Первый из них отображает текущую речь на экране в качестве упрощенной динамической видеограммы (рис. 37), второй позволяет видеть те или иные компоненты речи лишь в момент их звучания, отображая их в качестве узоров различной формы (рис. 38). Третий прибор снимает специальным датчиком возникающие при звучании голоса вибрации гортани, носа, темени и отмечает их зажиганием неоновой лампочки (рис. 39). Сюда же относятся различного типа индикаторы громкости голоса, его высоты.
Помимо приборов визуальному отображению отдельных сторон речи могут служить простейшие пособия вроде полоски бумаги, которая, будучи поднесенной ко рту в момент произнесения, например, фонем ф, с, п, г, отклоняется или отбрасывается струей воздуха, выходящего изо рта.
Если ограниченные для того или иного прибора или пособия возможности визуального отображения акустической структуры речи не позволяют их использовать для восприятия речевой информации, то они во всяком случае сохраняют свое значение в качестве пособий, облегчающих работу над произношением.
6. Кожный анализатор
Непосредственное использование кожного анализатора для восприятия фонетической структуры речи с помощью поднесения руки ко рту говорящего, прикосновения к его груди, горта-
313
|
|
|
|
|
|
314
|
|

ни, носу позволяет уловить некоторые ее компоненты — наличие или отсутствие голоса, отдельные типы фонем, ритмическую структуру слов. Это, конечно, не обеспечивает восприятия живой речи, но опять-таки может быть использовано при работе над произношением.
Попытки достичь более полного тактильно-вибрационного восприятия речи связаны с применением специальной электроакустической аппаратуры. При этом в одних случаях имеется в виду использование кожно-механических (тактильно-вибрационных) ощущений, в других — электрокожных, а в третьих — сочетание кожно-механических ощущений с электрокожными.
Приборы, рассчитанные на тактильно-вибрационное восприятие (так называемые телетакторы, тактильные вокодеры), могут иметь один или несколько каналов. Моделью одноканально-го устройства может служить обычный костный телефон, придаваемый индивидуальным слуховым аппаратам. Звучащая речь, поступая в микрофон, преобразуется в электрические импульсы, которые усиливаются и подаются на костный телефон, где они преобразуются в механические колебания. Зажав костный телефон в руке или прикасаясь к его вибрирующей поверхности пальцем, можно ощущать разнообразные по частоте, интенсивности и длительности вибрации, отображающие соответственную акустическую структуру произносимых слов.
Одноканальные вибраторы позволяют различать фонемы, произносимые с голосом и без голоса, длительные и краткие, улавливать слоговой ритм слов и ударение! Что же касается частотно-амплитудного спектра фонем, имеющего исключительно важное значение для их опознавания, то он улавливается при этом довольно плохо. Вибраторы с несколькими каналами снабжены полосными фильтрами, при помощи которых производится частотно-амплитудный анализ звука. На выходе устройства имеются соответствующие каждому фильтру вибраторы, каждый из которых вступает в действие лишь при наличии в спектре поступающего в микрофон звука составляющих, которые не выходят за пределы определенной частотной полосы.
При этом все вибраторы колеблются с одинаковой частотой в 300—400 гц, которая является оптимальной для кожного восприятия вибраций.
Если в момент произнесения диктором перед микрофоном тех или иных элементов речи наложить на вибраторы пальцы, то возникают тактильно-вибрационные рисунки различной структуры, в той или иной мере отображающие звучание фонем, ритмическое строение слов. В качестве образца такого прибора можно указать сконструированное в Дании «искусственное ухо» — семикэнальный тактильный вокодер (рис. 40).
Современные приборы, предназначенные для передачи речи на основе электрокожных ощущений, в сущности отличаются от многоканальных тактильных вокодеров тем, что на выходе они
315
 |
|
Рис. 40. Прибор «искусственное ухо» датской фирмы «Kamplex»
имеют не вибраторы, а электроды, с помощью которых наносятся электрокожные раздражения.
Такие электроды-датчики располагаются на некотором расстоянии друг от друга, например вдоль поверхности плечевого отдела правой и левой руки. Возможность различения фонетических элементов речи с помощью электрокожных ощущений изучены пока недостаточно.
Если возможность передачи речевой информации через кожу расценивается многими скептически, то целесообразность использования кожно-механических, а также электрокожных ощущений в дополнение к чтению с губ и в помощь работе над произношением не вызывает сомнений (см. об этом в главе «Кожная чувствительность»).
7. Двигательный анализатор
Обращаясь к роли двигательного анализатора, следует отметить, что он лишь в очень ограниченной мере может быть непосредственно использован для восприятия извне фонетической структуры речи.
Все же слепоглухие, воспринимая устную речь путем накладывания пальцев на рот и шею говорящего, ориентируются при этом на собственные двигательные ощущения, правда в сочетании с тактильно-вибрационными. Важную роль выполняет двигательный анализатор в механизме восприятия речи, осуществляемого посредством других анализаторов, например при чтении с губ.
Первостепенное значение приобретает он в связи с работой над произношением, особенно ввиду той роли, которую играет кинестетический контроль над работой речевых органов, но об этом будет сказано ниже.
8. Слуховой анализатор
Говоря о восприятии фонетической структуры речи с помощью слухового анализатора при его нарушениях, следует иметь в виду разную степень этих нарушений от умеренной тугоухости до полной глухоты.
Среди детей, обучающихся в специальных учреждениях для слабослышащих и глухих, Л. В. Нейман (1961) различает поми-316
мо полностью лишенных слуха 7 групп, Каждая из которых характеризуется определенным состоянием слуховой функции, устанавливаемым с помощью тональной аудиометрии. Сюда относятся дети с тугоухостью 1-й степени (средняя потеря слуха в речевом диапазоне не превышает 50 дб), 2-й степени (потеря слуха от 50 до 70 дб) и 3-й степени (потеря слуха превышает 70 дб), а также глухие дети с потерей слуха свыше 75—80 дб, составляющие по диапазону воспринимаемых частот четыре группы. I группа характеризуется восприятием лишь самых низких частот (128—256 гц), II группа воспринимает до 512 ,гц, III группа—-до 1024 гц IV группа — широкий диапазон частот, до 2048 гц и выше.
Разумеется, возможность восприятия фонетических элементов речи с помощью слухового анализатора у детей с различной степенью его нарушения колеблется в очень больших пределах.
Глухие дети с минимальными остатками слуха слышат лишь громкий голос, и то только в непосредственной близости от уха. При больших остатках слуха оказывается возможным восприятие голоса разговорной громкости, различение некоторых гласных фонем, согласной фонемы р, ритмического контура слов. Еще большие остатки слуха позволяют улавливать сонорные фонемы м, н, л и шипящие, а также элементарную интонацию. Дети с таким слухом могут научиться распознавать на слух ряд хорошо знакомых слов и даже некоторые небольшие фразы.
Однако возможность чисто слухового восприятия фонетической структуры речи остается у глухих все же весьма ограниченной, не идущей ни в какое сравнение со зрительным ее восприятием посредством чтения с губ.
У слабослышащих эта возможность значительно расширяется, хотя, как показывают данные исследований (Р. М. Боскис,. 1963; Л. В. Нейман, 1961; В. И. Бельтюков, 1960), им также слух не обеспечивает вполне дифференцированного распознавания фонем даже при повышенной громкости речи. Многие из детей со значительной степенью тугоухости воспринимают речь все же лучше посредством одного чтения с губ, чем посредством одного слуха.
Возможности слухового восприятия фонетических элементов речи как тугоухими, так и глухими значительно возрастают при использовании современной звукоусиливающей аппаратуры, как групповой, так и индивидуальной. Непрерывное совершенствование этой аппаратуры, новгйшие методы ее приспосабливания к индивидуальным особенностям нарушения слуха, в частности обработка звука с помощью полосных фильтров, транспозиция частот, открывают перспективы дальнейшего повышения способности детей использовать остаточную слуховую функцию для восприятия фонетической структуры речи.
317
9. Комплексное использование анализаторов
Эффективность восприятия фонетической структуры речи значительно повышается при совместном использовании различных анализаторов. Специальные эксперименты, в которых глухим с потерей слуха свыше 90 дб предлагалось воспринимать речевой материал только зрительно (путем чтения с губ), только на слух (со звукоусиливающей аппаратурой) и слухо-зритель-но, показали, что если одно слуховое восприятие речи оказывалось невозможным, то присоединение его к зрительному значительно повышало разборчивость речи (К. Хаджинс [С. Hudgins], 1954). Повышение разборчивости было зафиксировано также у слабослышащих, у которых слухо-зрительное восприятие речи оказалось значительно более эффективным, чем одно слуховое или одно зрительное (Ф. Ф. Pay, Л. В. Нейман, В. И. Бельтюков, 1963; К. П. Каплинская, 1958). Преимущество подобного бисен-сорного восприятия фонетической структуры речи перед моносенсорным состоит во взаимном подкреплении и взаимной компенсации анализаторов. Те компоненты звучащей речи, которые доступны и слуху и зрению глухого или слабослышащего, воспринимаются более уверенно, многие из них, недоступные или малодоступные слуху, хорошо воспринимаются зрительно, наконец, многие, недоступные или малодоступные зрению, могут •быть уловлены на слух. Так, например, чрезвычайно важное для фонетической структуры речи включение и выключение голоса, изменение его силы, недоступные восприятию глухого путем чтения с губ, при использовании звукоусиливающей аппаратуры могут быть восприняты с помощью остаточного слуха. В то же •время неясное слуховое различение слабослышащими таких, например, согласных, как с и ш, ф и х, б и г, компенсируется четкими оптическими различиями этих пар фонем, легко улавливаемыми посредством чтения с губ.
Подобным же образом установлено значительное повышение разборчивости речи при дополнении чтения с губ тактильно-вибрационным восприятием с помощью телетактора (Р. Голт [R. Gault], 1929, 1930; А. И. Метт и Н. А. Никитина, 1952; Дж. Пикетт [J. Pickett], 1963; В. А. Маккавеев, 1969; Г. Линднер |G. Lindner] и Э. Брандт [Е. Brandt], 1969).
10. Механизм восприятия устной речи при нормальном слухе
Чтобы правильно понять процесс восприятия устной речи и условия его осуществления при нарушенном слухе, необходимо хотя бы в общих чертах представить себе, как протекает этот процесс у нормально слышащих людей, владеющих речью.
Следует иметь в виду, что восприятие речи связано с проявлением встречной активности слушающего, которая охватывает
318
всю его речевую систему, включая ее сенсорный и моторный аппарат, а также всю совокупность сопряженных с ее работой психических процессов. Воспринимая обращенную к нам речь, мы,. по выражению И. М. Сеченова, «слушаем, а не слышим».
Необходимой предпосылкой слухового восприятия речи служит владение языком — его фонетической системой, лексикой и грамматическим строем. Адресат передаваемого речевого сообщения должен обладать развитым речевым слухом, бегло говорить на данном языке, иметь достаточый запас слов и свободно ориентироваться в грамматических формах. Разумеется, он должен иметь также достаточный круг представлений и понятий, относящихся к содержанию передаваемого сообщения, обладать необходимым умственным кругозором и жизненным опытом.
В ходе восприятия речи слушающий не просто пассивно регистрирует поступающую информацию, а постоянно предвосхищает, прогнозирует то, что может быть сказано говорящим, строит собственную предположительную модель сообщения. По мере того, как поступает реальная речевая информация, она сличается с заготовленной моделью, подвергается переработке, в результате чего достигается схватывание заключенного в ней смысла. При этом сенсорный аппарат речи функционирует в тесном взаимодействии с моторным, составляя с ним единую функциональную систему. Работа слухового анализатора поддерживается системой кинестезии, которые возбуждаются в речедвигатель-ном анализаторе в связи с более или менее сокращенным внутренним рефлекторным проговариванием воспринимаемых слов. Антиципация, или прогнозирование, поступающей речевой информации носит вероятностный характер, т. е. основывается на вероятности появления того или иного звена в развертывающемся сообщении. Подобного рода вероятность сама по себе обусловлена как комбинаторными и статистическими характеристиками речи (возможность сочетания тех или иных фонем, морфем, слов, частость их употребления в речи), так и контекстом, понимаемым в самом широком смысле этого слова. Наряду с контекстом, который определяется темой разговора, содержанием текущего или предшествующего сообщения и выражен в вербальной (словесной) форме, существуют также различные виды внеречевого контекста. Сюда можно отнести ситуацию, в которой происходит разговор, личность человека, являющегося источником сообщения, и всю совокупность выразительных движений, которыми говорящий сопровождает свою речь (мимика лица, жестикуляция, поза). Помимо внешнего по отношению к слушающему контекста характер восприятия речи в значительной мере зависит от внутреннего контекста, который определяется всем предшествующим жизненным и речевым опытом слушающего, его познаниями, всем строем его мыслей, чувств и стремлений в момент, предшествующий приему речевой информации. Роль контекста особенно велика в тех случаях, когда об-
■319
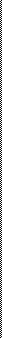 щение затрудняется различными помехами (например, посторонним шумом) или искажением речи (например, при пользовании плохим телефоном, радиоприемником, при нарушениях слуха).
щение затрудняется различными помехами (например, посторонним шумом) или искажением речи (например, при пользовании плохим телефоном, радиоприемником, при нарушениях слуха).
Восприятие речи предполагает наличие в памяти слушающего речевых образов, соответствующих фонемам, морфемам, словам и различным синтаксическим структурам. Если на фонемном уровне основу этих образов составляют следы слуховых и кинестетических раздражений, связанных с восприятием и воспроизведением соответственных фонем, то на уровне морфологическом, лексическом и синтаксическом образ характеризуется не только своей слухокинестетической структурой, но прежде всего тем значением (лексическим, грамматическим), которое в нем заключено. Наличие этих речевых образов составляет необходимую предпосылку для опознавания соответственных компонентов слышимой речи в процессе ее восприятия.
Роль речевых образов особенно отчетливо сказывается при различного рода помехах, маскирующих или искажающих звучание. В этом случае слухокинестетические образы позволяют восстанавливать и опознавать знакомые слова, привычные словосочетания даже при весьма неполноценном, обрывочном их звучании.
Опознавание тех или иных единиц речи, достигаемое в результате сличения поступающих речевых сигналов с хранящимися в памяти образами, связано с принятием решений относительно того, что содержится в поступающем сообщении. В процессе восприятия такие решения могут носить предварительный характер и затем отбрасываться, изменяться под влиянием поступающей информации. Это особенно наглядно видно на примере «ослышек», когда, допустим, человек воспринимает начальный кусок предложения Они вазу какую-то..., а затем по его окончанию ... устроили лыжную обнаруживает ошибку, изменяет предварительно принятое решение и вносит в свою интерпретацию услышанного коррекцию, поправку: «не вазу, а базу». На этом примере видно, кстати, что в процессе восприятия имеет место не только прогнозирование последующих отрезков сообщения на основе предыдущих, но и коррекция уже принятых предварительных решений относительно предшествующих отрезков сообщения на основе восприятия последующих. Таким образом, в процессе восприятия речи действует принцип не только прямой, но и обратной связи.
Считается, что минимальной единицей, по отношению к которой принимается решение в процессе восприятия живой речи, служит слово. Роль слова как наименьшей единицы для принятия решений видна также в опытах по угадыванию, которые, кстати, показывают также влияние контекста на процесс восприятия речи.
Испытуемому предлагается одну за другой угадывать буквы слов, составляющих какой-либо текст, например предложе-
320
ние. Наряду с буквами испытуемый должен указывать также пробелы, отделяющие конец одного предложения от начала следующего. При этом отмечается число попыток, которое потребовалось испытуемому, чтобы угадать каждую букву (включая пробел). Результаты такого опыта могут быть представлены в виде графика, в котором по горизонтали слева направо последовательно расположены буквы, составляющие слова предложения, а по вертикали — число попыток, оказавшееся необходимым для угадывания каждой буквы. На рис. 41 приведен график, в котором представлено среднее по 10-.испытуемым число попыток в угадывании букв, составляющих предложение. Мой брат купил себе новый портфель. На этом графике отчетливо видны границы слов, которые характеризуются резким нарастанием числа попыток для начальных букв каждого слова и его падением для конечных. Исключение составляет первое слово. Многообразие возможностей для выбора буквы после гласной о при отсутствии предшествующего контекста придает некоторое своеобразие графическому рисунку опознавания этого слова.
11. Особенности восприятия устной речи при нарушенном слухе
Специфическим способом восприятия устной речи при нарушенном слухе является чтение с губ. Впрочем, чтение с губ в качестве вспомогательного средства не чуждо и нормально слышащим людям, особенно в тех случаях, когда в силу тех или иных обстоятельств затрудняется слуховое восприятие речи. При тугоухости роль чтения с губ возрастает, а при глухоте этот способ восприятия устной речи становится основным.
21 Заказ 1703 321
 | |||
 | |||
21* |
Отличительная особенность чтения с губ состоит не только в том, что акустический код речи заменяется оптическим, но и в том, что этот оптический код оказывается, как было показано, весьма неполным и недостаточно дифференцированным. При таких условиях колоссально возрастает роль той встречной активности, которая выражается в прогнозировании ожидаемого сообщения, в отраженном проговаривании слов, а также во всей совокупности психических процессов, связанных с переработкой поступающей информации. Соответственно возрастает роль всех разновидностей контекста, в частности ситуации, в которой происходит общение, и выразительных движений говорящего.
Если представить себе человека с врожденной или наступившей в раннем детстве глухотой, но полностью овладевшего словесной речью, обладающего беглым произношением и достаточными навыками зрительного восприятия устной речи, то механизм чтения с губ состоит у него из трех основных компонентов:
1) зрительное восприятие речевых движений, опирающееся
на оживление в памяти соответственных зрительных образов;
2) отраженное повторение этих движений и связанное с ним
оживление в памяти соответственных кинестетических образов;
3) прогнозирование и переработка поступающей информации
с учетом речевого и внеречевого контекста, осмысление содер
жания этой информации.
Если слух утрачен после того, как полностью усвоена речь, то в течение известного, иногда длительного времени механизм чтения с губ дополняется возбуждением слуховых образов слов.
У владеющего развитой речью слабослышащего исходный компонент механизма восприятия устной речи составляет слуховой прием доступных ему фонетических элементов речи (с оживлением соответственных слуховых образов) и одновременный зрительный прием видимых речевых движений (с ожив-ч лением соответственных зрительных образов).
Совместное слухо-зрительное восприятие фонетической структуры речи слабослышащими становится наиболее эффективным при использовании звукоусиливающей аппаратуры. При таких условиях зрительный компонент восприятия речи может быть существенно дополнен слуховым и у глухих, обладающих существенными остатками слуха.
При зрительно-тактильном восприятии устной речи, которое имеет место в случае применения телетактора, механизм чтения с губ дополняется приемом тактильно-вибрационных сигналов и оживлением формирующихся у детей соответственных тактильно-вибрационных образов слов.
Из изложенного ранее видно, что подлинное восприятие речи человеком предполагает сложившуюся у него речевую систему. При отсутствии этого условия возможно лишь псевдовос-приятце, псевдопонимание речи, которое наблюдается на ранних этапах речевого развития нормально слышащего ребенка.
322
Так, еще не обученные речи глухие дети могут научиться распознавать некоторое ограниченное число слов и фраз по чтению с губ. Они могут научиться читать с губ свое имя, имена товарищей и учителя, названия окружающих предметов, простейшие фразы-команды (Встань! Судь! Иди сюда! и т. п.). Однако при этом слова воспринимаются нерасчлененно, как целостные двигательные рисунки, без опоры на членораздельное их прогова-ривание. Оральный рисунок непосредственно связывается с тем или иным значением. При таком идеовизуальном чтении с губ слова в сущности не отличаются от других первосигнальных раздражителей. То же относится к слуховому, слухо-зрительному, зрительно-тактильному восприятию слов теми слабослышащими и глухими детьми, у которых еще отсутствует речь.
Факторы, от которых зависит успешность восприятия устной речи глухими и слабослышащими, частью заключены в не зависящих от них обстоятельствах, частью кроются в них самих.
Для чтения с губ факторами первого рода служат освещение лица говорящего, расстояние от него, ракурс его головы, особенности строения его речевых органов, характер артикуляции, темп речи, выразительность мимики и жестов. Еще более важным фактором является содержание передаваемой информации, употребляемые говорящим слова, грамматические конструкции. Существенное зачение имеет также отношение речевой информации к ситуации, в которой она передается, к теме предшествующего разговора.
Для слухо-зрительного восприятия речи ко всему этому добавляется акустическая характеристика речи, в частности степень ее громкости, разборчивости и интонационной выразительности.
К факторам второго рода, если не считать очевидных в виде состояния зрительной и слуховой функции, относится прежде всего степень развития речи, включая запас слов, владение грамматическим строем, навыками произношения. Не менее существенно наличие достаточного жизненного опыта, умственного кругозора, необходимых для понимания содержания передаваемой информации. Само собой разумеется, что необходимой предпосылкой успешного восприятия речи тем или иным способом служит достаточная тренировка в нем. Так, позднооглох-шие, обладающие нормальным зрением, полной речью и широким умственным кругозором, лишь в результате тренировки в зрительном восприятии устной речи достигают достаточно высокого уровня в навыках чтения с губ.
Однако все указанные факторы являются хотя и необходимыми, но еще недостаточными. Успешное овладение навыками зрительного или слухо-зрительного восприятия устной речи глухими и слабослышащими в значительной мере зависит и от таких индивидуальных особенностей, которые до настоящего времени еще совершенно не изучены.
323
12. Механизм произношения при нормальном слухе
В памяти нормально слышащего и говорящего человека запечатлен его предшествующий речевой опыт, накопленный в детстве и в последующие годы жизни. Когда он намеревается высказать мысль, у него возникает некоторая общая внутренняя схема, модель, допустим, предложения, которая затем под действием эфферентных импульсов, поступающих из речедвигательных областей мозга в периферический речевой аппарат, развертывается в серию внешних речедвижений, связанных с последовательным произнесением слов, составляющих это предложение. При этом произнесению всего предложения в целом и каждого слова предшествует возникновение в мозгу слуховых и кинестетических образов, соответствующих построенной и непрерывно уточняющейся в процессе ее произносительного осуществления модели.
Физиологическую основу слуховых и кинестетических речевых образов составляет возбуждение в речедвигательном и ре-чеслуховом анализаторах сложившихся в прошлом систем условных связей, афферентных (чувственных) комплексов. Заготовка такого рода комплексов, опережающая выполнение серии речевых движений и каждого ее звена, служит контрольным корковым аппаратом произносительных актов. В процессе речи в этот аппарат, который П. К. Анохин называет «акцептором действия», непрерывно поступает с периферии поток кинестетических и слуховых раздражений (1955). Характер этих раздражений, структура, в которую они складываются, сличаются с заготовленными в мозгу афферентными комплексами. Соответствие поступающих с периферии раздражений, или «обратных аф-ферентаций», этим комплексам служит предпосылкой дальнейшего гладкого протекания речи, тогда как их расхождение, или «рассогласование», свидетельствует о допущенной ошибке, которая, таким образом, мгновенно обнаруживается и исправляется.
Произношение представляет .собой частный вид движений, а двигательный аппарат организма, как указывает Н. А. Берн-штейн (1966), организован по (принципу самоуправляющихся устройств следящего типа. Акцептор действия как раз и представляет собой ту часть речедвигательного аппарата, которая выполняет в механизме произношения функцию слежения.
13. Особенности механизма произношения при нарушенном слухе
Известно, что человек, владеющий речью, даже при полной потере слуха сохраняет ее. То, что со временем звучание его речи подвергается более или менее заметному изменению, в принципе не меняет дела. Совершенно очевидно, что те слуховые образы слов, которые, как и неречевые слуховые образы, могут
324
надолго сохраниться в памяти оглохшего, не в состоянии больше служить ему для контроля над своим произношением. Произносительный акцептор действия, который у слышащего человека функционирует на основе слухового и речедвигательного анализаторов, т. е. включает и кинестетический, и слуховой компонент, у полностью оглохшего строится на кинестетической основе, частично дополняемой вибрационными раздражениями. При наличии остатков слуха кинестетическая обратная аффе-рентация частично дополняется слуховой. Так же в общем осуществляются контроль и управление работой речевых органов у глухих, лишенных слуха от рождения или потерявших его в раннем детстве и усвоивших устную речь в результате специального обучения. Что касается слабослышащих, то у них контроль над произношением осуществляется, как и у нормально слышащих, на слухо-кинестетической основе, однако соотносительная роль слухового и кинестетического компонентов акцептора действия зависит при этом от степени понижения слуха. Роль слуховой афферентации речевых движений у слабослышащих и глухих, обладающих остатками слуха, может быть значительно повышена применением звукоусиливающей аппаратуры.
14. Методы формирования устной речи у детей с нарушенным слухом
Обращаясь к методам формирования устной речи при нарушенном слухе, следует рассмотреть их главным образом применительно к глухим детям, которые без специального педагогического воздействия оказываются лишенными возможности воспринимать устное слово и обречены на немоту.
Прежде чем характеризовать методы первоначального обучения устной речи, применяемые ныне в наших школах и детских садах для глухих, надо принять в расчет то, что эти методы могут рассматриваться в различных аспектах. Особенность метода может выражаться во взаимоотношении устной речи с другими видами словесной речи, в решении вопроса об аналитическом или синтетическом подходе к формированию устной речи, в принципе отбора материала устной речи, наконец, в определении роли различных анализаторов в качестве сенсорной базы для усвоения глухими детьми устной речи.
iB современных советских школах и детских садах для глухих первоначальное обучение устной речи осуществляется в связи с формированием словесной речи в дактильном ее виде (С. А. Зыков, 1956, 1961; Б. Д. Корсунская, 1960, 1969).
Такой подход дает возможность детям быстро накопить большой речевой материал, пригодный для целей общения. Синхронное дактилирование и устное проговаривание педагогом слов, а также побуждение детей к отраженному их устно-дактильно-му воспроизведению способствуют привлечению внимания квиди-
325
мым речевым движениям, содействуют активизации речевого аппарата детей, усвоению ими речедвигательного контура слов.
Все это создает благоприятную почву для последующей систематической и целенаправленной работы по формированию у детей навыков чтения с губ и произношения. Основная задача обучения чтению с губ состоит в том, чтобы развивать у детей способность возможно более полного и свободного зрительного восприятия устной речи в процессе общения с окружающими.
Осуществление этой задачи с учетом механизма чтения с губ предполагает специальные упражнения, направленные на выработку у детей навыка точного и быстрого зрительного восприятия речевых движений, их отраженного повторения и осмысления поступающей информации на основе ее переработки с опорой на речевой и внеречевой контекст.
Специфическим требованием при современном методе обучения глухих, диктуемым интересами развития навыков чтения с губ, служит постепенное ограничение устно-дактильного обращения к детям и расширение за его счет практики зрительного восприятия устной речи без дактильного сопровождения, так как иначе невозможно создать оптимальные условия для совершенствования этого способа общения.
Основная задача обучения глухих детей произношению состоит в том, чтобы достичь его максимальной внятности и членораздельности и тем самым способствовать успешному выполнению их устной речью функции способа общения и инструмента мысли.
Учитывая механизм произношения, осуществление этой задачи требует, чтобы на основе использования компенсаторных путей обучения у детей выработались необходимые комплексы речевых движений, управляемых на основе кинестетического контроля, чтобы они закреплялись и автоматизировались в живой речи.
В отличие от аналитических методов обучения устной речи (исходящих из фонем или слогов с последующим переходом к словам), а также синтетических (исходящих из целых слов без их анализа) принятый в советских школах и детских садах метод может быть назван аналитико-сиятетическим. При нем исходными и основными единицами обучения устной речи служат целые слова и фразы. Однако в отличие от синтетических методов при формировании произношения ведется работа и над такими элементами речи, как слоги и фонемы. Подобный подход отвечает диалектическому пониманию взаимоотношения целого и части, анализа и синтеза. Его практический эффект выражается в одновременном достижении слитного и ритмичного произношения детьми целых слов при достаточно четком воспроизведении составляющих их фонем, что служит важным условием разборчивости речи. Аналитико-синтетический метод, сочетающий отработку целостного действия и составляющих его операций, яв-
326
ляется психологически наиболее оправданным для формирования самых разнообразных двигательных навыков.
Особенность принятого ныне в наших школах и детских садах варианта аналитико-синтетического метода состоит в его концентрическом характере, который выражается-в своеобразном подходе к формированию у детей произносительной структуры слов и в связи с этим — к отбору речевого материала для его планомерной отработки в устной форме (Ф. Ф. Pay, 1960; Н. Ф. Слезина, 1954). В основу концентрического метода положена отмеченная выше закономерность усвоения произносительной стороны речи нормально слышащим ребенком, которая заключается в том, что недоступные ему для точного фонетического воспроизведения слова ребенок в течение известного периода времени произносит приближенно.
Сущность метода заключается в том, что первоначальное обучение произношению глухих, поступающих в школу без речи, состоит из двух концентров, из которых первый совпадает с приготовительным классом, а второй охватывает I и II классы. В приготовительном классе от учащихся требуется точное воспроизведение в словах лишь 17 основных фонем, которые составляют сокращенную систему фонем. К основным фонемам относятся гласные а, о, у, э, и, а также согласные п, т, к, ф, с, ш, х, в, м, н, л (/), р. Эти фонемы достаточно четко различаются между собой по артикуляции и являются более легкими для усвоения, чем остальные, близкие к каждой из них фонемы. По отношению к фонемам, не входящим в число основных, временно допускается замена их в словах соответственными основными фонемами.
 В соответствии с данной таблицей дети должны с самого начала точно произносить такие состоящие из основных фонем слова, как, например, платок, стакан, упал. Вместе с тем слова, включающие заменяемые фонемы, например дай, спасибо, мяч, могут временно произноситься детьми приближенно: тай, спа- сипо, маш.
В соответствии с данной таблицей дети должны с самого начала точно произносить такие состоящие из основных фонем слова, как, например, платок, стакан, упал. Вместе с тем слова, включающие заменяемые фонемы, например дай, спасибо, мяч, могут временно произноситься детьми приближенно: тай, спа- сипо, маш.
К концу третьей учебной четверти дети усваивают все основные фонемы и приобретают тем самым возможность произносить в рамках сокращенной системы фонем любые слова неза-
327
висимо от их фонематического состава. В I и во II классах ведется систематическая работа по уточнению произношения слов. В речи постепенно отрабатываются звонкие согласные, аффрикаты, мягкие согласные и гласная фонема ы. Применение концентрического метода в обучении устной речи глухих дошкольников характеризуется на первых этапах еще большим упрощением произношения, допускающим замену фонемы и звуком, средним между и и э, замену ш фонемой с, произносимой с округлением губ, а также замены р посредством л(1) их посредством к (Э. И. Леонгард, 1965). Кроме того, в детском саду для глухих детей на первых порах допускается упрощение произношения длинных или сложных по своей структуре слов путем их усечения, редукции. Так, в речи глухих дошкольников в конце первого года обучения временно допускается редуцированное воспроизведение фонематического состава ряда слов, например «уп» вместо суп, «у» вместо уши, «аф» вместо шкаф, «та» вместо дай.
Как известно, редукция слов подобного рода присуща и нормально слышащим детям на ранних этапах формирования их речи.
Основные достоинства концентрического метода, рассматриваемого с педагогической и психологической точек зрения, состоят в следующем. Допущение приближенного произношения слов расширяет фонетические рамки для отбора актуального речевого материала, пригодного для целей общения детей с окружающими в связи с различными видами деятельности.
Это способствует повышению речевой активности детей, создает действенные мотивы к обучению произношению. Возможность использования основных фонем в качестве заменителей позволяет сосредоточить внимание на тщательной их отработке и высвободить достаточное время для работы над произношением целых слов и фраз. Последовательный переход от относительно более выраженных артикуляционных различий между основными фонемами к менее выраженным различиям между основными и соответствующими заменяемыми фонемами ведет к физиологически оправданному переходу в работе речедвигатель-ного анализатора от более грубых дифференцировок к более тонким.
Родственность основных и заменяемых фонем по типу артикуляции ^препятствует возникновению серьезных затруднений при переходе от приближенного произношения слов к точному.
Акустическая близость основных фонем к заменяемым, тщательность их отработки, а также прочное закрепление произносительной структуры слов в практике их повседневного употребления создают предпосылки к тому, чтобы даже приближенное произношение слов было достаточно внятным и позволяло детям достигать необходимого успеха в общении с окружающими посредством устного слова.
328
С точки зрения использования различных анализаторов современный метод обучения глухих детей устной речи должен быть определен как мультисенсорный, или полисенсорный, т. е. предполагающий возможно более полное использование всех имеющихся в распоряжении детей анализаторов, пригодных для приема речевых сигналов.
Применительно к восприятию речи в процессе обучения и общения благоприятные перспективы открываются внедрением различного рода звукоусиливающей аппаратуры и телетакторов в качестве дополнения к чтению с губ.
Применительно к формированию произношения мультисенсорный метод выражается в самом широком использовании всех способов восприятия произносительной стороны речи и контроля над ней, как непосредственных, так и связанных с разнообразной аппаратурой и пособиями. К их числу относятся звукоусиливающая аппаратура, уже упоминавшиеся приборы и пособия, оптически отображающие акустические и механические речевые процессы, всевозможные модели, схематические изображения, учебные кинофильмы, показывающие работу речевых органов. Сюда же относятся различные приборы для тактильно-вибрационного восприятия речи, а также приспособления для пассивного приведения речевых органов в то или иное положение или движение (шатпель, зонды).
Мультисенсорный подход, предполагающий многостороннюю "афферентацию работы речевых органов, характерен для первой фазы формирования речевых движений. Последующая автоматизация произношения связана с постепенным сужением афферен-тации, приводящим к переключению глухого на кинестетический самоконтроль, а при значительных остатках слуха и систематическом использовании звукоусиливающей аппаратуры — частично также и на слуховой самоконтроль.
Особенности методов обучения устной речи слабослышащих детей в основном сводятся к следующему. Состояние слуховой функции позволяет детям достаточно эффективно использовать ее в процессе усвоения речи, но при этом неполноценное все же слуховое восприятие фонетической структуры устной речи требует с первых же шагов обучения широкой опоры на графическую структуру речи, а также использования дактилологии в качестве вспомогательного средства (Р. М. Боскис, 1963).
Восприятие устной речи слабослышащими в процессе обучения и общения осуществляется на бисенсорной слухо-зрительной основе, путем соединения чтения с губ с применением необходимой звукоусиливающей аппаратуры.
Формирование произносительной стороны речи, как и у глухих, характеризуется мультисенсорным подходом, но при этом ведущая роль отводится слуховому анализатору. С его помощью слабослышащие получают основную информацию о фонетической структуре речи, необходимую для ее воспроизведения по
329
|
|
подражанию. У слабослышащих детей по сравнению с глухими неизмеримо в'озрастает роль слухового анализатора также в осуществлении контроля над собственным произношением в процессе живой речи.
27. Письменная речь
1. Своеобразие формирования письменной речи у глухого ребенка
Формирование письменной речи у ребенка, лишенного слуха, —процесс своеобразный. Письменная речь имеет характерные, только для нее специфические черты. Она очень близка устной, но вместе с тем существенно отличается от нее по функционированию и строению, так как применяется вне ситуации непосредственного общения, в отсутствие собеседника, когда обращение не вызвано прямой необходимостью вступить в контакт с окружающими — сообщить, спросить, попросить и т. п. Этим обусловлены большая произвольность письменной речи и ее структурное своеобразие. Чтобы написанное было правильно понято читающим, находящимся вне передаваемой в письменном сообщении ситуации и отдаленным от пишущего, нужно излагать мысли максимально развернуто, расчленение, поскольку высказывание после передачи его адресату нельзя дополнить или исправить. В письменной речи приходится основываться исключительно на применении словесных средств, так как нельзя привлечь жесты, выразительные движения, интонации, помогающие передаче мыслей в ходе устного общения. Поэтому для письменной речи характерно строгое соблюдение языковых форм, максимальная развернутость изложения, четкая последовательность. Большая сложность, нормативность, произвольность письменной речи по сравнению с устной создают известные трудности в пользовании ею.
Овладение письменной речью открывает широкие возможности для повышения культуры речи. При письменной передаче мыслей удобнее, чем при устной, подготовить высказывание, детально его обдумать и исправить.
Формирование письменной речи справедливо считалось и считается одной из самых важных задач обучения детей. Л. С. Выготский на основании специальных исследований показал, что обучение письменной речи «вызывает к жизни целые новые, чрезвычайно сложные циклы развития таких психических процессов, возникновение которых означает столь же принципальное изменение в общем духовном облике ребенка, как и обучение речи при переходе от младенческого возраста к раннему детству» (Л. С. Выготский, 1956, стр. 451).
Овладение письменной речью открывает перед глухими детьми значительные возможности для компенсации последствий слу-
ховой недостаточности и порождаемых ею дефектов, ведет к расширению общения с окружающими и способствует более успешному умственному развитию. Ведь ранооглохший ребенок, не имея возможности воспринять на слух произнесенное, в общении с окружающими основывается на несовершенном и трудно осуществимом оптическом восприятии устной речи. Восприятие письменных знаков (стабильных, более четких) глухому ребенку, естественно, доступнее, чем восприятие едва различимых для глаза, быстро сменяющих друг друга движений речевых органов, по еле уловимым различиям между которыми он вынужден: распознавать произносимые звуки.
(Вместе с тем овладение письменной речью вызывает у глухого ребека трудности, отсутствующие у нормально слышащего: он не может опереться на четкие акустические и кинестетические образы, которыми располагает слышащий ребенок, начинающий обучаться грамоте, не обладает таким обширным словарем и практическими грамматическими обобщениями, какие накоплены слышащим ребенком ко времени обучения письму благодаря широкому пользованию устной речью в непосредственном общении с окружающими.
Основным своеобразием формирования письменной речи у глухих детей является то, что оно протекает в условиях, когда овладение языком невозможно без участия обучающего лица, при чрезвычайном ограничении речевой практики, почти одно- • времейнр и параллельно с обучением устной речи, в то время как у слышащего ребенка существует значительный интервал, между овладением этими видами речи (Р. М. Боскис, 1939, 1963). Поэтому у глухих детей меньше расхождение между устной и письменной речью, чем это обычно бывает у детей с нормальным слухом; прибавим, что у глухих детей возникают трудности в -произношении, осложняющие пользование устной речью, составление устного высказывания носит более произвольный характер, чем у слышащих детей.
Формирование письменной речи основывается прежде всего на выработке техники письма — нужных графических навыков. В этом отношении у глухих детей не наблюдается особого своеобразия. Центральное место в письменной речи занимает формирование умения правильно передавать свои мысли в письменной форме, конструировать развернутое высказывание (сочинение, изложение) как завершенное целое. Составляемому высказыванию нужно придать внутреннюю цельность, законченность; должна быть раскрыта с достаточной полнотой тема, обеспечена правильность передачи основных компонентов, характеризующих объект высказывания, соблюдена логическая последовательность и связность. Качество письменной речи определяется выполнением названных требований.
Для обеспечения должной полноты передачи мысли в письменном высказывании необходимо произвести отбор информации
331
| . |
в зависимости от назначения и характера высказывания. Такой отбор нередко удается не сразу, требует целесообразной организации восприятия передаваемого объекта и мысленной переработки данных восприятия. Кроме того, когда передается, например, реальная или изображенная ситуация, воспринимаемая ребенком, нужно обдумать порядок сообщения информации, предварительно спланировать размещение ее отдельных компонентов, одновременно возникающих перед глазами. Выбор и соблюдение нужной последовательности в подобных случаях усложняются тем, что восприятие симультанно (одновременно), а словесная передача его результатов сукцессивна (последовательна). В ходе составления письменного высказывания большое значение имеет подбор адекватных словесных средств, позволяющий успешно реализовать созданный замысел высказывания.
Каждый из названных компонентов письменной речи отличается у глухих детей существенным своеобразием, рассмотрение которого и дает возможность охарактеризовать особенности этого вида речи у данной категории детей.