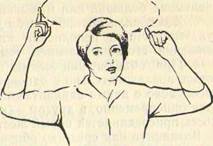Актуализация знаний при решении задач
Как говорилось выше, глухие учащиеся среднего школьного возраста не всегда актуализируют имеющиеся у них учебные знания по тому вопросу, которому посвящена задача. Это объясняется тем, что анализ условия задачи и ее вопроса не привел к обобщению задачи с ранее имевшимися знаниями.
В ряде случаев, когда актуализация учебных знаний все же происходит, глухие учащиеся воспроизводят припоминаемые сведения по данному вопросу в той системе и последовательности, в которой эти сведения были ранее заучены. Такая актуализация знаний нередко наблюдается у учащихся VI класса (исследование Ж. И, Шиф, 1961). Так, например, отвечая на вопрос о том, почему в летние вечера на траве бывает роса, ученики VI
214
класса подробно излагали все, что им было известно о росе, и притом в той последовательности, в которой этот материал был расположен в заученном тексте. Они рассказывали, где роса бывает, из чего состоит, упоминали даже, что она образуется из пара. Но выделение среди всей совокупности актуализированных знаний именно тех, которые требовались для решения поставленной задачи, происходило редко и обычно с трудом. Рассказав, что пар превращается в воду, дети часто продолжали излагать все приобретенные ими сведения о росе. Далее, отвечая на вопрос, почему белье вывешивают сушить на солнце, дети подробно сообщали, что белье можно вывешивать только в хорошую погоду, что это следует делать, когда «солнце светит и греет», когда тепло и нет дождя и т. д. Но они не выделяли из своего рассказа положения об испарении воды, необходимого для ответа на вопрос решаемой задачи.
В других случаях глухие учащиеся VI класса не устанавливали даже этой крайне общей связи между задачей и своими знаниями, а для решения задачи привлекали разрозненные житейские впечатления. Так происходило нередко при решении занимательной задачи, о которой сообщалось в прошлом параграфе. Чтобы объяснить, почему ослу, несшему мешки с солью, стало легче после того, как он переплыл реку, они привлекали свои летние впечатления о купании в реке и говорили, что после купания прохладно, приятно и поэтому идти легче. Объясняя, почему зимой на окнах трамвая бывают узоры, учащиеся говорили, что узоры возникают от холода, или пользовались распространенным выражением: «Мороз разрисовал окна узорами» и т. д.
Проверка состояния знаний этих учащихся показала, что на прямо поставленные вопросы о том, что происходит с солью, если ее бросить в воду, или с водой при нагревании и охлаждении, они отвечали правильно. Но самостоятельно использовать свои знания для решения новой задачи они не могли. Они не умели извлечь только нужные знания, отграничить их от прочих, связанных с ними знаний и применить для решения конкретной
задачи.
У учеников VIII класса актуализация знаний происходит иначе. Они обычно уже не воспроизводят всей совокупности известных им сведений, связанных с темой задачи, но выделяют именно те из них, которые помогают ответить на вопрос задачи. Так, чтобы объяснить появление росы на траве, они привлекают только сведения об охлаждении пара, а не о всех превращениях воды. Рассказывая, почему белье сохнет на солнце, они уже не упоминают в отличие от учеников VI класса, что солнце светит, а говорят о том, что оно греет и что вода от этого превращается в пар. Учащиеся VIII класса нередко актуализировали нужные сведения даже для ответа на трудный вопрос относительно причины узоров на окнах трамвая в зимние дни. Тот факт, что у глухих учеников VIII класса происходит целенаправленная и избиратель-
215
ная актуализация знаний, свидетельствует о значительном развитии их словесно-логического мышления.
В дополнение к тому, что было сообщено, можно прибавить некоторые данные, касающиеся характера использования актуализированных знаний для решения предложенной задачи. Изучение этого вопроса показало, что знания глухих детей нередко формальны, что сообщаемые им сведения они заучили, но еще слабо осмыслили. Это часто наблюдалось у учеников VI класса и значительно реже у учеников VIII класса. Ученики VI класса, отвечая на вопрос о том, почему по утрам на траве бывает роса, среди прочего рассказывали о превращении пара на холоде в воду. Но именно это положение ни разу не было привлечено для объяснения того, что роса возникает от соприкосновения пара с холодными предметами — с травой, листьями. Дети сообщали, что при нагревании вода превращается в пар, но, отвечая на вопро'с о том, почему белье сушат на солнце, не использовали этих сведений, а говорили, что, «когда солнце светит и греет, из белья на землю капает вода», т. е. привлекали свой неупорядоченный жизненный опыт. Становится очевидным, что даже небольшие по объему словесные знания глухих детей могут оказаться оторванными от их наблюдений и повседневного опыта.
Описанные факты свидетельствуют о больших трудностях развития словесно-логического мышления у глухих детей. Вместе с тем они показывают, как постепенно происходит перестройка их наглядного мышления с помощью логики языка и как совершенствуется на этой базе логическое мышление.
5. Решение физических задач
Физика изучается в школе глухих на четыре года позднее, чем в массовой школе. Тем не менее глухие учащиеся и к 15-летнему возрасту часто еще не обладают таким уровнем обобщений жизненных явлений, опираясь на который учитель может давать разъяснения того, по каким причинам возникают те или иные физические явления. Отсюда возникает необходимость отчетливо знать, какими представлениями об окружающем мире обладают учащиеся и как они могут использовать эти представления и полученные в школе знания для решения новых физических задач.
Проводилось исследование, в котором глухим учащимся IX класса (15—16 лет) предлагалось решить ряд задач. Испытуемым показывали определенное физическое явление, причину которого следовало объяснить. Одна серия задач была связана с проявлениями атмосферного давления. Эти задачи предлагались учащимся до прохождения соответствующей темы на уроках физики, но после темы «Давление внутри жидкости».
Задача первая. Стакан наполняют водой, накрывают листом бумаги и поворачивают вверх дном. Вопрос: «Почему вода не выливается из стакана?»
216
Ответ на первую задачу был у всех учеников примерно такой: «Вода из стакана не выливается потому, что ее не выпускает бумага» («бумага очень приклеилась» и т. п.).
Задача вторая. В пробирку наливают воду и открытый конец пробирки опускают в сосуд с водой. Вопрос: «Почему вода в пробирке не опускается?»
Решая эту задачу, уже больше половины учащихся приходит к выводу, что здесь в качестве причины выступает давление, но они оперируют только знакомым им давлением внутри жидкости: «Вода не выливается потому, что на нее снизу давит жидкость». В качестве объяснения привлекается и воздух, но не в связи с атмосферным давлением, а как сила, которая может выгнать воду из пробирки, и, поскольку здесь эта сила отсутствует, вода сохраняется в пробирке: «Вода не выливается из пробирки потому, что снизу — жидкость и в сосуд не входит воздух».
Задача третья. На широкое отверстие воронки натягивают резиновую пленку. Из воронки высасывают воздух и узкое отверстие ее закрывают. Вопрос: «Почему пленка прогибается
внутрь воронки?»
Все ученики давали одинаковое объяснение: пленка прогибается потому, что из воронки высасывается воздух. В этом ответе действие, производившееся при демонстрации, отражено так, как оно было воспринято учеником. Нельзя сказать, что данное объяснение совсем неверно. Ведь для того чтобы обнаружить давление наружного воздуха, потребовалось предварительно удалить часть воздуха из воронки. Только при таких условиях давление наружного воздуха может вдавить резиновую пленку. Однако совершенно очевидно, что ученики не видели причину прогибания пленки именно в том, что воздух давит снаружи.
Характер объяснений не изменился и после того, как был поставлен второй вопрос: «Почему пленка прогибается, если высасывать из воронки воздух?» Казалось, что подобная формулировка вопроса побудит учеников искать другую причину явления. Однако этого не случилось: все ученики повторили свои предыдущие ответы.
Таким образом, глухие учащиеся, объясняя, чем вызвано наблюдаемое ими явление, не смогли учесть действие невидимого воздуха. Они считали, что причиной могут быть какие-либо отчетливо ими наблюдаемые предметы или явления. Так, они говорили: «Бумага не пускает воду» (задача первая); «Вода в сосуде не позволяет опуститься воде из пробирки» (задача вторая); «Пленка прогибается потому, что из воронки высасывают воздух» (задача третья). Такой способ объяснения соответствует тем действиям, которые производятся при демонстрации явления: а) стакан накрыли бумагой и перевернули; следовательно, можно думать, что самое главное тут бумага; б) пробирку с водой опустили в сосуд с водой, и кажется, это вода препятствует, противодействует опусканию вниз жидкости из пробирки; в) воздух уда-
217
ляется из воронки, и это оказывается для учащихся единственной причиной прогибания пленки.
Объяснения учеников — это, скорее, описания воспринятого события. Внутреняя, истинная причина явления не вскрывается.
В характере объяснений нашло свое проявление то, что словесно-логическое мышление глухих учащихся развивается в более поздние сроки, чем в норме. Обычно объяснения такого рода обнаруживаются у слышащих детей на первых годах обучения в школе, т. е. у детей, которые примерно на 5—7 лет моложе.
В другой серии опытов прямо сопоставлялись решения задач глухими и слышащими испытуемыми. В качестве экспериментальных были взяты задачи из темы «Падение тел».
Опыты проводились с глухими учащимися IX класса (15—16 лет) и со слышащими учащимися V класса (11—12 лет).
Задача первая. Экспериментатор берет шар (мяч) в руку и без толчка выпускает из руки. Вопрос: «Почему шар стал двигаться и как он двигается?»
Глухие учащиеся уже знали из курса физики, почему свободно падающее тело летит вертикально вниз. Слышащие дети еще-не изучали в школе физики, но уже знали о некоторых физических закономерностях.
Ответить правильно на вопрос первой задачи смогли все испытуемые, как глухие, так и слышащие. Все учащиеся говорили о притяжении Земли.
Не было каких-либо различий между глухими и слышащими испытуемыми и при решении следующей задачи, требующей объяснения, почему если шарик приходит в движение и катится по-столу от резкого толчка, то он падает со стола не вертикально вниз, а по кривой (задача сопровождалась демонстрацией). Глухие учащиеся уже знали из курса физики, что тело по инерции стремится сохранять приданное ему направление движения. Вместе с тем они обычно, как и слышащие дети, еще не знакомые с этим законом, указывали на роль толчка как причины, заменяющей вертикальное падение криволинейным.
Но как только в опыты были введены некоторые осложняющие обстоятельства, сразу же обнаружились различия между слышащими и глухими учениками.
Задача вторая. На столе лежит зеркальное стекло, на стекло кладется шарик. Край стекла немного приподнимают. Вопрос: «Почему шарик катится?»
Для правильного объяснения причины движения шара по наклонной плоскости глухие ученики могли бы привлечь уже известный им закон, что всякое тело начинает падать, если era центр тяжести выходит за пределы площади опоры.
Многие глухие учащиеся (50%) объясняли движение шара ш> наклонной плоскости тем, что было поднято стекло, или же неудачно пытались привлечь для объяснения некоторые знания о. притяжении тел Землей. Например: они говорили, что «шар ка-
218
тится вниз потому, что внизу давление больше, чем на переднем крае. Давление притягивает шар»; «Мяч покатился по наклонной линии, так как все предметы всегда притягиваются к земле». Нельзя сказать, что и объяснения слышащих учеников были исчерпывающими. Однако никто из них не стал объяснять движение шара просто тем, что поднималось стекло. Слышащие дети говорили: «Шарик катится вниз потому, что он сдвинулся с места; когда подняли стекло, то у шара центр тяжести стал падать, а опора у шара неустойчивая»; «У шарика точка опоры очень маленькая, и на наклонной плоскости он не может стоять на месте, а будет падать в ту сторону, куда наклон»; «Все круглые предметы (мяч, шар, яйцо, арбуз) будут катиться под уклон потому, что у них нет устойчивого равновесия».
Чтобы облегчить понимание причины движения шара по наклонной плоскости, демонстрация явления была несколько изменена.
Задача третья. Стекло заранее устанавливали в наклонном положении, шарик клали на приподнятый край, он скатывался вниз (для сравнения демонстрировали шарик на горизонтальной плоскости, на которой он лежал без движения). Вопрос: «Почему шарик катится?»
Как и следовало ожидать, в этих условиях никто из учеников не упоминал о том, что шар покатился потому, что подняли стекло. Однако у глухих учащихся появились такие ответы: «Шарик катится по наклонной линии потому, что стекло наклонное»; «По 1 наклонному стеклу шар катится». Иначе говоря, то, что требовалось объяснить, стало само объяснительным принципом.
Результаты описанного исследования свидетельствуют о том, что глухие подростки испытывают большие трудности при решении физических задач. Они связаны с недостаточными знаниями глухих о физических явлениях и причинах, их вызывающих, по сравнению с тем, что наблюдается у слышащих. Вместе с тем в ряде случаев глухие учащиеся имели требующиеся знания, но не могли их воспроизвести в нужный момент, т. е. применить для решения конкретной задачи.
Однако обнаруженные трудности нельзя объяснить только недостатками знаний или невозможностью их актуализировать в определенный момент. Важно обратить внимание на то обстоятельство, что глухие часто были склонны видеть причину в том явлении, которое лишь сопутствовало другому явлению и было отчетливо наблюдаемо. Таким образом, они превращали пространственно-временную связь явлений в причинно-следственную. Из этого можно сделать вывод, что глухие учащиеся еще не владели достаточно пониманием причинно-следственных отношений. Особые затруднения у них возникали из-за того, что было необходимо, исходя из наблюдаемых явлений, умозаключать о действии сил внутренних, скрытых от глаз наблюдателя. Однако такой переход от явления к его сущности, от следствия к причине, от
219
 фактов к закономерностям составляет одну из самых существенных сторон мышления человека. Поэтому в педагогической практике следует уделять гораздо больше внимания формированию у глухих школьников причинно-следственного мышления.
фактов к закономерностям составляет одну из самых существенных сторон мышления человека. Поэтому в педагогической практике следует уделять гораздо больше внимания формированию у глухих школьников причинно-следственного мышления.
Положительный опыт обучения глухих школьников физике свидетельствует о том, что глухим детям очень важно наглядно продемонстрировать, почему неправильно высказанное ими предположение относительно причины того или иного явления. Далее, сопоставляя случаи, где данное явление наблюдается, и другие сходные случаи, где такое явление отсутствует, педагог подводит детей к обобщению, к выделению общих моментов в тех ситуациях, в которых данное явление имеет место. Так, опираясь на анализ, синтез, обобщение наблюдаемых явлений, он учит школьников умозаключать о причинах, скрытых, но находящих свое однозначное проявление в строго определенных ситуациях.
6. Решение задач по ботанике
Известно, что наибольшие возможности для развития творческого мышления создают проблемные ситуации и решение задач, которое является их необходимым компонентом.
У учителя ботаники в связи с особенностями самого предмета есть все возможности для того, чтобы осуществлять развивающее обучение глухого ребенка, и одним из путей для достижения этого является включение в курс ботаники решения ботанических задач.
Ботанические задачи требуют от учащихся систематизации имеющихся у них знаний о жизни растений, способствуют совершенствованию этих знаний благодаря тому, что требуют умения осуществлять перенос уже усвоенного в новую ситуацию, а также побуждают их к приобретению новых знаний. Кроме того, ботанические задачи помогают школьникам осмыслять производимые ими практические действия по уходу за растениями, а труд детей на школьно-опытном участке и на поле только тогда способствует их умственному развитию, когда ученик отчетливо понимает, почему нужно осуществлять то или иное практическое действие, какое влияние оно оказывает на рост и развитие растений.
Задачи по ботанике чрезвычайно разнообразны. Одни из них имеют практически действенный характер, другие решаются только в словесном плане. Но те и другие требуют от учащихся сложной мыслительной деятельности как продуктивного, так и репродуктивного характера. Ряд ботанических задач основывается на узнавании объектов, многие из них требуют установления причинно-следственных связей, предметных или понятийных обобщений, переосмысления, перестройки имеющихся систем знаний и т. д.
Для решения ботанических задач необходимо объединение, синтез знаний об условиях жизни растений, имеющих различные
220
источники. Это, с одной стороны, теоретические знания, получаемые на уроках ботаники, а с другой, знания, которые имеют своим источником самую работу на участке, их можно условно назвать практическими знаниями. Одно из отличий теоретических и практических знаний заключается в том, что они формируются в процессе разнородной деятельности. В первом случае эта работа с книгой на уроке или дома, слушание объяснений учителя опять-таки в привычной обстановке. В другом случае происходит деятельность совсем другого рода: глухие дети выполняют работы на участке, где многие объекты отвлекают их внимание и вызывают у них эмоциональные реакции.
На уроках, даже хорошо оснащенных наглядными пособиями, многие знания глухие школьники получают в опосредствованной форме, тогда как все практические знания формируются при непосредственном действии с объектами. Теоретические знания вплетаются в практическую деятельность по ходу ее. Но они находятся в «невыгодном положении», так как в работе на участке значима сама практическая деятельность, а теория отходит на второй план. Кроме того, во время длительного процесса работы по выращиванию растений на участке у учащихся формируются системы знаний чисто практического характера, например знание о последовательности выполнения ряда практических действий (выкопать лунку, полить ее, посадить рассаду, присыпать
землей и т. д.).
Е. М. Кудрявцева (1965) разработала несколько типов ботанических задач, которые помогают синтезированию теоретических и практических знаний, необходимому для осмысленной, а не чисто механической работы на школьно-опытном участке.
Одна из таких задач заключается в том, что глухие школьники должны были решить, как можно, улучшать условия жизни культурных растений. Эта задача давала возможность познакомиться со степенью обобщенности их знаний о жизни растений, требовала не только синтезирования практических сведений, полученных при выращивании растений, но и теоретических знаний
об условиях их жизни.
Основной умственной деятельностью, которая при этом осуществляется, является выборочная актуализация знаний. Учащимся надо было из всей системы мероприятий по уходу за растением актуализировать лишь те, которые направлены на улучшение условий жизни растений. Кроме того, требовалось разностороннее осмысление роли приемов ухода за растением, так как едва ли не у каждого агроприема имеется не только основной, но и косвенный результат воздействия на какое-либо условие жизни растений. Так, например, прополка увеличивает не только площадь питания растений из почвы, но также и его освещенность, а кроме того, производит еще и рыхление почвы.
Решение такого рода задач чрезвычайно важно для формирования обобщенных знаний об уходе за культурным растением.
221
Однако оно вызвало большие трудности у глухих школьников. Глухие учащиеся V класса осмыслили эту задачу ошибочно, уподобив ее задаче на перечисление вообще условий жизни, необходимых для жизни растений. Они говорили: «Растение улучшить условия жизни нужно вода, земля хорошая, воздух» (Галя 3., V класс); «Условия — вода, земля, тепло» (Толя Д., V класс).
В решении задачи не дается ответа на поставленный вопрос. Учащиеся фактически подменяли вопрос «Как можно улучшить условия жизни растений?» вопросом «Какие условия нужны для жизни растений?». Вследствие этого была выборочно актуализирована не та система знаний.
В VIII классе глухие школьники подходят к решению задачи более правильно, но привлекают ограниченное число условий, улучшающих рост растений. Например: «Чтобы улучшить условия растений, надо в землю вставить удобрения всякие» (Коля Д., VIII класс); «Чтобы улучшить растениям жизнь, надо взять лейку и много поливать их» (Тося Г., VIII класс); «Улучши-вать растения, цветы росли хорошо, надо сажать летом. Летом солнце близко, цветы хорошо садить на горку» (Алла К., VIII класс).
Учащиеся X класса школ глухих давали уже более обобщенные по содержанию ответы. Они называли ряд мероприятий, улучшающих условия жизни культурных растений, однако эти мероприятия в основном касались лишь улучшения водоснабжения и только прямых способов воздействия: «Надо больше поливать», .«Надо чаще поливать» и даже «Надо снег оставлять на полях и огороде». Ни один глухой десятиклассник не отметил, что рыхление и прополка также улучшают водоснабжение. Кроме того, и в X классе некоторые глухие школьники говорили не об улучшении условий жизни культурных растений, а о том, что требуется всем растениям для жизни вообще. Например: «Для растений нужны вода, тепло, свет, воздух, минеральные соли. Особенно растения требовательны с азотными, калийными, минеральными солями. Можно улучшить растения условия жизни, надо полоть, чтобы рыхлить землю для уничтожения сорняков, надо поливать воду, чтобы лучше вырастить. Будем получить высокий урожай. Если растения без воды, без света, без питательных веществ, то они умирают» (Таня Н., X класс).
Вторая задача, которую предлагали глухим учащимся, давала возможность судить о сформировавшейся у них системе знаний о выращивании того или иного растения «от семени до семени». Учащимся предлагалось ответить на вопрос: «Какие работы нужно производить, чтобы вырастить хороший урожай помидоров? Напиши, что ты делал, когда летом выращивал их». Исследование проводилось со школьниками, выращивавшими данное растение в ходе опытнической работы на пришкольном участке. Рассчитывали на то, что глухие учащиеся будут актуализировать ход проведенного ими опыта благодаря дневникам, в которых
222
были отражены основные его этапы, и осмыслят их в свете имеющихся у них знаний по ботанике.
Так как учащиеся в начале опыта выращивали рассаду в теплице, а затем имели дело с растением, высаженным в грунт, можно было рассчитывать на то, что они будут говорить о различии условий жизни, необходимых одному и тому же растению в разные периоды его развития.
Данная задача, несмотря на кажущуюся ее простоту, вызвала затруднения не только у глухих, но и у слышащих учащихся. Система знаний о выращивании помидоров и капусты даже у хорошо успевающих слышащих учеников V класса оказалась крайне неполной. Очень немногие пятиклассники упоминали о выращивании рассады помидоров и капусты, но делали это крайне бегло, ограничиваясь несколькими словами, хотя их работа в теплице продолжалась больше месяца и включала в себя целую систему практических действий. Кроме того, далеко не все учащиеся перечислили все операции, которые нужно было производить, выращивая помидоры или капусту, часто встречались нарушения порядка производственных операций и практические работы, которые выполнялись в более ранние сроки, упоминались
позднее других.
Но все же основные практические операции, необходимые для выращивания указанных растений, отмечались всеми слышащими школьниками.
Глухие учащиеся V класса дали более общие, менее конкретные ответы о выращивании и капусты и помидоров, чем слышащие пятиклассники. Особое, специальное не синтезировалось в систему приемов ухода за данными растениями. Приведем примеры ответов учащихся V класса школы глухих с хорошей успеваемостью.
«Помидору особенно нужно для жизни и для роста поливать воду, копать землю, полол траву. У помидора есть много семян. Помидор плоды крупные, красные. Помидор—очень полезно. Семена помидора весной сажают, а потом в конце лета получают красные крупные помидоры плоды. Листья помидора сухая, когда вырывать с стебли. Летом, когда сухая погода, надо поливать воду. Плоды помидора люди употребляют в пищу, делают салат, винегрет, чтобы было вкусно» (Витя Т., V класс).
«Весной она росла капуста на земле. Весной семена нужно сеять на земле. Из семян выросли молодые росточки. Летом они ухаживают за капустой. Они поливают водой и убирают сухие травы, положить и сжигать. Надо полоть капусту (сухие травой), потому что летом бывают растут сорняки и убирают урожай капусты. Они спасти капустей и уничтожают сорняков» (Ваня Д.,
V класс).
Наиболее часто глухими пятиклассниками отмечались такие практические мероприятия, как полив и прополка, сущность которых очень ясна и наглядна. Знания о них сформировались еще
223
в начальных классах школы, поэтому-то они прочно вошли в систему приемов ухода за растением. Такие же практические операции, как прищипку, пасынкование, окучивание, глухие пятиклассники не упоминали совсем.
Следует отметить включение учащимися указаний на определенные практические действия, которые не требовалось актуализировать при решении данной задачи. Так, глухие пятиклассники рассказывали об уборке урожая, об употреблении данных овощей в пищу и т. д.
Эти же особенности обнаружились и у глухих учащихся VIII класса: «Люди осенью собирали семена и спрятали в темном месте. Весной люди сажают в землю и поливают водой вовремя. Стебель у томата питания берет много воды. Через месяц томат вырастают маленькие томат. Июль месяц в саду было жарко, тепло, потому что близко солнце. У томата есть плоды, семена, много соки. У томата круглые кожи. У томата есть: кор-. ни, стебель, цветы, листья и томат. У помидора растения первого года. Люди кушают помидоры, чтобы для здоровья человека, а остальные листья и стебель отдали колхозникам для коровы, овцы и свинья. Люди беречь томат. Летом люди выкапывают землю, чтобы у томата корни будет увеличить много растения. Люди кушают томат много соки, чтобы поправился. Томаты отправляются в Москву, чтобы люди покупают в рынке, в автомате соки, и разные магазины» (Дима К., VIII класс).
«Капусте требуется особенно, чтобы она хорошо росла: земли поливать водой, удобрение лекарство, вырывать сорняки. Люди собирают листья капусты. Капусту семена весной сажают рассаду, поливать водой. Потом осенью люди собирают капусты 1 года. Весной люди сажают капусты второго года и получают семена капусты. Потом следующий год и опять люди сажают семян капусты в конце весной, и летом люди получают Семену капусты и люди употребляют в пищу листья капусты» (Аня Т., VIII класс).
Решение данной ботанической задачи глухими школьниками, как и ранее описанной, показало, что сформировавшиеся у них знания о выращивании растений имеют крайне общий характер. Особое, специальное, значимое для ухода за помидорами или за капустой не синтезировалось в систему приемов их выращивания. Несмотря на работу на участке, знания имели книжный характер, и эта их особенность не изживается и к X классу, хотя сам ответ заметно совершенствуется и в нем имеются уже элементы причинного объяснения.
«Требовательна капуста жизни особенно из трех условий: вода, тепло, минеральные удобрения. Мы вырастили капусты много. Капуста испаряет много воды, поэтому ее выращивают в нижних влажных почвах. Капуста растет около 150 дней, поэтому ее выращивает в почвах рассады, когда теплой погоды рассаду высаживают в грунт. Капуста нуждается в большом количестве
224 ;
питательных веществ, поэтому ее выращивает в почвах хорошо удобренных навозом и минеральными удобрениями» (Таня Д.,
X класс).
При решении задач, направленных на актуализацию и конкретизацию общих ботанических знаний об условиях жизни растений, выяснилось, что теоретические знания глухих школьников не конкретизировались в надлежащей мере их практическими знаниями. Решение задач строилось на основе практических знаний, сформировавшихся в процессе работы по выращиванию растений, а не на теоретических знаниях, оказавшихся оторванными от практических.
Анализ решения глухими школьниками ботанических задач показал, что для успешного применения теоретических знаний на практике педагоги должны и на уроках, и во время практической работы на участке обучать учащихся соотнесению общих и специальных знаний о растениях. Глухих школьников необходимо побуждать к объяснению наблюдаемых ими изменений в растениях в свете теоретических ботанических знаний, эту работу надо осуществлять и в младших, и в старших классах. Это обеспечит глухим школьникам надлежащее осмысление связи между растением и средой и поможет им в той ли иной степени управлять ростом и развитием растений.
20. Развитие мышления у глухих детей
Проследим за общим ходом развития мышления глухих детей, преимущественно останавливаясь на тех особенностях, которые обусловлены отсутствием слуха и поздним появлением речевого общения.
Младенческий возраст
| 225 |
В первые 2—3 месяца жизни, в часы активного бодрствования у слышащего ребенка развиваются условные рефлексы на дистантные раздражители, издающие нерезкие звуки, и появляется умение следить глазами за яркими движущимися предметами. Положительное отношение к зрительным и звуковым раздражителям проявляется во вскидывании ручек, перебирании ножками, улыбке, гулении. Несколько позднее ребенок поворачивает головку в сторону предметов, издающих звук, тянется к ним, пытается удержать в ручках. В возрасте 4—5 месяцев формируется хватание предметов двумя ручками, многократное их поднимание и опускание, двигание из стороны в сторону. Производя эти действия, ребенок начинает осматривать и ощупывать предметы, к 6—7 месяцам научается их поворачивать, ударять друг о друга. Дети быстро реагируют на звук, плачут при неожиданно громких звуках.
15 Заказ 1703
В возрасте 8—9 месяцев отмечено развитие начатков действ венного анализа предметов, дети всовывают предметы друг в друга, делят на части, царапают поверхность и т. д. Десятимесячные дети устанавливают некоторые пространственные связи между предметами и пользуются ими, например, для того, чтобы толкнуть или достать один предмет посредством другого. Свои действия с предметами младенец осуществляет при участии взрослого.
У младенца очень велика и рано обнаруживается потребность общения со взрослыми. Уже двухмесячный ребенок положительно реагирует на взрослого: гулит при его появлении и кричит при его уходе, оживляется при звуках голоса. Эти реакции усложняются с каждым месяцем. В возрасте 5—6 месяцев и несколько позднее ребенок начинает прибегать к помощи взрослых для того, чтобы достать желаемые предметы. Его контакт с предметами опосредствован взрослыми: он передает им предметы и заставляет поднимать, если бросает на пол, и т. д. Испугавшись или обрадовавшись, ребенок стремится к взрослому, ищет у него помощи и защиты. На пороге второго года жизни появляется подражание действиям взрослого с предметами.
Из потребности в общении со взрослыми для удовлетворения своих биологических нужд и манипулирования окружающими предметами выделяется специфическая человеческая потребность в речевом общении, возникающая благодаря тому, что взрослые обращаются к детям со словами и разговаривают между собой. Это привлекает внимание детей к речевому общению и создает условия для дальнейшего развития их наследственно фиксированных речевых возможностей. Уже двухмесячного ребенка успокаивает направленная к нему речь взрослого. Отмечено, что крик ребенка постепенно изменяется, становясь различным при различных обстоятельствах его жизни. Появляется гуление, приобретающее различные интонации в условиях общения. Оно сопровождает эмоциональные реакции ребенка, его реакции на появление взрослого, на манипулирование предметами. Шестимесячный младенец различно реагирует на ласковую и сердитую интонацию.
К 7—8 месяцам у ребенка появляется лепет; существенная роль в его развитии принадлежит не только автоимитации, но и подражанию речи взрослого.
Относительно развития глухих на первом году жизни известно пока немного. Из сведений о них, обобщенных в книге Е. Ф. Pay «О работе с детьми раннего возраста, имеющими недостатки слуха и речи» (1950), видно, как с каждым месяцем нарастают различия между слышащими и глухими детьми. В этой книге приведены выдержки из дневниковых записей за К- Д., ребенком с врожденной глухотой, в которых сообщается, что в 3 месяца он проявлял положительное отношение к зрительно вос-
226
принимаемым объектам, в 4—5 месяцев у него появилось ощупывание и осматривание предметов, удерживание их в руках и активное манипулирование ими. Но сфера его познавательной деятельности оказалась суженной по сравнению со слышащими сверстниками, так как он не реагировал на негромко звучащие предметы, на обращаемый к нему голос, не поворачивал головку в стороны и назад. Это с достоверностью было установлено уже, когда ему было 3 месяца. В 5 месяцев 2 дня в дневнике наблюдений отмечено, что «у него всегда немного растерянный и рассеянный вид. Сидя на руках, он всегда смотрит в одну точку и подолгу сосредоточивает свое внимание на одном предмете, находящемся перед его глазами. Он всегда держит головку в одном положении, нагнув ее вниз, и, чтобы привлечь его внимание, нужно подойти к нему близко и «попасть ему в глаза», тогда он оживляется, улыбается, поворачивает головку, приковывает свое внимание к обращенному к нему лицу». Это наблюдение показывает, что ребенок, лишенный звуковых впечатлений, менее активно обозревает окружающее, чем его слышащий сверстник, который живо реагирует на звуковые раздражения, вызывающие повороты головки в стороны и назад, что содействует активизации зрительного восприятия, выделению определенных предметов из их совокупности. У этого и других глухих детей отмечена также некоторая вялость хватания и держания предметов. По имеющимся сведениям, наблюдательность, оживление при появлении новых раздражителей, поворачивание головки в стороны, осматривание развиваются у них несколько позднее, чем у слышащих. Так, становится очевидной необходимость привлекать внимание глухого ребенка к окружающим его зрительно воспринимаемым предметам, выделение которых облегчено для слышащего благодаря их звучанию.
Несколько иным, чем у слышащего, является также характер общения со взрослыми. Как и слышащий, глухой младенец рано положительно реагирует на появление взрослых и кричит при их удалении. В то же время, что и слышащий, он начинает узнавать мать, отрицательно реагирует на чужих людей. Так же как слышащий, глухой младенец призывает взрослого плачем и криком; но плач и крик у него негромкий, часто сипловатый, лишенный модуляций, характерных для слышащего ребенка. При содействии взрослого он манипулирует предметами. Играя предметами, а также находясь со взрослыми, он гулит; это затрудняет иногда распознавание глухоты. Но в отличие от живых интонаций и певучего гуления слышащего гуление глухих детей монотонно. К 5 месяцам оно сокращается и постепенно, как у слышащих, затухает.
Итак, на рубеже перехода от младенчества к раннему детству
у слышащих и глухих детей появляются некоторые практические
знания о свойствах предметов, которыми они манипулируют,
обнаруживается практически действенное осмысливание отноше-
17* . 227
 |
ний между предметами, проявляющееся в возможности воздействовать одним предметом на другой. Эти первичные формы мышления развиваются внутри практической деятельности, неотделимы от нее и еще не связаны с речью.
Вместе с тем в последние месяцы первого года жизни у глухого ребенка выявляются существенные отличия от слышащего, обусловленные отсутствием слуха. Эти отличия проявляются в том, что круг познаваемых объектов и их свойств оказывается более узким, наблюдательность развивается медленее, выделение зрительно воспринимаемых объектов, не подкрепляемое слухом, происходит несколько менее активно. Общение со взрослыми оказывается тоже несколько иным, менее богатым. Это вызывается тем, что глухой ребенок не воспринимает интонаций взрослого и не может правильно реагировать на них; крик и гуление глухого ребенка лишены интонаций, однообразны и монотонны, а это затрудняет распознавание его желаний и жалоб. Наконец (и это весьма значимо), не подкрепленные слухом, не развиваются исторически фиксированные предпосылки к развитию лепета и формирующейся на его основе устной речи.
Раннее детство
Отличительными чертами, характеризующими развитие в раннем детстве, считаются самостоятельное передвижение, овладение ходьбой, появление и быстрое формирование речи. На протяжении первых двух-трех лет жизни ребенок интенсивно и быстро овладевает фонетическим, лексическим и грамматическим строем языка.
Круг деятельности ребенка значительно расширяется на вторам году жизни, так как, овладев ходьбой и начав самостоятельно передвигаться, он приходит в контакт с гораздо большим, чем прежде, количеством объектов. Отмечено, что до 8—9 месяцев дети одинаково действуют всеми предметами и игрушками: постукивают, ставят, тащат в рот, размахивают, но не могут еще подражать действиям взрослых, хотя те показывают им, как надо пользоваться тем или иным предметом.
Подражание действиям взрослых и возникающая вследствие этого специализация действия детей с различными предметами появляются к возрасту 10—12 месяцев и развиваются в ходе совместной игры со взрослыми благодаря словесным указаниям взрослого, касающимся действий с предметами («возьми гребенку, причеши куклу», «положи куклу спать»).
К полутора годам уже удается вызывать у детей в условиях игры специфические действия с предметами, характерные для этих предметов, не показывая, а лишь советуя ребенку их выполнить, напоминая ему о действиях, знакомых из практики.
На третьем году жизни в своих изобразительных играх дети,'1 отражая действия окружающих людей, в ряде случаев как бы
228
дополняют имеющиеся у них игрушки отсутствующими, называя их. На этом новом этапе игра детей всегда сопровождается речью и разъясняется ею. Приблизительно в это время впервые появляется использование игрушек и вещей не только в их прямом назначении, но и в новом, игровом. Так, кубик становится машиной, затем собачкой и т. д.
В припоминании в данный момент невоспринимаемых предметов и их свойств, в переименовании предметов в игре в тех случаях, когда они используются не в своем прямом назначении, но в качестве заменителей, можно видеть проявление развивающегося словесного мышления слышащих детей.
Изменяется не только познавательная деятельность, но и отношение ребенка к взрослым. Взрослый не только выполняет теперь функции посредника между ребенком и миром окружающих нужных ему вещей, но и становится источником новых сведений, сообщаемых в словесной форме, о воспринимаемых предметах и об отсутствующих вещах. Возникают новые формы общения между ребенком и взрослым, вызываемые адресуемыми ребенку требованиями к нормам его поведения.
Неизмеримо расширяется сфера подражания действиям взрослого, что помимо прочего проявляется в том, что на базе изобразительной игры начинает развиваться ролевая игра, в которой ребенок выполняет действия, подражая «тете Ане» или «тете Марусе», сопровождая их соответствующими высказываниями.
Изменяются отношения детей между собой. На первом году жизни отмечались реакции удовольствия, тяготение детей друг к другу, трогание одним другого, отнимание игрушек. В раннем детстве развивается одновременная предметная деятельность, обусловленная подражанием друг другу, возникают и простые совместные действия в игре, взаимопомощь. Отмечено эмоционально окрашенное общение в процессечигры, оценка одним ребенком действий другого, а также агрессивные и оборонительные действия. Все эти процессы происходят не безмолвно, а сопровождаются речевыми высказываниями и мотивируются в словесной форме.
Именно потому, что овладение речью играет столь большую роль для развития познавательной деятельности нормального ребенка в раннем детстве, для развития его общения со взрослыми и сверстниками, задержка в формировании речи оказывается серьезнейшей помехой для полноценного развития глухого ребенка в этом возрасте. Его общение со взрослыми, ограниченное наглядными и действенными формами, резко обеднено. Отсутствие словесного общения дает себя знать прежде всего в своеобразии развития практически действенного мышления. Оно формируется только на основе показа и совместных действий со взрослыми, но без направляющего влияния их указаний, разъясняющих и уточняющих то, что ребенок воспринимает, пополняющих его сведения, мобилизующих припоминание ранее воспри-
229
 ■пятого и т. д. Значительно задерживается развитие игровой деятельности: длительнее осуществляется однообразное манипулирование объектами, позднее возникают изобразительные игры. Отсутствие речи затрудняет не только контакт со взрослыми, но и развитие отношений со сверстниками, как слышащими, так и глухими. Появляющийся среди глухих мимико-жестовый способ общения на этой ступени развития крайне ограничен, недостаточно расчленен и поэтому ни в какой степени не может заменить богатство словесного общения. Даже введение раннего обучения словесной речи не может полностью возместить существенного ущерба, который наносится глухому ребенку тем, что в раннем детстве задержан необычайно быстрый, характерный для слышащих детей естественный ход развития речи. Вследствие этого именно в раннем детстве значительно нарастают различия между слышащими и глухими детьми.
■пятого и т. д. Значительно задерживается развитие игровой деятельности: длительнее осуществляется однообразное манипулирование объектами, позднее возникают изобразительные игры. Отсутствие речи затрудняет не только контакт со взрослыми, но и развитие отношений со сверстниками, как слышащими, так и глухими. Появляющийся среди глухих мимико-жестовый способ общения на этой ступени развития крайне ограничен, недостаточно расчленен и поэтому ни в какой степени не может заменить богатство словесного общения. Даже введение раннего обучения словесной речи не может полностью возместить существенного ущерба, который наносится глухому ребенку тем, что в раннем детстве задержан необычайно быстрый, характерный для слышащих детей естественный ход развития речи. Вследствие этого именно в раннем детстве значительно нарастают различия между слышащими и глухими детьми.
Конечно, глухой ребенок, воспитывающийся в относительно благоприятных условиях, даже специально не обучаемый речи, значительно развивается в раннем детстве. Научившись ходить, он практически познает большое количество объектов и знакомится с их назначением. Все это происходит благодаря тому, что глухие дети живут среди слышащих, которые организуют их быт и разнообразными путями общаются с ними. Взрослые, обучая глухих детей элементарным гигиеническим навыкам и простейшим формам самообслуживания, привлекают их к участию в своей деятельности. А дети, подражая взрослым, сами начинают выполнять соответствующие действия с предметами, познавая их свойства, их пространственные и временные отношения. Исследования и наблюдения показывают, что в раннем детстве у глухих детей формируется практическое обобщение однородных предметов, обладающих даже отличающими их друг от друга свойствами. Подражая занимающимся с ними взрослым, глухие дети в какой-то мере научаются изобразительным играм, конечно более бедным, чем у слышащих детей, но, несомненно, содействующим их развитию. Конечно, те виды чувственного познания, которые относительно независимы от речи, развиваются у глухих детей в раннем детстве, но, как уже говорилось раньше, их развитие своеобразно, так как обусловлено изменением нормального взаимодействия анализаторов и отсутствием речи. В этом возрасте задержки в развитии глухих детей особенно значительны, так как не происходит еще компенсации недостатков за счет развития речи, усиленной деятельности сохранных анализаторов и изменения характера их взаимосвязи.
Поэтому при сравнении слышащих и глухих детей этого возраста у глухих обнаруживается отставание в развитии чувственного познания, моторики и значительная задержка в развитии игровой деятельности, что проявляется в задержках развития мышления глухих детей.
230
Дошкольный возраст
На пороге дошкольного возраста различия между глухими и слышащими детьми оказываются гораздо более значительными, чем при переходе от младенчества к раннему детству.
Благодаря развитию активной речи и расширяющемуся пониманию речи слышащие дети узнают от взрослого многое, чего непосредственно не воспринимают, т. е. возрастает удельный вес опосредствованного познания, расширяющего их кругозор. Это, в свою очередь, содействует обогащению словаря и грамматического строя речи.
Слышащий дошкольник сопровождает свои действия речью. Такого рода устная речь постепенно приобретает новые функции, преобразуется во внутреннюю речь и выступает в роли орудия словесного мышления, а также средства направления и планирования ребенком своих действий. Словесное общение содействует формированию детского коллектива в условиях детского сада, помогает приноравливанию действий детей друг к другу, их согласованию.
Психологические исследования показывают, что познавательная деятельность у слышащего ребенка значительно усложняется в дошкольном возрасте. Формируется целенаправленное наблюдение, на основе непреднамеренного запечатления и запоминания развиваются смысловое преднамеренное запоминание и воспроизведение. Выявление в практической деятельности причинных связей между явлениями порождает пытливость, познавательные интересы и вопросы о взаимосвязи явлений, что свидетельствует о развитии словесно-логического мышления. Исследования показывают, что изобразительные игры сменяются творческими играми со сложными сюжетами, требующими распределения ролей, подчинения играющих определенным правилам и т. д. Игрушки, которые дети использовали на более ранних этапах только в их прямом назначении, не могут удовлетворить все нарастающих потребностей в объектах игры, и это содействует использованию игрушек и предметов окружения в воображаемом плане. На протяжении дошкольного возраста умственная деятельность слышащих детей все больше обособляется, выделяется из ее тесной взаимосвязи с игровой и практической деятельностью, что создает готовность ребенка к школьному обучению.
Сведения, которые имеются по психологии глухого дошкольника, и материалы относительно глухих детей, приходящих впервые в школу, показывают, что различия между ними и слышащими детьми, столь отчетливо и сильно проявившиеся в раннем детстве, продолжают нарастать в дошкольном возрасте в том случае, если глухим детям не созданы особо благоприятные условия для их общего развития и овладения словесной речью. И напротив, наличие специальных условий воспитания и раннее обучение речи в детских садах для глухих содействует началу нового
231
процесса —постепенному преодолеванию нарастающих различий между глухими и слышащими детьми (И. М. Соловьев, 1957, 1960). Изучая различия между глухими и слышащими, нельзя, однако, забывать о том, что они выявляются на фоне общих основных тенденций развития, что общего между обеими группами детей гораздо больше, чем различного.
Игры глухих дошкольников характеризуются значительным однообразием и обильным подражанием детей друг другу. Их приходится обучать сюжетным творческим играм, воображаемому употреблению предметов в игре и распределению ролей между участниками игры. Игры глухих беднее по содержанию, чем игры слышащих. Это происходит из-за того, что глухие менее полно и тонко отражают действительность, меньше анализируют ее, располагают меньшими знаниями об окружающей жизни.
Воображаемое использование объектов в игре, как было ранее показано, очень затрудняет глухих детей. Обучение их этому способу применения предметов содействует развитию мыслительной деятельности глухих дошкольников. Для использования объекта в роли заменителя отсутствующей игрушки требуется переосмысливание объекта, акцентирование в нем свойств, присущих тому объекту, роль которого он должен выполнять, а также отвлечение от остальных его свойств. Иначе говоря, условием воображаемого использования объектов в игровой ситуации являются практический, наглядный анализ, сравнение и абстракция. Значительные затруднения, которые испытывают в этом глухие дети, являются симптомом задержки развития их наглядного мышления, вызванной тем, что в этих процессах своевременно не участвуют речь и словесное мышление.
При изучении познания цвета было показано также, что во второй половине дошкольного возраста отчетливо проявляется задержка в развитии наглядных обобщений, лишь наметившаяся в раннем детстве. К 5 годам глухие дети подобно слышащим выполняют узкие, дифференцированные обобщения, опирающиеся на чувственное познание, которое развивается в условиях практической деятельности и не зависит от развития речи. Но к 6 годам глухие дети начинают отставать от своих слышащих сверстников, у которых происходит дальнейшее развитие категориального обобщения цвета благодаря участию речи в познании цвета. Глухие дети отстают от слышащих тем больше, чем медленнее овладевают системой словесных обозначений, служащих дифференциации и обобщению цветовых впечатлений.
Все отмеченные факты говорят о значительном своеобразии процесса выделения мышления как определенного самостоятельного вида умственной деятельности из состава практической деятельности глухих детей, о запаздывании и трудностях этого процесса в раннем детстве и дошкольном возрасте.
Глухие дети, обладающие неповрежденным мозгом и огромными резервами для компенсации, выучиваются ориентироваться в
232
своем окружении, правильно реагировать, разумно действовать благодаря тому, что вся их жизнь обусловлена пребыванием среди слышащих и руководством со стороны последних.
Использование на раннем этапе мимико-жестикуляторных средств общения несколько облегчает контакт и взаимопонимание глухих детей с взрослыми и глухими сверстниками. Однако оно не возмещает словесных способов общения. Осмысление окружающей действительности, возможность осуществлять практический анализ, синтез, действенную абстракцию, наглядное обобщение проявляются в разумной практической деятельности глухих детей. Все эти мыслительные процессы развиваются в рамках их наглядного мышления, под косвенным воздействием речи, происходящим благодаря общению со слышащими. Взрослые не через слово, как это обычно происходит в развитии слышащих детей, а в процессе деятельности, в которую они вовлекают глухих детей, передают им свой опыт, умения. Но если бы развитие глухих детей ограничивалось такого рода общением, они бы очень значительно отличались от слышащих детей и не поднялись бы до того уровня развития мышления, который дает возможность овладеть школьными знаниями. Полноценное общение с окружающими связано с использованием речи и развитием словесного мышления, являющимися необходимыми условиями овладения основами науки.
Для того чтобы отличия в познавательной деятельности между слышащими и глухими детьми начали сглаживаться, глухие должны достигнуть значительных успехов в овладении различными сторонами и функциями словесной речи. На этой базе постепенно совершенствуется их мышление.
Школьный возраст
Особенности развития мышления глухих учащихся на протяжении младшего, среднего и отчасти старшего школьного возраста были подробно рассмотрены в предшествующих разделах данной главы. Поэтому здесь мы отметим лишь основную тенденцию. Она заключается во все возрастающем сглаживании расхождений между глухими и слышащими.
Благодаря постепенному овладеванию словами разной меры общности, словосочетаниями и грамматическому оформлению речи глухие дети приобретают возможность усваивать систему знаний. Знания и речь формируют их словесно-логическое мышление. У них развиваются сложные по своему строению виды анализа предметов и явлений, возникают многообразные приемы сравнений, категориальные обобщения.
Нельзя, однако, не учитывать, что усвоение научных знаний гораздо труднее для глухих детей, чем для слышащих, помимо прочего и потому, что требует осмысления и использования расчлененной и обобщенной системы словесных обозначений, лишь
233
постепенно становящейся их достоянием. Между тем обучение может благоприятно воздействовать на развитие только при условии переработки, расчленения и обобщения приобретаемых знаний. Понятна поэтому огромная значимость овладения речью для развития глухих.
Зависимость развития мышления глухих детей от уровня их речевого развития проявляется многообразно. Выявлено, что даже учащиеся VI—VII классов с трудом расчленяют под новым углом зрения зафиксированные в определенной словесной форме обобщения объектов. Трудность разноаспектного осмысления одного и того же объекта и включения его.в разные системы связей принадлежит к числу своеобразных черт мышления глухих, отражающих недостаточную динамичность их мысли, не «пропитанной» речью, не обработанной ею и поэтому не столь гибкой, как у слышащих. Несмотря на высокую обучаемость глухих, эта трудно преодолеваемая особенность мешает им активно использовать научные знания и формировать систему знаний.
В младшем школьном возрасте глухим труден переход от одного приема сравнения объектов к другому из-за того, что каждый из приемов предъявляет различные требования к отбору и систематизации словесных знаний, а их малодинамичное мышление с трудом перестраивается.
К старшему школьному возрасту приемы мышления заметно развиваются; обнаруживаются успехи в прежде затруднявшем глухих расчленении приобретенных знаний, растет умение извлекать различные звенья из системы усвоенных знаний для решения предлагаемых им заданий и, в частности, для пересмотра обобщений ранее неверно сложившихся «житейских» сведений, например о явлениях природы. Развивается возможность, опираясь на описание объектов, конкретно представить их себе.
Влияние речи на развитие мышления глухих способствует преодолению ограниченности их наглядных обобщений и формированию словесного мышления. Это в полной мере обнаруживается в старших классах, когда в результате специального обучения глухие овладевают системой языковых средств, самостоятельно применяют и правильно сочетают более общие и более частные обозначения, заменяя при необходимости одни другими, анализируют, сравнивают и обобщают объекты и явления в разных аспектах, включая их в разные понятийные группы. Развивающаяся речь способствует приобретению знаний, которые вносят в мыслительную деятельность глухих системность и последовательность, содействуют формированию приемов, присущих словесно-логическому мышлению. Но это очень сложный, медленно протекающий процесс.
234
РЕЧЬ
 21. Условия овладения языком у глухого ребенка в отличие от слышащего
21. Условия овладения языком у глухого ребенка в отличие от слышащего
Условия формирования речи у глухого ребенка иные, чем у слышащего; это существенным образом сказывается на всем ходе развития речи глухих детей.
Обязательными условиями появления у нормально развивающегося ребенка потребности в речевом общении, а также успешного развития наследственно-фиксированных у него речевых возможностей являются, с одной стороны, сохранность его слухового восприятия, а с другой — его пребывание среди слышащих и говорящих людей и общение с ними. Если какое-либо из этих ус* ловий нарушено, возникают препятствия в развитии речи.
Поясним сказанное. В научной литературе с конца XVII в. время от времени появляются сообщения о детях, которые по несчастному стечению обстоятельств в раннем детстве попали к диким животным, росли и долгие годы провели среди них, а за^ тем были найдены и помещены в нормальные условия. Об обладавших слухом «одичавших» детях, развивавшихся некоторое время вне человеческого общества, сообщают, что издаваемые ими звуки ничем не напоминали звуков человеческой речи, но были похожи на голоса животных, среди которых они жили. Попав в нормальные условия, эти дети с большим трудом и очень медленно приобщались к речи. Влияние социальной среды, в том числе речи окружающих людей, проявляется помимо прочего в том, что ребенок начинает говорить на родном языке, хотя рождается с задатками к усвоению любого языка.
Если ребенок лишен слуха, то речевое общение, являющееся обязательным условием развития слышащего ребенка, у него своевременно не возникает и не может оказать воздействия на ход его развития в такой форме и мере, как на слышащего. Из-за того что он не воспринимает словесной речи, у него не возникает потребности в словесном общении; он не приобретает также образцов для формирования собственной речи.
Условия развития двух детей младенческого возраста — слышащего и глухого, растущих в одной и той же среде, оказыва-
235
ются различными. Ласковая речь взрослого, обращенная к слышащему плачущему ребенку 3—4 месяцев, часто успокаивает его, а глухой ребенок, не воспринимая речи, не реагирует и на интонацию. Его плач и крик бедны интонациями, гуление монотонно.
К 7—8 месяцам у слышащего ребенка появляется лепет; воспринимая его слухом, слышащий ребенок вначале вторит своему лепету, затем, прислушиваясь к речи взрослых, пытается подражать им. На втором году жизни лепет слышащего ребенка, подкрепляемый слухом, постепенно преобразуется в речь. Между тем у ребенка, лишенного слуха, с каждым месяцем его жизни все сильнее задерживается развитие исторически развивавшихся и зафиксированных предпосылок к формированию словесной, и прежде всего устной, речи. У него не появляется лепет; без специального обучения, самостоятельно не формируется устная речь.
В предшествующих главах уже было показано, что различные стороны чувственного познания не в равной степени страдают от потери слуха и отсутствия речи. Благодаря тому что жизнь глухих детей обусловлена пребыванием среди слышащих и их руководством, многие процессы практически действенного и наглядного познания действительности значительно развиваются у них не под прямым, а под «косвенным» воздействием речи, т. е. даже в том случае, если до школы их не обучают языку.
Обладая неповрежденным мозгом и огромными резервами для компенсации, глухие дети выучиваются ориентироваться в своем окружении, правильно реагировать, разумно действовать. Возможность осуществлять практический анализ, синтез, действенную абстракцию, наглядные обобщения проявляется в разумном поведении, в правильной целенаправленной практической деятельности глухих детей.
Развитие их действенного и наглядного мышления стимулируется общением со взрослыми, которые передают им свой опыт, умения и знания не путем словесного общения, в значительной мере определяющего развитие слышащих детей, а привлекая глухих детей к выполнению разных видов деятельности, которые взрослые разъясняют детям, пользуясь показом и мимико-жести-куляторными средствами общения.
У глухих детей формируются обычно некоторые мимико-же-стикуляторные способы общения с окружающими, в определенном отношении подготавливающие их к овладению языком. Значительные успехи, достигнутые глухими детьми к началу школьного возраста в развитии познавательной деятельности, дают им возможность в известной мере осознанно и целенаправленно трудиться над усвоением языка. Надо учесть, однако, что наглядное мышление, развивавшееся вне речи, несовершенно, а ограниченные мимико-жестикуляторные средства общения, принося несомненную пользу развитию глухих детей, неизбежно
236
вступают в известные противоречия с начинающим формироваться словесным общением, опирающимся на зрительное восприятие речи, подкрепляемое вибрационно-кинестетическими ощущениями. Все это создает совершенно своеобразные условия развития глухого ребенка, начинающего обучаться речи в школьном возрасте, резко отличающиеся от условий, в которых происходит овладение речью у слышащего ребенка.
Если глухих детей начинают обучать речи в раннем детстве или младшем дошкольном возрасте, тогда, когда у слышащих детей происходит интенсивное развитие речи, удается в известной мере предупредить резкое расхождение в развитии между глухими и слышащими. Расширяющаяся сфера общения и раньше формирующееся словесное мышление оказывают положительное воздействие, нормализуя познавательную и игровую деятельность глухих дошкольников, которые в меньшей мере «привыкают к молчанию», к изоляции от слышащих, чем дети, начинающие обучаться речи в школе. Стремление советских сурдопедагогов начинать обучение глухих детей словесной речи в раннем возрасте психологически вполне аргументировано и имеет под собой бесспорные основания, так как соответствует требованиям и возможностям развития этих детей. И действительно, начало обучения глухих детей в раннем возрасте, как показывают факты, всемерно способствует сглаживанию различий между глухими и слышащими детьми.
Итак, условия овладения языком и развития речи у глухих отличны от условий, в которых происходит овладение языком у
слышащих детей.
Не воспринимая речи, ребенок, лишенный слуха, не испытывает потребности в словесном общении до тех пор, пока его не начинают специально обучать речи. Глухие дети познают речь, опираясь на зрительное восприятие, подкрепляемое речевыми кинестетическими ощущениями. Они не имеют возможности улавливать интонационно-выразительные средства речи и воспринимать на слух речевые «образцы», подражание которым, контролируемое слухом, определяет речевое развитие слышащего ребенка. Речью глухие могут овладеть только обходными путями, в условиях специального обучения, преодолевая серьезные трудности.
У глухих детей, воспринимающих звучащую речь не слухом, исторически «приноровленным» к ее восприятию, а зрительно и зрительно-двигательно, т. е. обходными путями, иные сенсорные основы формирования первичных образов слов, чем у слышащих
детей.
Формирование речи у слышащих детей опирается на слуховое восприятие обращенной к ним речи окружающих. Слова детей и сохраняемые памятью образы слов постепенно совершенствуются, закрепляются в их активной устной речи, при которой произношение неустанно приноравливается к образцу-«мерке»
237
(И. М. Сеченов), т. е. к опережающему слуховому образу слова. В звучании воспринимаемого слухом устного слова заключены предпосылки к его расчленению на слоги. Слоговая структура слова, носителя определенного значения, появляется в речи маленьких слышащих детей раньше, чем у них возникает тонкая дифференциация фонетического строя слова, и на втором-треть-ем году жизни, при еще несовершенном произношении, характеризуется относительной устойчивостью.
Вместе с тем произносимым словам свойственна динамичность, которая проявляется в том, что уже в раннем детстве происходит грамматическое изменение слов в контексте предложения. При грамматическом изменении слова его основное значение сохраняется и вместе с тем слово, как член предложения, приобретает дополнительное значение, целостность же его слухового и речедвигательного образов не нарушается.
Морфологическое членение слов, обнаруживающееся позднее, чем их слоговое членение, проявляется у слышащих детей в раннем детстве в возможности грамматического изменения слов, в дошкольном возрасте — в рифмовании, а позднее — в легком переходе от слогового чтения к чтению «по смысловой догадке».
У глухих детей на начальных этапах обучения языку формируются оптические образы слов, подкрепляемые двигательными ощущениями. От методов обучения зависит, начинают ли глухие дети приобщаться к речи с восприятия написанных, произносимых или дактилируемых слов. Написанное слово наиболее стабильный представитель зрительно воспринимаемых слов, так как в нем содержится полная информация о его фонетическом составе.
Благодаря зрительному восприятию написанных слов у глухих закладываются представления о сигнальных функциях слов и их фонетическом строе. Зрительное восприятие выполняет существенную роль в развитии речедвигательных образов слов при их формировании в условиях специального обучения.
Вначале зрительное восприятие написанных слов глухими детьми не отличается от восприятия незнакомых фигурок. В процессе обучения постепенно вырабатывается «маршрутность взора»: сперва глухой ребенок выделяет начальную и последнюю буквы слова, а по мере усвоения грамоты — все буквы, входящие в его состав (М. Е. Хватцев, 1947).
Однако в начале знакомства глухих детей с языком зрительное восприятие ими написанных слов отличается от первоначальных этапов усвоения чтения слышащими детьми. Чтение слышащих — деятельность, производная от их устной речи, это воссоздание образа звучащего слова, требующее преобразования графических символов (букв, обобщающих фонетический строй языка) в речевые звуки. Между тем у глухих детей зрительное восприятие слов, в частности написанных, представляет собой первый этап их знакомства с языком.
238
\
Овладевая речью, слышащий ребенок схватывает общий фонетический образ слова, практически членит его на слоги, затем на морфемы; точный фонетический анализ состава слова достигается постепенно при обучении грамоте. Иначе у глухих детей. Зрительное восприятие написанных слов дает глухим сведения о буквенном составе слов, которые закрепляются дактилированием и обучением произношению звуков. Запоминание графических образов слов способствует их правильному воспроизведению и
грамотному письму.
Слоговой структурой слов глухие дети овладевают в процессе усвоения устной речи, т. е. позднее, чем их буквенным составом; слоговое членение слов наслаивается на их побуквенное членение. Ограниченная речевая практика, более позднее, чем у слышащих, усвоение слоговой структуры слов задерживают и последующий этап — появление «морфологичности» как этапа развития речи, облегчающего усвоение словарного состава и возможность овладеть грамматическим строем языка. Следовательно, обучение глухих детей речи обходными путями порождает своеобразные черты в формирующихся у них образах слов; эти черты необходимо знать, чтобы, обучая глухих детей, содействовать преодолению стоящих перед ними трудностей.
Наконец, совершенно своеобразны и неблагоприятны у глухих по сравнению со слышащими, по словам А. Валлона, «купающимися в речи», условия формирования речевых навыков, так как даже при наилучшей организации обучения речевое общение глухих всегда остается ограниченным. Все это обедняет их познавательную деятельность, хотя предпосылки к развитию ее у них сохранны. Развитие действенного и наглядно-образного мышления глухих детей тем больше опережает развитие их речи, чем позднее их обучают языку; у слышащего ребенка этого разрыва нет, у него мышление и речь развиваются в значительной мере в единстве. Нельзя, однако, недооценить тот факт, что опережающее развитие мышления существенно помогает глухому ребенку преодолеть свое речевое недоразвитие: глухие дети осознанно, проявляя большую интеллектуальную активность, овладевают речью с первых шагов обучения ей.
В данном разделе мы касаемся некоторых существенных проблем, характеризующих своеобразие речевого развития глухих детей преимущественно на его ранних этапах. Эти проблемы, в какой-то мере психологически изученные, представляются нам значимыми для улучшения путей обучения глухих. Освещаются некоторые особенности мимико-жестикуляторного общения глухих; показана своеобразная роль такого вспомогательного средства развития глухих, как их обучение дактилированию.
Приводятся некоторые данные, характеризующие начальные этапы приобщения глухих к языку. Обсуждается сложная проблема овладения значениями слов, система которых в языке очень многообразна. Сообщаются некоторые закономерности,
239
 характеризующие познание глухими грамматического строя языка: изменяемости слов, построения словосочетаний, предложений. В особых главах содержатся современные данные об особенностях устной речи глухих, их письменной речи и понимания ими речи. В конце раздела затронут вопрос об отношении самих глухих к трудному и столь значимому для них овладению речью.
характеризующие познание глухими грамматического строя языка: изменяемости слов, построения словосочетаний, предложений. В особых главах содержатся современные данные об особенностях устной речи глухих, их письменной речи и понимания ими речи. В конце раздела затронут вопрос об отношении самих глухих к трудному и столь значимому для них овладению речью.
22. Мимико-жестовая речь глухих
Мимико-жестовая речь возникает у глухого ребенка как своеобразная компенсация отсутствующей словесной речи, как средство, позволяющее глухому осуществлять элементарное общение с окружающими его людьми.
Ребенок с глубоким нарушением слуха овладевает словесной речью только в условиях специального обучения и воспитания: не слыша речи окружающих, он не может подражать ей и без вмешательства слышащих взрослых остается немым. Глухой ребенок вынужден прибегать к жестам в сочетании с выразительной мимикой лица, так как он испытывает потребность общения и стремится установить контакт с близкими.
Постепенно глухой ребенок вступает в контакт с все большим кругом людей, в том числе и глухих; его жизненная практика обогащается. Накопленные наглядные представления и обобщения выражаются жестами, которые, совершенствуясь, все более и более точно отражают объективную действительность.
Жест глухих представляет собой движение руки (двух рук) и пальцев рук. Голова, корпус при жестовом высказывании, как правило, остаются неподвижными, но руки, двигаясь, нередко касаются определенным образом лица, головы, корпуса, которые таким образом пассивно участвуют в жесте.
Часто жесты сопровождаются соответствующей мимикой (выражением лица). Очевидно, что мимика при жестовом общении играет значительно большую роль, чем при устном словесном общении.
Для выражения определенных отношений в мимико-жестовой речи используются не только общепринятые жесты, следующие друг за другом во времени (линейный порядок), но и способ одновременного исполнения жестов, вследствие чего возникают определенные жестовые структуры.
Жест как элемент речи и языка отличается рядом особенностей.
1. Жест исполняется в пространстве руками говорящего, он
может быть расположен выше, ниже, ближе, дальше, правее, ле
вее от условной точки отсчета.
2. При исполнении жеста одной или двумя руками комбина
ции фиксированных положений пальцев рук и их движений могут
240
функционировать в большем или меньшем пространстве, как бы охватывая больший или меньший объем.
3. Жест, включающий в себя движения рук, а также пальцев
рук, может при исполнении характеризоваться особенностью
движения: его направлением, темпом и т. д.
4. При объединении жестов в структуру они могут испол
няться последовательно и одновременно. В последнем случае мы
имеем дело с двумя вариантами: в одном — два жеста исполня
ются одновременно, в другом — к части исполнявшегося раньше
жеста присоединяется новый жест.
Возникнув как средство общения и выполняя функцию обобщения явлений окружающей действительности, жестовая речь развивается, отражая успехи познавательно-практической деятельности глухого, вступая в сложные взаимодействия со словесной речью, которую ребенок усваивает в процессе специального обучения.
Маленький глухой ребенок, не обученный словесной речи, пользуется небольшим набором жестов.
Раньше всего возникает указательный жест. Человек, указывая на предмет, тем самым его называет, обозначает. Для обозначения частей человеческого тела (нос, рот, глаза, руки, ноги) глухой всегда пользуется только указательными жестами.
Наиболее часто жесты имитируют действия. Р. М. Боскис, исследовавшая развитие мимико-жестовой речи глухих, отмечает, что ребенок постепенно «научается не только указывать на предметы, но и имитировать некоторые действия и драматизировать некоторые события, выражая, таким образом, и соотношения между предметами» (Р. М. Боскис, 1963, стр. 102).
Для обозначения элементарного действия применяется простая его имитация, например жест «писать» напоминает процесс письма, жест «бежать» изображает бег (см. рис. 28). Этим способом обозначаются не только сами действия, но и предметы, с которыми это действие связано. Так, птица изображается движением, напоминающим полет птицы (характерное действие самого предмета, т. е. птицы), нож —жестом, соответствующим действию «резать» (т. е. действием, выполняющимся при помощи этого предмета).
Для обозначения качества предмета используется имитация переживания, связанного с этим качеством (например, для обозначения качества «кислый» лицу придается такое выражение, которое бывает при ощущении чего-либо кислого). Иногда для обозначения качества предмета указывается другой предмет, обладающий данным качеством (например, для обозначения красного цвета указывают на губы).
Другой способ жестового обозначения заключается в более или менее полном наглядном описании предмета. Жестом либо обрисовывается контур предмета (рисующий жест), либо дается пластическое изображение его (пластический жест). Примером
16 Заказ 1703 241
_
|
|

| Рис. 28. |
Рис. 29.
рисующего жеста может служить жест «шляпа», примером пластического — обозначение кровати, гриба (см. рис. 29, 30).
Исследователи жестового языка, сравнивая значение жеста и значение слова, подчеркивают, что наглядное обобщение, которое заключено в жесте маленьких глухих, не соответствует сложному обобщению, которое содержит в себе слово, выражающее понятие. Например, для выражения понятия, которому соответствует в русском языке слово прыгать, исполняется один жест, обозначающий «прыгать на одной ноге», другой — «прыгать на двух ногах»; для обозначения действия стирать жест «стирать тряпкой» будет отличаться от жеста «стирать резинкой». Одному слову русского языка соответствует несколько жестов. Эту особенность жестовои речи принято условно называть многослов-н остью (Р. М. Боскис).
Другой особенностью жестового языка является своеобразная многозначность и недостаточная дифференцированность жестов. Глухие дети обозначают одним жестом всю наглядную ■ситуацию. Жест, имитирующий движение при подметании метлой, в зависимости от контекста может обозначать дворника, метлу или само действие — мести. Многозначность жестов не препятствует жестовому общению глухих, которые в контексте разговора легко понимают друг друга.
Наряду с перечисленными выше особенностями значения жестов в сравнении со значениями слов исследователи жестового языка отмечают глубокое своеобразие синтаксиса жестового языка (В. Флери, 1835; Р. М. Боскис, 1959, 1963; Н. Г. Морозова, 1959; И. М. Соловьев, 1939, 1940; Л. В. Занков, 1940 а; В. Вундт [W. Wundt], 1901; П. Олерон [P. Oleron], 1952; В. Стокоэ [W. Stokoe], 1960; Б. Тервоорт [В. Terwoort], 1961, 1967). Последовательность жестов в высказывании глухого не соответствует последовательности слов в предложении русского языка. На примерах жестовых фраз Мальчик маленький кубики четыре иг рать, Мама чайник зеленый стол ставить видим, что дополнение стоит впереди сказуемого, название предмета предшествует на-
242 ч
|
|
Рис. 28. Жест «бежать» — имитация действия (бега).
Рис. 29. Жест «шляпа» — рисующий Р и с. 30. Жест «гриб» — пластический
Рис. 30.
званию качества, количества. Предлоги, союзы и другие служебные слова отсутствуют. Вопросительные слова обычно стоят в конце фразы (карандаши дать сколько?), отрицание следует за названием действия (я шалить нет). Таким образом, непосредственно сопоставляя язык жестов с языком слов, исследователи подчеркивают своеобразие грамматических закономерностей жестового языка.
Сурдопедагоги, считая, что выразительные возможности жестового языка ограничены, давно заметили то специфическое в языке глухих, что оказывается несопоставимым непосредственно со словесным языком. Еще в 1835 г. В. Флери писал: «Если находится в наших языках множество выражений, которые приличным образом не могут быть переведены на мимику, в сей последней также существует великое разнообразие оттенков и чрезвычайно тонких изменений, каких на бумаге выразить невозможно».
Наблюдается большая лабильность жеста (Р. М. Боскис и Н. Г. Морозова, 1959). Из двух немного различающихся между собой жестов один может обозначать действие, а другой — качество действия, что в русском языке обычно выражается наречием. Так, характер движения руки изменяется при исполнении жестов, обозначающих «бьет» и «сильно бьет» (И. М. Соловьев,
1939).