Гусева Н.Р. – Русские сквозь тысячелетия. Арктическая теория, краткий очерк
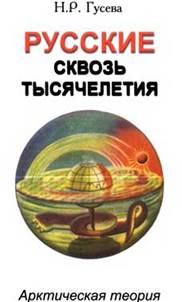
www.e-puzzle.ru
Н. Р. Гусева
РУССКИЕ сквозь ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Арктическая теория, краткий очерк
Москва 2007
Издание второе расширенное
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава I .ПРОБЛЕМА ДРЕВНОСТИ 8
Глава II. ВЕДЫ И АРКТИЧЕСКАЯ РОДИНА 15
Глава III. ПОЛЯРНАЯ ТЕОРИЯ 30
Глава IV. АРБИ, СЛАВЯНЕ.СОСЕДСТВО
ИЛИ РОДСТВО? 58
Глава V. И ЕЩЕ О ЧЕРТАХ БЛИЗОСТИ 72
Глава VI. ДРЕВНИЕ АРЬИ ДОСТИГЛИ ИНДИИ 99
Использованная
и рекомендуемая литература 112
Приложение I. Связь между русским языком и санскритом 116
Приложение II. Краткая сводка совпадающих слов русского языка и санскрита 120
Приложение III. Опыт расшифровки через
санскрит названий некоторых рек Русского Севера ... 134
Приложение IV. Арктическая родина в ведах 140
ПриложениеѴ. Рахула Санкритьяяна.
От Волги до Ганга 169

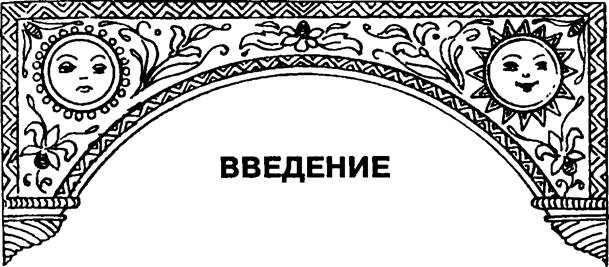

усские. История русского народа. Его корни. Место его прапредков в среде древнейшего населения земли... Многие из этих проблем ждут своего разрешения. И многие вопросы об этом ждут ответа.
Наши ученые не раз проникали взглядом в историю русских, но чаше всего ограничивались последним тысячелетием, т.е. временем распространения христианства на Руси. Спорили о датах тех или иных событий, рисовали образы князей и царей, описывали народные волнения и смуты, рассказывали о войнах, поражениях и победах. Но лишь некоторые из них пытались восстановить облик и дела русичей, сложившиеся в те долгие столетия, которые протекали до X века н.э. А ведь именно в те времена складывался национальный характер, возникали и упрочивались народные традиции и веропредставления, развивалось самосознание и формировались нормы отношения к природе, к земле и ко всему живущему на ней.
Глубочайшей древностью этого процесса можно объяснить то, что, несмотря на все преследования и гонения, в народной среде до сих пор сохраняется множество черт язычества, отраженного в праздниках, приметах, суевериях, обрядах, магических действиях. Да и не только в этом, айв произведениях многообразного народного ис  кусства. Все эти черты складывались тысячелетиями, и потому приверженность к ним обрела как бы генетический характер.
кусства. Все эти черты складывались тысячелетиями, и потому приверженность к ним обрела как бы генетический характер.
Честь и слава тем ученым, которые погружаются в глубины времен и пытаются проследить истоки и пути складывания этих характеристик народного быта, народного сознания. Уже Ломоносов, родившийся и живший до юных лет на Русском Севере, видел особенности таких древних черт, сохранившихся в жизни его земляков. А в XIX веке ряд исследователей стали писать об отражении древних времен в фольклоре, в обычаях, в речи и языке русских. Эту эстафету подхватили в дальнейшем ученые самых разных специальностей — историки, религиеведы, лингвисты, искусствоведы и, что принесло особенно ценные плоды, — археологи.
Большое внимание уделяли истории славянства — ведь русские являются самым крупным массивом в составе славян. То, что произошло в 1991 г., — разъединение трех восточнославянских народов — повлекло за собой и, вероятно, повлечет еше много тяжелых последствий.
Не было случайным то, что русский дипломат; горячий патриот и талантливый поэт Федор Тютчев более ста лет тому назад призывал: «Славянский мир, сомкнисьтес- ней». Он видел козни врагов, неоднократно пытавшихся посеять рознь между славянскими народами и очень точно определил это низкое стремление, объясняя попытки отделить западных славян от восточных: «Вам не прощается Россия, России не прощают вас» — так он обратился к нашим западным братьям.
Вопросу складывания славянского мира посвящено много трудов, но почти все их авторы не переступали предела начала I тыс. до н.э. Да и до этого предела доходили далеко не все. Уж не говоря о тех, кто считал, что славяне стали определяться как оформившиеся этносы лишь в I тыс. н.э. Так писали и о русских, о народе, который уже знал в середине I тысячелетия государственные объединения, возводил так много городов, что на Западе стали Русь именовать Гардарикой, т.е. «страной городов».
Русский народ неоднократно вел победоносные войны даже с такими сильными соседями, как Рим и Византия, умел вести торговлю со многими странами и успешно развивал давние традиции судостроения и художественных ремесел.
Каждому человеку свойственно стремление докопаться до своих корней: откуда я и мой род, мои близкие, соседи и земляки? Тех, кто живет лишь одним днем, зовут у нас Иванами, не помнящими родства. Нам интересно — кто наша родня сегодня, вчера, позавчера? И не только позавчера, но и в те далекие эпохи, когда прорастали в историю первые побеги нашего народа.
Вот этот неиссякающий в душе русских интерес и вызывает появление все новых и новых исследований, авторы которых пытаются в меру своих сил найти ответы на эти вопросы, непростые вопросы. И когда мы читаем у историков, что, например, балто-славянская общность распалась в V. тыс. до н.э., то понимаем, что, значит, славяне существовали уже издревле как группа племен. Вот об этом и пойдет речь вданной работе, и не должны мы верить тем, кто пытается отнести их появление к началу новой эры.
Автор старался здесь поставить вопрос о глубокой древности корней славянских народов, а следовательно — и русского... При этом основное внимание уделено данным языка — тех его слов, которые составляют в течение многих тысячелетий незыблемый, нерушимый его фонд. Путем сопоставления русских слов с одним из древнейших языков мира — индоарийским санскритом удается выявить глубокие и давние связи, сложившиеся в необозримой глубине времен между прапредками славян и
арьев. Закономерно привлечены здесь не только слова, но и данные ряда палеонаук, подтверждающие приводимые выводы. Автор надеется, что эти данные привлекут внимание читателя.
В заключение следует обратиться к читателям с просьбой осторожно относиться к модным и зачастую спекулятивным утверждениям, появляющимся в печати, об «арийстве» славян и о том, что мы, русские, являемся потомками и порождением арьев, тех, кто создал древние молитвенные гимны, вошедшие в сборники, известные как Веды.
Нет, эти племена, формировавшиеся в глубине эпох, могли быть взаимно близкими, соседними, даже родственными, но далеко не обязательно каждое из них было порождением другого. Поэтому нам следует осознать, что арьи развивали свою культуру и принесли в Индию (появившись там в конце III и во II тыс. до н.э.) гимны Вед, с которыми многие связывают основу сложившейся там ведической культуры, тогда как славяне формировали на своих землях другой культурно-хозяйственный тип, не имевший прямой связи с арийским в большей части своих характеристик. В силу этого не следует применять к нашей многовековой национальной культуре такие названия, как «ведическая» или «арийская».
По всем этим вопросам вы найдете здесь лишь небольшую часть тех свидетельств, которую удалось собрать автору. Хочется выразить уверенность, что неширокий пока объем поисков в решении этих важнейших исторических проблем, проводимый наукой, будет разрастаться и пополняться с каждым годом новыми данными и открытиями, честь которых будет принадлежать и русским и индийским ученым. Данную небольшую работу — это малое дополнение к веским трудам исследователей — завершают отрывки из сделанного автором перевода книги индийского историка, санскритолога и комментатора Вед, Тилака Б.Г., который отыскал в Ведах много указаний на то, что земли, где формировались племена всех предков индоевропейцев — в том числе славян и арьев — лежали за Полярным Кругом, и книги индийского историка Р. Сан- критьяяны «От Волги до Ганга», в которой прослеживается путь древних арьев из Восточной Европы на Индию (см. Приложения).
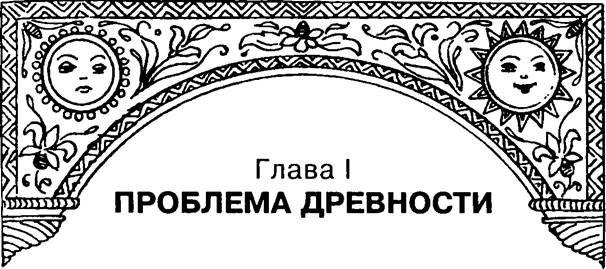

В цепи истории все звенья “Ум геловегеский хранит.
Я. ‘Jfcmpofr
кол ько тысяч или сотен лет насчитывает история человека на земле? Ответа все еще нет. Его ищут ученые всех стран и ведут нескончаемые дискуссии, не будучи в силах прийти к единому выводу. Известно, что человек существовал и в ранне- и средне- и в послеледниковую эпоху, приспосабливаясь к условиям жизни в той обстановке, которая диктовала природа. Жил, развивался, размножался, искал объединения с себе подобными. Начал создавать орудия охоты, рыболовства, а затем и земледелия. На древнейшей ступени своего развития сумел заимствовать у природы огонь и научился широко пользоваться им. И эти два момента — создание орудий и освоение огня — следует считать, как полагает большинство ученых, порогом цивилизации. Человек приручал диких животных, создавая домашние стада, учился и научился культивировать дикорастущие злаки и плодовые деревья. Жил сначала в пещерах, а потом и в жилищах, сооруженных собственными руками; по остаткам предметов материальной культуры, находимым в земле при раскопках, археологи и историки определяют периоды развития человеческого общества.
Главными этапами истории по признаку развития производства считают: палеолит (древний каменный век), мезолит (переход от древнего к новому каменному веку), неолит (новый каменный век), а затем и вплоть до сегодняшнего дня — век металла: сначала меди, затем бронзы, а впоследствии железа и разнообразнейших сплавов.
Обобщенными по времени датам этих этапов, или веков, или эпох — их называют по-разному — считаются такие: Конец палеолита — IX тыс. до н.э.; мезолит — IX-VII тыс. до н.э.; неолит — VII — начало III тыс. до н.э.; медный век или переход от неолита к бронзе — IV — конец III тыс. до н.э.;
бронзовый век — середина 111-11 тыс. до н.э.; начало железного века — первые века I тыс. до н.э.
С развитием производства складывались и новые общественные структуры — человек прошел через длительные периоды семейного, семейно-родового строя, возникновения племен-этносов, а впоследствии и племенных союзов. Племя, объединенное одним языком и осознанием единства своей территории, уже, по сути дела, было народом-этносом (греческое слово «этнос» — «народ» используется шире, так как оно более удобно для образования новых слов типа «этногенетический», «этническое самосознание» и т.п.).
Все эти взаимосвязанные и взаимопроникающие процессы протекали в разных областях земли в разное время, и не всюду еще завершились они даже в наши дни — в некоторых районах земли и сейчас существуют племена, и можно наблюдать типы племенных взаимоотношений, тогда как на большей части земной территории уже живут крупные этносы, для которых характерны и высокий уровень индустриализации и соответствующий ему уровень культуры.
Но вернемся к древнейшему периоду истории.
В течение многих тысячелетий земля периодически покрывалась ледниками. Последний из них отступил с суши около 12 тысяч лет тому назад и начался период, именуемый голоценом, в котором живем и мы. Исследователи уделяют главное внимание изучению культурного развития человечества и тем этапам его истории, которые оно прошло именно за этот период. И это вполне естественно, так как каждый народ хочет знать свою историю, начиная от жизни своих далеких предков, знать свои генетические корни, истоки своих верований и обычаев, пути сложения своего языка.
Основные сведения обо всем можно почерпнуть из открытых учеными источников: памятников письменности и находок материальных предметов, то есть остатков жилищ, утвари, украшений и т.п.
Но ведь письменность появилась так поздно, что самые ее древние памятники не прослеживаются дальше IV тысячелетия до н.э. (как, например, первые египетские иероглифы), а материальные вещи, находимые археологами, почти всегда безмолвны, и ученым приходиться угадывать, часто меняя собственные выводы, какими именно народами эти вещи были созданы. Обычно присваивают той или иной группе вещей, по признаку взаимного сходства и территориальной близости, название какой-то или такой-то культуры, чаще всего выбирая это название по месту первых находок (например, дьяковская культура — по селу Дьяково или андроновская — по селу Андроново и т.п.).
В трудах, создаваемых по принципу, который мы здесь условно назовем «ученые пишут для ученых», авторы широко пользуются и этими названиями, и сугубо научными терминами, воспринимая их без труда, но широкие крути читателей-неспециалистов бывают, как правило, не в си-

лах понять какими же этносами были созданы эти столь по-разному называемые культуры и чем они отличаются одна от другой. Поэтому здесь мы постараемся на возможно достижимом уровне популярности излагать приводимый материал. Нахождение археологических культур еще далеко не достаточно для выявления истории каждого народа в дописьменный период. Без ответа часто остаются такие, например, вопросы: на каком языке говорили эти люди? Каким богам они поклонялись? Каков был их общественный строй? Как они относились к окружающей их природе? Каковы были основы их нравственности? И т.п.
И тогда исследователи часто прибегают к методу сравнений с теми чертами быта, с языками, религией и другими явлениями культуры, которые в какой-то мере сохранились или у достоверных, или у предполагаемых потомков этих давно ушедших с земли людей, или у близкородственных им по своему происхождению групп. Разыскивают в древних памятниках устной литературы, воспринятой по наследству от далеких предков, описания, параллели и даже мелкие отдельные упоминания (много ценных указаний содержится в Ведах — сборниках гимнов и молитв, обращаемых древними арьями к их богам), досконально изучают самые старые хроники, в которых могли «зацепиться» такие упоминания и описания, сопоставляют все это с археологическими данными и из этой мозаики складываются более или менее точные картины жизни того или иного этноса в древнейшие эпохи.
Одной из труднейших задач является выяснение родины этих далеких предков и путей их продвижения по лицу земли. Откуда они пришли вте места, где археологи находят их стоянки и городища, их производственные мастерские и предметы быта, их жертвенники и кладбища?
Ряд исследователей полагает, что языковое родство следует объяснять наличием «праязыка», о котором, как счита-

ют, упоминается еще в Ветхом Завете, и при этом ссылаются на слова, которыми начинается одиннадцатая глава в книге «Бытие»: «На всей земле был один язык и одно наречие».
Предположение о праязыке приводит и к выводу о существовании на земле и некоего пранарода, носителя этого языка. Те, кто пишет об этом, чаще всего ссылаются на библейские тексты, освещающие древнюю историю еврейского народа и относящиеся только к процессу складывания этносов, носителей расового типа семитов на территории Передней Азии. В Библии эта география отражена очень четко: «Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделилась на четыре реки. Имя одной Фисон; она обтекает землю Ховила, ту, где золото. ...Имя второй реки Тихон (Геон); она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель (Тигр); она протекает перед Ассирией. Четвертая река Евфрат.»1 (Бытие, 2, 10-14).
Многие авторы книг о пранароде и его «едином праязыке не приводят слов из Библии о том, что от сыновей Иавана (внука Ноя) «населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих» (Бытие, 10, 15). Библия содержит много указаний на расселение потомков Ноя опять же по городам и по землям Передней Азии — Ниневии, Ханаану, Содому, Гоморре. И уточняются также места расселения всех потомков Ноя «по племенам их, по языкам их, по землям их, в народах их» (Бытие, 10, 5-32). И лишь глава одиннадцатая открывается словами: «На всей земле был один язык и одно наречие». Все приведенные здесь указания на существование разных народов, говорящих на разных языках, четко говорят о том, что в научных трудах неуместны ссылки на начальные слова 11-й главы Библии.
1 Библия цитируется по изданию: Москва. Синодальная типография, 1908.
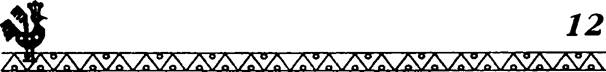
Здесь вынужденно уделяется так много места этому вопросу потому, что в таких утверждениях прослеживается весь путь развития и постоянного повторения единожды сложившегося заблуждения в трактовке Библии. Не было и не могло быть на огромном земном шаре единого пранарода равно как и его единого праязыка — ведь это выглядит логическим абсурдом, так как в эпоху раннего палеолита не было на земле средств коммуникаций, которые могли бы способствовать столь тесным контактам рассеянных по разным континентам и островам групп развивающегося человечества, чтобы все эти группы осознавали свое единство и объяснялись бы на взаимно понятном языке (они ни встречаться, ни взаимно объясняться никоим образом не могли).
В своих поисках историки, как правило, работают в пределах границ голоцена (то есть начиная с ХІІ-ХІ тысячелетие до н.э.), но при этом мало кто из них все же уходит в такую древность, как, скажем, ѴИ-ѴІ тысячелетие до н.э. Обычно ищут «родины» и «прародины» народов главным образом в областях, где памятники сконцентрированы наиболее густо, что, по общему мнению, говорит о длительном пребывании этноса или его групп в данном месте. А были ли вообще на земле такие прародины и родины? Ведь изначально люди странствовали по ее лицу, ища добычу, шли задвигающимися ледниками, когда льды отступали и таяли, обходили их края. Так что о возможности уверенно указать территорию прародины или того или иного народа, вероятно, и речи быть не может.
Археологические находки помогают пройти по следам кочевий людей и отыскать места их длительного пребывания, которые и следует принимать за первичные очаги формирования этносов, то есть более или менее крупных групп людей, уже выработавших свой, объединявший их язык и, возмжно, свой тип мировосприятия.
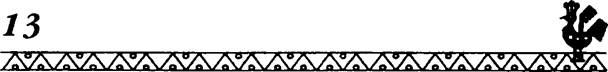
Вся поверхность земли как бы покрыта сеткой пересекающихся прямых, изогнутых или ломанных линий — невидимой для глаза схемой исторических передвижений человеческих коллективов на разных этапах их исторического развития. И обнаружение длительных совместных или близких путей кочевий или долгого совместного или близкого проживания этносов дает возможность предположить их родство или социальную, культурную и хозяйственную близость, а главное, что нас здесь немало интересует, выявить вероятность сближения наречий и сложение языка, обобщающего их отдельные группы.
Степень языковой близости и родства, сохраняющегося на протяжении тысячелетий (вне зависимости от того, что в процессе своего развития языки заметно изменяются), позволяет определить не только связи и взаимоотношения этносов в эпохи их древнейшей совместной или соседской жизни, но и время их расхождения в разные области (с допустимыми отклонениями во много столетий). Все эти материалы помогают восстановить с доступным приближением к точности картины истории этносов в допись- менную эпоху их развития.
Уже в XIX веке ряд ученых проложил широкий путь к поиску сближения и аналогий между славянскими языками и санскритом. Автор просит рассматривать предлагаемую читателю работу как посильное продвижение по этому пути и выражение почтения и благодарности всем, кто указал на такую возможность.

от, кто имеет возможность познакомиться со значительной частью научных трудов по истории, увидит, что началом ее иногда считают ІІІ-ІІ тысячелетие до н.э., связывая именно этот период с переходом человеческого общества к производящему хозяйству (речь идет о территории, получившей не столь давно название Евразии). Основным признаком или критерием производящего хозяйства признается наличие земледелия и скотоводства. От этого признака как основного большинство современных ученых отказалось или отказывается, изучая историю как единый поток развития человека, начиная с первого созданного им каменного орудия. И перед всеми стоит труднейшая задача выявления путей духовного развития человеческих коллективов, возникновения и развития их речи, складывания их взаимоотношений.

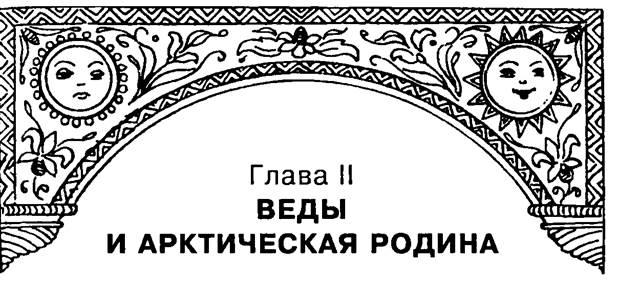
«ѴГныг есть грамотеи, историей признают только то, шо написано на бумаге. Я если Ѳ те времена к&иги ещ не писались, тогда катить»?
*Ч,ЯйтМатоѲ
В данной работе наш интерес уделяется, главным образом, возможности нахождения исходных земель и зон
расхождения древнейших предков двух групп этносов — арьев (ариев) и славян, причем в тот период, когда они уже существовали как группы племен, каждая из которых была обобщена своим языком или близкородственными диалектами, своей бытовой культурой и веропредставлениями.
Здесь следует пояснить и уточнить значение слова «арья (арий, ария)», которое стало часто неправомерно, а иногда и спекулятивно, употребляться в нашей публицистике.
В науке и литературе утвердилось это название, но следует помнить, что оно условно и относится к группе племен, говоривших на близкородственных диалектах и создавших некогда сходные формы культуры. Перевод слова «арья» как «благородный» дошел до европейцев не из Вед, а из более поздних источников, создававшихся, главным образом, жрецами арьев — брахманами. Современные индийские специалисты переводят и поясняют его по- другому, что точнее и научнее.
Это слово встречается в Ведах более 60 раз и означает, по мнению выдающихся древнеиндийских грамматистов, «хозяин», «скотовод-земледелец (вайшья)», «член кочующего племени» (последнее производят от глагольного корня «рь(ри)» — передвигаться, идти, кочевать. Словом «арья» в Ригведе определяются члены трех сословий — «варн»: брахманы, кшатрии (воины) и вайшьи, т.е. все члены племени.
Вернемся снова к проблемам нашей общей древности.
Что касается славян, то многие видят территорию их сложения в областях, лежащих к северу от Карпатских гор. Но согласиться с тем, что описываемые ими земли, средней частью которых был бассейн р. Припять, являлись прародиной славян, мы не можем в силу вышеизложенной оценки поисков «родин» и «прародин». Да, в указанных областях жили славяне, что подтверждается многими исследованиями, но как они там очутились и откуда и когда

пришли сюда их первые группы или даже, возможно, группы племен? Вот на этот вопрос, к сожалению, лишь небольшая часть историков пытается найти ответ. Наш крупнейший ученый, академик Б.А.Рыбаков настоятеьно призывает выявлять «тысячелетнюю архаику отдаленной первобытности» и, тщательно изучая пережитки древности, находить пути и возможности связать их с теми условиями, к которым восходят их корни. И не углубляться в поиски прародин народов, а уделять внимание следам их древ- нейших связей. Большинство ученых русской археолого-исторической школы и большинство лингвистов придерживается такой же точки зрения. Поэтому попытаемся и мы здесь присоединиться к поискам следов, уводящих в глубь тысячелетий, и к попыткам объяснить некоторые явления, неотложно требующие внимания тех исследователей, которые посвятили себя самым разным отраслям науки — археологии, лингвистике, палеогеографии, палеоботанике, геофизике...
Откуда, куда и когда продвигались в древности группы предков славян и арьев? Где они скапливались и куда уходили те, кто переселялся? Какие следы их контактов остались в истории? В ряду многих попыток ответить на эти вопросы не последнее место занимает теория, известная под названием полярной, или арктической.
Поскольку целью данной нашей работы является описание попыток выявить глубинные пласты истории предков славян и арьев, рассмотрим как указанная теория связана именно с этими народами. Мы постараемся не преступать допустимой меры подробности и достоверности в приводимых доказательствах и предположениях.
Почему из всей обширной семьи индоевропейских народов мы останавливаемся здесь на славянах (и конкретно на русских) и арьях? Для пояснения этого мы выбираем два повода из ряда многих других: а) максимальная
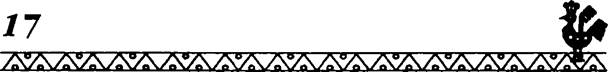
из числа всех индоевропейских языков взаимная близость русского языка с санскритом; б) сходство языческих культов славян с религией индуизма.
Как бы давно ни начали возникать эти схождения и взаимная близость, в них важно то, что они в известной своей мере дожили до наших дней, а в сравнительно недавнем прошлом, то есть в начале н.э. и в эпоху средневековья, проявлялись все еще заметно, что и нашло свое отражение в письменности и в литературе. Где и в каких условиях могли сложиться такие схождения и такая близость?
Наиболее убедительные ответы на ряд подобных вопросов дает полярная теория, которой нам и следует здесь уделить внимание. Зародилась она в умах исследователей прошлого века, когда они, один за другим, из числа тех, кто изучал санскрит — «язык индийской культуры», стали обращать внимание на содержащиеся в древнейших памятниках литературы Индии, таких как Веды и эпос, описания природных явлений, совершенно не соответствующих действительности Индии или лежащих от нее к западу стран Азии. Проследить эти описания «вниз» по ступеням эпох было хоть и трудно, но возможно, так как в религиозных гимнах Вед веками свято сохранялся каждый звук, каждое слово без права внесения в них малейших изменений. Удалось установить место и время завершения главной из Вед — Ригведы (то есть Ричведы, или Рикведы, букв.: «знания речи» — слова-синонимы «риг-рик-рич» сохраняются и сейчас в старорусском в известной всем форме «реку, речешь» и других аналогичных образованиях). Ригведа была завершена в конце II тысячелетия до н.э. в области северо-запада древней Индии. Тот факт, что до наших дней строго соблюдается запрет на внесение в нее изменений, как речевых, так и фонетических, заставляет думать, что этот запрет возник гораздо раньше, в доиндийский период жизни арьев, когда в сре-

де жрецов сложилась эта традиция бережной передачи знаний из уст в уста, от учителя-проповедника к ученику, из поколения в поколение.
Из Вед многие описания перешли в связанные с ними памятники ведической литературы (а они в Индии насчитываются сотнями) и стали известны более широкому, чем жрецы, кругулиц. В знаменитой эпической поэме «Махаб- харата», начало сложения которой тоже теряется во тьме веков, содержится ряд описаний загадочных природных явлений, которые далеки от реалий Индии. Так в чем же дело? Эти описания отличаются заметным сходством с име- ющмися и в древнейших по своему происхождению преданиях, сказаниях и поверьях всех славян. Б.А. Рыбаков в своей книге «Древняя Русь» пишет, что их истоки «нам по-на- стоящему неизвестны, так как фольклористы XIX—XX веков уловили лишь схемы сказаний, получивших еще в средневековье христианскую окраску». В какой же глубокой древности могло возникнуть такое сходство? И где? Многие из описаний, содержащихся в древнеиндийской литературе, которые принято считать загадочными, совсем не кажутся таковыми славянам, даже живущим в наше время. Их предки втечение тысячелетий наблюдали на крайнем севере эти «загадочные» явления природы (как их могут наблюдать и живущие в тех краях наши современники), а поэтому не только русским, но и некоторым другим индоевропейским народам вполне знакомо то, что в Индии считается уже только мифами или поэтическими аллегориями.
Остановимся на этих моментах как основных в построении полярной теории, а затем перейдем к сопоставлению славян с арьями по перечисленным выше поводам для сравнения: а) и б).
В полярной теории ряд загадок разрешается без особого труда, а на другие будут, видимо, найдены ответы исследователями в самом недалеком будущем.

Большинство источников видит «родину» или «прародину» арьев в лесостепной зоне Причерноморья. Это утверждение не расходится с той исторической истиной, что жившие здесь рядом с праславянами арьи, занимавшиеся главным образом скотоводством, стали волна за волной уходить в сторону Ирана и Индии в конце III — начале
II тысячелетия до н.э. при наступлении затянувшегося периода засухи. Жили они здесь до своего постепенного ухода длительное время, но значит ли это, что земли «от Днепра до Урала» можно назвать их прародиной? Нет, не значит, тем более, что и на Урале и в Зауралье жили, как считают некоторые ученые, ираноязычные арьи, тогда как другие утверждают, что они были индоиранцами.
«Около 2000 г. до н.э. обширные степные территории, простиравшиеся от Польши до Средней Азии, населяли полукочевые варварские племена; это были высокие, довольно светлокожие люди... Они приручали лошадей и впрягали их в легкие повозки на колесах со спицами. Колесницы превосходили быстроходностью влекомые ослами неуклюжие телеги с четырьмя сплошными колесами — лучшее средство передвижения, известное Шумеру той эпохи... В начале II тысячелетия... эти народы пришли в движение. Они мигрировали группами в западном, южном и восточном направлениях, покоряли местные народности и смешивались с ними, образуя правящую верхушку... Некоторые племена переместились на территорию Европы, и от них произошли греки, латиняне, кельты и тевтоны. Другие пришли в Анатолию и в результате их смешения с местными жителями возникла великая империя хеттов. Некоторые — предки современных балтийских и славянских народов — остались на своей прародине» [13, с. 7]. Не углубляясь здесь в проблему признаваемой в науке балто-славянской общности, укажем лишь на мнение известного венгерского лингвиста Я. Харматты,

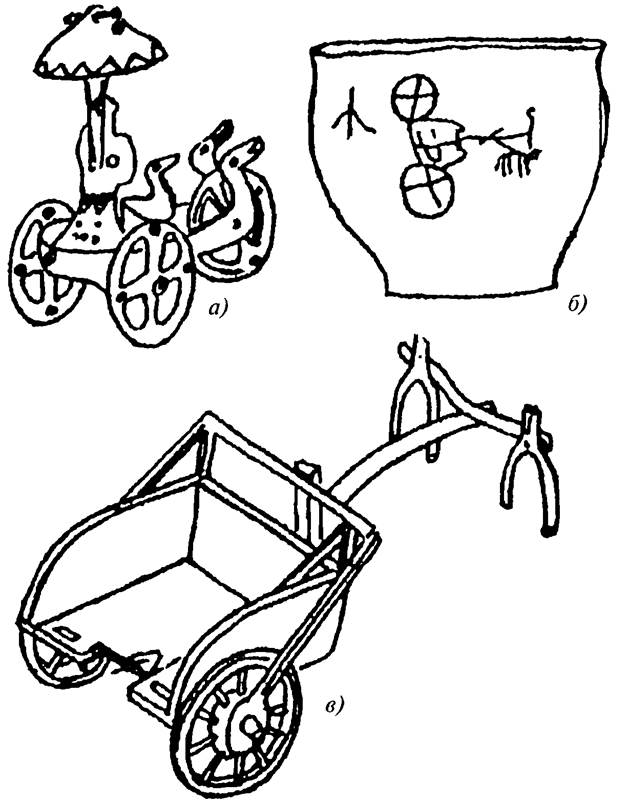
Изображения колесниц:
а) западные славяне,
б) сосуд срубников,
в) андроновцы (реконструкция).
выступившего с докладом на Международном симпозиуме «Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности (II тысячелетие до н.э.)», в котором содержалось утверждение, что «индо-иранские племена отделились от балтов и славян в начальный период развития земледелия в Европе, то есть примерно в первой половине V тысячелетия до н.э.» (Сборник под указанным названием вышел в Москве в 1981 г.). Эта дата указывает на признаваемый наукой факт наличия славян в V тысячелетии до н.э. Рыбаков Б.А., пытаясь определить место древнего расселения праславян, которое он именует прародиной, указывает, что «Наименее определенной была северо-во- сточная окраина земли праславянских племен, где могли быть неясные для нас индоевропейские племена, не создавшие прочного, ощутимого для нас единства... Вытя- нутость праславянской области в широтном направлении на 1300 км (при меридиональной ширине 300—400 км) облегчала соприкосновение с разными группами соседних племен». Далее исследователь подчёркивает историческую важность такого фактора, как «двухтысячелетняя устойчивость основной области расселения праславян» (Б.А. Рыбаков. Геродотова Скифия, с. 20—208). Здесь важно уделить внимание тем фактам исторической значимости, которые дают всем историкам ключ к утверждению наличия в указанной области праславян, начиная с рассвета эпохи бронзы, с первых веков II тысячелетия до н.э. Сюда, значит, и продвинулись к этому времени близкие предки славян и прочно заняли эти земли, поддерживая связи не только с западными, но и с «неясными» восточными соседями, в число которых входили и продвинувшиеся к югу племена арьев, о чем свидетельствует и такой фактор, как неоспоримая близость языков, и такой, как множество сохранившихся здесь (как на Русском севере) топонимов и гидронимов арийского характера.

Как уже упоминалось, историки в поисках «прародины» не только арьев, но и других индоевропейских народов, включая и предков славян, обратили свои взоры на Заполярье. Заметное воздействие на подход к этой проблеме оказала дискуссионная книга американского историка Уоррена [70], выдержавшая десять изданий (последнее — в Бостоне в 1893 году). Среди предков других народов начали в Арктике искать и предков арьев, или индоиранцев (названных так по «будущей их судьбе» — они стали, как нам известно, жителями Индии и Ирана). Внимание историков многих стран привлекла книга известного индийского ученого, знатока санскрита (как в ведийской, так и эпической и, самой поздней, классической его форме) Бала Гангадхара Тилака (1856—1920). Этот труд под названием «Арктическая родина в Ведах» был впервые издан в 1903 г., а затем неоднократно переиздавался на разных языках (перевод отрывков из этой книги см. ниже). Исследователями было выявлено сходство некоторых слов индоевропейских языков, а также ряд совпадений в их грамматическом строе близость верований и обычаев этих народов. В поиске путей «прародины» и «праязыка», некоторые ученые пришли даже к заключению, что в древности была общая арийская раса. Возникла дискуссия о возможности существования такой расы, и проявилась тенденция причислять к ней лишь кельтов и германцев. Сначала искали их родину в Центральной Азии и даже в Гималаях, что является абсурдом с точки зрения любой отрасли науки, затем связали их происхождение с «арийской расой» севера, и в результате многие вышли за рамки научных исследований, что привело в XX веке к нелепому утверждению об «арийстве» немцев и «неарийстве» ряда других народов, в том числе славян. Нам всем известно, какой трагедией завершилось это отчисление славян от «арийской расы», каким муче-

ниям и издевательствам подвергались славянские народы за свое «неарийство» и до какой нелепости доводили немецкие фашисты свои «арийские достоинства». Подобные теории не имеют никаких исторически оправданных оснований и относятся лишь к области геополитических спекуляций.
А никаких достоинств, определяемых по этому признаку, не было и быть не могло, так как нигде на земле и никогда в истории не существовало «той пресловутой «арийской расы». Не существовало и народа, именуемого арья- ми, хотя это название постоянно встречается и в индийской литературе. Повторяем, что это название относят к древнейшей общности племен индоиранцев, в состав которых входили две группы — индоязычных и ираноязычных племен. Один из известных историков-ира- нистов Э.А. Грантовский убедительно доказал в своей книге [21], что индоиранское Единство безусловно следует рассматривать как реальный исторический комплекс, а его возникновение — как результат интенсивных связей в течение определенного периода и на сравнительно ограниченной территории» (с. 346). Это утверждение может отсылать исследователей лишь к областям Заполярья и к периоду жизни этого «единства» до предполагаемого разделения на две ветви: индоязычную и ираноязычную, так как нигде больше их единство не может быть выявлено. Но под вопросом стоит и сам факт подобного разделения — наличие такого единства в глубочайшей древности пока никем не доказано и остается в области предположений. Они основаны на том, что во многом сходны гимны Риг- веды и Авесты (и по языку, и по описываемым фактам), но это может равноправно означать и указания на близкое соседство и даже родство древних групп арьев, но не обязательно на их единство — тем более, что в той же Авесте отражена вражда между расселяющимися группами

арьев. Следует помнить о том, что именно с индоязычными арьями были особенно близко связаны древние племена, формирующиеся на северных землях Восточной Европы, и в первую очередь прапредки славян, что, повторяем, доказывается значительной близостью культурного наследия и языковым сходством.
Каждый этнос, даже в эпохи своего формирования из объединяющихся семейно-родовых групп, имел название; чаще всего это было так называемое самоназвание — обычно племя называло себя на своем языке словом «люди, человек». Соседние племена именовали их по-другому, но как — этого нам знать не дано для таких отдаленных эпох. Напоминаем, что слово «арья» (которое стали часто переводить как «благородный») относилось к большой группе племен, родственных по языку и культуре. О том, что эти племена в Индии назывались по-разному, мы узнаем только из древнеиндийской литературы. Равным образом мы не знаем и изначальных названий других индоевропейских племен, включая и славянские.
Не исключено, что зарождающееся этническое самосознание какого-либо племени в эпоху его формирования могло выражаться в том, что его члены начинали считать себя более «благородными», чем люди из других племен. В результате знакомства ученых Запада с индийской литературой в европейскую науку вошло слово «арьи» (причем часто имеющее самые разные значения), а от него и такие названия языков, как индо- арийские.
Приходится, к сожалению, остановиться и из развившейся за последнее время тенденции некоторых авторов связывать арьев только с историей сложения южных славян, а в частности — украинцев. Это смыкается и со все чаще появляющимися в прессе рассуждениями о «величии арийской культуры» и о необходимости возродить целый ряд ее проявлений для того, чтобы ввести их в современ-

ную жизнь. Поскольку культура кочевых скотоводческих племен арьев ни на какую особенную цивилизаторскую миссию претендовать не может, то бесцельны и старания тех, кто пытается завысить и свою историческую роль путем приписывания себе «арийской высоты» и особенно в области духа.

Известный индийский историк Д.Д. Косам- би,опубликовавший много трудов, посвященных древней истории Индии, поясняет нам, что представляли собой арьи времени III—II тыс. до н.э.: «Археологические данные свидетельствуют, что эти конкретные арьи во втором тысячелетии представляли собой воинственный кочевой народ. Их главным источником пищи и мерилом богатства был крупный рогатый скот, вместе с которым в поисках пастбищ они кочевали по обширным пространствам материка... Арьи не были цивилизованным народом по сравнению с народами великих городских культур III тысячелетия, на которых они часто нападали, что способствовало гибели этих культур... Их главным достижением было безжалостное уничтожение барьеров между типичными для III тысячелетия небольшими замкнутыми земледельческими общинами... Арьи заимствовали все полезные для них достижения местной техники, после чего двигалисьдалыие... Опустошения, которые часто они наносили, были столь велики, что после их ухода побежденные часто уже не могли восстановить разрушенное... Арьи до своего прихода в Индию уничтожили не одну городскую цивилизацию» \37, с. 84—87].
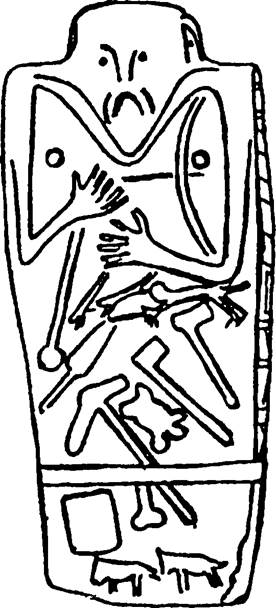
Идап, найденный подобным из курганов Украины, которого ошибочно описывают как изображение Вишну — солнечного бога арьев.
Доказанное наукой сходство многих черт славянских языков с санскритом никак не говорит о некой развитости или высоте кулььур арьев и славян, но лишь о том, что формирование первичных ядер этих этносов протекало, как полагают, на землях Заполярья в те века, когда все пра- прапредки индоевропейцев стояли на уровне развитий, соответствующем концу палеолита и началу неолита.
Видный русский языковед Ф.П. Филин считает, что «в процессе выделения общеславянского языка из балто-сла-
вянской лингвистической зоны (или иных зон) в общеславянском единстве оказались генетически разные диалекты. Не каждая диалектическая особенность обязательно моложе языковой основы, к которой она относится» [72]. Можно утверждать, что подчеркиваемая в данном сборнике близость славянских и арийских языков именно не моложе, а значительно древнее той языковой основы, которую исследователи именуют уже общеславянской, и одни из них датируют ее концом (или началом) II тысячелетия до н.э., а другие — V—IV тысячелетием.
Некоторые полагают, что славянские языки сблизились с арийскими при посредстве финно-угорских племен, как будто искони живших на нашем севере, а поэтому имевших все шансы поддерживать близкие контакты с арья- ми, расселявшимися, поТилаку, из арктических областей. Приобщившись к арийским языкам и культуре, финно- угры якобы в дальнейшем обучили всему этому славян. Трудно здесь и обсуждать подобный взгляд на историю наших далеких предков. Поданным энциклопедий и трудов по истории финно-угорских народов, их языки вместе с самодийскими входят в уральскую семью языков, не сходную с индоевропейскими. На Урале, в Зауралье и в западном Приуралье прафинно-угорские языки отделились от своего предка — прасамодийского языка и были распространены только в этих районах до конца III тысячелетия до н.э. В I1I-II тысячелетии некоторые их племена мигрировали по лесной части северных районов Восточной Европы вплоть до Балтийского моря. Значит, их контакты с приуральскими группами арьев могли привести к некоторым языковым заимствованиям, что и выявлено наукой. Но в дальнейшем их встречи и даже соседство с предками славян были, видимо, далеки от тесных контактов, так как в славянских языках практически не прослеживается заимствований из финно-угорских, осо-

бенно таких схождений, которые связаны с древнейшими периодами жизни. Поскольку к древнейшему периоду формирования всех индоевропейских народов относятся достигавшие разной степени развития их взаимные связи, а значит и взаимопроникновение ряда издревле общих или сходных слов, то, повторяем, что хотя такие схождения прослеживаются вплоть до нашего времени, наибольшее их число относится все же к славянским языкам и санскриту, что крайне важно для подтверждения глубокой древности происхождения славян и близости в те эпохи их далеких предков к предкам арьев.
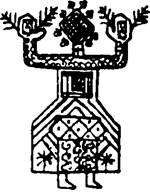
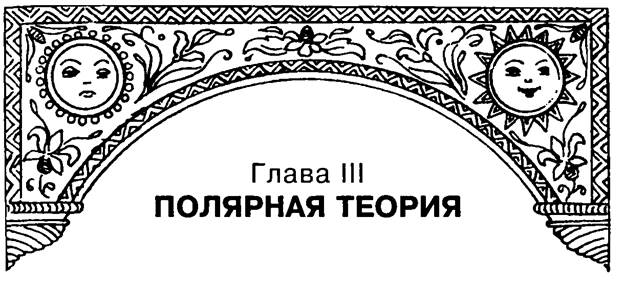
достигло дневное до полноги светило, У-fo в глубине горящего лица не скрыло.
5Ѵ/. Ломоносов

осле появления книги Тилака и ознакомления с содержащимися в ней доказательными данными ученые Запада ввели в науку расологию название «нордическая раса», определяя им те народы, чье происхождение соотносилось с областями высоких северных широт. Наряду с появлением в печати ряда трудов лингвистов и историков стали учащаться публикации. авторы которых спекулятивно разрабатывали мифы о древнем северном народе гиперборейцев, приспосабливая к этим мифам сведения о нордическом происхождении народов-носителей индоевропейских языков.
Поскольку нигде никаких сведений о гиперборейцах не было, вкратце остановимся на происхождении этого загадочного названия. Оно было почерпнуто из греческой литературы, куда его ввели те, кто в той или иной мере общался с причерноморскими скифами. Скифы рассказывали, как умели, что к северу от границ их владений жили некогда одноглазые люди, над землей которых кружились белые перья (это было, естественно, понято как воспоминание о выпадении снега), а дальше к холоду жил
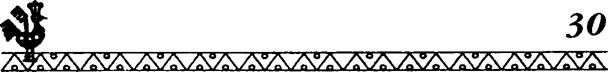
и еще кто-то, даже «выше северного ветра» [16, ІѴ\. Греки перевели это определение на свой язык: «выше» — «гипер», а «северный ветер» — «борей». И возникло название страны Гипербореи. Никто не знал и не мог знать, о чем именно говорили скифы и правильно ли их поняли — тем более что сами греки путали их со славянами, называя славянских земледельцев Поднепровья скифами-пахарями. Но название загадочной страны уже стали применять некоторые поэты Греции (напр., Аристей), а от них оно проникло и в европейскую более позднюю литературу, что и начали затем широко использовать наши авторы, даже не поясняя читателям, что такие их книги относятся к жанру фантастики. Эти идеи подкрепили и теософы, сообщая, что, по их прозрениям, гиперборейцы были титанами, от которых на Русском севере остались созданные их силами нагромождения скал и камней, подобные огромным скульптурам крайне странной конфигурации (они известны в науке под названием сеидов). Их почитают лопари, правильно полагая, что люди таких нагромождений создать не могли. А создавали их не люди — они являются порождениями уходящего в океан последнего ледника, который в своей тысячетонной массе принес их сюда и в процессе таяния ронял на землю их скопления, равно как и покрывал иногда значительные площади слоями обкатанных им булыжников.
Фантасты «гиперборейского» направления поясняют это как дела рук неких когда-то живших здесь гениальных гиперборейцев, которым они иногда приписывают даже умение летать на реактивных самолетах, и более того — создание Атлантиды. Время от времени любители организуют поисковые поездки на Русский Север (иногда опираясь на поддержку серьезных организаций, ожидающих великих открытий), но пока не было и не может быть найдено материальных подтверждений жизни этих

«гиперборейцев» в Арктике, их следов не обнаруживают даже при проведении подводных работ. Появлявшиеся же в печати сообщения о находках гигантских скульптур или каменных мостовых уже давно пояснены учеными как следы таяния ледникового покрытия.
Но обратимся вновь к полярной теории. Тилак исследовал и откомментировал Ригведу и другие памятники ведической литературы, внеся ряд исправлений в переводы западных ученых. По рождению он принадлежал к высшему сословию брахманов, знатоков и преподавателей священных знаний. Тут нужно сказать, что каждый из индийских знатоков своей древней литературы не просто знает ее язык и содержание памятников, но и с детства пропитан традицией ее толкования и расшифровки, что гораздо ценнее автоматического перевода ее слов (особенно синонимов). Очень важно и их знание тех астрологических комментариев к древним текстам, которые сохранялись в течение тысячелетий. Опираясь на широкий спектр своих знаний и, главное, своего глубокого понимания памятников древнеиндийской литературы, Тилак, имевший степень бакалавра филологических наук, раскрыл в своей книге ряд описаний и аллегорий, содержащихся в Ведах и эпосе, долго не поддававшихся исторически достоверной и обоснованной расшифровке.
Его труд помог понять и гимны другой древнейшей книги арьев (их иранской ветви) — Авесты, которая во многом крайне близка Ригведе. Признано, что Ригведа была завершена во второй половине II тысячелетия до н.э., Авеста же датируется рубежом ІІ-І или даже первой половиной I тысячелетия до н.э. Ригведе приписывается много авторов, древних пророков-мудрецов, а Авесту якобы создал один человек — Заратуштра (Зороастр). Обе книги содержат много разнообразных гимнов, молитв и заклинаний и по содержанию Авесты можно с уверенностью

судить, что она создана не одним автором и даже не на протяжении жизни одного поколения, а на протяжении ряда столетий. Но мы здесь говорим об Индии и работе Тилака, поэтому не будем углубляться в суть Авесты. Тилак дал нам ключ к гипотетическому предположению о том, где и когда были сложены самые древние гимны Риг- веды, а значит, где и когда формировались племена, известные под собирательным названием арьев. Его анализ гимнов настолько достоверен, что о полярной гипотезе следует говорить как о теории, и под этим названием она вошла в мировую науку.
В Ригведе, как и в комментариях к ней и других древнейших текстах, говорится, что арьи до Индии прошли много стран, но никто еще не выяснил, какие это были страны, как не уточнена и длительность всего периода сложения гимнов. Сколько времени он занял — триста лет, пятьсот или тысячу? Или пять тысяч лет? Ответа пока нет.
Чрезвычайно интересны в этом плане приводимые ниже в Приложениях материалы книги крупного индийского историка Р. Санкритьяяны, который в своей книге «От Волги до Ганга» проследил, как век за веком продвигались племена арьев с земель Восточной Европы в сторону Индии, как они строили свои отношения с народами, встречавшимися им на пути, а затем и с коренными жителями Индии. Этот автор датирует пребывание арьев в верховьях Волги VI тыс. до н. э., но, по, всей очевидности, его описания должны соотноситься с гораздо более ранними этапами их истории, о чем поговорим ниже.
Чрезвычайно важным вкладом в мировую науку явилось не только то, что Тилак убедительно разъяснил указания Вед на природные реалии Заполярья, но отметил тот факт, что зачатки ведических гимнов зарождались в условиях последнего межледниковья. По данным современного уровня науки о ледниковых покрытиях земли,

таких покрытий за всю историю нашей планеты было семнадцать и возникали они в разные геологические периоды. Вся человеческая цивилизация сложилась в последний четвертичный период, в кайнозойскую эру. Предпоследнее оледенение этой эры, покрывшее значительную часть суши, завершилось, по сводным подсчетам гляциологов, около 100 тыс. лет тому назад, и начался период последнего межледниковья [33; 59]. Оно длилось до 35—30 тыс. до н. э. и сменилось последним ледниковым периодом, который завершился в XII—X тыс. Его завершение не означает полного освобождения планеты ото льда — в наше время около 10% всей площади суши занимают ледяные покровы, и когда-нибудь настанет период нового обширного оледенения. А пока мы все живем в так называемую эпоху голоцена, начавшуюся после ухода последнего северного ледника в Ледовитый океан [50\.
Именно в период последнего межледниковья стал складываться тот вид людей, которые известны под названием кроманьонцев и признаны также видом, или типом, близким к современному носителю индоевропейских языков. Эти люди, чья культура медленно, но неуклонно развивалась в условиях жизни в теплом климате эпохи межледниковья, были вынуждены покидать свои кормовые участки, уходя от наступающего последнего оледенения. Судя по таким памятникам, как Авеста, они могли двигаться только в южном направлении. Да и в Ригведе указывается как нарастало в их календаре число «месяцев солнца». Путь на юг мог лежать только в направлении материковых земель, примерно ниже 60° северной широты. Поскольку похолодание наступило, вероятно, не за один год, а заняло, возможно, не менее тысчи лет, эти складывавшиеся в условиях Арктики родоплеменные группы стали постепенно расселяться в областях, не захваченных наступлением формирующегося ледника, отходя все даль-

ше к югу. Гляциологи определили, что последний ледник распространился лишь на крайнем севере, захватив территорию, не дошедшую своей южной границе даже до Балтийского моря и Валдайской возвышенности (по поводу уточнения этой границы продолжается дискуссия в среде специалистов), покрыв при этом всю Скандинавию, прибрежье Сибири и все прилегающие океанские воды.
Мамонт был одним из объектов охоты предков индоевропейцев эпохи палеолита.
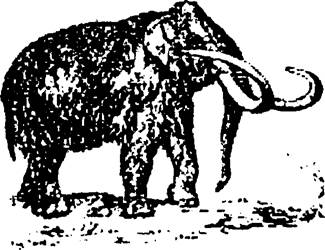
Судя по определившимся (в известной мере) границам, можно прийти в выводу, что областью перворасселения кроманьонцев, уходящих от похолодания, были земли Восточной Европы, откуда в дальнейшем они частично мигрировали на земли Западной Европы и к Черному морю, а частично, переждав последний период оледенения, двинулись снова к северу, дойдя в условиях наступившею очередного потепления до кромки Океана, залившего земли их прежнего пребывания [47; 51; 54; 59].
Ряд исследователей усматривает исходный путь индоевропейцев на земли Европы и Африки, другие полагают, что они пришли из областей Переднего Востока. — Дискуссии с ними ведутся на страницах более обширных трудов, здесь же можно только обратиться к данный антропометрии и спросить — в каких климатических условиях мог сформироваться исходный тип человека «нордической расы»? Именно в ведах и Авесте отражены и факты ухода теплого климата, и начало ледникового похолодания, и наступление «вечных» ночей и постепенный уход
людей на материк, т.е. с севера на юг. Анализ Вед, проведенный Тилаком, дает нам истинный ключ к пониманию процессов постепенного развития складывающихся древнейших коллективов пра-прапредков индоевропейцев, рисует картину освоения ими природных условий Арктики и отражения в гимнах их реакции на эти условия и на постепенные их изменения.
Важнейшим подтверждением того факта, что кроманьонцы стали селиться в северной части Восточной Европы именно в те века, когда область Приполярья охватывал последний ледник, является известное открытие русского археолога О.Н.Бадера, обнаружившего стояку охотников на реке Сунгирь вблизи г.Владимира. Возглавляемые им археологические раскопки увенчались здесь поразивших многих открытием в конце 1950-х гг., когда был найден в захоронении скелет мужчины, жившего, поданным радиоуглеродного анализа, 25 тысяч лет тому назад. По всем показателям антропометрических данных его безошибочно отнесли к представителям той северной расы, которая формировалась, как и свидетельствует Ригведа, в арктической области, и была вытеснена на материковые земли наступлением последнего оледенения. (Заинтересованные читатели могут обратиться к труду: «Верхнепалеолитический человек: экологические и эволюционные аспекты исследования», М., 2000).
Археологи открыли на Севере за последние годы много стоянок, из чего следует, что в областях Заполярья последовательно развивались локальные культуры и по мере развития хозяйства люди постепенно перекочевывали к югу, движимые поисками новых земель для своих разрастающихся коллективов, да и наступившим сновапохоло- данием, хотя и не ледниковым.
Из сводки данных, приведенных в книге [//], следует, что «...быстрое глобальное потепление климата началось

примерно за 13 тысяч лет до н.э., «субарктические леса» сместились примерно на 300 км севернее их нынешней полярной границы», а в VII—V тысячелетии до н.э. среднегодовая температура на севере не опускалась ниже нуля градусов по Цельсию. В работах наших палеоклиматологов содержатся и другие интересные свидетельства, касающиеся состояния северной природы в X—VII тысячелетие до н.э., подтверждающие факт отступления отсюда ледника задолго до этого времени. Так, мы можем узнать, что на указанный период приходится на крайнем севере «абсолютный максимум» березы, что были сосновые и еловые леса, а также росли в изобилии деревья широколистных пород в сочетании со злаково-разнотравным покровом почвы. Эти сведения содержатся в сборнике статей [47\. Все эти открытия позволяют относиться к мыслям Тилака со все нарастающим доверием и интересом.
Ведь в условиях мягкого климата арктических районов в древности, где тундра начала сменять леса лишь к
III тысячелетию до н.э., то есть после окончания длительного теплового периода (так называемого климатического оптимума голоцена), существовали все условия для развития хозяйства и культуры живших там людей, формирующихся этносов индоевропейцев, включая пра-пра-предков арьев и славян. И эту культуру уносили с собой переселяющиеся с севера племена, храня ее в своей коллективной памяти, воплощая в гимны, мифы и предания и сообщая тем народам, с которыми они встречались, соседствовали и роднились на своем долгом пути.
Особое недоумение ученых вызвало, например, то, что в ведической литературе говорится о неподвижном стоянии Полярной звезды над головой и о том, что вокруг нее описывают круги все небесные светила. Все сходились во мнении, что это выдумка Тилака. Но Е. Елачич — надо сказать, что он оказался единственным русским ученым,

который откликнулся на труд Тилака, — в своей книге [27]1 пишет, что над полюсом еще в III—II тысячелетии до н.э. стояла другая звезда — альфа созвездия Дракона, а известная нам Полярная звезда из созвездия Малой Медведицы появилась позднее как «точка упора» в космосе земной оси при новом ее склонении. Следует отметить, что культ «полярной» звезды мог сформироваться еще в более древний период (около 10 тысяч лет назад), когда земная ось указывала на альфу созвездия Лиры — Вегу, одну из наиболее ярких звезд северного полушария.
Ведическое название Дхрува, переводимое как «Полярная звезда», видимо, и относилась не к Полярной (альфа М. Медведицы), а к альфе Дракона или даже к альфе Лиры — Веге. Но важно то, что в такой глубокой древности люди уже сознательно наблюдали небо, умея фиксировать свои наблюдения и выводы в памяти поколений и связывать все это со своей практической земной жизнью и с прокладыванием своих путей по лицу земли (как это делают и сейчас моряки или летчики).
Интересно здесь привести некоторые примеры наблюдений далеких предков арьев за природными явлениями Приполярья. Мы можем их узнать только из таких памятников, как ведическая литература, эпическая поэма «Ма- хабхарата» или Авсста. Так, в индийском религиозно-пра- вовом трактате «Законы Ману» (перевод впервые издан в 1960 году) мы находим такие слова: «Солнце отделяет день и ночь — человеческие и божественные... У богов день и ночь — (человеческий) год, опять разделенный надвое: день — период движения солнца к северу, ночь — период движения к югу» [29, гл.]). Солнце, уходящее к югу на пол-
1 Елачич пересказал на русском языке и разъяснил тот новый анализ текстов Вед, который был проведен Тилаком, выразив полное согласие с его выводами.

года, могло означать только полярную ночь, равно как и уходящее к северу — незакатный полярный день. В одной из частей Авесты, в Вендидаде, тоже говорится, что для богов один день и одна ночь — это то, что есть год. Арктическим явлениям соответствуют и описываемые в древней литературе красочные картины неба, поясняемые как видимая людям борьба богов света с демонами мрака, когда всюду с неба льются потоки крови, падают золотые сетки украшений, огненно сверкает разнообразное оружие, а небо покрывают громадные стрелы с остриями из золота. По окончанию очередной битвы все это великолепие скрывается в океане. Это ясно соответствует северным сияниям.
В гимнах Ригведы воспевается и бог года, имеющий голову, одна сторона которой образована днями света, а другая — днями мрака. Равным образом в «Махабхарате» говорится, что три сотни и шестьдесят коров рож чают одного теленка, то есть 360 дней составляют год. Но его допускают сосать дважды — это тоже указывает на две половины года
Тилак обращает внимание еще и на другой интересный феномен — на наличие в древних частях Вед лишь шести божеств солнца, то есть шести месяцев в году, в мифах же более южного происхождения говорится о десяти, а затем и о двенадцати солнцах-месяцах года: этим прослеживается движение людей к югу. Первое указание совпадает с описанием шестимесячной световой (и полусветлой) половины года, а второе — с гораздо более поздним солнечным календарем: известным, наряду с лунным, всем индоевропейским народам, включая арьев и славян.
Тилак уделяет внимание и тому, что в ряде ведических гимнов воспевается период зари, которая бывает дважды в году и длится дольше 30 дней, включая и появление краешка солнца над горизонтом (такие периоды зари именуются «рассветом и закатом» дня богов). Утром заре предшествуют, а вечером следуют за ней многодневные сумер-

ки. Все это уже уменьшает длительность упоминаемой «полугодовой ночи» на 2—3 месяца и таким образом на это время повышается срок освещенности местности, пусть даже и отраженным светом (вероятно, и отраженной солнечной радиацией), что способствует удлинению вегетативного периода и укреплению здоровья людей. В Ригведе богиня зари Ушас часто воспевается во множественном числе: «Из этих многих сестер в течение (многих) дней она идет последней вслед за прежней» и еще: «Вот появилась она... красуясь незапятнанным телом... Сестра уступила свое место старшей сестре... пламенея лучами Сурьи», то есть солнца [1,124]'. Это явная картина постепенной смены сестер- зорь, нарастания длительного полярного восхода солнца.
О долгой ночи говорит и гимн, посвященный героическому богу Индре: «О Ицдра, я хотел бы достигнуть света, исключающего страх, да не погубит нас долгий мрак!» [II, 27].
Индийские исследователи Вед и эпоса, а также астрономы во многом приняли анализ Тилака и стали развивать его открытия и мысли. Поскольку же у нас нет возможности проследить и учесть их выступления и публикации, появляющиеся в разное время и в разных изданиях, остановимся на двух докладах, прочитанных на XXVI Международном конгрессе востоковедов, который проводился в Индии в 1964 году, то есть вскоре после третьего переиздания книги Тилака (1956 г.). Авторы докладов пытались внести свою лепту в подтверждение его работ.
Так, Р.К. Прахбу призвал специалистов обратить внимание на несколько чисел, которые индийская традиция признает почти обожествленными, а именно: 16, 24, 40, 64 и 86. Докладчик считает, что их следует связывать с периодом жизни арьев в арктическом регионе, где эти чис-
1 Цифры в скобках — это номера книг Ригведы и гимнов в них (Ригведа, мандапы I—IV. М., 1989).

ла могли быть соотнесены с подсчетами астрономических периодов.
Р.К. Прахбу объяснил их следующим образом: 16 означает число дней (суток) весеннего непрерывного восхода и осеннего захода солнца, 24 — число дней зари весной и осенью, 40 складывается из суммы 16 + 24, что повторяется дважды в году, 64 — это число дней долгой ночи, а 86 дней солнце светит от восхода до захода. Такие числа могли родиться, по мнению Прабху, только на отметке 86°36° северной широты, где арьи жили за 20 тысяч лет до н.э., и их родина прекратила свое существование одиннадцать тысяч лет тому назад.
Здесь уместно вспомнить и «день богов» ведической литературы, приравниваемый мифологически к «половине» года, то есть к периоду освещенности, включающему дни восхода и захода, и равному в целом 150 дням. Это приближается к данным о распределении года вблизи полюса, так как на самом полюсе день длится 189 суток, а ночь — 176 (всего 365). С указанным подсчетом почти не расходятся и данные, приведенные в докладе (на том же конгрессе) другого индийского специалиста профессора М. Раджа Рао «Арктический год ведических арьев». Он обратил внимание на то, что в древних текстах, сопровождавших обряд принесения царем в жертву белого копя, есть упоминание
о светлом времени (или периоде) года, которое длилось 260 дней. Здесь можно предположить, что в эти «дни света» включалось частично и время предрассветных и после- закатных сумерек с их отраженным светом, а в указываемый в текстах 100-дневный мрак должны входить «сумерки ночи», когда уже не видно их «мерцания». Все это в целом дает 360-дневный год, что совпадает с длительностью лунно-солнечного года.
На такие же два периода делят год и некоторые из других памятников ведической и эпической литературы. В том чис-

ле автор указал на «Тайтгирийю Араньяку», а также «Махаб- харату». В этой поэме говорится, что описываемая в ней великая битва длилась 260 дней (20 тринадцатидневных прохождений солнца через «дома» 12-ти созвездий), и что солнцестояние приходилось на конец 10-го дня его пути, то есть на 130-й день всего светлого периода.
М.Раджа Рао указывает и на такой факт индусской мифологии, как обретение богом Мартгандом (это одно из имен бога Солнца) бессмертия лишь после начала ухода арьев из зоны долгой ночи.
В Ригведе же [VII, 87, 5] о боге Варуне сказано, что «он создал себе золотое качание солнца, как качели», что говорит о видимом незакатном кружении солнца на небесах. И это же повторяется в другом гимне [VII, 88]. Здесь отражен тот факт, что только в арктическом регионе солнце подобно качелям, когда оно в течение долгого дня не скрывается за горизонтом каждые 24 часа1 и «ныряет» за него при восходах и заходах, наращивая или сокращая периоды «выныривания». Верны и описания круговых движений по небу солнца и звезд, что можно наблюдать только в тех краях. В Ригведе говорится, что созвездие Семи Мудрецов (Большая Медведица) всегда видимо высоко в небе, уже это-то никак нельзя было придумать в Индии, где оно неизменно видно лишь низко над северным горизонтом. Это данные гимнов Вед, и уже одно это говорит о большой древности космогонических наблюдений предков арьев.
В Ведах воспевается борьба бога Индры с демоном тьмы, надолго заглатывающим солнце. Индра, убив ду-
1 Это явление прекрасно описано архангельским писателем Б.Шергиным: «В летние месяцы, как время придет на полночь, солнце сядет на море, точно утка, а не закатится... смежив на минуту глаза, снова пойдет своим путем, который ходит беспрестанно, без перемены» (Запечатленная слава. М., 1983, с. 35).

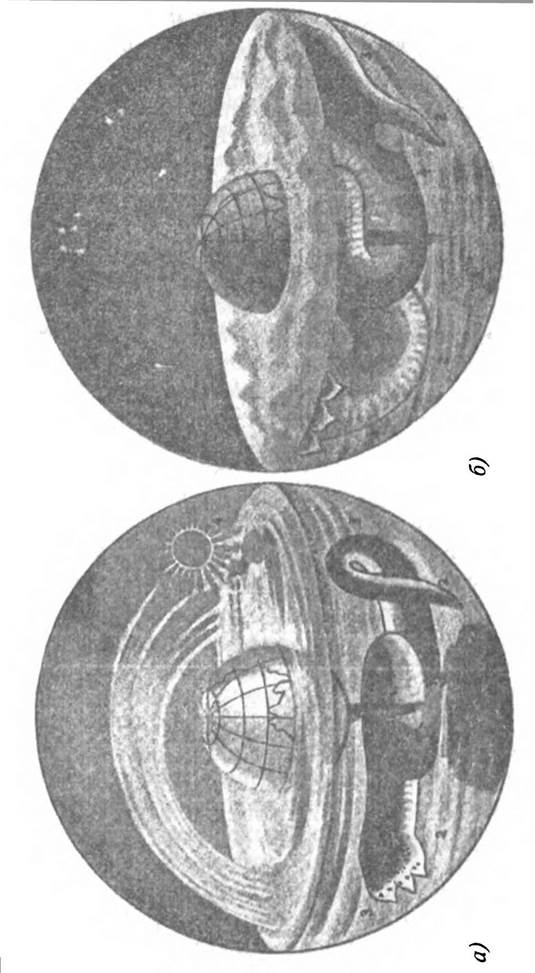
а) Индра победил змея, освободив солнце.
б) Трехголовый змей захватил солнце. Наступила полярная ночь. (Из книги Б. Г. Тшака «Арктическая родина в Ведах»)
биной демона-дракона (или змея), «породил солнце, небо и утреннюю зарю», освободил воды, которые «стояли скованные», «нашел спрятанный втайне клад неба..., замурованный в скале.., и похоронил черную кожу». Здесь поневоле вспомнишь о том, что в славянских мифах с образом Индры сближается упоминаемый в «Голубиной книге» зверь по имени Индрик, который «всем зверям отец» и «прочищает все ключи неточные» (его же там упоминают и как Индру и как Индрока). Это прямо совпадает с верой арьев в то, что Индра бьется с черными демонами, ненавидящими свет, побеждает их и возвращает к жизни воды, превращенные ими в камень, после чего реки снова бегут к морю.
Древнейшим персонажем славянского язычества является пастух, защитник людей и стад, убивающий своим посохом (вероятно, дубиной, что выглядит более правдоподобным) змея-дракона, пожирающего свет. Из этого древнейшего образа родился позднее герой света Егорий, вошедший в христианство под именем Георгия Победоносца. В фольклоре многих народов земли есть легенды о змееборце, но это не борьба за освобождение Света.
Тилак, не знавший славянских языков и фольклора, обратил, тем не менее, внимание на наличие в этом фольклоре такого персонажа, как Кощей, поглощающий свет и жизнь, и на описание подвигов светлого героя, освобождающего жизнь и солнце.
В результате долгих тысячелетий, в течение которых предки арьев и славян развили столь много общих черт культуры, что славянское язычество являет собой неисчерпаемый, хотя и крайне слабо изученный, запас знаний
о древнейшем периоде нашей истории, знакомиться с которым мы теперь можем по многим параллелям, сохранившимся в индийских устных и письменных источни-

ках1. Следует обратить внимание и на указания в ираноязычной Авесте, связанные прямо или косвенно с северными областями. Одним из таких указаний можно признать сведения, содержащиеся в гимне Видевдата, посвященном «звезде блестящей Тиштрия», которая восходит из моря Ворукаша (это море, подобно «молочному океану» Ригведы, некоторые исследователи предположительно соотносят с Ледовитым океаном) и стоит неподвижно и неизменно «над горою, стоящей посредине на море Ворукаша»; ее почитают наравне со «звездами семизначными», то есть с созвездием Большой Медведицы (которая из южных стран бывает видна лишь низко на северном небосклоне); наряду с ее описаниями упоминается и ветер, гонящий дождь, и туман и град; эту звезду ничто не может повредить и предать ее гибели. Мы останавливаемся здесь на воспевании этой звезды, так как в Индии до наших дней сохраняется культовое почитание Полярной звезды, и даже всемирно прославленный памятник индо-мусульманской архитектуры — мавзолей Тадж Махал в г. Агре построен с таким расчетом, чтобы шпиль на его главном куполе всегда как бы упирался в Полярную звезду, что очень четко видно, когда ночью стоишь перед входом в это здание.
Сама география Авесты говорит о том, что продвижение древних племен арьев было ориентировано с севера на юг: европейская роза ветров как бы перевернута в Авесте на 180° — считалось, что юг является передней стороной, север — задней, запад — правой, а восток — левой.
Еще одним указанием на северную «прародину» может служить упоминание в гимне Хварно горы (возвышенности?) Удрья или Выдрья, то есть «обильная выдрами», которые на юге, как известно, не водятся. Равным образом,
1 Ниже будет приведена таблица схождений в культовой терминологии славянских язычников и индусов.

богиня реки Ардхви-Сура носит накидку из трехсот шкур бобрих, а некий Урупи (гимн Хварно) носит лисий мех1. Нельзя обойти вниманием и то, что в Авесте века измеряются не летами, а зимами: И царству Йимы настало триста зим и стало тесно людям и скоту. Тогда Йима «выступил к свету в полдень на пути солнца» и расширил свою страну, где люди жили шестьсот лет, а затем снова расширил страну в сторону Солнца и жили в стране девятьсот лет (итог: срок продвижения к югу равнялся 1800 годам). Сходится с индийскими источниками и упоминание в Авесте о том, что «одним днем казался год».
В Авесте есть и воспоминания о том, что родина арьев была некогда светлой прекрасной страной, но злой демон наслал на нее холод и снег, которые стали поражать ее ежегодно на десять месяцев, солнце стало восходить лишь один раз, а сам год превратился в одну ночь и в один день. По совету богов люди ушли оттуда навсегда.
Да, ушли. Но не все же, и не навсегда. Оставшиеся выстояли наступившее после теплого периода похолодание, приспособились к нему и жили, да и живут, как известно, там и сейчас.
Ввиду того, что археологические раскопки на крайнем севере Восточной Европы производились слабо, мы не знаем, когда там стали разводить скот, но в древних гимнах Вед постоянно упоминаются коровы и принесение их в жертву богам. Возможно, к югу стали передвигаться
1 Нам неизвестно, можно ли прямо связывать эти указания Авесты с периодом ведения арьями древнейших форм охотничьего хозяйства, но в Ригведе говорится, что три определившихся в глубокой древности изначально социальных группы различались, по своей одежде, предписываемой нормами обычного права, а именно: одеждой жрецов-брахманов была шкура черной антилопы, воинов-кшатриев — шкура оленя, а рядовых общинников — вайшьев — шкура козы.

люди, уже знавшие занятие пастушеским скотоводством. Например, об Индре постоянно говорится, что он очень любил напиток под названием сома, и описывается его приготовление, в котором явно проскальзывают указания на то, что дело тут не обходится без молока и процесса возгонки — это указывает на молочный самогон. Говорится, что прибавляют сок какого-то растения, но все называют разные: то коноплю, то — чаще всего — эфедру1, а то и мухоморы, что для большинства неприемлемо (глагол «су» на санскрите означает «истекать, возгонять», и его употребляют в описаниях приготовления сомы). Возможно, этот вид сомы из молока древнее плодоовощного самогона, который стали изготовлять уже в более южных районах (таких, например, как обширная область Трипольской культуры, созданной в Причерноморье группой индоевропейских племен).
Здесь необходимо подумать и о другой возможности «опознания» этого напитка, этого сомы, суть и содержание которого до сих пор четко не определены специалистами. Если допустить, что его изготовляли из молока, то указания на этот факт в Ригведе выглядят слишком расплывчатыми, и западные ученые скорее уверяют в этом друг друга, чем это ясно подтверждается в гимнах. Наиболее полный санскрито-английский словарь [<?/] указывает, что сок некоего вьющегося растения разводился водой, и еще упоминается смесь с мукой и топленым маслом. Указание на смесь опьяняющего напитка е маслом вызывает большие сомнения, и невольно приходит на ум, что речь идет о снятии опьянения какой-то жирной закуской. Сомнения не вызывают толь-
1 Содержащейся в этом растении эфедрин крайне вреден в больших дозах для здоровья, так что упоминаемое в ведической литературе массовое его испитие членами племени вряд ли могло иметь место.

ко бесчисленные упоминания в гимнах хмельного воздействия сомы.
Взглянем на эти два слова «хмель» и «сома» — сочетание в них корневых согласных «хм» и «см» абсолютно идентично. Поскольку мухоморы вообще не растения, а эфедра не вьется, вспомним, что хмель завивается вокруг любой подпорки и в частности вокруг деревьев. И именно хмель является тем бродильным веществом, которое вызывает в воде, смешанной с мукой или зерном, процесс превращения ее в алкогольный напиток, именуемый в западных странах пивом (или элем). Может быть вопрос — а с каким зерном могли ригведийские арьи смешивать бродильные вещества? Вспомним, что в ту эпоху межледниковья, о которой мы здесь ведем основной рассказ, царил на крайнем севере очень теплый климат, и самой северной злаковой культурой является, по указанию словаря ВДаля, ячмень, т. е. тот самый ячмень, на котором почти повсеместно заваривается пиво.
Вспомним и о том, что в двухтомнике «Ведический индекс слов и предметов» [ 77, с. 475] указывается, что уже в XIX в. такие выдающиеся санскритологи, как Макс Мюллер и Рад- жендалала Митра, указали на сходство слов «сома» и «хмель», но другие ученые как-то не обратили на это внимания. Нам же мимо этого разительного совпадения проходить не следует, тем более что оба указанных специалиста полагали, что этот напиток мог быть некой разновидностью пива.
Возможно, арьи знали три способа изготовления опьяняющих напитков. О том, что одним из них мог быть некий самогон из прокисшего молока, говорят и неоднократные упоминания в IX мандале Ригведы (в которой сосредоточены все описания сомы) не только о молоке, но и иногда о кислом молоке: «Соки сомы, смешанные с кислым молоком, потекли через цедилку» [IX, 63, 15], а также: «Соки сомы, смешанные с кислым молоком, силой

вдохновения овладели молитвами» [IX, 22, 3].Об этом же, возможно, говорят и постоянные упоминаний об истека- нии сомы по каплям, равно как и то, что сома может гореть: «Зажженный господин со всех сторон... ярко сверкает» [IX, 5,1]. Но оставим это и обратимся к другому предполагаемому варианту — к пиву.
Мы узнаем, что «Сок украшается ячменем» [IX, 68,4], излившись после отжимки (вероятно, на эту основу) и начиная бурно бродить в деревянных сосудах. Вот этот процесс брожения хмельного напитка описывается почти во всех гимнах как рев, гром, клокотанье и т. п., а также неоднократно говорится, что он течет потоком через цедилку (сито). Это определение «поток» явно не совпадает с упоминанием вытекания по каплям, и можно полагать, что речь идет о другом виде напитка. Эта цедилка, как там сказано, делалась из овечьей шерсти, а еще упоминается и пропускание жидкости через солому. Забродивший напиток давал обильную пену, бурно кружась в сосудах. Из всех таких описаний и упоминаний можно сделать предположительный вывод, что пиво такого рода изготовлялось самым примитивным древнейшим способом, подобным тому, каким оно до самого недавнего времени готовилось в домашних пивоварнях в русских деревнях, когда солому и сито из шерсти использовали для фильтрования сусла или для очистки напитка после брожения смеси хмеля с дробленым зерном [49\.
Упоминания в Ригведе об использовании жара для прогрева смеси трудно понять — ведь там говорится о деревянных сосудах. Но не исключено, что и арьи в свое время делали, как в деревнях принято, — прогревали смесь до кипения, опуская в нее раскаленные камни (как в деревенских банях иногда греют котлы с водой или как пропаривают бочки для засолки капусты).
В одном из новых изданных в Индии словарей [82] приводится слово «явасура», которое переводится как «пиво»
и поясняется, что это «пьянящий напиток из ячменного зерна». Слово «ява» употребляется в Ригведе очень широко, определяя в ней как ячмень, так и другие виды злаковых зерен (в Индии для изготовления пьянящих напитков стали использовать даже рис, эту южную культуру). Память о соме как ритуальном напитке и сакральное к нему отношение ясно проявляется в памятниках литературы I тыс.до н.э. Так, в древнем кодексе права, в «Артха- шастре» [ 7] можно найти указания, относящиеся к соме. Например, царь должен был предоставить брахманам леса для разведения сомы (с. 55), растение «сомавалка» относится к ценным породам [с. 105], рощи для растений сомы объявлялись священными [с. 183[. В другом памятнике «Законы Ману» [29] напиток сома считается жертвенной пищей [с. 75], сома является жертвенный напитком [с. 231] и т. п. В текстах попадаются указания, что человек, выпивший слишком много сомы должен «очищаться коровьим маслом», что, возможно, прямо перекликается с вышеупомянутым гимном Ригведы о применении масла при испивании сомы, чтобы не опьянеть.
(Сомой в современной Индии часто в переносном смысле называют любой пьянящий напиток, но чаще всего пиво и самодельную водку суру, которую запрещается традицией использовать для жертвоприношений).
Традиция пивоварения служит еще одним звеном в сопоставлении культур, выработанных дальними предками арьев и славян, хотя и не только славян, но, видимо, и других племен индоевропейской семьи. Наши земли, по которым после XII тыс.до н.э. начали постепенно расселяться, двигаясь к югу, и скотоводы-арьи и, земледельцы-славяне, были областями их издревле налаженного обмена многими элементами материальной и духовной культуры.
Археологические раскопки, проводимые в основном в центральных и южных областях Восточной Европы, дали

возможность ученым проследить два исторически последовательных, взаимно связанных этапа развития этнических групп, населяющих эти территории.' Главным признаком, определяющим эти этапы, был признан способ погребения как кремированных, так и некремированных покойных. Если в IV—III тысячелетии до н.э. их останки погребали в ямах, то во II—I тысячелетии эти останки клали в закопанные (полностью или частично) бревенчатые срубы или в наземные небольшие избушки, как и избушки, поставленные на столбы (отсюда в наших сказках «избушка на курьих ножках»). Первый из этих этапов получил название ямной культуры, а второй — срубной.
Исследователи отмечают, что древнеямная общность занимала обширные земли лесостепной и степной Европы от запада Черного моря и Белоруссии до Урала и была неоднородна по этническому (и языковому) составу. В ее восточных областях жили и носители так называемого тохарского, то есть индоевропейского диалекта [19; 44]. Выявлено, что в ямных погребениях III тысячелетия до н.э. к востоку от Южного Урала обнаруживаются черепа европеоидного типа, что говорит о миграции на восток древних «ямников».
Третьей своеобразной культурой принято считать приуральскую и зауральскую культуру арьев, получившую название андроновской, как уже упоминалось.
Хозяйство народов, создавших эти культуры, было высоко развито: на хорошо обводняемых равнинах они занимались земледелием в меру запросов своего хозяйства, в предгорьях же и на просторах Евразийских степей ведущей отраслью было скотоводство, характерное для хозяйства древних арьев.
Известно, что уже в V тысячелетии до н.э., судя по находимым в погребениях останкам костей животных, предки славян и арьев имели стада крупного и мелкого рога-

того скота и, главное, лошадей'. Развитие коневодства наряду с умением конструировать конные повозки и колесницы, способствовало во II тысячелетии до н.э. сравнительно быстрому уходу арьев на восток [59-а].
Тилак пишет также, что арьи разделились на две ветви, но опять же названий этих ветвей не приводит, а упоминает только о раздельных божествах, которым стали поклоняться и приносить жертвы и те и другие. До сих пор точно не определено, когда именно и где они разошлись (если не были изначально разными).
Тилак мог иметь в виду разделение древних арьев именно на индоязычных и ираноязычных (первое название мы применяем здесь условно, так как в нашей науке оно пока не находит себе места). Утверждая, что приуральские, уральские (как их считают, южноуральские) и зауральские племена арьев-андроновцев были ираноязычными, многие из исследователей упускают из вида упоминавшиеся уже выше поразительные схождения между славянскими языками (да и не только языками, но и другими явлениями культуры) и санскритом, как древним «предком» современных индоарийских языков. Некоторые вообще не находят места для предков славян ни в ямной, ни в срубной культурах.
По всей видимости, именно индоязычная часть древней общности арьев спускалась к югу параллельно (или вперемешку) предкам славян по землям Восточной Европы, почти не переходя за пределы Волги.
Судя по данным языка, единственно доказательного хранителя исторических фактов, пронесшего свои досто-
1 А. Бэшем в своей книге «Чудо, которым была Индия» прослеживает пути продвижения арьев на восток и на юг Черного моря в земли, на культуре которых сказалось заметное влияние арьев. Широко освещены в литературе факты прихода группы арьев в страну хеттов и влияния на их хозяйство коневодческой культуры арьев.

верные свидетельства через многие тысячелетия, картину передвижения с севера древних предков индоевропейцев можно себе представить как медленно движущийся поток, в котором вдоль восточной стороны (как бы вдоль Урала) двигались, видимо, группы индоязычных арьев, по средним землям Восточной Европы проходила волна славян, достигших впоследствии, как и арьи, Черноморского побережья, западнее этих групп лежали, вероятно, пути балто-славян, а крайней западной группой были предки будущих народов Западной Европы. Как бы примитивно ни выглядела эта схема, ее подтверждают факты дальнейшего расселения и исторического развития этих народов.
Если и сегодня вдоль южного побережья Балтийского моря в составе ряда западноевропейских народов сохраняются группы славян, то следует думать, что часть их продвигавшегося к югу массива могла отойти наряду с балта- ми к западу, обогнув это море. Задержимся здесь на миг и вспомним, что в трудах исследователей уже неоднократно подчеркивался тот факт, что варяги, призванные новгородцами на княжение, были не скандинавами и не германцами, а славянами из прибалтийской ветви. Их земля лежала у реки Неман, которую Ломоносов называет Руса, а летописи — рекой Русс, указывая, что «Словснск язык и Русскый един», а это означает, что варяги из Порусья, т.е. варяго-русы, были родственны новгородским славянам. Нет возможности восстановить пути и последовательность всех подобных древнейших передвижений, но, например, приход предков индоевропейцев к Черному морю засвидетельствован фактом расцвета в IV—III тысячелетии до н.э. хорошо изученной Трипольской культуры на северо- западном его побережье.
Нам важно посильное выявление древнейших связей дальних предков арьев со столь же отдаленными по времени

предками индоевропейских народов и (что для нас представляет особый интерес) предками славян. Точнее же будет их назвать не предками, а генетическими прапредками, как и следует воспринимать все упоминания о них в этой работе там, где речь идет о приполярном периоде их жизни.
Исследователи обнаружили в предгорьях Приполярного Урала и вдоль русла Печоры и ее притоков пещеры, которые служили в течение долгих веков молельными капищами. Раскопки выявили наличие в них инвентаря, указывающего на жертвоприносительные церемонии. В состав таких находок входят костные останки домашних и диких животных, а также наконечники стрел и копий, скребки и ножи, осколки керамических сосудов. Останки домашних животных (коров), ножи и керамику относят к раннему медно-бронзовому веку (конец III — начало II тысячелетия до н.э.) и предположительно связывают эти находки с расселившимися здесь предками финно-угорских народов, им же предположительно приписывают и многие каменные и костяные орудия охоты и рыболовства. Но при этом четко указывают на возможность унаследования этих вещей от предшествующего периода неолита, но не датируют их, сообщая лишь, что они составляют подавляющую часть находок. В описаниях также говорится, что в самых глубоких слоях почвы пещер обнаруживаются кости животных плейстоценового периода, а значит, пещеры не являются поздними карстовыми образованиями, и такой древний инвентарь мог принадлежать и более ранним их посетителям или жителям. Наличие обнаруженных костей древнейшей дикой лошади тоже, возможно, следует связать с развитием коневодства у арьев в V—IV тысячелетии до н.э. Описание пещер и их инвентаря см.: Канивец В.И. Канинская пещера, М., 1964).
Следует указать, что выявляемые наукой культурные и языковые схождения между финно-уграми и арьями от-

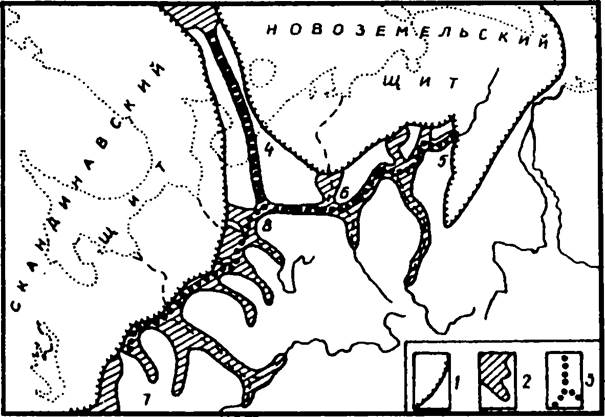
Карта приледниковых рек по А. Сейбутису.
Предполагаемая локализация ригведского гидрографического комплекса Синдху:
1 — ледниковые покровы померанской (вепсовской) стадии;
2 — приледниковые водоемы (по Д.Д. Квасову);
3 — предполагаемый поток Синдху; местоположение совре
менных топонимов;
4 — Индига;
5 — Инта;
6 — Индус;
7 — Кубена;
8 — Кыма.
носятся к древним контактам с зауральскими и уральскими ирано-язычными арьями, известными под названием андроновцев (прямыми потомками которых признаются скифы-кочевники Юго-Восточной Европы). В науке существует предположение о том, что арьи появились в Иране и Индии из областей Передней Азии, но оно не выгля-
Ag^’-ABA' ДВА ДУД ДВА ДВА АДА АОЛ ЛИЛ "ДВЛ ЛВЛИЛ
р\/ nVо\/oVqVaVaVaVoVпѴ/c\/n\/o\XaVoVaVaVftVaVnVqVaVn
дит достаточно обоснованным, так как даже такие явления природы, которые описаны в древнеиндийской литературе (уходящей своими корнями в глубину тысячелетий), не прослеживаются в указанных областях. По данным антропологии, наш ведущий ученый В.П. Алексеев также решительно присоединялся кточке зрения, что прародина индоевропейцев находилась на севере, а не в Азии [4\.
После появления книги Елачича в России не выходило из печати других откликов на труд Тилака — полярная теория не привлекла широкого внимания исследователей. Монографии автора данной работы [22,23,24] можно, пожалуй, считать первой у нас попыткой дать расширенное толкование его труда и подкрепить его утверждения ссылками на работы археологов, историков и лингвистов, освещающих прямо или косвенно проблему возможности связать корни индоевропейцев с крайним севером). Эта попытка нашла свое подтверждениев работе литовского ученого А. Сейбутиса [55].
Этот автор датирует максимум ледникового оледенения 25—20 тысяч лет тому назад, указывает, что в это время племена индоевропейцев сначала расселились на севере Русской равнины, а впоследствии началось перемещение оттуда групп людей. Он признает, что Веды «были сочинены далеко на севере». И в Ригведе и Авесте есть описания природы этих земель. Он указывает также, что расположение и названия рек, упоминаемых в Ригведе, можно возвести к гидрографической картине Русского севера в эпоху отступления последнего ледника.
Здесь необходимо указать на неоднократно опубликованные материалы исследовательницы Русского Севера С.В. Жарниковой, в которых она прослеживает элементы сходства и прямого совпадения целого ряда названий русских северных рек с санскритом. Ее статьи были помещены в книгах [23; 24\ и в монографии С. Жариковой «Золо-

тая нить» (Вологда, 2003), в которой она пополняет ранее найденные схождения (Приложение III).
Археолог Н. Членова не соотносит свои материалы с книгой Тилака, но приводит некоторые данные, прямо или косвенно поддерживающие его соображения: «В настоящее время есть веские основания предполагать, что люди срубной и андроновской культур были иранцами по языку». И далее она пишет, что «наиболее важные совпадения ареалов срубной и андроновской культур с ареалом древнеиранских и индоарийских гидронимов, проникновение... срубно-андроновских памятников далеко на север, от Мокши и Камы до верховьев Урала» (Волга и Южный Урал в представлениях древнейших иранцев и фин- но-угоров во II — начале I тысячелетия до н.э. Советская археология,№ 2,1989).
Упомянутые здесь подобные указания на север или приближения к таким указаниям дают право надеяться, что рано или поздно материалы книги Тилака займут достойное место в работах наших отечественных исследователей.

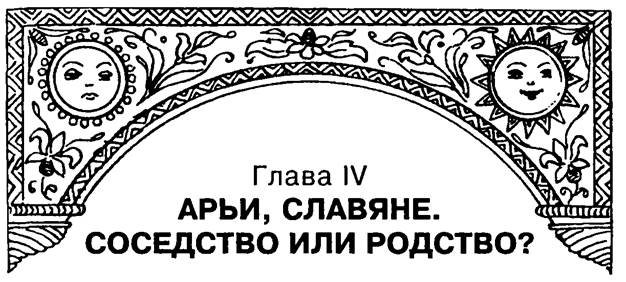
‘Но в 'Евангелие от ‘Иоанна сказано,
гто слово — это Ъог.
У-(.!ГуМиле&

ротославянские и арийские племена, вероятно, переселялись, так сказать, рядышком, будучи наиболее восточными группами всего формирующегося индоевропейского массива.
«Группы людей, переносивших индо-европейский язык в новые страны либо путем завоевания, либо путем колонизации, должны были составляться, как это обыкновенно бывает, из членов различных родов, живших в разных местах и имевших вследствие этого несколько различные говоры» — так писал А. Мейе [43]. И дальше: «Нет такого известного в настоящее время языка, древнего или нового, который мог бы быть присоединен к индо-европейской группе... С течением времени индо-европейские языки стали все менее и менее походить друг на друга; это произошло отчасти от их независимого развития, но также и от различия исторических влияний, которые они на себе испытывали» [43, с. 385, 435, 437].
Выявление наукой замечательного свойства языка — изменяясь, оставаться самим собой — помогает раздвинуть рамки познаваемой истории. Свидетельства языка

неоценимы и в области изучения прошлого славян», — так пишет один из ведущих наших лингвистов О.Н.Трубачев. Следует добавить — не просто прошлого, а глубокого прошлого. Язык сохраняет в себе слова, зарождавшиеся на заре человеческой речи и несет их сквозь века, как и новые формы, накапливая свой золотой фонд для всех грядущих поколений. Это — бесценное наследие минувшего и на нем можно обнаружить отпечатки всего, что пережил народ за долгие века своего развития, всего, что он помнит, и то, что уже активно не осознает, но что существовало в далеком прошлом и сохраняется в языке. И в том числе сохраняются следы его встреч с другими этносами, повествующие иногда о неожиданных для наших современников и слабо изученных явлениях истории. Ветречи и контакты порождали общность или сходство многих понятий и, соответственно, слов, отражавших эти понятия, и грамматических форм, которые показывали изменяемость понятий, представлений и действий.
Языковеды, изучая эти процессы, открывают порой такие факты, в которые трудно поверить, находят древнюю близость тех народов, которые история развела в разные стороны земли. Эти народы попали в различные климатические условия, стали вести совсем разные формы хозяйства, изменилась и их внешность, и обычаи, и вера, а их языки продолжают хранить память о далеком прошлом, общие или сходные слова, некогда бывшие в их употреблении.
Иногда эту память можно выявить лишь путем тщательных и сложных научных исследований, проводя в языках буквально «археологические» раскопки, а иногда нужно только внимательно вглядываться и вслушиваться в современную живую речь, чтобы обнаружить эти сходные или даже общие слова. Тем, кто изучает чужие языки, часто просто бросается в глаза такая близость и одинаковость,

причем это, конечно, не относится к поздним заимствованиям, вроде технических или медицинских терминов.
Нас здесь интересует удивительное, почти до полной неотличимости, сходство между славянскими и индоарийскими языками, как современными, так и, главное, древнейшим из них — санскритом. Языковедами подсчитано, что наибольший процент таких близких слов приходится именно на славянские языки, а затем, так сказать, во вторую и третью очередь, — на другие европейские, тоже входящие в семью индоевропейских языков.
В иранских языках, отделявшихся, возможно, в более поздний период истории от взаимно близкой массы древнеарийских диалектов, тоже обнаруживается много общего со славянскими языками. Можно ли возводить эти схождения к самой древней эпохе общеарийских диалектов или они являются результатом контактов с уже выделявшейся из этой общности иранской ветвью, мы не знаем. Контакты эти были тоже достаточно долгими и тесными на восточных окраинах формирующегося славянского мира, и ряд ученых связывает их с андроновцами. Уже упоминалось о том, что немало очагов этой культуры обнаруживается в области к западу от территории ее основного распространения, т.е. к юго-западу от Урала.
Скифы, которых многие ученые считают потомками ираноязычных арьев, поддерживали близкие связи со славянами. Открыто и их физическое сходство: антропологи пишут, что поляне, т.е. группы поднепровских славян, обнаруживают значительное сходство со скифами, судя по промерам костяков, найденных в соответствующих погребениях. А эти скифы по своим антропологическим особенностям восходят к местному населению эпохи бронзы — ко II тысячелетию до н.э. Это говорит о том, что скифы — прямые потомки ираноязычной ветви арьев — представляли собой часть местного славяно-арийского тес-


Скифы. Изображение на скифском металлическом сосуое.
нейшего соседства, имели во многом общие интересы и издревле поддерживали брачные контакты со славянами.
Это подтверждается и исследованиями нашего выдающегося лингвиста В.А. Абаева, который пришел к выводу, что: «...по количеству и весу скифо-славянские изоглоссы далеко превосходят сепаратные связи скифского с любым другим европейским языком или языковой группой» [У].
В этой же работе говорится, что срубная культура (датируемая большинством ученых II—I тысячелетием до н.э.) являлась «протоскифской», с которой во второй половине II тысячелетия до н.э. непосредственно соприкасалась местная праславянская культура.
О чем это говорит? Ни одна культура, т.е. сложный комплекс хозяйственных навыков, общего языка, обычаев, веропредставлений, народного искусства, не может возникнуть из ничего и за короткий срок. Значит, и та культура, которую именуют праславянекой, складывалась в течение тысячелетий.
Для нас не менее важно и указание археолога А.И. Те- реножкина, что к западу от Днепра в I тысячелетии до н.э.
селились земледельцы, которых греческие авторы именовали скифами-пахарями, не будучи в силах отличить ско- товодов-скифов от родственных им земледельцев-славян. Культура пахарей-славян часто называется в книгах скифообразной славянской культурой. Этот ученый относит уже сложившуюся славянскую культуру к началу I тысячелетия до н.э. [63-а].
Не только по его убеждению, но и по убеждению других ученых, на время вычленения славянской общности указывает обнаруженная археологами среднеднепровская культура. Во II тысячелетии до н.э. завершался отход арьев на восток: индоязычная ветвь, путь которой, занявший не одно тысячелетие, пролегал по Восточной Европе и Южному Приуралью на Индию, прошла, видимо, раньше, ираноязычная же ушла у Ирану позже, но потомки арьев — скифы — оставались на землях северного Причерноморья до первых веков н.э. Как мы видим, некоторые их группы были неотличимы от славян до такой степени, что греки их путали.
Одним из самых выдающихся научных открытий последних десятилетий было доказательное утверждение ведущего нашего лингвиста О.Н.Трубачева о том, что индоиран- цы (арьи) заселяли вплоть до середины II тыс. до н.э. обширные области северночерноморского побережья, восточное Приазовье и, главное, весь полуостров Крым. Эти земли до наших дней сохранили множество индоязычых названий мест (топонимов) и водных источников (гидронимов), несмотря на то, что в течение многих последующих веков эти названия вытеснялись иранскими, скифскими или греческими, а затем переводились и на русский и тюркский языки (следует сказать, что благодаря этим переводам сохранялся смысл многих древнейших наименований).
В своей поразившей современников книге [68] автор доказывает, что наиболее древний пласт населения Крыма — тавры, о которых Геродот писал, что они не были

скифами. О.Н. Трубачев доказал, что и синды восточного Причерноморья и их соседи, а возможно, и соплеменники, меоты были индоязычны, родственными им по языку были и крымские тавры.
В этой работе автор приводит список из 150 названий местных топонимов и гидронимов, безошибочно связывая основную их часть с древнеиндийским языком, и пишет: «Индоарийско-иранские отношения Северного Причерноморья еще предстоит изучать. Индоарийская принадлежность языка определенного слоя северопонтийского населения положительно свидетельствует о прежнем пребывании праиндийцев в этих краях. Значительная их часть осталась и была перекрыта близкородственными иранцами (скифами, сарматами)...»
Мы имеем основания полагать, что эта оставшаяся часть смешивалась и с теми группами предков славян (которых мы позволяем себе называть авангардными волнами, продвигавшихся с севера племен), которые, видимо, появились на землях Юго-Восточной Европы вместе с арьями, пришедшими сюда по близким или одинаковым с ними путям. (Причем здесь речь может идти именно об индоязычной ветви арьев, что и подтверждается работами О.Н. Трубачева.) Все более очевидным делается тот факт, что древнейшая индоиранская (арийская) общность разделилась на две ветви все же на севере и эти ветви в основной своей массе «обтекали» Урал с двух сторон, и, в частности, индоязычная ветвь двигалась по территории Восточной Европы в направлении Черного моря. Эти арьи, видимо, раньше славян пришли на море, заселили его берег, Крым, Прикубанье и Приазовье, где обнаружены учеными многочисленные следы их пребывания.
О.Н. Трубачев приводит цитату из труда русского историка И. Штриттера (СПб, 1771): «Не бесполезно также и для любителей российской истории знать похождение того

народа, который в древние времена имел жительство в соседстве, или паче в пределах России, хотя бы после того и совсем в другую часть света он переселился». (Нравоучительность высказывания этого пытливого мыслителя, жившего за 200 лет до наших дней, разъяснять, мы полагаем, не требуется.)
Автор подчеркивает, что давно устарела мысль об отсутствии связей древних славян с античным миром, как и «об отсутствии самих славян в античном Северном Причерноморье». Более того, он считает, что «названные связи, по крайней мере отчасти, относятся к индоарийскому компоненту северопонтийского населения. Наши наблюдения над реликтами этого рода касаются: 1) этнонимов, 2) культурной лексики и 3) сведений о берегах Черного моря».
Интереснейшие соображения О.Н.Трубачева относятся к вечно живому и вечно спорному названию «Русь». Он пишет: «Сознавая всю ответственность шага, мы хотели бы коснуться здесь некоторых новых возможных аспектов происхождения этнического названия Русь в ряду рассматриваемых проблем». Автор напоминает о том, что этой проблеме посвящена уже обширная литература и что доминирующее место занимает теория о скандинавском происхождении термина Русь, хотя многие сторонники этой теории многократно подчеркивают, что все же он постоянно встречается именно на юге, в Причерноморье и Приазовье, и признают факт «существования азовско- черноморской Руси и раннего освоения восточными славянами Приазовья»1. Автор приводит ряд примеров из гре-
1 Мы вынужденно даем здесь лишь краткие сведения о работах О.Н. Трубачева, считая, что каждый заинтересованный читатель сможет найти их перечень в систематических каталогах библиотек и ознакомиться с мыслями и выводами этого выдающегося русского ученого путем непосредственного прочтения его трудов.

ческих и иранских источников и указывает на местные топонимы, в которых содержится как составной элемент слово «россо» (как в непосредственной, так и измененной форме), означающее «белый, светлый». Сопоставляет его с древнеиндийским словом «рукша» — «белый, светлый». Он усматривает в таких старых названиях в Крыму как Россо Тар, Россатар, переводимых как Светлый (Белый) берег, аналогию с русским названием низовьев Днепра — Белобережье. Многие древние названия в описываемых областях несут в себе частицу «светлый» в более поздних формах, в частности в форме «ак» в переводах на тюркские (татарские) диалекты, так что, видно, такие топонимы еще будут открыты исследователями.
Не будем здесь углубляться в дальнейшие доказательства родства славян со скифами — для цели данной работы сказано об этом уже достаточно. Здесь нам следует уделить внимание пластам славянского языка, в том числе древнейшим его пластам, восходящим, по всей видимости, к периоду до разделения далеких предков арьев на две ветви, то есть к изначально возможной (хотя, по нашему убеждению, вероятной) эпохе близости (или единства?) индоирано-язычных прапредков арьев с прапредками славян на далеком нашем Севере.
Историю славян пытались в течение довольно долгого периода описывать некоторые западные ученые, не владевшими славянскими языками и не имевшими четких представлений о славянской культуре, что привело к тому, что Гегель, например, назвал славян «неисторическим народом». Историк Сергей Лесной задает в своей книге «Откуда ты, Русь?» правомерный вопрос: «А кому же придет в голову писать историю неисторического народа?». Поэтому русский ученый Н.П. Загоскин в конце XIX века так энергично восстал против господствовавшей в науке теории о норманнском происхождении русских, что чет-

ко написал: «Вплоть до второй половины текущего столетия учение норманнской школы было господствующим, и авторитет корифеев ее — Шлёцера — со стороны немецких ученых, Карамзина — со стороны русских писателей представлялось настолько подавляющим, что поднимать голос против этого учения считалось дерзостью, признаком невежественности и отсутствия эрудиции, объявлялось почти святотатством» («История права русского народа 1899»).
С. Лесной пишет: «Огромная площадь Европы, занятая славянами к моменту появления их на страницах писаной истории, является неопровержимым доказательством их древности... образование славян, несомненно, уходит в глубину тысячелетий [40, с. 126].
Остановимся на некоторых примерах сходства слов, договорившись сразу, что это будут русские слова, взятые, к тому же, так сказать, с поверхности современного язы-
*
ка без углубления в исторические его формы.
Это-то как раз и поражает — разница во времени, прошедшем с эпохи последнего расставания славянских и арийских племен составляет около 4 тысячелетий, а оба языка хранят в себе близкие и общие слова и формы, возникшие еще в незапамятные времена, но легко воспринимаемые на слух и во многом понимаемые даже неспециалистами, как славянами, так и индийцами. Автору этой книги довелось услышать слова индийца, профессора Д.П. Шастри: «Вы все здесь разговариваете на какой-то древней форме санскрита, и мне многое понятно без перевода» и «что схожи не только синтаксис и порядок слов, сама выразительность и дух сохранены в этих языках в неизменненом начальном виде», (ст. Д.П. Шастри: Приложение I).
Надо сказать, что «предок» арийских языков, санскрит, продолжает в Индии играть роль «языка индийской

культуры» — его изучают в колледжах и многих школах, на нем проводят диспуты, издают книги и даже газеты и журналы. К нему восходят 60—80% слов ряда современных языков Индии. По Конституции Индии он признается одним из официальных языков страны.
Предметом особого интереса являются те слова, которые зарождались в древнейший период формирования семьи и рода. К их числу в разбираемых здесь языках относится ряд сохранившихся доныне терминов родства, что и приведем как первый ряд примеров:
| матерь | матрь1 | брат | бхратар |
| праматерь | праматрь | братство | бхратрьтва |
| сын | суну, суна | деверь | деврь |
| сноха | снуша | зять | джата, |
| свояк | свака | свойство | джати |
| тата, тятя | тата | жена | сватва |
| шурин | швашурья | отец, по | джани2 |
| старший | дада | кровитель | папу |
| родич |
1 В санскритском словаре есть буква, означающая звук, именуемый полугласным «р». В работах на европейских языках его транскрибируют как «ри», и это заимствовали наши исследователи. Поскольку в русской азбуке есть мягкий знак, то мы здесь, в виде опыта, предлагаем более точную передачу указанного звука через «рь».
2 Букву «дж» в Индии произносят и как «з», обозначая этот звук точкой под буквой. Славянскому «з» соответствует в санскрите и звук «И». В русской транскрипции обычно - «х»: хима — зима. Этот звук следует произносить как «h» (и в отдельном положении в слове и в сочетании с предшествующим согласным в качестве придыхательного звука: напр., слово «убха» должно читаться как «убЬа», слово «стха» как «стЬа», т.е. произносить этот звук «х» как украинское «г» (после звонких согласных) или как «х» (после глухих).

К древним формам относятся и местоимения, от которых в санскрите и славянском образуется много сходных производных слов:
| самый | сама | оба | убха | ||
| (тот самый) | (татсама) | та, эта | та | ||
| свой | сва | тот | тат (тад) | ||
| твой | тв а | этот, это | этат (этад) | ||
| нас, наш | нас | какой, кто | ка | ||
| вас, ваш | вас | как | ка | ||
| который | катара | то | то | ||
| первый | пурва (т.е древний, начальный) | ||||
| два, две, двое | два, дви, двая | ||||
| три | три | ||||
| третий, трое | трета, трая | ||||
| тройка | три ка | ||||
| четыре, четве | чатур, чатвар (также — имеющий четыре | ||||
| ро | угла) | ||||
| четвертый | чатуртха | ||||
Вспомним и отом, что числительные тоже вошли в речь в очень давние времена, так как счет был необходим людям при самых даже примитивных формах хозяйства. Немало общего мы увидим и в этих формах слов:
пурва (т.е древний, начальный) два, дви, двая три
трета, трая три ка
чатур, чатвар (также — имеющий четыре угла) чатуртха
Если же взглянуть на глаголы, их корни и формы, произведенные от них, то здесь обнаружится великое множество близких и общих форм, потому что глаголом, как известно, обозначается действие или состояние, а эти категории существовали с момента зарождения человечества и издревле нашли свое выражение в языке.
Интересно то, что приставки, как в славянских языках, так и в санскрите, тоже отличаются взаимным подобием и сообщают глаголу одинаковые по смыслу новые значения. Остановимся лишь на немногих иллюстрациях этого:

переплыть — пераплу, проплыть — праплу, прознать — праджна, передать — парада, ниспадать — ниш-пад, налепить — анулип, отчалить — утчал, полюбить — упалубх, отпадать — утпад, противостоять — пратистха и др.
Аналогичную роль играют и суффиксы, придающие словам новое и, опять же, аналогичное значение. Возьмем для примера такие суффиксы, как -к-, -т-, -н-, -тель- (в санскрите — тар):
чашка — чашака, носик — насика, открытый — уткрита, отдание — утдана, раненный — вранин, (по)датель — да- тар, отец (питатель) — питар и т.п.
Не менее наглядны, а главное, очень многочисленны, примеры из имен существительных, т.е. слов, обозначающих предметы, явления природы, ощущения и пр. Эти слова обозначают все, с чем человек соприкасается в окружающей его действительности, определяют его реакции на мир, на себя и себе подобных, на предметы и их качества. Если был бы составлен полный русско-санскритский словарь (а это, несомненно, должно быть сделано и чем скорее, тем лучше), то мы увидели бы, какое большое место занимают в обоих языках сходные слова именно этого разряда. В ограниченной по размеру книге мы можем дать лишь несколько примеров (хочется напомнить читателю, что русскому «с» в санскрите часто соответствует «ш»; «л» чередуется с «р», «е» в транскрипции произносится как «э»):
| крестьянин | крышик | гать, путь | гати |
| дева | ДЭВИ | шея (загривок) грива | |
| небо | набха | небеса | набхаса |
| дверь | двар | тьма | тама (с) |
| роса, сок | раса | простор | прастара |
| нос | наса | дом | дам |
| пена | пхена | дым | дхум |
| огонь | агни | ||
| сушка | шушка | кровь | крави |

| брань(битва) | вран | напиток пива |
| рана | врана | (вода, пиво) |
Для русского и санскрита характерно сходство процесса, называемого именным отглагольным словообразованием. Например, следует уделить внимание тому обширному кругу слов в русском и санскрите, который сложился на основе глагола «пи, па» и соотносится с его исходным смыслом, с той глубочайшей древностью, когда он обозначал два представления — о питье и о пище, то есть определял весь процесс поглощения человеком и жидких и густых продуктов, да и сам процесс такого поглощения, то есть питание:
| Скрт. | Русск. |
| пи | пить, питье |
| питу | напиток; питание |
| питар | питатель; отец; небо |
| пита | (было) пито |
| пити | пьющий |
| питва | пивший |
| пива | вода, напиток |
| пивас | жир |
| пиван | полный; сильный |
| пивара | большой; толстый |
Если же углубляться в научный лингвистический анализ, предполагающий и прослеживающий исторические изменения в строении и звучании слов, то найдется многое, что не сохраняется «на поверхности» языка, но таится в его глубинах. Многое сохранено в поговорках, неосознаваемых словосочетаниях и т.п. Мы все употребляем выражение «трын-трава», не подозревая даже, что «трьна» в санскрите как раз и значит трава. Или говорим детям «бука придет, тебя забодает», а слово «букка» в санскрите озна-

чает «коза». Мы знаем слова «куток», «закуток», но не знаем, что в санскрите слово «кута» имеет это же самое значение. Равным образом слово «сарпа» — «змея» сохранилось в форме «сапа» (тихой сапой), а слово «карна» — ухо — в форме «карнаухий», восклицание «эва!» («вот же!») так и будет в санскрите: «эва!»; «ну» («сейчас», «скорее») будет также «ну».
В новоиндийских языках сохранились некоторые слова, восходящие к древнейшим арийским диалектам, как, например, на языке маратхи «рабад» значит «работа», а на языке хинди глагол «рабна» означает «удобрение поля золой», что, видимо, восходит к процессу выжигания леса под поля (буквально: «вырабатывать поле») На хинди же и слово «баян» означает «повествование». К сожалению, все это не прослежено еще наукой, не выявлено — слишком недавно стали уделять этому внимание.
В заключение следует упомянуть и о возможности сопоставления имен прилагательных, предлогов, наречий и частиц. Дадим их здесь, не разделяя на столбики: веющий
— ветра, юный — юна, новый — нава, дурной — дур, сухой
— сукха, другой — друха (интересно, что это слово на санскрите означает «враг», а на славянских языках — «друг»), светлый — швета, бодрый — бхадра, нагой — нага, дерево, деревянный — дравья, дара-ва, когда — када, тогда — тада, всегда — сада, куда — кутах, приятно — прия, нет — нед, против — прати и др.
Много материала читатель найдет в краткой сводке сходных слов (Приложение II).
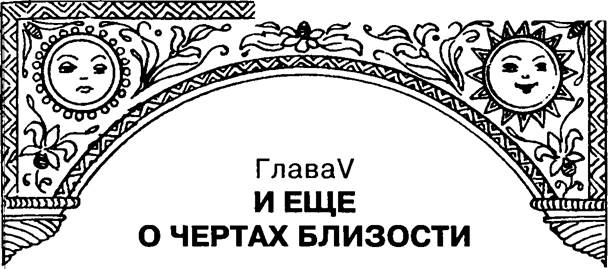
«Слова нашего я$ыка витали над остывающей планетой... Слова ждали нас Миллиарды лет. Мы наконец пришли, гтобы произнести utq>.
Ѣиктор ‘Конецкий

равнивая культуры предков арьев и славян, нам, не надо привязывать себя только к формам язы-
І ков, какими бы важными ни были эти свидетель- ства. Ведь к неизведанно древним эпохам восхо- т и верования людей, их представления о вселенной, о илах, управляющих жизнью и смертью, о природе. Как и у всех народов земли, здесь были свои боги, соответствовавшие этим представлениям, являвшиеся как бы их образным воплощениями. Восточные славяне были язычниками вплоть до проникновения на Русь христианства в X веке н.э., и в ряду их главных богов обнаруживаются и такие, которые были по своему облику и значению близ-
I
С
ки богам арьев. И если христианство у нас вытеснило в основном (но не во всем) старую веру, то арьи задолго до этого унесли с собой некоторых из тех богов, которым поклонялись и предки славян. И до сих пор в Индии люди Поклоняются им или же знают, осмысляют их суть, а потому ученые могут располагать не только литературным атериалом, исследуя проблемы древних религий, но и живущие доныне проявления их. Книга о язычестве славян — это обширная повесть, которая читается с неослабевающим интересом. Но мало написано о сходстве религий арийских и славянско-языческих.
Попытки сравнивать это язычество с религией арьев делались уже с начала XIX века, и русские ученые нашли много черт, позволяющих с полным правом проводить такие сопоставления. Возьмем, к примеру, праздники. И даже, хотя бы, один из них — переход весны в лето, когда великое светило Солнце начинает входить в полную силу, столь важную для всего цикла сельскохозяйственных работ, да и всей жизни природы в целом. Это особенно яркие даты в календарях многих народов, но славяне и арьи (как и в современной Индии) отмечают его в такой манере, которая сближает оба этих этнических массива как память о давних, вероятно, крайне близких или сходных (если не общих) обычаях.
Этот древнейший праздник весны вошел в христианство как Пасха, а с ним вошли и ритуалы многотысячелетней давности, магические ритуалы, призванные влиять прежде всего на плодородие, на размножение людей и скота, на цветение природы, которая к осени одарит людей урожаем плодов и злаков.
Что является, по давним убеждениям человека, носителем и хранителем его жизни? Кровь. Цвет крови — цвет жизни. Символ крови — красный цвет. Наглядным примером первопоявления жизни выступает яйцо. А яйцо, окрашенное в красный цвет, должно было служить сильнейшим заклинанием, укрепляющим силы жизни и взывающим к ее возрождению. Не одно тысячелетие должно было уйти на то, чтобы опыт людей, итог их наблюдений за жизненными циклами привел к такой схеме, простой и вместе с тем сложной по своему содержанию.
И вот наступает Праздник Весны и люди вспоминают
о накопленном опыте своих предков. Как готовятся на на-

ших землях к празднику Пасхи — известно всем. Прежде всего красят куриные яйца (преимущественно в красный цвет) и в Светлый день дарят их друг-другу с наилучшими пожеланиями, в которых хранятся следы древних жизненно важных заклинаний: «Да рождается детеныши у всего живого! Да цветут и опыляются растения! Да не померкнет солнце!» А еще с такой же магической, заклинательной целью издревле принято готовить праздничную еду — сдобные выпечки (символ урожая зерновых) и сладкие блюда из мелочных продуктов (символ плодоносности скота). Все поздравляют друг друга, веселятся, ходят в гости.
А что в Индии? Есть ли сходство в обычаях, которые складывались на землях близких или общих у наших пра- пра-предков? И если да, то это будет служить еще одним дтверждением их давней-давней близости, а значит, и евних корней славянства.
Да, в Индии тоже отмечают сходный праздник, име- емый Холи. Это веселый День Весны, в который без мфры и счета используют краски. И прежде всего красную.
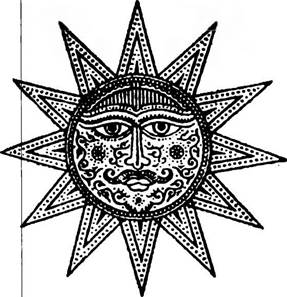
Но не куриные яйца подвергаются окрашиванию, а сами люди. Это тоже весьма наглядный пример веры в то, что кровь—носитель и хранитель жизни. Разводят красный порошок в воде и с восходом солнца выходят на улицы и поливают друг друга из бутылок и насосов, приплясывая и распевая песни. Мно- Щображение Солнца-Су- гие песенки подобны тем, что рьи, типичное для северо- у нас принято называть озор-
«хороших семей» (ничего не поделать — пережиток магии плодородия, и наверняка аналогичные песни распевали и наши язычники, будучи, к тому же, приверженцами фаллического культа; его следы выявляются в русских народных сказках, уж не говоря об упомянутых частушках). Порошки другого цвета обычно в воде не разводят, а просто осыпают ими друг друга с головы до ног.
Когда солнце проходит через точку зенита, что воспринимается как доказательство его вхождения в полную силу, все это красочное веселье кончается, люди омываются и, поменяв одежду, ходят в гости, угощаясь сдобными мучными и молочно-творожными кушаньями, призывая в молитвах благословение богов на прирост домашнего скота.
И нигде больше на этих землях между «нами и ними» нет такого способа проведения праздника весны, хотя в день мусульманского праздника нового года, Навруза (21 марта), тоже прослеживаются древние обычаи приготовления ритуально-заклинательных блюд — но без применения красок. Это не поддается прямому сравнению ни с нашей Пасхой, ни с индийским Холи, хотя в целом и восходит к общечеловеческим проявлениям культа Солнца.
Примеров сходства или даже одинаковости обычаев и ритуалов у славян и арьев много, и этому надо посвятить отдельную работу, так как писали об этом слишком мало.
Читатель спросит — ну а боги? Тут-то что-нибудь общее есть? Да, есть, и немало. Мы здесь говорим в основном об арктической теории, но ведь многие ученые из разных стран «приближают» предков арьев к периоду IV—11 тысячелетия до н.э., считая, что территорией формирования арьев (ин- доарийцев) как исторического единства были только лесная и лесостепная зоны к северу от Черного и Каспийского морей и в Приуралье. Вопрос о том, где это единство начало оформляться, остается при этом открытым, но почти всеми признается, что именно с этих земель группы арьев

двинулись в сторону Индии и Ирана. Это доказано и с этим нельзя не согласиться, хотя, видимо, все же следует отнести начало складывания этого единства к гораздо более глубокой древности и отодвинуть к северу.
В период же, предшествующий отделению арьев и их уходу, на указанных землях сложилось не только известное культурное единообразие, но и «больше того — культовое единство», как четко определяет эти связи известный наш археолог Н.Я. Мерперт.
Правильны слова С. Лесного: «О религии наших предков мы до сих пор почти ничего не знаем. Все известное собиралось косвенно. Не сохранилось ни одного языческого источника. Все, что мы знаем, — это пересказы из христианских рук. В этих пересказах, во-первых, не все правильно, а во-вторых, не без намерения искажено, так как делалось в разгар ожесточенной борьбы... О религии предков мы можем лишь догадываться из запрещений христианской церкви не делать того, другого. Но почему это делалось язычниками, мы не знаем точно, можем лишь предполагать» [40, с. 208].
И несмотря на то, что после разделения групп народов религиозные представления развиваются у каждого из них по-разному, они опираются все же на общие предшествующие традиции. Вот сюда и уходят корни современного сходства. Это «по-разному» особенно ярко выразилось у арьев, так как, придя в Индию, они смешивались там с местными племенами, воспринимая их культы, создав огромный совместный круг богов новой обобщенной религии — индуизма и так называемую ведическую культуру. Но не затерялись в их числе принесенные с собою древние боги, а скорее наоборот: многие из них заняли в пантеоне ведущие места.
И это были боги — мужчины в отличие от богинь, царивших во многих культах народов Индии доарийского

периода. И в этом ряду богов мы ищем и находим языческих славянских богов или четкие их следы. Так кого же?

Прежде всего — бога огня, который так и носит имя Агни. Славяне поклоняются огню и до сих пор, то в открытой, то в скрытой полузабытой форме: вспомним хотя бы обязательное ритуальное возжигание свечей и в церквах и в домах перед иконами или в руках молящихся или при ритуальных церемониях и обрядах; известен и сохраняющийся древнеславянский обряд «очищения» людей перепрыгиванием через костры или «очищения» скота прогоном его между кострами (у современных сербов этот обряд называется «прогоница» и широко практикуется). Богу Агни издревле полагается приносить кровавые жертвы, именуемые, помимо других названий, и «ягья». Так вспомним нашу бабу-ягу — старуху-смерть, которая ездит в ступе, пожирает жертву только после обработки ее огнем: или варит или жарит. Но достаточно здесь говорить об Агни — ясно, что этот культ был общим у наших предков. Это культ небесного и земного огня, это,

по сути дела, обобщенный культ световой и тепловой энергии, без которой нет жизни на земле.
Древние славяне высоко чтили и бога по имени Род. Он был сильным и гневным владыкой неба, проливал на зеімлю дождь как семенную жидкость, оплодотворяя все живые существа. С его именем, а значит и с понятием размножения, связаны и такие слова, как «руда» (кровь), «рудный», «рдяный» — красный, рыжий, бурый и ряд других[1]. Но вот в Ведах воспевается некий бог по имени Рудра. Подумаем, только ли созвучны имена Рода и Рудры? Нет, их сближают и другие черты. Рудра также бог неба и громов. Он мощен и гневлив. Он — бог-воин, обладающий красно-бурой кожей, а в санскрите слово «родхра» означает быть «красным, кровавым», что прямо совпадает с приведенными славянскими словами, сопоставимыми с Родом. Видимо, в эпоху вышеупомянутого периода «ритуального единства» бог Род-Рудра был совпадающе близким в условиях общности или тесного сближения племен славян и арьев. Придя в Индию, арьи встретились там с верой в местного, аналогичного по функциям и значению знакомого им славянского (а возможно, в какой-то мере и их собственного) Рода, а именно с богом, носившим местное незнакомое им имя. Уподобив его местному темнокожему населению, они сначала дали ему имя Шива — «темно-серый, сивый». Он тоже почитался здесь как созидатель и оплодотворитель всего живого (его и изображает в виде символа мужской силы, порождающей жизнь).
него, как и от Рода, зависела жизнь и гибель всей зем- 4. Судя по всему, арьи не стали противопоставлять ему Рудру, столь на него похожего. Наоборот, в своем стремлении (и умении) строить общий для всей страны круг богов они уже в поздневедические времена соединили этих
сходных богов под общим названием Рудра-Шива (да тем более, что и описывается Шива как бог с темно-бурой кожей). До сих пор в Индии поклоняются Шиве под этим двойным именем, соединяющим его с бесконечно отдаленным от него Родом. Вот и еще одно послание из глубины веков, из тех эпох, где пра-пра-предки обеих групп были, возможно, очень близки друг к другу.
В круг языческих богов, доживших до христианства, в так называемый пантеон князя Владимира, или киевский пантеон, входили божества, имена которых тоже можно разъяснять или даже расшифровывать через санскрит, — вероятно, близкие славянам арьи знали и этих богов.
Был в киевском пантеоне, например, Стрибог, божество небесного простора. Так вот, глагольный корень «стрь» на санскрите означает «простираться» (над чем-либо), откуда происходит и слово «прастара», «простор», а «бхага» значит «бог». Можем ли мы исключать мысль, что из древнейшего гипотетического Стрьбхага возникло имя Стрибога?
А вот и еще одна возможная ниточка связи: язычники поклонялись некоему божеству под именем Мокошь. Многие пытались разъяснить его, но каждый по-своему, и даже пол этого объекта почитания до сих пор не установлен. А если и тут начнем искать общие корни или сближающие аналоги, то найдем в санскрите корень «муч, моч, мок» — мочить, мокнуть, истекать. В древнеиндийской религиозной философии есть и такое понятие, как «мокша — истекание души из тела, освобождение ее от плоти. Этот термин определяет смерть. Мокошь — не было ли это божество, символизирующее смерть или, может быть, даже насылающее ее? И не его (ее) ли молили об отвращении гнева, принося ему (ей) жертвы в стремлении сохранить жизнь?
Все приводимые здесь примеры и все дальнейшие попытки обнаружить сходства или соответствия наименова-

ний богов или объектов почитания не должны означать только возможность подобных совпадений или сближений, свойственных лишь славянским языкам или вероп- редставлениям славян. Как в XIX, так и в XX веке появлялись в печати труды мифологов, изучавших языческие религии западноевропейских народов и обнаруживших в пантеонах, например, греческих, римских, германских и скандинавских богов ряд характеристик, указывающих піэямо или косвенно на некую историческую связь с природными реалиями высоких северных широт, равно как и на встречающееся сходство имен и функций этих богов с божествами индуизма. Мы можем предложить читателю обратиться к этим трудам, но здесь наше внимание сосредоточено на данных, относящихся к славянам и конкретно к русским, поэтому мы приводим ниже несколько конкретных примеров, которые могут заинтересовать тех, кто стремится проникнуть в историю язычества.
В завершении наших сопоставлений, необходимость углубления и продления которых давно назрела, вспомним еще лишь один пример. Мы знаем, что капищем назывались у славян места поклонения идолам, а вот как назывался сам идол — не знаем. Заглянув в санскритские словари, встретим там слово «капа», означающее «группу богов». Нам думается, что напрашивающееся сравнение даже не потребует глубокого аналитического разбора и разъяснения.
Опыт сопоставления славянских и индоарийских религиозных и магических терминов
Восточно-славянские языки Берегиня — добрый дух, охранитель.
Ведать — знать.
Велес, Волос — высокочтимый «скотий бог», бог богатства. Возможно, его культ возник еще на севере как культ медведя, хозяина лесных зверей.
Санскрит Бхрь — поддерживать, одаривать; бхарана — поддерживающий.
Веда — знание.
1) Вала (бала) — волос, шерсть скота; валин (ба- лин) — волосатый, шерстистый; 2) бал (вал) — сохранять богатство, питать, одаривать.
Вила — некий древнейший дух (точное определение невосстановимо). Иногда вил считают близкими русалкам. Иногда добрыми, иногда — злыми. Судя по терминам арьев, вилы были близки силам зла.
Волот — былинный богатырь, носитель непреодолимой силы.

Дажьбог — солнце: «солнце царь... еже естьдажь-богъ». Трактовка «Дажъ-бог» как «Дай-бог», «Даждь-бог» неправильна.
1) Вил — скрываться, разрушать; 2) вилина — скрытно обволакивающий; 3) вилая
— смерть, разрушение; 4) вайла — (от корня «вил») — живущая в ямах; 5) вайлос- тхана — место захоронений (букв. — вилостан).
Валата (ба/іата) — носитель, проявитель большой силы, мощности.
Дакша — сияющий, жгучий бог, Солнце. Корень «даг, дах» — сжигать, производное от него «дакш» — огонь (в индоеврропейских языках «г» и «ж» чередуются: даг-даж). Сияющий, жгучий бог, Солнце. Корень
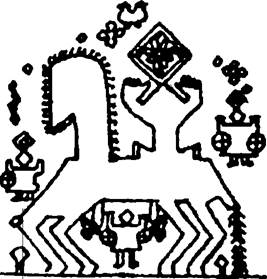
a)
вя
Солнечное божество Сла- н Дажьбог?
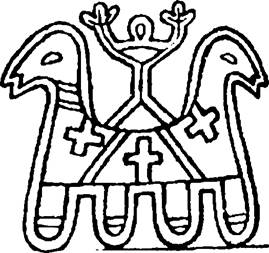
б) Солнечный бог (Индия. Народный рисунок)
«даг, дах» — сжигать, производное от него «дакш» — огонь (в индоеврропейских языках «г» и «ж» чередуются: даг-даж).
Дііви, Дивья — богиня. Дщво — диво, чудо.
н вь су Ид
Жива — богиня-подаятль- цца, мать жизни и здоро- я; живот — жизнь, живое щество, скотина ол — изображение бога как объект поклонения, жизни.
Ийдрок, Индрик, Индра —
мифическое существо, освобождающее реки из пле-
Дива, Дивья, Диви — имена солнечной, небесной прекрасной женщины-богини; диво —чудесно рожденный, сошедший с неба.
Джив — жить, джива — жизнь; дживату — жизнь, дживата — живой.
Ид — принесение жертвы, молитва; ида — призываемый молитвой; идас — объект поклонения.
Индра — бог-повелитель громов, хранитель вод, освобождающий их от демона (замерзания?); зверь, живущий под землей и прочищающий «все ключи неточные» (Голубиная книга). Кань, капище — место почитания идолов.
Карна (старорусск.) — птица горя, печали, плачущая о горе.
Кикимора, шишимора —
злой дух, богиня смерти, чертиха, беспокоит по ночам детей, убивает их. Кудесник, чудесник — владе- ющий заговорами, тайными словами, предсказатель.
В. Даль: кудесы — чудеса, колдовство.
Крада — круг, кольцо вокруг погребального кургана. Купала, Купало — божество солнца, огня. В июне — самый долгий солнечный праздник Ивана Купала: жгут костры, прыгают через огонь — очищение огнем- солнцем.
В. Даль: купальница — костер в поле; купа — костер. Купала (белоруск) — сноп соломы наверху купально-
83
ДВА дед 'ДВД дед дед до /аѴа\уоѴпѴаѴаѴаѴпѴаЛ/оЛ/nV на, который, их сковывает (видимо, это память о замерзающих реках севера).
Капа — название группы богов (воображаемой или изображаемой).
Каруня — сожаление, сострадание горю.
Шишумара — злой дух, убивающий по ночам детей; смерть детей.
Куд—говорить обиняком, не соответствующее действительности; чуд — помогать в достижении желаемого, добиваться (для другого) волшебством.
Кранд — оплакивать; кранда
— плач, горестное рыдание. Куп — светить, сиять, быть ярым, возбужденным (по смыслу — солнце); возможен и вариант: ку — земля; купапа — солнце; купати — супруг земли (солнце?); купала — возможное словосочетание «охранитель земли» (солнце) по модели «гопала — хранитель стад».
од дед дод дед до
го костра. Поговорка: после купала не надо жупана — явно о «созревшем» солнце. Ночные эротические пляски — культ солнца (древняя путаница с корнем «куп» — купаться).
Лада, Ладо, Лато — богиня любви, брака, красоты. Ее праздник — до июля, до вызревания колоса. Другие имена — Латона, Лето. Лель, Леля, Лелия — сын Лады, бог весны, молодости, любви. С его весенним праздником связаны обрядовые игры, девичьи хороводы. Его имя упоминают то в мужском, — то в женском роде. Он же — Люля, Люли.
Мава, мавка — недобрый дух лесов и полей. Его сближают с русалкой. Мава обдуривает, «заводит» людей.
Макошь, Мокошь, Мока- ша, Могошь — был идол в числе киевского пантеона. Упоминается то в женском, то в мужском роде. Приписываемые функции: богиня урожая, ночная пряха, покровитель (ница) мелкого
Л»кВД1 дед дед дед дед /в\7пѴвѴоѴаѴпѴа\Уа\/аѴа\/а\
Лад — играть, веселиться, желать; лата — обладающая красотой; женщина; стройная женщина; имя небесной красавицы.
Лила — 1) хороводные игры девушек, посвященные любви юного бога-пастуха Кришны; 2) народные спектакли, связанные с молодыми героями эпоса — Кришной и Рамой; лал — играть, танцевать; лалана — радостный, любимый; лелья
— прижимание, слияние. Мавь — связывать, запутывать.
Мокша — освобождение души от тела, истечение ее (от корня «муч-моч» — изливать), т.е. смерть, мокш — быть гневным, мокшака — освобождающий, развязывающий связи (пряха, истончающая и рвущая
84
ед дед дед дед дед дед-
^аѴаѴ"У«УаѴаѴа\/еЛУnVп\
домашнего скота, дающего шерсть. Изображений не сохранилось. Б.А. Рыбаков считает, что женские черты на одной из сторон четырехгранного Збручского идола является изображение Макоши.
Мара, Мора — богиня смерти; мор — вымирание; мора — мрак, тьма (В. Даль); морена — смерть. Ний, Ния, Ниям — судья в аду, воздатель за грехи, мститель.
Огонь (огни) — богом не считался, но был объектом уважения и почитания. Возносились молитвы и приносились жертвы огню земному и небесному. Считался (и считается до сих пор) очищающим и благотворно воздействующим на человека огонь костра, печи, свеч и лампад. Почитался огонь погребального костра; в страхе молились также и огню, сжигающему строения и леса. Вплоть до XX века де-
85
дед дед -ДВА дед дед дв /ttVftVnVflVaVаѴаѴаѴа\/а\/в\>
нить жизни?). Макха в Ригведе — имя мифического существа; жертвоприношение (есть много терминов в санскрите, связанных с этим обрядом и произведенных от корня «муч» в его значении «убивать, отпускать, истекать»).
Мара, мрьтью — смерть; марана — умирание.
Ниям — властвовать, запрещать, следить за нарушением предприсания (религий), контролировать; нию
— связывать.
Агни — бог огня небесного и земного. Почитается огонь как сжигатель приносимых богам жертв, а также
— тел умерших. Высоко чтут огонь свадебного костра, очага. Возжигают ритуальные светильники. Для многих обрядов добывают трением деревянных брусков «живой огонь». Переносят огонь очага в новый дом.
ОД Д ОД ДВА ДО Д АРАМА а о ѵаѴаѴftVftVaVaVaVaVaVa
ревнях добывали трением дерево о дерево «живой огонь», прося защитить от мора и других тяжких бед. Перун — бог небесных явлений, гроз, громов. Главным днем его почитания было 20 июля (возможно, что и другие числа этого месяца, который в христианстве именовали днем Ильи- громовника. Первый бог киевского пантеона, высокочтимый и устрашающий, карал за нарушение клятвы
— его именем князья скрепляли клятву.
Род — бог-осеменитель, по- родитель, источник жизни, покровитель процесса передачи в поколениях крови- руды как носителя жизни (родство-родить и др.). Был главнейшим богов до Перуна, «бога киевских дружин». С ним связан культ рожа- ниц-покровительниц женщин, детей, плодородия земных существ и растений. Сварог — бог небесного света, отец солнца-Дажьбога.
Стрибог — бог просторов и ретра. В «Слове о полку Иго-
MWkBA ДвД ДВА ДвД ДО А
рѴрѴвѴaVаѴ«УаѴ"УoVа
Варуна — владыка атмосферных вод, гроз (позднее — океанов), держатель неба и земли, хранитель бессмертия, каратель за ложь и грехи; словом «варуна» определяется клятва воинов над оружием; вару- ни — западный.
Рудра — бог осеменитель, даритель жизни, всевластное божество арьев, культ которого в Индии слился с культом аналогичного ему бога Шивы. Описывается как красно-бурый бог, что говорит о связи его имени с исходным корнем «рд» — рудый, родрый, рдяный, цвет крови-руды;рудхира — кровавый.
Сварга — небо, небесное сиянье (от корня свар — сверкать).
Стрь — глагольный корень со значением «распростра-
86
вд"Д^Д' /СВА ддд ДВА дод~ ѵ/д\/aVaVaVаѴл\Уе\/а\/вѴпѴп\ реве» ветры именуется его внуками. Его идол был в числе богов киевского пантеона. Являлся одним из древнеславянских атмосферных богов.
Хоре — второй бог после Перуна в киевском пантеоне. Его признают богом солнца, производя его имя от «хоро» — круг и «коло» — кольцо, колесо; отсюда — болгарский танец по кругу «хоро», русский хоровод, а также древняя индоевропейская свастика (четырех и восьмилучевая) — знак солнца — русский коловрат. Варианты имени Хорса: Корш, Коре, Корша, Хорос и слово «корж» — круглая выпечка.
Чур — его изображал безголовый чурбан на границах земли племени или поля. Считался охранителем собственности: «чур мое (наше)». Второе значение — бес, вражий дух, отгоняемый заклинанием «чур меня», в эпоху христианства заклятье сопровождалось открещиванием. Чураться — бояться.
нять, охватывать, покрывать»; с приставкой пра- значит «простираться», откуда образуется и слово пра- стара — простор.
Кхала — солнце; гол — сол- нечнцй шар; гола — круг, сфера (все три значения сближаются с «коло», со словом, видимо, более древним, чем «хоро»); коловрат: слог «врат» связан в санскрите в «врьт» — вращаться, катиться,и «врата»
— правильный, регулярный ход жизни, практики.
чур — воровать, брать себе; второе значение — заставить исчезнуть (раствориться), избавиться.
Яга—ведьма жаждущая смерти жертвы, стремящаяся сожрать кого либо, живущая в древнем погребальном сооружении —домике на столбах, в «избушке на курьих ножках». Ездит в ступе.
Яма — могила.
Ярило — бог солнца.
Яга-яджа — жертва (Ригве- да); ступа — погребальное сооружение, фоб.
Яма — бог царства мертвых; конец.
Яр (в индоарийских языках) — страстный, горячий, пылкий.
Спросим себя: в других областях культуры тоже можно обнаружить общие или сходные моменты? Что могло сохраниться от древних эпох? Что менее другого подвергалось влияниям меняющейся жизни? Да, можно обнаружить такие моменты, например, в народном искусстве.
В деревнях и городах, на наших рынках и выставках, для нас и иностранцев показывают и продают самые разные глиняные фигурки и игрушки: и самые примитивные свистульки и довольно сложные по форме многофигурные композиции. Диапазон этих изделий очень широк. От Архангельска и Вологодской области до юга Украины, как и дальше на восток — всюду их делали деревенские гончары йли просто «бабки-непрофессионалки» (лепя их не только цз глины, но и из теста). Все они воспринимали свое уменье от предков и передавали его потомкам. И мало что менялось в облике и раскраске этих фигурок с незапамятных времен.
I А с каких незапамятных времен? Вот тут снова можно додумать о возможности сопоставления с индоарийской народной мелкой скульптурой. Материалы наших археологических раскопок дают нам очень древние образцы обожженных глиняных фигурок. Но раскраска на них, как правило, не сохранилась, да и доходят они до нас обычно в осколках и обломках, не подвергавшиеся обжигу, многие и совсем рассыпались, растворились в земле, и мы уже никогда не узнаем, какими они были.
В поисках подтверждения их древности взглянем еще раз в сторону Индии. В этой «стране устойчивых традиций» нерушимо дошло до современности мастерство народных ремесленников из глубины тысячелетий. От прадеда к деду, от деда к отцу — сыну — внуку — правнуку, век за веком передавалось умение работать, знание и навыки производства. И, несмотря на естественный исторический рост производительных сил, эти навыки во многом сохранились, как у славян, почти в неизменном виде. Да ведь это же частично можно наблюдать и в нашей стране — какая-нибудь каргопольская бабуля изготовляет, «печет» своих бычков или кентавров (которых она называет «полканами») из глины и окрашивает их так, как это делали — в течение скольких веков? — ее пра-пра-предки. И это вполне совмещается с таким занятием высоких специалистов, как запуск космических ракет.
В Индии, где из-за сложившегося в глубокой древности кастового строя, когда внутри каждой касты именно профессия должна была нерушимо передаваться от поколения к поколению, эта живучесть производственных традиций оказалась особенно прочной. Поэтому-то мы и можем там встретиться сейчас с фигурками, пришедшими из той эпохи, когда арьи жили бок о бок с предками славян, и культура обеих общностей племен объединялась многими общими чертами.
Следы былой близости выявляются и в других традициях, прослеживаемых в материальной и духовной культурах. Неоднократно уже публиковались данные о сходстве мотивов вышивки, издревле повторяемых при изготовлении носильных вещей, и орнаментов, встречающихся в

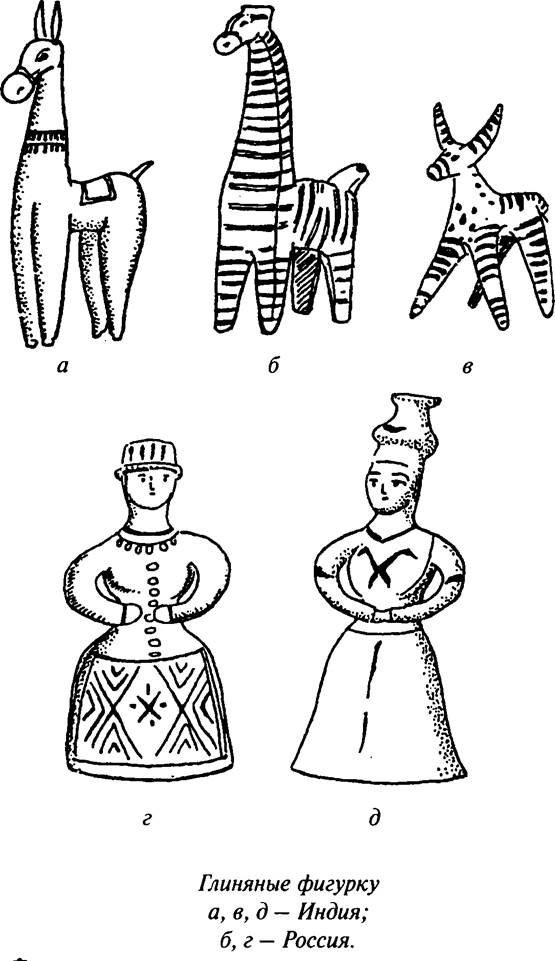

в
ювелирных украшениях, в резном деревянном убранстве домов, в росписи посуды и т.п. Эти мотивы не случайны — им приписывалось магическо-заклинательное значение, они посвящались природным явлениям, служили знаковыми системами для общения с силами, неподвластными воле человека, и играли роль оберегов от неблагоприятных воздействий на дела, здоровье и жизнь.
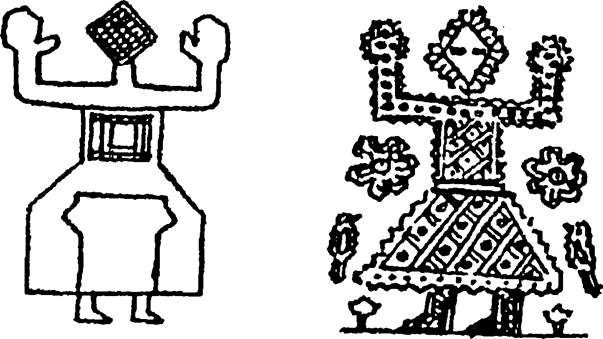
а б

Традиционные мотивы вышивки.
а, в — Россия;
б, г — Индия.

Большой интерес представляют также некоторые приемы и установления народной медициной русских и индийцев (по всей вероятности, не только индийцев, а и ряда других народов, но мы остановимся на сопоставлении, которому посвящается вся эта работа). Здесь прослеживается ряд сходных и даже общих черт в сфере, так сказать, человековедения. Всем известны, например, распространенные в Индии знания о чакрах, определяемых в теле человека. Воздействие на эти нервные сплетения лежит в основе физиологической тренировки, предписываемой в системе йоги.
В наше время вряд ли можно встретить собеседника, полностью не осведомленного о йогах, о рекомендуемых ими позах — «асанах» и о значении чакр. Но до самого недавнего времени мало кто знал о том, что с этими рекомендациями и объяснениями сближаются и даже совпадают те представления о роли нервных сплетений, которые издавна известны русским знахарям, спасавшим в течение долгих-долгих веков многих людей от самых разных болезней.
Интереснейшая и очень информативная статья была опубликована в выпуске 5 журнала «Мифы и магия индоевропейцев» (М.: Менеджер, 1997). АвторА. Андреевозаг- лавил статью «Русская лествица», напоминая, что словом «лествица» у русских определяются ступени развития, духовного роста человека. Рассказывая о том, как мистики пытаются проанализировать древние представления о связи учения о нервных сплетениях (чакрах) с установлениями разных религиозных направлений, он очень верно считает, что: «Пути и цели духовного роста представителей любой культуры — результат многотысячелетнего развития»... и в том числе — развития русского народа. Более того, он рассказывает о своей этнографической работе в деревнях близ г. Владимира, где он подробно познакомил-
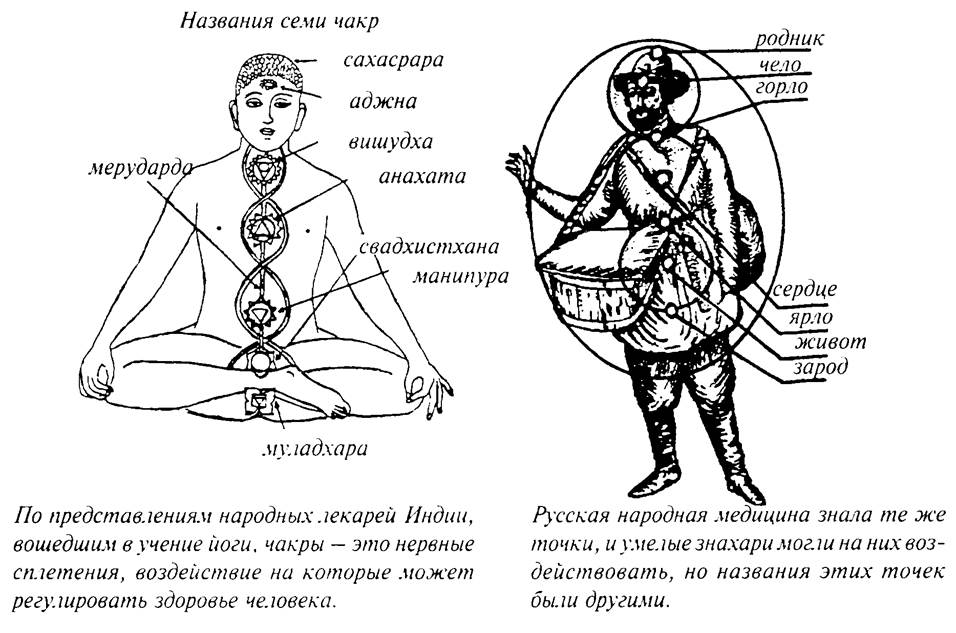
ся с деятельностью знахарей и с их учением о строении человеческого тела. Он отыскал в старых русских лубках изображение «офени» — коробейника, на теле которого были обозначены «русские чакры», имеющие свои особые названия и почти совпадающие по своему расположению с чакрами йогической системы.

Воздействие народных целителей на эти точки проверено веками и тысячелетиями, но игнорирование их понятий официальной медициной привело к тому, что эти знания были преданы забвению (но зато началось повальное увлечение йогой). Кто только не кинулся у нас в йогу — врачи, мистики, сектанты всех мастей, а равно и те, кто просто «интересуется» всем на свете.
Бесценные данные о русской лествице, приводимые автором, и названия ее точек, частично сходящиеся и с санскритом, не могут не привлечь внимания всех, кому дсрога история русской культуры и память о нашем далеком прошлом.
Немалый интерес привлекают и взаимные сопоставления фольклорных произведений, и их отображения в ху-
жественнои литературе. Насколько нам известно, в урудах исследователей фольклора не было до недавнего времени уделено должного вн имания сопоставлению сюжетов таких поэм, как «Рус-
до
лан и Людмила» и «Рамаяна» — великий памятник индийского эпоса, переведенный в Индии с эпического санскрита на языки многих народов этой страны и ставший также известным со второй половины XIX и в начале XX века и в Европе. А ведь схождения здесь не малые, и главное — почти совпадают и содержание поэм и качества, приписываемые их героям — как положительным, так и отрицательным.
Всмотримся в эти моменты, повторив свои слова из данной нашей книги, изданной впервые в 1998 г. И Руслан, и Рама, славившиеся своими подвигами, вышли победителями из соревнования с другими витязями, претендовавшими на руку прекрасных и высокородных невест. Оба героя обрели юных супруг, но при начале расцвета своего семейного счастья лишились их (Руслан сразу после свадьбы, а Рама по прошествии некоторого времени). Обе юные супруги были хитростью и силой изъяты из объятий своих мужей: демонические персонажи Черномор и Равана похитили их. Оба демона уносят похищаемых красавиц по воздуху: Черномор летает на своей волшебной бороде, а Равана — на воздушной колеснице. Ни одна из жен не поддается на уговоры и соблазны похитителей. Демоны помещают и ту, и другую в одинаковые условия — в волшебные сады незнакомой местности (одну на горах, а другую на океаническом острове), в сады, долженствующие очаровать их дивными ароматами и неописуемой красотой. Но обе в тоске и печали ждут мужей, твердо веря, что они одолеют злые чары и спасут своих любимых. И, наконец, верные и храбрые мужья, переборов множество трудностей и препятствий, побеждают демонов в жесточайшей схватке и, освободив милых жен, возвращаются с ними в свои столицы. Казалось бы, Пушкин основал свою поэму на канве «Рамаяны», воспользовавшись так называемым странствующим сюжетом. Но почему мы не встречаем ее и в других произведениях рус-

ской литературы? Где столь же близко изложен этот сюжет? Можно предположить, что в каких-нибудь не опубликованных произведениях нашего фольклора могло сохраниться предание о «полетном похищении» жен — тем более что, во-первых, в древности была распространена форма брака-похищения, и оскорбленные претенденты на любовь избранных ими красавиц вполне могли усматривать в удачливых похитителях черты союзников демонических сил, во-вторых, полеты разных персонажей сказок — то на птицах, то на коврах-самолетах, то на волшебных конях — упоминаются и описываются во множестве сюжетов. Следует признать, что отдельные элементы содержания обеих указанных поэм вполне могли войти в ткань преданий и сказок многих народов, но такое почти полное совпадение выявляется, пожалуй, только в этих двух произведениях. Следует ли нам исключать мысль о том, что и это сходство может быть связано со следами древнейшей культурной близости? Теме этого сходства была затем посвящена и статья С.В. Жарниковой «Дорогами мифов» (Этнографической обозрение, №2, 2000) и глава в книге [23].
Не выявлено, где и когда слагался изначальный стержень содержания «Рамаяны». Известно, что эта поэма, текст которой окончательно определился уже на землях Индии, по своей, как бы мы сказали, «идеологической направленности», стала соотноситься с темой борьбы вои- нов-арьев с воинами местных доарийских народов, которым арьи и приписывали демонические черты и качества (что нашло свое отражение во многих произведениях древнеиндийской литературы).
Возможно, здесь не явится излишним и впервые высказать в нашей литературе предположение о том, что не только сюжет «Рамаяны» нашел свое отражение в творчестве Пушкина, — можно увидеть черты сходства и в ми-

фологизированной сказке русского народа, вошедшей в творения Пушкина, которая повествует об исчезновении солнца на столь долгий период, что, видимо, это была «вечная» северная ночь. Мы ведем здесь речь о сюжете, посвященном рождению царевича Гвидона («Сказка о царе Салтане»). Вспомним, что не успел царевич родиться, как злые темные силы (две бабы) добились того, что новорожденного ребенка вместе с матерью поместили в засмоленную бочку и бросили в океан. О сроке их пребывания в океане можно предположительно судить лишь по указаниям, что за время такого плавания сын вырос, набрался сил и: «...на ножки поднялся, в дно головкой уперся, поднатужился немножко... вышиб дно и вышел вон». О чем и
о ком речь? О светлом Добре, на которое ополчилось Зло. Светлое Добро в русских сказках — это постоянный образ Солнца, а Зло — это образ Мрака. Не сохранился ли в генной памяти славян давным-давно миновавший факт неизбежного ухода солнечного диска с неба на долгое время — 30-20-10 суток? Не остался ли где-то в уголках души страх их праотцев перед наступлением долгой ночи, полярной ночи? Ясно лишь одно — Пушкин отразил в своем сюжете суть народной сказки.
Обратившись к Ригведе, мы находим в ней один из сюжетов, крайне близкий по содержанию и даже по деталям описания. Тилак объясняет нам, что пространство между небом и землей трактуется в Ведах как угроба женщины, а младенец в утробе — это солнце над землей. В Ведах говорится о разных сроках беременности — от семи до десяти месяцев, а заходящее на долгую ночь солнце понимается как выброшенное в воду[2].
Эта вода понимается то как вселенские атмосферные воды, то как воды океана, а то как колодец. Но основная суть заключается в том, что из этого мрака своего пленения юное солнце появляется уже в полной силе, подобно тому, как Гвидон не только вышел из бочки, но и превратился за время своего в ней пребывания в витязя и сразу же сделал из дуба лук и начал охотиться.
Можно предположительно проследить и еще одну возможность сопоставления сказки Пушкина (русской сказки) с отдельными темами гимнов Ригведы — дело в том, что постепенно исчезающее с небес солнце не раз описывается в них как какое-то ущербное, неполноценное. И тут, возможно, следует вспомнить и о том, что «родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку», как сообщают в своем письме царю Салтану злые ткачиха с поварихой.
Оставив все эти мысли в форме первых предположении, будем надеяться, что придет час, когда специалисты подробнее остановятся на этих мотивах, оценят их сходство или совпадения должным образом, вникнув вдеталь- ныій и глубокий анализ гимнов Ригведы, приводимый Тинаном в его бессмертной книге, этом бесценном вкла
де
в мировую науку.
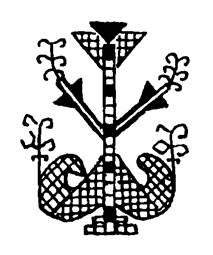
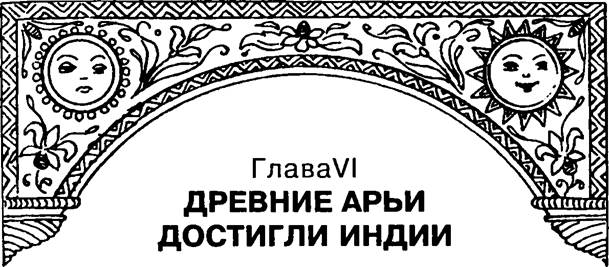

С Милого севера 'В сторону южную. 94. .‘Лермонтов
десь пришло время вспомнить о том, что в процессе расширения взаимных контактов, складывавшихся между арьями, приходившими волна за волной на земли Древней Индии, и фуппами местных народов, развивались сложные отношения: враждебные столкновения и неприятие обоими этническими массивами чужеродной культуры стали неотделимыми от постепенно наладившегося проникновения в навыки и представления тех и других самых разных обычаев, черт религиозного мышления, семейных отношений, права и т.п.
Такое взаимопроникновение привело к складыванию новой многоплановой религиозно-правовой системы, известной под названием индуизма, и к формированию неисчерпаемого в своем многообразии фонда культуры, в которой, по мнению многих ведущих ученых, главной составной частью стали верования и обычаи доарийских народов.
Эти местные народы, отличавшиеся по своему расовому типу от арьев, и представляли собой массив древнейшего населения Индии, создавшего в V—IV тыс. до н.э. в северо-западных областях страны развитую городскую цивилизацию,
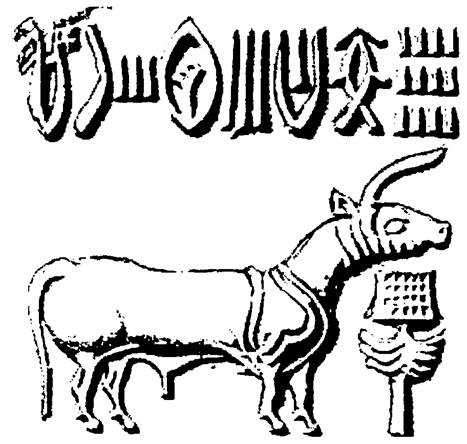
I
Печать из Хараппы с изображением «единорога» и с надписью.
известную как цивилизация долины Инда, или цивилизация Хараппы. Хараппа — это один из ее центров, другим, не менее прославленным был город Мохенджо-Даро.
Индийские археологи почти случайно наткнулись на следы этой древней культуры — обратили внимание на то, что крестьяне окрестныхдеревеньу русла реки Инд используют для строительства крупные обожженные кирпичи, и стали искать источник этого материала. И нашли: скрытые под слоями песка развалины городов. Это было сенсационное открытие. Оно потрясло мировую научную общественность. В 1920-х годах раскопками занялись английские ученые, располагавшие широкими возможностями проводить эти работы на земле колонии. Раскопки продолжались и до 1947 г. (т.е. до достижения Индией независимости) и идут вплоть до наших дней. В них широко включились археологи Индии и Пакистана и ученые стран Запада — американцы, итальянцы, финны, французы.
Миру открылись города с четко распланированными улицами, дву- и трехэтажными домами, развитой системой подземных водоотводов и керамических труб водопровода, подающего воду в ванные каждого этажа. Открылась и картина ирригационных сооружений и разветвленной сети каналов на полях. Найдены в огромном количестве глиняные, каменные и бронзовые печати и таблицы с изображениями животных — горбатых бы ков-зебу, буйволов, слонов, тигров и крокодилов — деревьев и, гораздо реже, людей, а также изделия ремесленников — ювелирные украшения, расписные обломки керамических сосудов и т.п. Обнаружено множество знаков древнейшей письменности, которые до сих пор не расшифрованы, несмотря на пристальное внимание лингвистов, сконструировавших даже специальные для этой письменности компьютерные программы. Не будем здесь останавливаться на ничем не доказанном утверждении российского автора Г. Гриневи- ча, заявившего, что он все это расшифровал и выяснил, что в долине Инда жили славяне и говорили, соответственно, на славянском языке (Г.С. Гриневич. Праславянская письменность. Результаты дешифровки. М., 1993).
Так кто же жил в долине Инда? Кто создал эти города, эти бронзовые изделия, статуэтки и таблицы? Кто развил это цветущее сельское хозяйство, развел стада этих быков? Кто, наконец, строил корабли, изображения которых тоже были найдены на таблицах, и кто и куда плавал на этих кораблях? Как выглядели эти люди и каким богам они молились?
Вопросы, вопросы. И лишь на некоторые из них были найдены ответы. Прежде всего о людях: судя по найденным изображениям, а также по костным останкам, создатели этой цивилизации относились к тем расовым типам, которые определяются антропологами как австралоид- ный, негро-австралоидный и дравидоидный — их потомки живут и в современной Индии (эти антропологичес-

кие черты то выявляются рассеянно в среде разных народов стран, то четко выражаются в среде дравидов, населяющих юг Индии и север Ланки (Цейлона).
Все эти типы характеризуются вариантными оттенками темно-смуглого окраса кожи, очень темной радужной оболочкой глаз и почти черными круто волнистыми волосами. Для австралоидов и негро-австралоидов характерны также довольно широкие и немного приплюснутые носы, полные губы и нередко встречаемая особая форма зубов, заметно выступающих вперед. Наиболее древние этапы сложения и развития этих расовых типов изучены недостаточно и предстают в трудах исследователей иногда в виде взаимно противоречивых мнений. Но почти все сходятся в том, что австралоиды являются одной из древнейших рас на нашей планете (это подтверждают и наши отечественные антропологи).
Не останавливаясь здесь на позорном для каждого мыслящего человека вопросе о возможности делить расы людей на якобы «высшие» и «низшие», скажем еще раз, что в результате длительного и сложного процесса сочленения и синтезирования многих этнокультур в Индии сложилось великое цивилизационное единство. Оно издревле существует, и его не смог поколебать или нарушить ряд пережитых страной за последние 10 веков захватнических и колонизационных воздействий.
Ни в одном индийском языке не существует определения человека по расам, да и само слово «раса» применяется там в совсем ином смысле. Некоторые расологи пытаются объяснить это слово как человеческую расу и ссылаются при этом даже на классический санскрито-английс- кий словарь [81], но там это слово означает: сок растений и фруктов; вода, напиток; нечто самое вкусное в смеси напитков; топленое масло и молоко; расплавленный металл, ртуть; семенная жидкость богов; некоторые минералы;

вкус, горечь, сладость; любовное желание. В классической литературе «раса» определяла самую суть произведения, его «сок», его настроение. И ни в одном из множества словосочетаний это слово не применяется для означения этнической принадлежности человека. Тилак заимствовал его из английской литературы и применяет в англоязычном тексте своей книги как «племя».
О религии жителей региона цивилизации Инда судить трудно. Найдена печать с изображением человека, сидящего в йогической «позе лотоса» и имеющего головной убор с рогами. Признано, что это бог Шива, считающийся в Индии «отцом йоги» и покровителем быков. Найдены и изображения тех деревьев, которые и сейчас почитаются индийцами как священные, да к тому же широко используются в народной медицине.

Частые изображения быков-зебу говорят, видимо, и отом, что с этими животными могло быть связано и культовое почитание — вплоть до наших дней индусы признают зебу священным животным (широко известен культ священных коров). Обнаружены и хорошо сохранившиеся останки обширного городского бассейна со сходящими с него ступенями, что точно совпадает с традиционными бассейнами при индусских храмах, особенно характерными для дравидийской южной Индии. Итак, ученые пришли к выводу, что именно из тех далеких веков, из той древней жизни вошли в развивающий- Священная корова — объект ре- ся индуизм четыре культо- лигиозного почитания в Индии.
103
вых формы: поклонение богу Шиве, священным быкам (коровам), деревьям и воде. Считают также, что датируемые несколько поздним временем находимые на севере Индии статуэтки женщин с гипертрофированно подчеркнутыми бедрами и грудью следует возводить к известному в те же далекие века культу богинь-матерей, который повсеместно распространен в среде всех приверженцев индуизма и в наше время. Можно признать, что пятой наидревнейшей культовой формой является почитание богинь, сохранившееся в религиозных представлениях потомков древних жителей Индии.
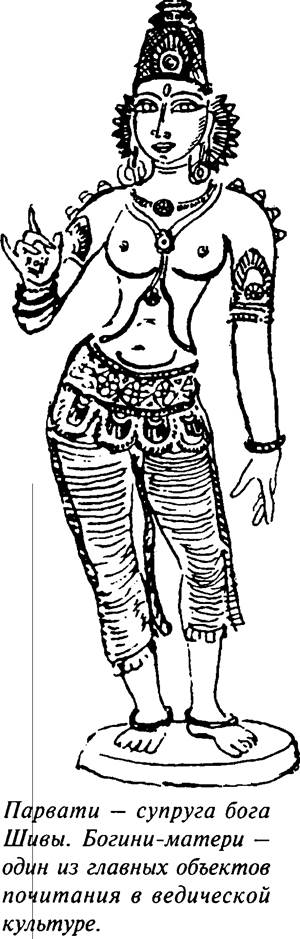
Эта цивилизация пришла в упадок к концу III — первой половине II тыс. до н.э. и была заменена новыми формами культуры, хозяйства, социальных отношений. Оборвались связи (как сухопутные, так и морские, судя по найденным изображениям кораблей) с другими странами Древнего Востока — Шумером, Месопатамией.
Что было причиной или, точнее, причинами этого упадка, а затем гибели цивилизации? Большинство ученых сходится на признании двух основных причин:
1) многовековой засухи, наступившей вследствие того, что река Инд изменила свое русло и ушла в сторону;
2) приходу в страну племен кочевников-арьев, расселявшихся по всей северо-западной и северной Индии, начиная именно с указанного времени.
С боями, а равно и с установлением мирных контактов — вплоть до заключения взаимных браков (как в среде кшатриев — воинской прослойки арьев, так и в среде вайшьев — их трудового слоя) продвигались арьи вглубь индийской земли, постепенно оседая на ней. Создавались ранние государства, развивался рабовладельческий строй (причем в ряды рабов попала масса представителей доарийского населения), осваивались новые формы хозяйства с учетом местных условий и связанных с ними приемов и традиций, — словом, складывалась жизнь нового смешанного общества.
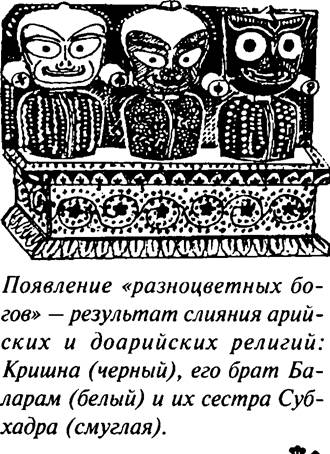
Смешанного не только в смысле физического смешения, которое шло все активнее и захватывало все более широко разные социальные слои, но и в смысле соединения, синтезирования, взаимопроникновения культур, религиозных представлений и правовых норм арьев и доа- рийских народов. Складывались новые общественные институты, создавался расширенный пантеон богов и новые о них представления — развивалась религия индуизма, призывавшая к равному преклонению как перед богами, привнесенными арьями, так и перед божествами местных народов, а также освящавшая те семейно-бытовые и правовые отношения, которые формировались в новых условиях жизни этого смешанного общества.
В высокие социальные слои арьев — жрецов-брахманов и воинов-кшатриев зачислялись жрецы и воины доарийс- кого происхождения, причем обе «национальные стороны» стали считать обязательными для себя выработавшиеся в сложной жизненной практике новые условия и права.
менно по этому пути пошло сложение так называемой ведической культуры, получившей свое название в науке от слова «веда», т.е. от наименования четырех Вед — устных сборников гимнов, молитв, заклинаний и правил жертвоприношений, во многом принесенных в Индию арьями и внедряемых в среду местных народов арья-брахма- нами. Сложение главного из этих сборников Ригведы завершилось уже в Индии к концу 11 тыс. до н.э. Представители новообразованного смешанного слоя индйских брахманов оценивалась (как оцениваются и до сих пор) по степени знания Ригведы и умения применять ее гимны в нужное время и при проведении соответственных церемоний.
Выделение жречества из общей массы соплеменников закономерно для всех развивающихся племен. Истории известны брахманы, друиды, волхвы, шаманы, авгуры и т.д. ти социальные группы разрабатывали правила бого-почитания, регулировали ритуальные действия, порядок жертвоприношения, и предписывали нормы поведения и взаимоотношений людей. При всем этом они приписывали себе умение общаться с неземными силами, утверждая этим свою власть над людьми и даже якобы над решениями богов, вплоть до присваивания себе права казнить и миловать «по согласованию с богами». О том, что в древнеарийском обществе брахманы заняли главенствующее положение, говорят хотя бы эти строки гимна Ригведы: «Это жертвоприношение — пуп мироздания... Брахман этот — высшее небо речи» (книга 1, гимн 164). Эту тенденцию к самовозвеличению брахманы особенно расширили в Индии при возникновении необходимости утверждать свою власть в новой этнической среде в условиях сложения смешанного населения. Ими были созданы «Законы Ману» [29] — свод религиозных «дхармических» предписаний, где сказано: «Мудрецы сотворили дхарму, кто знает наизусть священные тексты, тот для нас велик»; «Брахман — творец рождения»;

«Десятилетнего брахмана и столетнего царя следует считать отцом и сыном, но из них двоих отец — брахман»; «Именем брахмана пусть будет слово, выражающее счастье» (гл. II) и т.д. и т.п.
Повторим, что слово «арья» в поздней ведической литературе употребляется в смысле «почитаемый, высокочтимый» применительно к трем сословиям (варнам) арь- ев — брахманам, кшатриям и вайшьям — для ограничения этих групп от сословия шудр (слуг) и от всего доарийско- го населения Индии. Шудра в составе арийского общества и темнокожие местные жители считались «низкими», и брахманы разрабатывали законоуложения, направленные на запрет смешения этих «низких» с тремя первыми сословиями, которым было присвоено звание «высоких» и «почитаемых». Почти всем человеческим коллективами свойственна тенденция к самовозвеличению (по формуле «мы — не вы, мы — лучше вас»), так что арьи по сути дела не являлись исключением из этого правила.
Завышенная самооценка свойственна захватчикам и завоевателям, что приводит их к требованию особого к ним уважения со стороны теснимых и побежденных. К этим категориям восходят и понятия о «высокочтимости» всех членов трех сословий арьев, внедрявшиеся — и главным образом арьями-брахманами — в суждения и представления доарийского населения.
Здесь необходимо привлечь внимание читателей к упорно повторяющейся в русских текстах об Индии ошибочной трактовке английского слова «поЫе», которое, как правило, переводится у нас в значении «благородный» (особенно применительно к арьям!). Индийские авторы, пишущие на английском языке, используют это слово в смысле, присущем английскому языку, а именно: «поЫе» означает благородство происхождения, высокородство, знатность, элитарность, но не качество характера, такое как высокая нравственность или развитость моральных устоев и т. п., которые определяются английскими словам «moral», «ethical», т. е. словами, никйк не подходящими для характеристики древних арьев, их отношения кдоарийскому населению и долгого ряда описанных в «Махабхарате» жестоких их поступков и действий. Выіііе была приведена цитата из книги индийского историка Д. Косамби, точно определяющая облик древних арьев, а поэтому нашим авторам следовало бы перестать увлекаться мифическим благородством арьев и понять, что применение слова «поЫе», встречающееся в некоторых индийских текстах на английском языке, относится к социальному положению трех первых варн арийского общества — брахма-
108
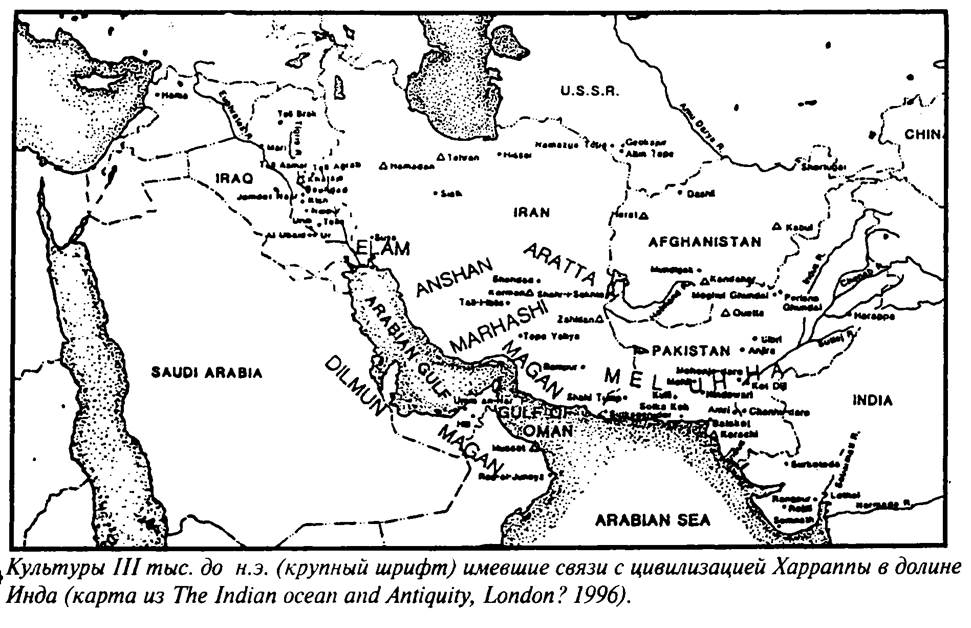
нов, кшатриев и вайшьев. Именно этим словом в пределах английского языка и может определяться их социальное место, и только оно, но не их моральное благородство.
Вспомним при этом, что бытовавшее в России до революции обращение «ваше благородие» относилось именно к лицу более высокого общественного положениям, а не к его моральному благородству, которым такое лицо далеко не всегда и обладало (судя по памятникам нашей классической литературы).
Ошибочны и распространившиеся в последнее время в нашем обществе попытки применения таких названий, как «ведическая культура» или «ведическая религия», к формам вероисповедания, якобы известным в среде славян и конкретно — русских. Выше указывалось, что выявляется ряд черт сходства в вероисповедании древних арьев и всех индоевропейцев, в том числе и славян, но то, что называется ведической религией, не было идентично их формам вероисповедания. Тот сложный системный комплекс, который нам известен как ведическая культура, сложился уже после завершения переселения арьев в Индию и поэтому в европейской среде распространиться никак не мог.
Славяне — и русские в их числе — не арьи и не потомки арьев. Мы — их собратья по нашей, во многом сближавшейся с ними, древнейшей судьбе, по освещению которой в науке делаются лишь первые шаги. Культура славян тысячелетиями развивалась по своим путям, хотя в известной мере и сходным со всеми народами-носителями индоевропейских языков.
Приводимые в этой работе примеры множества сходных и совпадающих слов в русском языке и санскрите свидетельствуют о том, что предки славян и арьев прошли длительный путь формирования своего хозяйства, своих веропред- ставлений и зарождавшегося этно-национального самосознания в одинаковых или близких природных условиях и при
110
tr
тесном сближении территорий расселения их первоплемен. Развившиеся у арьев и славян несходные хозяйственно-культурные типы, а именно кочевое и полукочевое скотоводство арьев и земледелие (сначала подсечно-огневое и мотыжное, а затем плужное) у славян, как и у европейских народов, непреложно говорит о разности этих этнических формирований. Представители каждого из индоевропейских народов являются потомками своих собственных исторических предков, начавших свой рост и развитие от исходных древнейших семейно-родовых групп, постепенно складывавшихся в племена. А поэтому не следует возводить ни наши языки к некоему арийскому праязыку, ни нас самих к арьям, якобы породившим всех индоевропейцев. Процессы исторического развития каждого народа и пути освоения им природно-естественных условий, растянувшиеся на разные и далеко не обязательно синхронные отрезки времени, обусловили сложение тех характерных особенностей (включая и расовые признаки), которые и служат отличительными чертами каждого из них. Черты же сходства1, прослеживаемые вплоть до нашего времени в пределах одной языковой семьи, говорят, повторяем, лишьодавнейших эпохах близкого проживания и, соответственно, обмена и хозяйственными навыками и социоправовыми нормами.
'Сходство и прямые совпадения прослеживаются не только в словарном запасе разговорной и литературной речи, но и в названиях местностей и водоемов. Выше уже указывались работы академика С.Н. Трубачева, в которых подробно разбирался ряд таких названий. Следует дополнить эти работы статьями исследовательницы Русского Севера С.В. Жарниковой, которая выявила целый ряд соответствий: а) названий русских северных водоемов и санскритских корней или даже древних названий рек в санскритской литературе; б) слов северных говоров. Заинтересованный читатель сможет найти публикации ее работ в следующих книгах: [23] — «Опыт расшифровки через санскрит названий водоемов Русского Севера»; [28] — «Слова северных говоров».
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Абаев В.И. Скифо-славянские изоглоссы. М., 1965.
2. Абаев В.И. Доистория индоиранцев в свете арио-уральских языковых контактов (Сб. «Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности» / II тыс. до н. э.) М., 1981.
3. Авеста в русских переводах (1961-1996). СПб., 1997.
4. Алексеев В.П. Этногенетические аспекты антропологического изучения Южной Азии (Сб. «Истоки формирования современного населения Южной Азии»). М., 1990.
5. Алексеева Т.И. Этногенез восточных славян по данным антропологии. М., 1993.
6. Алексеева Л.М. Полярные сияния в мифологии славян. М., 2001.
7. Артхашастра (перев. с санскрита). М.-Л., 1959.
8. Афанасьев А.И. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1-3. М., 1865-1869; М., 1994.
9. Бейлис В.М. Ал-Идриси (ХП в.) в Восточном Причерноморье (Сб. «Древнейшие государства на территории СССР). М., 1984.
10. Богуславская И.Я. Русская народная вышивка. М., 1972.
11. Борисенков Е.П., Пясецкий В.М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. М., 1988.
12. Будыко М.И. Климат и жизнь. J1., 1971.
13. Бэшем А. Чудо, которым была Индия (перев. с англ.). М., 1977.
14. Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Харьков, 1916.
15. Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В. Синташта. Археологические памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. Челябинск, 1992.
16. Геродот. История в девяти книгах. Л., 1972.
17. Гильфердинг А.Ф. О сродстве языка славянского с санскритом. СПб, 1853.
18. Голубиная или глубинная книга (СПб, 1860). М., 1991.
19. Горнунг Б.В. Из предыстории образования общеславянского единства. М., 1965.
20. Граков Б.Н. Скифы. М., 1941.
21. Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М., 1970.
22. Гусева Н.Р. Индуизм. М., 1977; 2005.
23. Гусева Н.Р. Славяне и арьи. Путь богов и слов. М., 2001.
24. Гусева Н.Р. Русский Север — прародина индо-славов. М., 2003.
25. Древние славяне и их соседи. М., 1970.
26. Дюмезиль Ж.Верховные боги индоевропейцев (перев. с франц.). М., 1986.
27. Елачич Е. Крайний север как родина человечества. СПб., 1916.
28. Жарникова С.В. Золотая нить. Вологда, 2003.
29. Законы Ману. (Перев.с санскрита). М., 1960.
30. Зализняк А.А. Проблемы славяно-иранских языковых отношений древнейших периодов // Вопросы славянского языкознания, №6, 1962.
31. Зарубин J1.А. Сходные сельскохозяйственные обычаи у индоа- рийцев и славян // Советское славяноведение, № 1, 1969.
32. Зарубин J1.А. Сходные изображения солнца и зорь у индоарий- цев и славян // Советское славяноведение, №6, 1971.
33. Зимы нашей планеты (Сб.статей. Перев.с англ.). М., 1982.
34. Зоненшайн П.П., Кузьмин М.И. Палеодинамика. М., 1993.
35. Карамзин Н.М. История государства Российского, т. I. М., 1989.
36. Ковалевская В.Б. Конь и всадник. М., 1977.
37. Косамби Д. Культура и цивилизация древней Индии (перев.с англ.). М., 1968.
38. Кузьмина Е.Е. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня. Фрунзе, 1986.
39. Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? М., 1994.
40. Лесной С. Откуда ты, Русь? Ростов-на-Дону, 1995.
41. Лосев А.Ф. Античная мифология и ее историческое развитие. М., 1957.
42. Марков К.К., Величко А.А. Четвертичный период. М., 1967.
43. Мейе А. Введение в сравнительную грамматику индоевропейских языков (перев. с франц.). Юрьев, 1914.
44. Мерперт Н.Я. Древнейшие скотоводы Волжско-Уральского междуречья. М., 1974.
45. Мерперт Н.Я. Древнейшая история населения степной полосы Восточной Европы (Ш тыс. - начало II тыс. до н. э.). М., 1969.
46. Мошинская В.И. О государстве синдов // Вестник древней истории, №3, 1946.
47. Новые данные по геохронологии четвертичного периода. М., 1987.
48. Нейштадт М.И. История лесов и палеогеография СССР в голоцене. М., 1957.
49. Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956.
50. Палеогеография и хронология верхнего плейстоцена и голоцена по данным радиоуглеродного метода. М., 1965.
51. Палеогеография Европы за последние 100 тысяч лет. М., 1982.
52. Палеогеография и морфоструктуры Кольского полуострова. М., 1973.
53. Погожева А.П. Антропоморфная пластика Триполья. Новосибирск, 1983.
из
54. Последний европейский ледниковый период. М., 1965.
55. Ригведа. Мандалы І-ІѴ. М., 1989; Мандалы V—VIII. М., 1995; Мандалы IX—X. М., 1999.
56. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981.
57. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М., 1987.
57а. Санкритьяяна Р. От Волги до Ганга (перев. с англ., предисловия, коментарии Н. Гусевой). М., 2002.
58. Сейбутис А. Миграция послеледникового человека как отражение изменений экологической обстановки // Научные труды ВУЗов Литовской ССР (серия География). VIII., 1982.
59. Серебрянный Л.Р. Динамика покровного оледенения и гляци- оэвтазия в позднечетвертичное время. М., 1978.
60. Соболевский А.И. Названия рек и озер Русского Севера. М., 1927.
61. Семенов Вл.А. Древнейшая миграция индоевропейцев на восток// Петербургский археологический вестник. СПб., 1993.
62. Соколов М., Старорусские солнечные боги и богини. Симбирск, 1887.
63. Таблицы солнца для города Мурманска. Мурманск, 1984.
63а. Тереножкин А. М. Предскифский период на Днепровском правобережье. Киев, 1962.
64. Тилак Б.Г Арктическая родина в Ведах (перев. с англ. Н. Гусевой), М., 2001.
65. Томас П. Легенды, мифы и эпос Древней Индии (перев.. с англ.). СПб., 2000.
66. Топоров В.Н., “Трубачев О.Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1982.
67. Трубачев О.Н. Названия рек Правобережной Украины. М., 1968.
68. Трубачев О.Н. Indoarica в северном Причерноморье. Реконструкция реликтов языка. Этимологический словарь. М., 1999.
69. Трубачев О.Н. К истокам Руси. Наблюдения лингвиста. М., 1993.
70. Уоррен У. Найденный рай или Колыбель человечества на Северном Полюсе (перев. с англ.). М.,2003.
71. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка (перев. с немецк. и дополнения О.Н. Трубачева), т. I—IV. М., 1964-1973.
72. Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972.
73. Человек в мире льда. М., 1988.
74. Энеолит СССР. М., 1987.
75. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 1987.
76. Этнолингвистические аспекты антропологического изучения Южной Азии. М., 1990.
77. Macdonell A.A., Keith А. В. Vedic index of names and subjects, vols. I—II. Delhi, 1982.
СЛОВАРИ
78. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I—IV. М., 1964-1973.
79. Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь. М., 1996.
80. BohtlinckO. Sanskrit Worterbuch, Teile 1—7. St. Petersburg, 1879— 1889.
81. Monier-Williams M. A Sanskrit-English Dictionary. Oxford, 1960.
82. Apte V. The Student’s English-Sanskrit Dictionary. Delhi, 1963.
ДУРГА ПРАСАД ШАСТРИ
СВЯЗЬ МЕЖДУ РУССКИМ языком И САНСКРИТОМ1
Материалы конференции Общества индийской и советской культуры (округ Мирут 22—23 февраля 1964 года, г. Газиа-
бад, Уттар Прадеиі)
Если бы меня спросили, какие два языка мира более всего похожи друг на друга, я ответил бы без всяких колебаний: «русский и санскрит». И не потому, что некоторые слова в обоих этих языках похожи, как и в случае со многими языками, принадлежащими к одной семье. Например, общие слова могут быть найдены в латыни, немецком, санскрите, персидском и русском языках, относящихся к индоевропейской группе языков. Удивляет то, что в двух наших языках схожи структуры слова, стиль и синтаксис. Добавим ещё большую схожесть правил грамматики — это вызывает глубокое любопытство у всех, кто знаком с языкознанием, кто желает больше знать о тесных связях, установившихся ещё в далёком прошлом между народами СССР и Индии.
Всеобщее слово
Возьмём для примера самое известное русское слово нашего века «спутник». Оно состоит из трёх частей: a) «s» — приставка, б) «put» — корень и в) «пік» — суффикс. Русское слово «put» едино для многих других языков индоевропейской семьи: path в английском и «path» в санскрите. Вот и всё. Сходство же русского и санскрита идёт дальше, просматривается на всех уровнях. Санскритское слово «pathik» означает «тот, кто идёт по пути, путешественник».
еревод Ф. Разоренова
Русский язык может образовывать такие слова, как «путик» и «путник». Самое интересное в истории слова «sputnik» на русском. Смысловое значение этих слов в обоих языках совпадает: «тот, кто следует по пути вместе с кем-либо». Мне остаётся только поздравить советских людей, которые выбрали такое международное и всеобщее слово.
Когда я был в Москве, в гостинице мне дали ключи от комнаты 234 и сказали «dwesti tridtsat chetire». В недоумении я не мог понять, стою ли я перед милой девушкой в Москве или нахожусь в Бенаресе или Удджайне в наш классический период где-то 2000 лет назад. На санкрите 234 будет «dwishata tridasha chatwari». Возможно ли где- нибудь большее сходство? Вряд ли найдется ешё два различных языка, сохранивших древнее наследие — столь близкое произношение — до наших дней.
Мне довелось посетить деревню Качалово, около 25 км от Москвы, и быть приглашенным на обед в русскую крестьянскую семью. Пожилая женщина представила мне молодую чету, сказав по-русски: «On тоу seen і опа тоуа snokha».
Как бы я хотел, чтобы Панини[3], великий индийский грамматист, живший около 2600 лет назад, мог бы быть здесь со мной и слышать язык своего времени, столь чудесно сохраненный со всеми мельчайшими тонкостями! Русское слово «seen» и «soonu» в санскрите. Также «madiy» — в санскрите может быть сравнено с «тоу» русского языка и «ту» английского. Но только в русском и санкрите «тоу» и «madiy» должны измениться в «тоуа» и «madiya», так как речь идет о слове «snokha», относящемся к женскому роду. Русское слово «snokha» — это санскритское «snukha», которое может быть произнесено так же, как и в русском. Отношения между сыном и женой сына также описываются похожими словами двух языков.
(Совершенно верно
Вот другое русское выражение: «То vash dom, etot nash dorri». На санскрите:«Tatvas dham, etatnas dham». «Tot» или «tat» — это указательное местоимение единственного числа в обоих языках и указывает на объект со стороны. Санскритское «dham» — это русское «dom», возможно, в силу того, что в русском отсутствует придыхательное «Л».
Молодые языки индоевропейской группы, такие как английский, французский, немецкий и даже хинди, напрямую восходящий к санскриту, должны применять глагол «is», без чего приведённое выше предложение не может существовать ни в одном из этих языков. Только русский и санскрит обходятся без глагола-связки «is», оставаясь при этом совершенно верными и грамматически и идеоматически. Само слово «is» похоже на «est» в русском и «asti» санскрита. И даже более того, русское «estestvo» и санскритское «astitva» означают в обоих языках «существование». Таким образом становится ясно, что схожи не только синтаксис и порядок слов, сама выразительность и дух сохранены в этих языках в неизменном нач|альном виде.
заключение статьи приведу простое и очень полезное! правило грамматики Панини, чтобы показать, насколько оно применимо в русском словообразовании. Панини показывает, как шесть местоимений преобразуются в наречия времени простым прибавлением «г». В современном русском осталось только три из шести приведённых Панини санскритских примеров, но они следуют
| Санскрит | |
| местоимения | значение |
| kim | какой, который |
| tat | тот |
| sarva | все |
это
му правилу 2600-летней давности. Вот они: Санскрит
местоимения значение
kim какой, который
tat тот
sarva все
наречия
русскии
kada
tada
sada
kogda
togda
vsegda
Буква «g» в русском слове обычно обозначает соединение в одно целое частей, существовавших до того отдельно. В европейских и индийских языках нет таких средств сохранения древних языковых систем, как в русском. Пришло время усилить изучение двух крупнейших ветвей индоевропейской семьи и открыть некоторые тёмные главы древней истории на благо всех народов.
КРАТКАЯ СВОДКА СОВПАДАЮЩИХ И СХОДНЫХ СЛОВ РУССКОГО ЯЗЫКА И САНСКРИТА
Составитель Н.Р. Гусева
Редакция считает нужным повторить приводимую сводку, опубликованную в книге «Русские сквозь тысячелетия», изданной в 1998 г., что явилось первой попыткой ознакомления наших читателей со столь показательными данными о схождении и совпадении слов русского языка с санскритом. Следует подчеркнуть, что подобные совпадения прослеживаются как по схождению звучания, так и по одинаковости смысла слов и, главное, по составу их корней.
Необходимо указать читателю на то, что смысловое соответствие ряда приводимых здесь слов не нарушается взаимным несоответствием ряда используемых в написании букв. Например, букве « » в санскрите соответствуют три русских буквы — «ж» (джива — живой), «з» (джна — знать) и «я» (джара — ярый); букве «р» соответствует иногда «л» (руч — луч); буквы «в» и «б» иногда чередуются и в синскритском и в русском написании, как чередуются и буквы «з» и «с».
| Русский язык | Санскрит | Санскрит |
| Транскрипция | Транскрипция | |
| русскими буквами1 | латиницей | |
| ад(ъ) | ад (есть, глотать) | ad |
| артель | арати (корень | arati, rita |
| «рьта» — «порядок») | ||
| баловство, | балатва (детство) | ba latva |
| белый, светлый, | ||
| белок глаза | балакша | balaksha |
| бить, разбивать | бид | bid |
| блестеть | бхлас | bhlas |
| бог (милостивец) | бхага | bhaga |
| богиня, дева | дэви, дэвика | devi, devi ka |
| бодрый | бхадра | bhadra |
| боязнь | бхая, бхияс | bhaya, bhiyas |
| бояться | бхи, бхьяс | bhi , bhyas |
| брань, битва | рана | rana • |
| брат | бхратрь, бхратра | bhratri, bhratra |
| братство | бхратрьтва | bhratritva |
| брать | бхрь | bhr i • |
| брезжить | бхрэдж | bhrej |
| бровь | бхрува | bhruva |
| будить, | будх | budh |
| пробуждаться | ||
| булькать, нырять, | бул | bul |
| тонуть | ||
| буран | бхурана | bkurana |
| бус (туман) | буса | busa |
| быть | бху | bhn |
| бывание | бхавания, бхавья | bhavanl ys, bhavya |
1 Буквой «h» транскрибируется в латинице придыхательный звук, сочетаемый в санскрите с разными согласными, русской аналогией ему может послужить буква «х». Эта буква в санскрите может встречаться и перед первым гласным или между двумя гласными, и тогда в русской транскрипции она произносится как «з», например, «Ьіта» — «зима», или как мягкое южнорусское «г».
| вага (вес, тяжесть) | ваха (несение груза) | vaha |
| вал | вал | val |
| валик | вали | vali |
| вапа (краска, | вапус (красота) | vapus |
| украшение) | ||
| варить | вар (вода) | ѵаг |
| варок (загон для | вара (огражден | vara |
| скота) | ное место) | |
| вас | вас | vas |
| ведать, веденье | вид, вед, веда, | vid, ved, veda, |
| (знание) | ведана | vedana |
| ведун | ведин | vedin |
| вдова | видхава | vidhava |
| весна | васанта | vasanta |
| весь (селение) | виш[4] | vis |
| весь | вишва | vis va |
| ветер (веющий) | вата(р), ваю | vatar, vayu |
| вешало вешка | вешка | veshka |
| вещание (речь) | вачана | vacana |
| вещать | вач | vac |
| веять | ва | va |
| вертеть | врьт, вартана | vrit, vartana |
| визига | байджина (потроха) | baijika |
| внутрь, внутри | антра | antra |
| вода | удан, вар, пива | udan, var, piva |
| водить, руководить | вад | vad |
| возить (на возу) | вах | vah |
| волк | врька | vrika • |
| волна, волнение | валана | valana |
| волос | вала | vala |
| вопрос (спрашивать) | прашна, праччх | pras na, pracch |
| ворот, поворот | вартана | vartana |
| ворошить всадник | раш садин | rash sa din |
| всегда | сада | sada |
| вы (приставка) | ава | аѵа |
| выдра | удра | udra |
| выдрать из... | авадри | avadri |
| вымочить | авамуч | avamuc |
| выпадать | авапад | avapad |
| выставить, удалить | виштха | vistha |
| вязать петлёй | вешт | vesht • |
| вякать (говорить) | вак | vak |
| гадать | гад (говорить по желанию) | gad |
| галить, тошнить (В.Даль) | гал (изливать) | gal |
| гаркать | гардж | garj |
| гать (путь) | гати (хождение) | gati |
| гласить, звучать | хлас | hlas |
| гнать, бить | гхна | ghna |
| говор | гави1 | gave |
| гора | гир, гири | gir, giri |
| горение, пламя | гхрьни | ghrini |
| гореть | гхрь | ghri |
| горло | тала | gala |
| грабить, хватать, | грабх | grabh |
| загребать | ||
| грива, загривок | грива | griva |
| фоза, гром | гарджа | garja |
| грудь | хрьд | hr id • |
| грызть, пожирать | грае | gras |
| грызение, челюсти | грасана | grasana |
| гукать, звать | гху | ghu, hu |
| гуля | гула | gula |
| гусь | ханса | hansa |
1 Слова «говядина» в нашем понимании в санскрите нет, но есть слово «гавьадин», что означает «корм, поедаемый коровой», «еда коровы». В славянских языках отражена историческая трансформация смысла этого слова.

| давать, дать | да, дай | da, day | |
| даванье | даван | davan | |
| давить, понуждать | дабх | dabh | |
| дань, дар | дана | dan a | |
| дающий | дада, дади | dada, dadi | |
| два, две, двое | два, дви, двая | dva, dvi, dvaya | |
| дверь | двар | dvar | |
| деверь | дэврь | dev ri • | |
| дева | ДЭВИ | devi | |
| дёготь | дагдха (выплав | dagdha | |
| ленный жаром) | |||
| день | дина | dina | |
| дерево, бревно | дару | daru | |
| деревянный | дарава | darova | |
| десница | дакшина | dakoshina | |
| держать | дхрь | dhri • | |
| десять | дашан | dasan | |
| диво (небо, сиянье) | дива | diva | |
| дивный | дивья | divya | |
| доля (часть) | дала | dala | |
| дом | дам | dam | |
| драть, рвать | дрь | dri | |
| дроги (повозка) | дхургата | dhurgata | |
| драть, удирать | дра (драп) | dra (drap) | |
| дровяной, | дравья | dravya | |
| деревянный | драва | darava | |
| дорога | дурга (труднопро | durga | |
| ходимый) | |||
| дроги (повозка) | дхургата | dhurgata | |
| друг|ой | друха | druha | |
| дудить (сосать) | дух | duh | |
| ДУРЬ | ІОЙ, плохой | ДУР | dur |
| дуть | I(идти, | ДУ | du |
| стреімиться) | |||
| дуть | 1(раздувать) | дху | dhO |
| ДЫІ^ | дхума | dhuma | |
| дыр | а | дара | dara |
| дыр | ка | дрька | drika • |
А ИХ В Л ДОЛ' ДВА
nVbVoVftVnVnVo
ЛВД Л ОД АСА ДО А
аѴпХ/оѴпѴ/аХ/аХ/оХ/а
| еда (яденье) | ада, адана | ada,adana |
| есмь (1 л. ед. ч.) | асми | asmi |
| есть, поедать | ад | ad |
| есть (3 л. ед. ч.) | асти | asti |
| жало | джал (острие) | jal |
| жена | джани | jani |
| живой | джива | ji va |
| жизнь (живот) | дживатва | j i vatva |
| жить | джив | • • J1V |
| (из)житый, старый | джита | ji ta |
| заря | джарья (восхваляемая) | jarya |
| звать | хва, хвэ | hva, hve |
| злить, зелье | хел | hel |
| зов, званье | хвана | hvana |
| земля | хема | hema |
| зима | хима | hima |
| зимний, снежный | химья | himya |
| змея (тихая сапа) | сарпа | sarpa |
| знать | джна | jna |
| знание | джнана | jnana |
| знатный (знаемый) | джната | jfiata |
| знаток | джанака | janaka |
| зорить, разорять | хрь | hr i m |
| зреть (созревать) | джар | jar |
| идти | и | i |
| иго, ярмо | юга | yuga |
| ил | ила (почва) | ila |
| искать (желать | иш | ish |
| истреблять, убивать | труп | trup |
| итак | итас | itas |
| кадка | кандука (вместимость) | kanduka |
| казать (сказать) | катх, ках | kath, kah |
| как, какой, кто | ка | ка |
| калоша | калоша (грязь) | kalosha |
| калякать | кал | kal |
| канючить | кан | кап • |
| каруна (птица | каруна (горестный) | karuna • |
| печали) | ||
| касаться, щупать | чхуп | chup |
| кашлять | кас | kas |
| клин,кол | кила | klla |
| клямиться, маять | клам | klam |
| ся (В. Даль) | ||
| када | kada | |
| мэка, букка | meka, bukka | |
| кхила | khila | |
| купака | кйрака | |
| куп | kup | |
| кхарва | kharva | |
| кеша | kesa | |
| катара | katara | |
| коша | kosa | |
| клрип | klrip | |
| крату | kratu | |
| крьшака | krishaka • | |
| крька (горло) | krika • | |
| кравис | kravis | |
| кравья | kravya | |
| крыи | kris • | |
| крунча | krun ca | |
| крукта | krukta | |
| круш | krus | |
| крунч | krunc | |
| крь | kri • | |
| кумбха | kumbha | |
| ку, кутас | кц kutas | |
| кулака (пять вместе) | kulaka | |
| кулика | kulika | |
| кур | kur, kurankura | |
| курча (завиток) | kurca |
| куток | кута | kuta • | ||||
| куча | куча (выпуклость) | kuca | ||||
| ладить, играть | лад | lad • | ||||
| ляля, женщина | лалана | lalana | ||||
| ласкать, обнимать | лас | las | ||||
| латка | лаіа (дыра на одежде) | lata | ||||
| лёгкий | лагху | laghu | ||||
| лепить, налепить | лип | lip | ||||
| лепка | лепа | lepa | ||||
| лечь, лежать | ли | ll | ||||
| лизать | лих | lih | ||||
| липкий | липтака | liptaka | ||||
| лишь (немного) | лиш, леша | lis, lesa | ||||
| лов, собирание | лава | lava | ||||
| лопотать, лепетать | лап | lap | ||||
| любить | лубх | lubh | ||||
| лупить (повредить) | луп | lup | ||||
| луч, блеск | руч | rue | ||||
| льнуть | ли | li | ||||
| лялить, нежить | лал | lal | ||||
| мастак | мастака (голова) | mastaka | ||||
| матерь, мать, мама | матрь, мата, ма | matri, mata, ma | ||||
| мга | магна (гаснущий) | magna | ||||
| мёд | мадху | madhu | ||||
| мека, коза | мэка | meka | ||||
| меканье | мэккана | mekkana | ||||
| менять | мэ | me | ||||
| умереть, умирать | мрь | mri m | ||||
| мерить | ми | ml | ||||
| меркнуть, мрачнеть | мрьч | mr ic m | ||||
| мёртвый | мрьта | mr ita • | ||||
| месяц | мае | mas | ||||
| мех, руно | меша | mesha | ||||
| мешалка | мекшана | mekshana | ||||
| мешшъ, перемешивать | микш | miksh | ||||
| мешать, смешивать | мишр | mis г | ||||
| мешок (кожаный) | машака | mas aka | ||||
| млеть | млаи | mlai | ||||
| мнение | манас | manas | ||||
| мнить, полагать | ман | man | ||||
| мокнуть | мок | mok | ||||
| мой, моя | мама | mama | ||||
| морда, облик | мурдхан, мурти | murdhan, mQrti | ||||
| (голова) |
|
| ||||
| мочить | муч | muc | ||||
| мошенничать, | муш | mush | ||||
| мышка | мушка | mushka | ||||
| мычать | ма | ma | ||||
| мушка, комар | машака | mashaka | ||||
| мясо | мае, манса | mas, mansa | ||||
| мять, мельчить | матх | math • | ||||
| нагой | нагна | nagna | ||||
| небо | набха | nabha | ||||
| небеса | набхаса | nabhasa | ||||
| нет | нэд | ned | ||||
| ни | ни | nl | ||||
| низка бус | нишка | nishka | ||||
| низина | нихина | nihi na | ||||
| низкий | нича | n’ica | ||||
| никнуть, гибнуть | никун (завершать) | nikun • | ||||
| нить | нитья | nitya | ||||
| нишкнуть, замол | никшип | nikship | ||||
| чать |
|
| ||||
| новый | нава | nava | ||||
| новина(луны) | навина | navina | ||||
| нас | , наш | нас | nas | |||
| ног | оть | нагха | nakha | |||
| нос | наса | nasa | ||||
| НО1] | накта | nakta | ||||
| ну | г | ну | nu | |||
| нуд | ИТЬ | нуд | nud | |||
| оба | убха | ubha | ||||
| ого | нь | агни | agni | |||
| ове | чка | авика | avika | |||
| оке | акша | aksha | ||||
| ость | астхи | asthi | ||
| от (приставка) | УД, ут | ud, ut | ||
| отвозить | удвах | udvah | ||
| отгорнуть | удхар | udhar | ||
| отдать | удда | udda | ||
| отделить | уддал | uddal | ||
| откашляться | уткас | utkas | ||
| открыть | уткрь | utkri • | ||
| открытый, вскрытый | уткрьта | utkrita • | ||
| отпадать | утпад | utpad | ||
| отсадить | утсад | utsad | ||
| отчалить, отойти | утчал | utcal | ||
| падать | пад | pad | ||
| пал (горение) | палита | palita | ||
| папа | папа (старший родич, покровитель), папу | papa, papu | ||
| пара (другой) | пара | para | ||
| пасти | паш | pas | ||
| пекота, жар | пака | paka | ||
| пена | пхена | phena | ||
| первый | пурва (изначальный) | рйгѵа | ||
| пере (приставка) | пара | para | ||
| передать | парада | parada | ||
| перевертеть | параврит | paravrit | ||
| песок | пансу | pansu | ||
| пёс | пса (голодный, жрущий) | psa | ||
| печь | пач | рас | ||
| печение | пачана | pacana | ||
| писать | пиш | pis | ||
| пить, питать | пи, па | pi, pa | ||
| питый | пита | pita | ||
| плаванье | плавана | plavana | ||
| плескать | плуш | plush | ||
| плыть, плавать | плу | plu | ||
| плывущий (плот) | плута | pluta | ||
| по (приставка) | упа | upa | ||
| покрыть | упакри | upakri | ||
| послушать | упашру | upashru | ||
| постоять | упастха | upastha | ||
| полный | пурна | рйгпа | ||
| праматерь | праматрь | pramatii | ||
| приятный | прия | ргіуа | ||
| про (приставка) | пра | рга | ||
| прати (приставка) | прати | prati | ||
| противостоять | пратистха | pratistha | ||
| пробудить (ся) | прабудх | prabudh | ||
| прогнуть | праджну | prajnu | ||
| прознать | праджна | prajna | ||
| простираться | прастрь, стрь | prastri, str | ||
| простор | прастара | prasta ra | ||
| протопить, прогреть | пратап | pratap | ||
| протянуть | пратан | pratan | ||
| прыскать | прьш | prish | ||
| против | прати | prati | ||
| прохлаждаться | прахлад | prahla d | ||
| прянуть | прани | pranl | ||
| путь | патха | patha | ||
| путник | патхика | pathika | ||
| пухнуть, прирастать | пуш | push | ||
| пята, стопа | пада | pada | ||
| радоваться | храд | hrad | ||
| развеивать, вихрить | вихрь | vihri | ||
| рана | врана | vrana | ||
| раненый | вранин | vranin • | ||
| расти | рох | roh | ||
| рев | рава | rava | ||
| реветь | рав | rav | ||
| река (Дон, | дану | danu | ||
| Днепр) | родас (земля) | rodas | ||
| род, родить | раса | rasa | ||
| роса, сок | рохат | rohat | ||
| рост | РУ | ru | ||
| рубить рудый (красный, рыжий) | родхра | rodhra | ||
| рушить | руш | rush | ||
| рыдать | РУД | rud | |||
| рыскать | РЬ | гі • | |||
| с, со | са | sa | |||
| садить, сидеть | сад | sad | |||
| сам, самый | сама | sama | |||
| свара (крик, шум) | свара | svara | |||
| сверкать | свар | svar | |||
| свет, белизна | швит | svit | |||
| светлый, белый | швета | sveta | |||
| свой | сва | sva | |||
| свойству | сватва | svatva | |||
| свояк | свака | svaka | |||
| свёкор, свекровь | свакр (усвоить, обрести) | svakri • | |||
| сердце | хрьдая | hridaya | |||
| семя (зерно) | хирана | hirana • | |||
| семья | самьям (держаться | samyam | |||
|
| вместе) |
| |||
| сила духа | шила | sila | |||
| сказитель | кахала | kahala | |||
| скучивать, смеши | куч | kuc | |||
| вать | |||||
| сливать, извергать | сридж | srij | |||
| славление | шравания | sravaniya | |||
| слухи (слава) | шрава | srava | |||
| слушать, слышать | шру | sru | |||
| смертный | марта | marta | |||
| смерть | мрьтью, марана | mrityu, marana | |||
| смеяться | СМИ | smi | |||
| снег | снехья (скользкий) | snehya | |||
| сноха | снуша | snusha | |||
| собор, собрание | сабха | sabha | |||
| совещание (общее | самвачана | samvacana | |||
| мнение) | |||||
| совпадать | сам п ад | sampad | |||
| сознавать | самджна | samjna | |||
| солёный, горький | сола | sola, | |||
| сочить, изливать | сич, сик | sic, sik | |||
| соха | спхья (папка-копалка) | sphya | |||
| спать | свап (яз. хинди — «сона») | svap | |||
| спрыснуть | спрьш | spris | |||
| спящий | супта | supta | |||
| стан, стоянка | стхана | sthana | |||
| (до)стигнуть, | стигх | stigh | |||
| стократный | шатакрату | shatakraty | |||
| столб | стамбха | stambh, stabh | |||
| стоять | стха | stha | |||
| стянуть (украсть) | СТЭН | sten | |||
| стягивать | стхаг | sthag | |||
| сударь | сударша (приятный на взгляд) | sudursha | |||
| суп,соус | супа | supa | |||
| суть, истина | сатьям | satyam | |||
| сушить | шуш | sush | |||
| сушка | шушка | sushka | |||
| сын | суну, суна | sunu, sQna | |||
| та, эта | та | ta | |||
| тата, тятя | тата | tata | |||
| такой | така | taka | |||
| таскать, (утаскивать | тас | tas | |||
| таскун (вор) | таскара | taskara | |||
| таящий (вор) | таю | tayu | |||
| творить | твар | tvar | |||
| те, тебе | тэ | te | |||
| теплить, утеплять | тап | tap | |||
| теплота | тапа | tapa | |||
| тот | тад, тат | tad, tat | |||
| тот самый | татсама | tatsama | |||
| тощий, пустой | туччхья | tucchya | |||
| тянуть | тан | tan | |||
| удирать, удрать | дра (драп) | dra (drap) | |||
| умирать | мрит | mrit • | |||
| уста | остха | osrha | |||
| утомляться | там | tam | |||
АА\вЛ дед дв л nVаѴnVаѴаѴftV/a
вд дрд~ ДвД' А. °/Л
чУдЛ/аѴрѴ/о\УnVаѴft
| уток ткани | ута | uta |
| учитывать (считать) | чит | cit |
| ходить | ход | hod |
| холодить, освежать | хлад | hlad |
| холодок | хладака | hladaka |
| хранить (прятать) | хри, хар | hri, har |
| чавкать | чам (жевать) | cam |
| чавкающий (чушка) | чушчуша | cus cusha |
| чалить | чал | cal |
| чара (чарующий) | чару | caru |
| чашка | чашака | cashaka |
| четверо | чатвара | catvara |
| четыре | чатур | catur |
| чинить, учинить | чи | ci |
| чудак, глупец | чуда | cOda • |
| чуток, чуть-чуть | чут (мелкота) | cut • |
| шалаш, укрытие | шала | sala |
| шибко | шибхам | sibham |
| шикнуть | кши (успокоить) | kshi |
| шило | шира (острие) | slra |
| шить, (с)шивавать | сив | siv |
| шурин | швашурья | svas urya |
| эва | эва | cva |
| эка, экий | эка | eka |
| это, этот | этад, этат | etad, etat |
| юшка (бульон) | юша | yushka |
| явь, явление | ява (явление луны) | yava |
| ягня, ягнёнок | яджна (жертва) | yajna |
| яденье, поеданье | адана | adana |
| яма (бог смерти) | яма | у am a |
| ярый | джара (любовник) | jara |
ОПЫТ РАСШИФРОВКИ ЧЕРЕЗ САНСКРИТ НАЗВАНИЙ НЕКОТОРЫХ РЕК РУССКОГО СЕВЕРА
(составитель канд. ист. наук С. В. Жарникова, г. Вологда, консультант Н.Р. Гусева)
|
|
| Санскрит, | |||||||
|
|
| транскрипция | |||||||
|
|
| латиницей | |||||||
|
|
| alaka | |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
| anila | |||||||
|
|
| vaja | |||||||
|
|
| vapra | |||||||
|
|
| var | |||||||
|
|
| varda | |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
| vas | |||||||
|
|
|
| |||||||
| (Устьсысольский у. |
| ||||||||
| Вологодской губ.) |
| ||||||||
| р. Индега (Печорский у.) | р. Инд |
| |||||||
| р. Индига Мурманский у.) |
| ||||||||
| р. Индига (Меленский у.) |
| ||||||||
| р. Индоманка |
| ||||||||
| (Кирилловский у.) |
| ||||||||
| р. Индога (Тотемский у.) |
| ||||||||
| р. Ира | ира (вода) | іга | |||||||
| р. Каваса (Вельский у.) | каваш (звучный) | kavash | |||||||
| р. Кама (приток Волги) | Кама (желание) | ka та | |||||||
| р. Камавелица (Тотемскмй у.) |
| ||||||||
| р. Камчуга (то же ) |
| ||||||||
| оз. Камозеро (Кемский у.) |
| ||||||||
| оз. Камозеро |
| ||||||||
| (Кирилловский у.) |
| ||||||||
| р. Калия (Пинежский у.) | Калия (имя водного змея) | kaliya | |||||||
| р. Кула (Тотемскмй у.) | кула (пруд) | kula | |||||||
| р. Кула (Вельский у.) |
| ||||||||
| р. Кулой (Холмогорский у.) |
| ||||||||
| р. Кулой (Пинежский у.) |
| ||||||||
| р. Кулать (Тотемскмй у.) |
| ||||||||
| р. Кунджа | кунджа (звучный) | kunja | |||||||
| (Кадниковский у.) | кундж (бормотать) | kunj | |||||||
| р. Кува (Кирилловский у.) Кубха (р. Кабул) | kubha | ||||||||
| р. Куша | куша (вид осоки) | kusha | |||||||
| (Устьсысольский у.) |
|
| |||||||
| р. Куша (Печорский у.) |
|
| |||||||
| оз. Куш (Олонецкий у.) |
|
| |||||||
| р. Лагман | лаг (вливаться; | lag | |||||||
| (Шенкурский у.) | в Афганистане есть река Лагман) |
| |||||||
| р. Л ала | лал (играть) | lal | |||||||
| (Сольвычегодский у.) |
|
| |||||||
| р. Лала (Устюжский у.) |
|
| |||||||
| р. Лала )Никольский у.) |
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
| lakshmi | |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
| lakshmana | |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
| man | |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
| pavana | |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
| padma | |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
| puma | |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
| pa na | |||||||
|
|
| Pi | |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
| rogaghna | |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
| riph | |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
| rud | |||||||
|
|
|
| |||||||
| р. Рудея (олонецкая г.) |
| |||
| ручей Сагарев | сагара (море) | sagara | ||
| (Кижский погост) |
| |||
| р. Сара (Каликовский у.) | cap (течь) | sar | ||
| р. Сара | сара (вода, жидкость) | sara | ||
| (Ладейнопольский у.) |
| |||
| р. Сара (Белозерский у.) |
| |||
| р. Сарова (Пинежский у.) |
| |||
| оз. Сарозеро |
| |||
| (Ладейнопольский у.) |
| |||
| р. Сарга (то же) | сарга (течение, изливание) | sarga | ||
| р. Сорга (Шенкурский у.) |
| |||
| оз Сарчинское (Ладейнопольский у.) | ||||
| р. Секура | сека (жидкость, | seka | ||
| (Сольвычегодский у.) | изливание) | |||
| р. Синдош | Синд, Инд | |||
| (Вологодский у.) | (река в Индии) | |||
| р. Синдошка (то же) | синдху (река, поток) | sindhu | ||
| оз Синдор (Устьсысольский у.) | ||||
| р. Сираж (Вельский у.) | сира (поток) | sira | ||
| р. Ситка | сита (светлый) | sita | ||
| (Кирилловский у.) | ||||
| оз. Ситково (Грязовецкий у.) | ||||
| р. Сить (Кадниовсвкий у.) | ||||
| р. Сухона (Вологодская г.) сукха (процветание) | sukha | |||
| р. Сура (Пинежский у.) | су (течь) | su | ||
| р. Сюра (то же) | сура (текущий, вода) | sura | ||
| р. Суран (Устьсысольский у.) | ||||
| р. Суровка (Вологодский у.) | ||||
| оз Свар (Кирилловский у.)свар (сверкать) | svar | |||
| р. Тавт (Кадниовсвкий у.) | тават (столь обильный) | tavat | ||
| р. Тавта (Тотемский у.) |
| |||
| р. Тара (Вельский у.) | тара (ясный) | tara | ||
| р. Тар (Шенкурский у.) |
| |||
| р. Тарна (то же) |
| |||
р. Тарка (Мурманский у.) р. Тарнога (Тотемский у.) р. Тарта (то же) р. Тора (Никольский у.)
р. Тикена (Тотемский у.) тик (идти, течь) tik
р. Ура (Сев. Прионежье) урас (лучший) uras
оз. Ура (то же) еру (широкий) uru
р. Ура (Пинежский у.)
р. Урья (Череповецкий у.)
оз Урозеро (Белозерский у.)
оз Урозеро (Ладейнопольский у.)
р. Удора (Мезенский у.) удара (прекрасный) udara
р. Удора (Яренский у.)
оз Харас (Белозерский у.) харас (глоток, напиток) р. Харина (Никольский у.)хари,Харина hari. harina
ручей Харинский (желтый;
(Сольвычегодский у.) цвета Солнца)
р. Харручей (Каргополский у.)
р. Харута (Печорский у.)
оз. Харута (то же)
р. Харьяж (то же)
р. Харева (Пинежский у.)
р. Щона (Никольский у.) Шона (река в Индии) sona
АРКТИЧЕСКАЯ РОДИНА В ВЕДАХ
Новый ключ к интерпретации многих ведических текстов и легенд. Выдержки из текста книги [64]
Предисловие
Эта книга является продолжением моего труда «Орион, или Исследование древности Вед», опубликованного в 1893 г. Установление древности Вед, принятое тогда в среде исследователей этого вопроса, было основано на соотнесении временных периодов с теми различными слоями, на которые подразделяли всю ведическую литературу, полагая при этом, что древнейший из этих слоев не мог быть относим ко времени более глубокому, чем 2400 г. до н. э. Я же в своем «Орионе...» попробовал, однако, доказать, что все эти определения, помимо своей ограниченности, были тщетными и недостоверными и что содержащиеся в ведической литературе астрономические указания сообщают нам более точные данные для правильного определения возраста разных слоев ведической литературы.
Сначала я работал над развитием тех линий, которые я провел в книге «Орион...». Не буду говорить здесь о том, что освещается в данной новой книге — этому не место в предисловии к ней, но скажу, что начал искать и, в свете последних данных геологии и археологии, касающихся изначальной истории человечества, я подошел постепенно к новому методу поиска и в конце концов пришел к заключению, что предки ведических риши (пророков) жили в Арктике в межледниковый период — к этому меня подвело постепенное восприятие массы свидетельств в Ведах и Авесте.
В Ригведе имеется много мест, которые обычно оцениваются как темные и не имеющие смысла. Наделе же они, рас-

сматриваемые в свете нового научного подхода, полностью раскрывают картину принадлежности полярных атрибутов ведическим богам или же говорят о структуре древнейшего арктического календаря. Равным образом и Авеста выразительно сообщает о том, что счастливая земля Айрьяна Ваэд- жо, то есть арийский рай, была расположена там, где солнце светило лишь один очень долгий раз в году, и что эта страна была разрушена наступившими льдами и снегом, которые сделали ее климат настолько непереносимым, что надо было уходить оттуда к югу. Когда мы сопоставим эти ясные и исчерпывающие утверждения с тем, что мы знаем о ледниковой и постледниковой эпохах, почерпнув эти знания из новейших геологических исследований, мы не сможем избежать вывода о том, что изначальный дом арьев следует связывать с Арктикой и с межледниковой эпохой.
Да и сама теория арктической родины арьев не так уж и нова, как это может показаться на первый взгляд. Некоторые ученые уже объявили о своем убеждении, что изначальную область сложения человечества нужно усматривать в арктическом регионе, а ректор Бостонского университета д-р Уоррен опередил в известной степени мой труд, издав свою научную и призывающую к размышлению книгу «Найденный рай, или Колыбель человечества на Северном полюсе».
Последние выводы геологов не только согласуются с описанным в Авесте разрушением арийского рая, но и дают нам возможность отнести его существование ко времени, которое предшествовало последнему оледенению.
Б. Г. Тилак
Глава I Доисторические времена 30*
Благодаря сотням каменных и бронзовых изделий, найденных при раскопках в разных областях Европы, археологи установили хронологическую последовательность железного, бронзового и каменного веков вплоть до исторического периода.
* Эти цифры указывают на страницы книги.
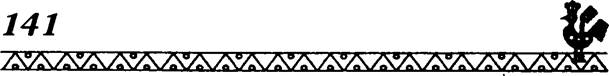
Но наиважнейшим событием прошлого века было непосредственно касающееся нашей здесь темы открытие данных, доказывающих существование ледникового периода в конце четвертичной эры и высочайшую древность наличия на Земле человека.
32-33
Если человек существовал уже до начала ледникового периода, то он был свидетелем гигантских изменений, принесенных этим периодом, а поэтому, естественно, можно ожидать, что и указания (какими бы скрытыми и удаленными они ни были) на все происходившие события могут быть обнаружены в древнейших традициях, верованиях и воспоминаниях людей.
Я хочу углубиться только в ведическую литературу и показать, что, если мы прочтем некоторые пассажи Вед, которые до этого считались непонятными, взглянув на них в свете новых научных открытий, мы будем вынуждены признать, что родина предков ведического народа лежала вблизи Северного полюса и было это перед последним ледниковым периодом.
38
Четвертичная эра, о которой мы здесь ведем речь, подразделяется на периоды плейстоценовый, или ледниковый, и современный, или постледниковый. Завершение первого из них и наступление второго отмечено последним оледенением, или ледниковой эпохой.
41
Что же касается расовой принадлежности ранних обитателей Европы, то костные останки и черепа людей указывают на то, что это были прямые предки современного населения разных европейских областей.
Глава II ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 51-52
Эти ледниковый и межледниковый периоды сопровождались чередованием теплого и холодного климата, а также

соотносились с опусканием и поднятием земной толщи — первое наступало под давлением огромных масс льда. Итак, период оледенения был отмечен опусканием земель, резким похолоданием и нарастанием ледового покрытия на поверхности современных областей умеренного климата. Межлед- никовье же. сопровождалось освобождением земель от льда и наступлением мягкого климата, способствовавшего тому, что даже районы Арктики становились обитаемыми.
Современные ученые все же еще не в состоянии проследить причины великой катастрофы оледенения, хотя наличие его, как и установление мягкого климата в Арктике в период межледниковья, неоспоримо доказано.
67
Ряд известных ученых уже выдвигали теорию о том, что колыбель человечества следует искать в Арктике и что там же зародилась жизнь животных и растений.
Таким образом, можно видеть, что ведические свидетельства указывают на арктическую родину. Там жили в древнейшие времена ведические риши, а в последних научных открытиях нет ничего, что привело бы нас к мысли
о том, чтотакие выводы априори неверны. Наоборот, результаты этих изысканий говорят в пользу такой гипотезы, и многие ученые уже пришли к мысли, что нам следует искать колыбель человечества в арктическом регионе.
Глава III АРКТИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ 68-71
Мы уже знаем, что в период плейстоцена на всей поверхности земного шара происходило заметное поднятие участков суши и погружение их в воды морей. Это сопровождалось резкими изменениями климата. Естественно, суровые условия периода оледенения проявлялись особенно интенсивно в пределах арктического круга, и мы имеем полное право полагать, что такие географические изменения, как поднятие и опускание суши, относятся в наибо-

лее значительной степени к областям вокруг Северного полюса.
Глубина Арктического океана к северу от Сибири невелика, и если в плейстоцене происходили большие геологические изменения, то, похоже, что этот участок земли, ныне лежащий под водой, мог раньше возвышаться над ней.
Долгое лето, на которое приходится 229 тепловых единиц, и короткая зима в 136 этих единиц создавали климат, который д-р Хершель назвал «приближением к непрерывной весне». Если человек палеолита жил здесь в межледниковый период, он должен был считать эти условия весьма благоприятными, даже несмотря на то, что солнце исчезало с неба, скрываясь за горизонтом на ряд дней в течение года — их количество зависело от локальных показателей.
Обращаясь к традициям, мифам и верованиям Вед, мы имеем возможность увидеть, что они возникли много тысяч лет назад и были без изменений передаваемы с тех пор. Поэтому вполне возможно, что в этих древних книгах мы можем найти следы, указывающие на изначальную приполярную родину арьев и на то, что они жили, возможно, в пределах Полярного круга в те древнейшие времена.
72-73
И прежде всего, следует учитывать разницу между полюсом и приполярьем.
Полюс — это всего лишь точка, и все жители исходной своей древней родины, если она располагалась у самого полюса, не могли бы жить в этой одной точке. Полярный же, или арктический, регион означает на деле часть суши, которая лежит от полюса до Полярного круга. И длительность дня и ночи, как и сезонов, в разных точках арктического региона не может быть и не бывает такой же, как и в точке полюса.
Люди, жившие вокруг полюса, или, точнее, между Северным полюсом и Полярным кругом в те века, когда эти земли были обитаемы, имели, конечно, представления о шестимесячном дне и ночи, но, живя южнее полюса, должны были следовать календарю, отличавшемуся от строгих условий календаря самого полюса.

99-91
I. Характеристики точки полюса (полярные)
1. Солнце встает всегда на юге.
2. Звезды не восходят и не заходят, но вращаются в горизонтальной плоскости, завершая каждый свой круг за 24 часа. Северная небесная полусфера видима на протяжении всего года, тогда как южная всегда невидима.
3. Год состоит из одного дня и одной ночи по 6 месяцев.
4. Бывает только одно утро и один вечер, то есть солнце всходит и заходит единожды в год. Но заря, как утренняя, так и вечерняя, длится по два месяца каждая, то есть по 60 периодов в 24 часа каждый. Красноватый свет обеих зорь не сочетается с каким-либо определенным местом горизонта (восточным или западным, как в наших местах), но двигается круг за кругом вдоль горизонта, подобно колесу гончара, завершая каждый свой круг за 24 часа. Эти круги рассвета совершаются до того момента, когда солнечный диск полностью покажется над горизонтом. Вслед за этим само солнце беззакатно ходит кругами по небу в течение шести месяцев, и каждый круг длится 24 часа.
II. Циркумполярные характеристики
1. Солнце всегда видно к югу от точки зенита наблюдателя. Но это не следует причислять к особым характеристикам, так как то же самое будет типично и для наблюдателя в умеренной зоне.
2. Значительное число звезд циркумполярны, то есть они всегда вращаются над горизонтом и всегда видимы. Другие звезды восходят и заходят, как в умеренной зоне, но вращаются по более наклонным кругам.
3. . Год состоит из трех частей:
а) долгая непрерывная ночь во время зимнего солнцестояния, которая длится дольше чем 24 часа, но меньше чем шесть месяцев, — это зависит от локализации;
б) ей соответствует долгий непрерывный день во время летнего солнцестояния;
в) в остальную часть года происходит чередование дней и ночей по суткам, не превышающим 24 часа,

как бы ни были эти дни и ночи разновременны по своей длительности.
После завершения долгой ночи такой день бывает короче ночи, но, постепенно нарастая, он превращается в долгий непрерывный день. В свою очередь, после завершения периода долгого дня ночь поначалу бывает короче дня, но, удлиняясь, переходит в долгую, чем и завершается год.
4. Рассвет после такой ночи длится ряд дней, но его длительность и яркость меньшее, чем в точке полюса, что также зависит от локализации. Для мест, расположенных в нескольких градусах от полюса, феномен кружащегося по горизонту утреннего света может быть наблюдаем в течение большей части всего времени рассвета. В более отдаленных от полюса местах рассветы между обычными днями и ночами длятся, как и в умеренной зоне, по нескольку часов. Поднявшееся над горизонтом солнце будет в течение всего долгого дня кружиться в небе над головой наблюдателя, но не так, как на полюсе, то есть в горизонтальной плоскости, а наклонными кругами. Во время долгой ночи оно полностью будет скрыто под горизонтом, но в промежуточный период года будет то восходить, то заходить, пребывая над горизонтом в течение некоторой части 24 часов, то есть некоторой части суток, в зависимости от своего положения на эклиптике.
Нами здесь описаны две группы главных пунктов различий в характеристиках точки полюса и региона циркумполярное™. Такие характеристики не могут быть обнаружены нигде больше на земном шаре.
Мы можем считать эти указания на особые различия верными нашими проводниками в исследовании свидетельств, приводимых в Ведах. Если ведические описания или традиции выявляют те или иные из приведенных характеристик, мы можем смело определить полярность или циркум полярность места их зарождения. И если даже поэт-риши не был сам свидетелем описываемых явлений, то знал их по нерушимым условиям передачи точных описаний от поколения к поколению. К счастью, в ведической литературе имеется много таких пассажей и отсылок.

Глава IV НОЧЬ БОГОВ 92-102
С самого начала мы встречаемся в ведической литературе с четко организованной системой жертвоприношений, ясно соотносимой с лунно-солнечным календарем. Это указывает на то, что ведические барды достигли в те давние времена высокого уровня знаний в области практической астрономии. Я уже указывал в своей книге «Орион...», что своеобразными хронометрами в те дни служили ежедневные, двухнедельные, ежемесячные, поквартальные, полугодовые и годовые сроки жертвоприношений.
Ригведа — это та книга, в которой старые данные о разных периодах настолько смешаны, что требуется долго и терпеливо работать, дабы получить возможность разделить и классифицировать ее содержание в хронологическом порядке.
Вращение небосвода над головой является одной из специальных характерных черт Северного полюса, и это феномен столь особого свойства, что каждый может надеяться найти его следы в ранних традициях того народа, который или сам, или же его предки когда бы то ни было жили вблизи Северного полюса.
Пользуясь этим тестом применительно к ведической литературе, мы явно находим строки, в которых сравнивается кружение неба с вращением колеса и указывается, что небесный свод как бы поддерживается осью. Так, в Ригведе [X, 89,4] об Индре говорится, что он «раздельно удерживает своей силой землю и небо, как два колеса повозки удерживаются ее осью».
И если мы соединим оба утверждения, то есть что небо поддерживается как бы шестом и что оно вращается, подобно колесу, то смело можем утверждать, что речь идет о таком движении небесной полусферы, которое можно наблюдать только на Северном полюсе.
В Ригведе [1,24,10] созвездие Большой Медведицы описывается как стоящее «высоко», а это может относиться только к высокому положению созвездия в небе, когда оно может быть

видимо как бы над головой наблюдателя, что ясно говорит о такой возможности лишь в циркумполярном регионе.
Утверждение, что день и ночь богов длятся по шесть месяцев, крайне широко распространено в индийской литературе, в силу чего мы остановимся на этом как можно полнее и начнем с постведической литературы.
Гора Меру признается нашими астрономами земным Северным полюсом, и в «Сурья Сиддханте» [XII, 67] говорится так: «На Меру боги видят солнце после его единственного восхода и в течение половины его вращения, начинающегося с Ари» (в древнеиндийской астрологии так называется «шестой дом» планет или небесного пространства).
День богов совпадает с движением солнца от весеннего к осеннему равноденствию, когда солнце можно видеть на Северном полюсе или на Меру, а ночь — это прохождение солнца по югу, от осеннего обратно к весеннему равноденствию.
Если предки человеческой расы когда-либо и жили на Северном полюсе, у них должны были быть боги, жившие там же; и я попытаюсь в соответствующих главах показать, что ведическим богам приданы атрибуты, явно обладающие полярным происхождением.
Это подтверждается и таким авторитетным источником, как «Законы Ману» [I, 67]: «У богов и день и ночь — (человеческий) год, опять разделенный надвое: день — движение солнца к северу, ночь — период движения к югу».
Здесь мы должны обратиться к цитатам из «Махабхара- ты», где дается такое ясное описание горы Меру — царя всех гор, что не останется места для сомнений в том, что это Северный полюс, или место, соответствующее его характеристикам. В одной из книг этого эпоса, в «Ванапарве» («Лесной»), в разделах 163 и 164 детально описывается приход героя Арджуны на эту гору и говорится так: «На Меру Солнце и Луна ходят кругами слева направо («прадакшинам») каждый день, и это все совершают все звезды».
А в «Тайттирийя Брахмане» мы видим пассаж, в котором ясно говорится (III, 9, 22, 1), что «то, что есть год, является единым днем богов». Это настолько четкое указание, что нет

места сомнениям в его смысле. О годе смертных сказано, что это всего лишь один день богов.
Глава V ВЕДИЧЕСКИЕ ЗОРИ
112-116
Богиня зари Ушас, очень заметное в Ведах и любимое божество, восславляется в Ригведе в 20 гимнах и упоминается в ней более 300 раз, иногда о ней говорится в единственном числе, а иногда и во множественном.
Первый намек, говорящий о длительности ведической зари, содержится в «Айтарейя Брахмане» (IV, 7): до того, как начать жертвоприношение, именуемое «гавам-аянам», ведущий жрец Хотри должен был прочитать долгую молитву, содержащую не менее тысячи стихов (строф?).
В «Тайтгирийя Самхите» есть и другое указание на большую длительность наступления рассвета (VII, 2, 20) — здесь говорится, что в таких обстоятельствах следует принести семь жертв, адресуя их семи божествам.
Кони зари обвиняются в медлительности (11,15,6), и люди даже устают, глядя, как заря медлит на горизонте.
Но еще более выдающееся указание есть в Ригведе (1,113, 13) — поэт ясно утверждает: «Богиня Ушас восходила в древности длительно и постепенно».
118-120 -
В VII мандале Ригведы содержится ряд гимнов, посвященных Ушас. В одном из них (VII, 76) поэт, сообщив сначала, что зори поднимали свое знамя на горизонте с обычным великолепием, выразительно говорит дальше (в строфе 3), что протекало несколько дней между первым проблеском зари на горизонте и восходом солнца.
Из всего вышеизложенного становится ясно, что указанная строфа Ригведы (VII, 76, 3) выразительно описывает зарю, длящуюся несколько дней, что возможно только в арктическом регионе.
Следуя по пути наших поисков, мы видели, что полярная заря могла быть воспринимаема и как подразделяю-

щаяся на «отрезки» по 24 часа каждый, поскольку именно это время занимали ее хождения кругами по горизонту — каждый круг по 24 часа. Исходя из этого мы можем ответственно говорить о том, что есть возможность подсчитать, сколько таких «отрезков»-суток уже миновало и скольким еще предстоит пройти, что и указывается в строфе Ригведы (I, 113, 10).
ІлаваѴІ
ДОЛГИЙ ДЕНЬ И ДОЛГАЯ НОЧЬ
142-145
Поскольку в ведической литературе выразительно говорится о долгой заре длительностью в тридцать дней, или о плотно собранных в группу тридцати зорях, фактом является предшествующая такой заре долгая ночь и соответствующий ей долгий день того же года.
В Ригведе много строк говорят о долгой и страшной тьме, скрывающей врагов бога Индры, тех, кого он должен уничтожить, борясь с демонами, или дасами, про крепости которых говорится, что они все скрыты во мраке. Так, в одном гимне (1,32,10) сообщается, что Вритра, традиционный враг Индры, окутан длительной тьмой, в другом (V, 32, 5) об Ин- дре говорится, что он сбросил желавшего бороться с ним Шушну в темный провал, а в следующей строфе рассказывается о бессолнечном мраке.
Прежде всего, ведические барды часто молили богов избавить их от мрака. Так, поэт взывает: «Адити, Митра, а также Варуна, простите, если мы согрешили против вас. Я хочу достигнуть широкого неустрашающего света, о, Индра. Да не накроет нас долгий мрак» (И, 27, 14). Выражение, примененное поэтом, «долгий мрак» дословно обозначает «непрерывное продление темных ночей», что более точно.
Говоря короче, это была долгая ночь арктического региона, и слово «древний» («пура») указывает на то, что в памятнике говорится о давних днях, о которых традиционно знали ведические барды.

155-159
На полюсе бывает только один день и одна ночь по шесть месяцев. Но если в Ригведе (IV, 55, 3) есть строфа, указывающая на две различных пары дня и ночи («ушаса-накта» и «аха- ни»), то ясно видно, что слова «ахо-ратре» указывают на дни и ночи циркумполярного региона, и только на них. В свете текста этого гимна мы должны трактовать и гимн (III, 35,11).
Долгая ночь протекает в то время, когда солнце пребывает в пределах зимнего солнцестояния, а с долгим днем сопряжено летнее солнцестояние, а точки этих двух солнцестояний отстоят одна от другой на 180°, занимая места на противоположных отрезках эклиптики.
Этот гимн встречается в Ригведе (VI, 58, I). Пушан сравнивается с Дьяусом и указывается, что он имеет две формы, темную и светлую, то есть как «ахани». Говорится, что эти темная и светлая формы, «ахани», составляют правую и левую стороны бога года, то есть две противоположные части тела персонифицированного года.
Наиболее выразительное указание на долгий день содержится в первой строке гимна Ригведы (X, 138, 3): «Солнце распрягло свою колесницу (своих коней) на середине неба», то есть как бы остановилось на отдых, причем не в точке захода, не на горизонте, оно остановилось посреди неба.
В Ригведе есть и пассаж, тоже требующий пояснения (VII, 87, 5). В нем говорится о том, что бог Варуна использовал «золотой слиток (солнце) как качели в небе». Эти слова имеют ясный смысл — солнце качается в небесах взад и вперед, оставаясь при этом все время видимым (подобное этому описание есть и в гимне VII, 88,3). Идея здесь ясна, так как только в арктическом регионе солнце может напоминать качели в течение долгого дня, когда оно кружится по небу, а затем не сразу скрывается за горизонтом (в дни захода оно в течение ряда дней то показывается над ним, то скрывается).

Глава VII МЕСЯЦЫ И СЕЗОНЫ 167-170
И перед нами другой вопрос: встречаются ли в Ведах такие же следы арктических условий, относящихся к сезонам, месяцам и годам?
Характеристики арктического года столь непохожи на зону умеренного климата, что наши предки ведического периода, если и жили в пределах арктического региона и продвинулись к югу из-за оледенения, встретились с необходимостью воспринять календарь, связанный с географическими и астрономическими условиями новых для них мест, что не могло не повлиять на них.
Я уже писал о том, что близко связаны календарь и жертвоприношения, особенно годовые саттры, и что при проведении годовых саттр, или жертвоприношений, длящихся в течение года, жрецы всегда имели в виду годовое движение солнца.
В Самхитах и Брахманах говорится, что годовые саттры, то есть годовые жертвоприношения, должны проводиться в течение 12 месяцев. Но это было невозможно в пределах Арктики, где солнце скрывается за горизонтом на несколько дней или даже месяцев в течение года, в результате чего воцаряется долгая ночь. Древнейшая длительность ежегодных саттр, если таковые проводились в пределах полярных областей, должна была занимать меньшее время, чем 12 месяцев. Значит, годовые саттры, длившиеся менее 12 месяцев, вы- сгупают как главное отличие этой системы от более поздней годовой саттры длительностью в 12 месяцев. Надо помнить, что солнечных (светлых) месяцев и темных не может быть одинаковым на всей территории циркумполярное™. На са- іѵ ом полюсе солнце бывает над и под горизонтом по шесть месяцев в году, но, поскольку все жители вместе не могут одновременно находиться в этой точке, светлых месяцев бывает от семи до одиннадцати во всем арктическом регионе. Те, кто живет поближе к полюсу, видят солнце в течение семи месяцев, а в более отдаленных местах — в течение восьми, девяти и даже десяти, по мере продвижения к югу.
И вот мы видим, что Ригведа сохранила для нас память о таких месяцах солнца. Вспомним для начала легенду об Ади- ти и семи Адитьях (солнцах), которая, безусловно, основана на природных явлениях. В этой легенде говорится, что самым древним числом Адитьев (солнц) было семь (и это указывается во многих гимнах Ригведы), соотносящихся взаимно.
173-175
«Шатапатха Брахмана» поясняет, что все это практически так (III, 1, 3, 3), сообщая, что семь сынов Адити люди называют Адитьями-богами, а восьмой, Мартанд, родился недоразвитым, и из него братья сделали людей и других живых существ. В другом пассаже «Шатапатха Брахманы» (VI, 1, 2, 8) говорится, что Адитьев было двенадцать и что произошли они из капель, рожденных богом Праджапати, который и поместил их в разные области.
То, что 12 Адитьев понимаются как боги 12 месяцев в поздней ведической литературе, становится ясным из пассажей «Шатапатха Брахманы» (XI, 6, 3, 8), а также из «Браха- дараньяка Упанишады» (III, 9, 5), где говорится: «Существуют двенадцать месяцев года, и это Адитьи».
Поэтому самое простое объяснение легенды об Адити состоит в том, что она представила богам, то есть поместила на небе, своих семерых сыновей — Адитьев, чтобы образовать семь месяцев солнечного света в этой области. Она имела и восьмого сына, но ведь он родился недоразвитым или, вернее, недоношенным, а это явно указывает на то, что он не был месяцем солнечного света, или же на то, что именно с восьмого месяца начинался в этой области период тьмы.
176-177
Семь месяцев солнечного света, различающиеся лишь температурой воздуха, представлены здесь как семь солнц (результаты воздействия которых связаны с разностью областей), или как солнце, имеющее семь разных лучей, или разные колесницы, или разных коней, или разные колеса у колесницы. Просто одна и та же идея представлена в разных формах, что ясно выражено в Ригведе: «Один конь, имеющий семь имен» (I, 164, 2).

Заря, длящаяся тридцать дней, указывает на семимесячный период солнечного света, и мы теперь видим, что легенда об Адити может быть понята, лишь если мы воспримем ее как легенду того времени, когда расцветали семь месяцев-богов, а восьмой был или недоношенным, или выброшенным. Само это имя Мартанда этимологически производится от слова «марта» — «мертвый или недоразвитый».
Таким образом, семизначный характер бога-солнца передавался как древняя традиция от поколения к поколению, хотя ведический народ в дальнейшем жил даже в таких местах, где в небе царили все двенадцать Адитьев. Вот таким путем древнейшие традиции сохраняются повсюду, как, к примеру, упоминавшаяся выше память о старом исчислении года, вошедшая в египетскую литературу.
Мы видели выше, что особенностью, характерной для арктического региона, служит вариантность числа солнечных месяцев в этих областях. А поэтому будет недостаточным сказать, что в Ригведе мы находим только следы семимесячного солнечного света (как определяемого периода года). И если наша теория верна, мы должны найти указания на восьми-, девяти- и десятимесячные периоды солнечного света.
Очень важно сейчас упомянутьто, что о числе коней солнца говорится то как о семи (1,50,8), а то и как о десяти (IX, 63,9).
180-182
Поэтому важно определить в истории жертвоприноси- тельной литературы, сохраняются ли какие-либо традиции относительно длительности жертвоприношений, проводимых этими древними предками ведического народа «нах пур- ве пита-рах» (VI, 22, 2) в те века, которые предшествовали разделению арьев. И важно проследить, поддерживают ли они теорию древней циркумполярной родины.
Такой путь, к счастью, дает нам сама Ригведа. В ней говорится о двух группах (типах) Ангирасов, о двух их главных разновидностях — Навагвах и Дашагвах, упоминаемых в гимне (X, 62, 5, 6).
Цели, которых достигали и Дашагвы своими жертвоприношениями, описываются в гимне (V, 29,12): «На-

вагвы и Дашагвы отдавали силы, возливая сому и прославляя песнями Индру, и люди смогли распахнуть стойла скота, бывшие до этого плотно закрытыми».
Объединив все эти утверждения, мы можем легко прийти к выводам:
1) Навагвы и Дашагвы приносили свои жертвы в течение 10 месяцев;
2) эти жертвоприношения были связаны с ранним проблеском зари;
3) жертвователи помогали Индре освободить коров от Валы в конце года;
4) в том месте, куда Индра направился в поисках коров, он обнаружил солнце, «скрытое в темноте».
184-188
Говоря короче, Дашагвы и Навагвы, а вместе с ними и все древние жертвоприносители расы, жили в регионе, где солнце было над горизонтом в течение 10 месяцев, а затем скрывалось и начиналась ежегодная двухмесячная ночь. Эти десять месяцев были поэтому периодом серии ежегодных жертвоприношений или календарного года древнейших исполнителей этих ритуалов.
В Ригведе и Навагвы и Дашагвы упоминаются вместе почти всегда, и это частое близкое сочетание их имен заставляет нас подумать о другом этимологическом объяснении этих слов
— таком, где слово «навагва» соотносилось бы с «нава», как «дашагва» и «даша». Но ведь «даша (дашан)» — это числительное «десять» и в другом смысле не употребляется, а, как заметил профессор Лигнан, слово «нава (наван)» означает «девять».
Поэтому мы должны обнаружить в этих эпитетах некое другое значение, и единственным другим возможным пояснением числительных «девять» и «десять» следует, видимо, признать то, что предложил Саяна, сказав о гимне (I, 62, 4): «Было два вида (группы) Ангирасов — Навагвы, или те, кто завершал саттры за девять месяцев, и Дашагвы, завершавшие саттру за десять месяцев».
Все эти выражения могут быть удовлетворительно объяснены только принятием утверждения, что Ангирасы не были

связаны ни с «девятью-» ни с «десятью-творящими», а с «ви- рупа-», то есть «разно-творящими», и что они совершали свои жертвоприношения в течение тех месяцев, когда солнце пребывало над горизонтом в местах их проживания. Отсюда следует, что в древности эти периоды жертвоприношений длились от семи до десяти месяцев, а число жертвоприносителей (хот- ри) соотносилось с числом этих месяцев. Эти ритуалы прекращались, когда наступала долгая ночь, в течение которой Индра сражался с Валой и победил его в конце года (X, 62, 2). Вот это определение «в конце года» очень показательно — оно говорит, что год завершался наступлением долгой ночи.
Глава VIII ПУТЬ КОРОВ 210
Я предпочту привести прямые указания о длительности проведения годовых сатгр, взятые из хорошо известных памятников ведической литературы. В этих указаниях нет ничего легендарного, а поэтому они абсолютно точны и надежны. Выше уже говорилось, что институт жертвоприношений очень стар.
Нельзя сказать, однако, что все годовые саттры существенно отличались одна от другой, но в зависимости от обстоятельств существовало немало мелких вариантов и модификаций их основного типа.
215-218
Источники содержат два важных указания: во-первых, завершим ли мы жертвоприношение в десять или двенадцать месяцев, религиозная награда, ее плод будет в любом случае одинаков, ибо сказано, что оба процветут в равной мере; и, во-вторых, сказано, что это верно, так как это «путь», или, как говорил Саяна, «незапамятный обычай». «Самхита» не объясняет, почему годовая саттра, которая должна бы длиться двенадцать месяцев, и на деле так и происходит теперь, может быть завершена в десять месяцев.
А сейчас остановимся на вопросе о длительности саттры
и, сравнив изложенные в «Самхите» факты о двойственном

характере ее длительности с легендой о Дашагвах с их десятимесячными жертвоприношениями, придем к бесспорному заключению, что предки ведических арьев завершали свои годовые жертвоприношения в десять месяцев. Такая длительность саттры должна была измениться, когда арьи переселились в другие места обитания и проведение саттр стало двенадцатимесячным.
Мы должны еще вспомнить, что в европейском календаре есть месяц, называемый децембер, то есть «десятый» («десять» будет по-латыни «децем», на санскрите «дашан»; кроме того, латинское «бер» сопоставимо с санскритским «вара»
— «время, период»). Мы все знаем также, что Нума добавил два месяца к древнему римскому календарю и превратил его в двенадцатимесячный.
Энциклопедия «Британника» фиксирует древнюю традицию, что старейший римский год Ромула имел десять месяцев, или 304 дня. Там сказано, что «неизвестно, как были представлены остальные дни». И если мы во всеоружии современной науки не можем сказать, почему старый римский год состоял только из десяти месяцев и как распределялись остальные дни, то мы не должны удивляться, что «Тайтти- рийя Самхита» воздерживалась от размышлений по этому поводу и только повторяла, что таков был «путь».
Когда арьи мигрировали к югу от древних мест своего пребывания, им пришлось изменить календарь, добавив два месяца (солнечного света) в целях соответствия его новым условиям жизни. Но следы старого календаря не могли быть полностью стерты, и для нас осталось достаточно свидетельств в традициях и в ритуалах жертвоприношений, чтобы укрепить наше знание о том, что в так называемый индогерманский период год состоял из десяти месяцев света и двух месяцев мрака.
231-233
И вот то, что исполнялось в течение одной ночи, вполне могло производиться в случаях, когда жертвоприношения требовались для двух, трех и больше ночей. Выше я уже указывал, что жертвоприношения в древности проводились в

течение десяти месяцев, вслед за чем наступала долгая ночь. Что же делали жрецы-жертвоприносители в течение этой ночи? Не могли же они все это время спать, да и мы знаем, что жители крайних северных областей Европы и Азии не спят напролет всю долгую ночь, наступающую в их частях земного шара.
Что же, они сидели сложа руки, пока Индра бился ради них с силами мрака? Они исполняли все правила принесения жертв в течение десяти месяцев с целью помочь Индре в его битве с Вал ой.
И вот в ведической литературе о жертвоприношениях описывается ряд подобных действий, которые со включением в их число ати-ратры длились от одной до ста ночей.
Серия жертвоприношений внезапно обрывалась с наступлением шата-ратры (сотой ночи), но с помощью данных арктической теории пояснить это можно вполне удовлетворительно, обратив внимание на тот факт, что длительность этих долгих ночей колебалась между одной ночью в 24 часа и сотней ночей (2400 часов). Это зависело от места наблюдения. Форма ночных возлияний сомы соотносилась, с длительностью долгой ночи в разных местах. Там, где ночь длилась 10 суток (240 часов), проводилось возлияние даша-ратры. Поскольку древние жертвоприносители не знали ночей длиннее, после шата-ратры эти возлияния прекращались.
Мы видели выше, что легенда об Адити указывает на период семимесячного долгого солнечного дня, а добавив к этому сроку периоды сумерек и зорь, мы увидим, что до конца года остается три месяца (или, если считать, что в году 365 дней, то 95 дней), и это будет срок долгой ночи. И вот это будет соответствовать самому длинному периоду ночных жертвоприношений из числа всех описанных в ведической литературе.
Поскольку нет другой теории, поясняющей и сам факт ночных жертвоприношений, равно как и их количество, что очень важно, то определяющее их число 100 можно смело принять за указатель того, что древний год подразделялся приблизительно на семь месяцев солнечного света, один

месяц зари, один месяц вечерних сумерек и три месяца непрерывной ночи
Есть и другие соображения, приводящие к тому же заключению. Так, в постведической литературе мы находим устойчиво традиционные напоминания, что Индра известен как единственный из богов, являвшийся хозяином (владыкой) сотен таких жертвоприношений («шата-крату»).
«Поддержи, о Индра, наше жертвоприношение (крату), как отец поддерживает сыновей, (помогая им). Научи нас, о Ты, призываемый многими, чтобы мы могли в этот приход (ночи) живыми достичь (сферы) света («джьотис»). Молитва, по всей видимости, связана с проведением жертвоприношения (крату), которое совершалось по поводу стремления жертвоприносителя обрести силу благополучно достичь окончания ночи.
Мы видим в ведической литературе калейдоскопические описания подвигов и деяний Индры, которые по содержанию своему приводят к тому выводу, что это он и только он может быть назван Владыкой сотни жертвоприношений. Так, он разрушает 99 или 100 крепостей врага (что идентично сотне ночных жертвоприношений); 9 и 90 рек он пересекает во время битвы с Ахи (I, 32, 14); сто кожаных ремней использовал Кутса, чтобы привязать Индру для принесения его в жертву («Тандья Брахмана», IX, 2, 22), и в Ригведе его призывают освободиться от них (X, 38, 5). Охватив все это единым взором, увидим, что это, несомненно, указывает на наличие ста неразрывно длящихся ночей на древней родине предков ведического народа.
Мы видели также, что были ночные жертвоприношения, и в ведической литературе они описываются как длившиеся одну, две, три, десять или сто ночей, что указывало на длительность мрака, во время которого Индра сражался в Валой.
Принесение жертв выступает в ведической религии как главное ритуальное действие, и, естественно, жрецы должны были стараться сохранить по возможности как можно больше элементов старой системы жертвоприношений, адаптируя их к новым условиям.

Глава IX
Ведические мифы о пленных водах
253-256
Древние системы жертвоприношений, особенно годовые саттры и ночные ритуалы, также показали, что в древние времена годовые жертвоприношения не велись в течение двенадцати месяцев, как в наши дни, но продолжались лишь девять или десять месяцев, а сто ночных жертвоприношений совершались, как указывает их название, во мраке долгой ночи.
Мы видели, что ночь по полгода, долгая заря в своей кружащейся по небу красоте, долгий день, соответствующий такой ночи, а также нормальные чередующиеся дни и ночи разной длительности, да при этом и год солнечного света, длящийся меньше двенадцати месяцев,— все это выступает как главные характеристики полярной и циркумполярной зоны, определяя ее календарь.
Если предки ведических бардов жили когда-либо вблизи Северного полюса, то космические метеорологические условия этих мест не могли не повлиять на их мифологию. И если наша теория верна, то тщательное изучение ведических мифов может выявить факты, которые невозможно объяснить с помощью любой другой теории.
Данные же, доказывающие существование долго длящейся зари, или долгих дня и ночи, не подвержены влиянию различных теорий, рассматривающих содержание ведических мифов, а поэтому могут быть определены адвокатским термином «прямые».
Известны три теории разъяснения ведических мифов в соответствии с установками школы Нирукты, и нам необходимо вкратце описать их до того, как мы перейдем к выявлению их несоответствия тем мифам и легендам, к сути которых их применяют.
Итак, по теории зари: «Вся теогония и философия в древнем мире связана с фактом зари. Заря — это мать богов света, солнца в его разных проявлениях, утра, дня, весны. Сама она
— это сверкающий лик бессмертия».

Ушас, богиня зари в Ригведе, это не то же самое, что мимолетная заря тропиков, но длительная заря Северного полюса или циркумполярной области. И утвердившаяся арктическая теория покажет в свое время, что многие из пояснений мифологических картин должны быть написаны по-другому.
Теория же грозы была впервые выдвинута индийцами, последователями школы Нирукты, в форме некоего дополнения к теории зари, имея целью учет тех мифов, к которым последняя не была применима. Главной легендой, поясняемой на основе теории грозы, был миф об Индре и Вритре, и это объяснение было почти безоговорочно принято всеми западными учеными. Слово «Индра» было возведено к корню «инду» — «капля дождя», а «Вритру» возвели к корню «врь» — «покрывать, охватывать», объясняя, что он «охватывает (держит)» влагу дождевых облаков. После такого разъяснения этих двух имен им следовало все соотнести с теорией грозы, искажая текст, если он не мог быть переведен без совпадения с ней.
Но ведь в Ригведе часто говорится о потоках («синдху»), потекших по земле, когда был убит Вритра. И если эти реки являлись, по этой теории, реками Пенджаба, то трудно себе представить, как это они могли быть описаны как окруженные и плененные Вритрой.
263-266
Возникла и третья теория, связанная по своему происхождению, как и первая, с солнцем. Это была попытка объяснить определенные ведические мифы тем, что они были порождены идеей победы весны над снегом и зимой. Яска и другие приверженцы Нирукты жили в областях, где контраст между весной и зимой был не столь заметен, как в более северных землях, и, возможно, поэтому их теория весны не очень широко была развита в применении к мифам Вед. Но профессор Макс Мюллер попытался использовать ее для объяснения большей части подвигов Ашвинов. Так, все излагаемые ниже их деяния объяснялись тем, что солнце восстановило свою силу после периода зимнего ее упадка.
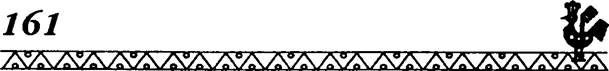
Физические феномены здесь, в отличие от теории зари, выступают как ежегодные. Но обе эти теории относятся к солярным и в качестве таковых контрастируют с теорией грозы, которая связана с явлениями метеорологического происхождения.
Помимо этих трех теорий — зари, грозы и весны — исследователь Нараяна Айангар (г. Бангалур) недавно попытался объяснить суть нескольких ведических мифов, выдвинув гипотезу об их связи с созвездиями Ориона и Альдебарана. Эту теорию, в отличие от других, можно условно назвать астральной. Но все эти теории не могут подробно рассматриваться здесь, да в этом и нет необходимости, поскольку наша цель другая. Я хотел бы только показать, что, несмотря на много теорий, целый ряд фактов во многих важнейших по своему содержанию легендах остается не разъясненным — мифологи или полностью игнорировали их, или же отбрасывали в сторону как несущественные и незначительные.
Для начала остановимся на легенде об Индре и Вритре, или о пленных водах, то есть на той легенде, которую все считали удовлетворительно разъясненной на основе теории грозы.
Есть и пассажи (V, 32, 5, 6), в которых об Индре говорится, что он сбросил Шушну, беспокоившегося о битве, «в темную яму» и убил его «во мраке, куда не проникал свет солнца» («асурье тамаси»). В гимне (I, 54, 10) сказано, что мрак царил в пустом месте Вритры, а в гимне (II, 23, 18) говорится, что Брихаспати вместе с Индрой спустили океан, «погруженный во мрак», и открыли стойла скота. И наконец, в гимне (I, 32, 10) тело Вритры утонуло в долгом мраке, охваченном водой.
Соединив все эти указания, касающиеся борьбы между Индрой и Вритрой, мы придем к заключению, что битва происходила в далеком и темном водном месте.
271-273
Это было море в далекой стороне, океан тьмы (контрастирующий с сияющим океаном, «шукрам арнах», где восходит по утрам солнце). Там происходила битва, судя по упо-

мянутым выше пассажам. И такое восприятие может быть связано только с иным миром, с нижней частью небесной полусферы, но не с облаками, плывущими в небе над головой.
Из приведенного рассмотрения теории грозы в ее применении к легенде об Индре и Вритре стало ясно, что она не может помочь найти объяснение ни факту одновременности результатов победы Индры, ни обнаружению места битвы, ни времени ее проведения, а также не дает нам возможности обрести правильный смысл слов в изучаемых пассажах.
274-277
Мы не предположим, что ведические барды спутали две совершенно разные идеи, а именно — возврат солнечного света после окончания грозы и рождение света из тьмы ночи.
Эта же теория была усвоена и западными учеными, и сейчас она остается единственной признаваемой. Но она до такой степени демонстративно неадекватна сути гимнов, что если бы появилась лучшая, с помощью которой можно было бы интерпретировать — если и не все, то хотя бы основную их часть, — то все без колебаний отвергли бы теорию грозы, приняв эту новую.
Из многих пассажей Ригведы ясно, что Индра — это бог света. В этом памятнике говорится без упоминаний о Вритре, что Индра нашел свет (III, 34,4; VIII, 15, 5; X, 43,4) и нашел его во мраке (I, 108, 8; IV, 16, 4), или же породил зарю, также, как и солнце (II, 12, 7; II, 21, 4; 111, 31, 15), или же раскрыл тьму зарей и солнцем (I, 62, 5). Это был он, кто заставил солнцесветить(VIII, 3,6) и подняться в небо (I, 7, 3), или подготовил для него путь (X, 111, 3), или же нашел солнце, которое пребывало во мраке (111,39,5).
Кажется, предполагалось, что указания в Ригведе на небесные воды («дивьях апах») относятся только к дождевой влаге. Но это ошибка. В строфах, где говорится о создании мира (X, 82, 6; X, 129, 3), сказано, что он изначально состоял из нераздельных вод.
Для нашей цели достаточно знать, что небесные воды («дивьях апах») или водяные пары («пури-шам») упомина-

ются в Ригведе и что ведические барды считали пространство вверху, внизу и вокруг них заполненным этими небесными парами, о которых говорится, что они были «современниками» мира (X, 30, 10).
280
И в гимне (III, 53, 21) мы видим слова «пусть он, ненавидящий нас, провалится», да и в гимне (II, 12, 4) читаем о семействе того Дасью, которого убил Индра, пожелание, чтобы все они «были отправлены в неведомый нижний мир». Все эти строки прямо указывают, что область под землей была известна как факт ведическим бардам, что они считали ее наполненной мраком и что там бился Индра с Вритрой.
285
Знания ведических бардов, касающиеся нижнего мира, не могли быть, конечно, равными знаниям современных астрономов, а поэтому мы можем встретить в Ригведе такие вопросы (I, 35, 7): «А где сейчас Сурья (после захода) и какую небесную область озаряют сейчас его лучи?» Но мы видим достаточное число точных свидетельств, доказывающих, что ведические люди знали о существовании области ниже земли, и далее если некоторые их указания были недостаточно точны, это не уменьшает ценности их свидетельств.
300
Так, в гимне Ригведы (X, 62, 2) говорится, что Ангирасы, помогавшие Индре в его борьбе за коров, победили, как указано в гимне, Валу в конце года («париватсаре»). Это показывает, что битва была ежегодной, а не ежедневной. Мы видим еще и в пассаже (VIII, 32, 26), что водный демон Арбуда был убит Индрой, применившим для этого не свое обычное оружие ваджру, а глыбу льда («хима»),
315
Если Индра описывается как освободитель и направитель вод («апам срашта», «апам нета»), они не означают влаги облаков, но водные пары, наполняющие вселенную и представляющие собой ту материю, из которой все было создано. Короче говоря, победа во имя вод была чем-то более великим, чем-то гораздо более чудесным, чем просто

разрушение туч в дождливый сезон. И именно поэтому она естественно признавалась наивеличайшим из подвигов Индры: поддерживаемый возлияниями сомы в течение ста ночей, он убил куском (глыбой) льда водного демона мрака, разрушил сотню его осенних крепостей, освободил воды семи рек и пустил их течь кверху по их воздушным путям, освободил запертых в скальных пещерах солнце и зарю, то есть коров.
ГлаваХ
Ведические мифы об утренних божествах
320-322
Начнем с обращения к рассказам об участии Ашвинов в великой борьбе за воды и свет, которая описывалась в предыдущей главе.
Ашвины четко упоминаются в жертвоприносительной литературе как божества, связанные с зарей («Айтарейя Брахмана», II, 15), и долгая хвалебная песнь, специально посвященная им, должна быть исполнена жрецом-хотри до восхода солнца.
Более того, к ним применяют два эпитета, относящиеся к Индре: Вритра-хан и Шата-крату (VIII, 8, 22; I, 112, 23), их называют обладателями качеств Индры и Марутов, помогавших Индре в его битве с Вритрой (I, 182, 2). Более того, говорится, что они даже защищали Индру в борьбе с Намучи (X, 131, 4). Это не оставляет места сомнениям относительно их участия в борьбе с Вритрой, равно как и делается ясной их связь с водами океана.
Такой характер Ашвинов вряд ли можно объяснить с помощью теории весны, как и теории ежедневной борьбы света с тьмой, так как мы видели, что заря, на протяжении раз- горания которой читают «Ашвина-шастру», — это не быстро протекающая заря тропиков.
Ашвины выступают как спасающие утренний свет или солнце, ежегодно пребывающее в бедственном положении в период зимнего солнцестояния. А когда солнце становится ярким и ежедневно сияет по утрам или становится особенно

сильным и ликующим в дни весны, то и это чудо приписывается Ашвинам, врачам богов.
328
В гимне (VIII, 40, 5) об Индре говорится, что он открыл семидонный океан, имеющий отверстие в одной стороне, что явно относится к борьбе за воды в нижнем мире.
В древности люди могли представлять себе этот мир в образе перевернутой небесной полусферы, погруженной в мрак и наполненной водой. Вот почему Ашвины должны были проделать отверстие в ее стенке и пустить воду кверху, чтобы она, достигнув неба, могла пролиться вниз дождем и напоить жаждущего Готаму.
331
Но, по нашему заключению, самым значимым в историях об Ашвинах является рассказ об Атри Саптавадхри. Он был брошен в пылающую бездну и извлечен оттуда Ашвина- ми, о чем говорится и как об извлечении из мрака («тама- сах») (VI, 50, 10). В гимне (I, 117, 24) повествуется о том, что Ашвины подарили златорукого сына бездетной Вадхрима- ти, жене евнуха. А в гимне (V, 78, 5), автором которого считается сам Атри Саптавадхри, указывается, что он был заключен в деревянный ящик, откуда его извлекли Ашвины.
336
Эти пассажи показывают, что: 1) солнце понималось как дитя, зарожденное в двух сосудах (вместилищах) — в небе и земле; 2) что оно двигалось, подобно зародышу в утробе, то есть в пространстве неба и земли, и 3) по завершению такого движения в утробе матери и после того, как было порождено многочисленное потомство, солнце скрылось в пустое пространство (в область «нир-рити») и стало скрытым от тех, кто до этого видел его.
339-340
Солнце, движущееся между небом и землей в течение десяти месяцев, подобно пребыванию в материнском лоне, приводило на ум ведическим поэтам параллельную мысль о десятимесячной беременности, но удивление вызывалось тем, что ребенок, появляющийся на свет, виден всем, а сол-

нце становилось невидимым как раз в момент выхода из лона матери. Куда оно уходило? Заключали ли его в деревянный ящик или обвязывали кожаными ремнями в водном мире?
Все повествования о том, что дитя, рожденное после десятимесячной беременности, будучи применены к Агни или Сурье, являются разными версиями сюжета об исчезновении солнца с верхней полусферы после десяти месяцев пребывания в небе.
Но что случается с этим ребенком-мальчиком («кумара»), который уходит с неба? Навсегда ли он теряется или вновь возвращается к родителям? Как допускает отец, да и мать тоже, чтобы дитя так терялось? Задача возвращения солнца родителям ложится в Ригведе на Ребху или на Ашвинов. Так, в гимне (I, 110, 8) сказано, что Ребха воссоединил мать с ее теленком, а в гимне (I, 116, 13) говорится, что Ашвины подарили Вадхримати златорукого ребенка. Вероятно, речь идет
о возвращении родителям утреннего солнца.
Гпава XIII
Значение наших результатов по исследованию истории изначальной культуры и религии арьев
445
Мы завершили наше исследование вопроса, касающегося изначальной родины предков ведических арьев, рассмотрев его с разных точек зрения. Наша аргументация, как это видно, не основывается на истории культуры или на данных, открытых палеолингвистикой. Тексты, цитированные на страницах книги, представляют собой главным образом отрывки, непосредственно взятые из Вед или Авесты и доказывающие, что поэты Ригведы знали климатические условия, которые можно наблюдать лишь в арктическом регионе.
459-461
Теперь мы должны обсудить вопрос о том, как традиция указаний на исходную родину возле Северного полюса и на ее разрушение льдом и снегом ледникового периода, а наравне с этим и другие реминисценции могли сохраняться столь долго, что вошли и в религиозные книги приверженцев

Мазды, и в гимны Ригведы. Нет никаких сомнений в том, что в этих книгах отражены реальные традиции.
Все Веды, и более того — все девять дополняющих их видов литературы, все эти книги удерживались в памяти индийскими брахманами, буква за буквой, интонация за интонацией, в течение последних 3000 — 4000 лет по меньшей мере. Жрецам, которые это делали в древности, следует приписать умение свято сохранять традиции родины, начиная с глубокой древности до той поры, когда эти традиции были уже включены в сборники священных писаний. Эти достижения в умении дисциплинировать память могут в наше время показаться фантастичными, но, как уже говорилось, это воспринималось как один из обычных видов искусства, достижением которого было то, что памяти тогда верили больше, чем мы верим современным книгам. Ее тренировали и культивировали с таким особым старанием, что превращали в точный инструмент для передачи из поколения в поколение всего того, что человек находил необходимым для запоминания.
Мы можем поэтому уверенно утверждать, что ведические и авестийские традиции, достоверно сохраненные в натренированной памяти и точно подтвержденные данными сравнительной мифологии, а равно и последними находками геологов и археологов, устанавливают факт наличия арктической прародины арьев в межледниковое время.

РАХУЛА САНКРИТЬЯЯНА
ОТ ВОЛГИ ДО ГАНГА
История индийского общества в рассказах.
Перевод с английского, разделы «От переводника», «Вместо заключения» и подстрочный комментарий
Н.Р. Гусевой
От переводчика
Предлагаемая нашему читателю книга написана одним из выдающихся индийских ученых Рахулом Санкритьяяной (1893-1963). Он обогатил мировую науку многими своими исследованиями, которые признаются ценными вкладами в изучение истории, языкознания и культуры. В течение всей своей научной жизни он глубоко изучал санскрит, называемый языком древнеиндийской культуры, потому что это был язык Вед, обширной ведической литературы, великих эпических поэм «Махабхараты» и «Рамаяны» и множества литературных памятников не только древней и классической эпох, но и средневековья. Санскрит изучают и в современной Индии, и он объявлен одним из государственных языков этой страны. За труды в области санскрита этому ученому было присвоено в Индии звание Махапандит, т.е. Великий Ученый.
Р. Санкритьяяна изучал также новоиндийские языки (ряд его работ написано на языке хинди), знал тибетский, персидский и арабский, а наравне с ними и индоевропейские языки, особенно выделяя среди них русский, и прослеживал многие черты в удивительном сходстве русского с санскритом.
За яркую выразительность и доступность языка в его научных и научно-популярных работах он был награжден премией Литературной Академии Индии и отмечен званием

«Падмабхушан», что можно перевести как «Украшение из лотосов» (или «Достойный украшения из лотосов»), что говорило о высокой оценке его произведений.
Когда Р. Санкритьяяна умер, Джавахарлал Неру сказал: «Его смерть — огромная утрата для литературы хинди. Он был одним из величайших ученых нашей страны, и его смерть — потеря и для литератур на языках санскрите и пали».
Р. Санкритьяяна много раз посещал страны Европы и трижды приезжал в нашу страну, проведя в ней в общей сложности не один год. Он посетил много областей Средней Азии, результатом его исследований здесь явилось завершение его знаменитой двухтомной работы «История Центральной Азии», которую он после 18-летнего труда закончил, ознакомившись с этими областями.
Во время своих длительных посещений нашей страны он дважды работал здесь в качестве преподавателя санскрита в Ленинградском университете и не раз указывал своим студентам на необходимость уделять внимание сходству русской языка с санскритом и стараться выявить корни и истоки этого сходства. Те из его студентов, кто посвятил себя изучению истории и культуры Индии, пытаются следовать его указаниям.
Р. Санкритьяяна был не только «кабинетным ученым». Он отдавал много сил и времени борьбе за освобождение своей родной страны от инонационального колониального гнета. Его устные и письменные обращения ко всем индийцам, призывавшие их к неустанным требованиям свободы и независимости, приводили к тому, что англо-индийская администрация неоднократно подвергала его арестам, что подорвало его здоровье. После освобождения Индии в 1947 г. он много и плодотворно работал на родине, посетив нашу страну в последний раз в 1962 г., став снова преподавателем санскрита и снова подчеркнув необходимость заниматься древней историей арьев и славян.
Его книга «От Волги до Ганга», написанная на языке хинди, была переведена на многие новоиндийские языки и на английский и стала предметом дискуссий и обсуждений в

среде историков и востоковедов. В своем предисловии к первому изданию этой книги в Индии автор писал: «К написанию этой книги меня привело желание доступно обрисовать картину развития общества. В ней говорится об индоевропейцах так, чтобы этот материал помог индийским читателям ближе почувствовать свое родство с ними». И из среды всех далеких предков индоевропейцев он уделил главное внимание предкам славян и, что надо особо отметить, впервые в истории науки ввел в ее обиход совершенно новый термин, ранее не встречавшийся, — индо-славы.
В предисловии ко второму изданию он поясняет, что основал свою книгу не только на изучении близости языков, но и на многих таких материалах, как надписи на древних таблицах, камнях и изделиях из глины, а также на данных фольклора — песнях, преданиях, обычаях и ритуалах.
Книга «От Волги до Ганга» построена в оригинальной форме сборника отдельных «историй» (так сам автор назвал ее главы), и каждая из них предваряется словами о времени и месте описанных в ней действий, а также и указаниями на то, сколько столетий или тысячелетий протекло между датируемым «историями». Талантливый автор, как бы обладающий сквозным зрением, сумел заглянуть в глубину отдаленных эпох и оживить перед нами дела и чувства людей тех далеких периодов. На протяжении всей книги он останавливается на узловых моментах жизни древних арьев, постепенно прослеживая пути их кочевий от Восточной Европы к Индии.
Посвятив часть своей удивительной книги древнейшей истории человечества, автор пытается ответить на многие вопросы, которые могут задавать себе наши современники. Действительно, что мы знаем о самом отдаленном нашем прошлом? Ученые ищут, спорят, приходят к тем или иным выводам, а мы, так сказать, рядовые единицы населения земли, можем лишь знакомиться с их заключениями, то соглашаясь с ними, то не соглашаясь. Но при любых условиях мы никогда не сможем заставить раствориться в небытии некогда протекавшую на земном шаре реальную жизнь наших

предков. Никуда нам не деться от факта их некогда бывшего присутствия на земной тверди, от нерушимых законов нашей генетической памяти, от Подсознательного нашего ощущения прямой связи с ними, с теми человеческими существами, которые начинали осваивать природу, стремились к объединению в первые группы, становились на путь исторического развития. Этим людям понадобились тысячелетия для того, чтобы осознать такой простой на наш взгляд факт, как необходимость брачного разделения в пределах кровнородственных семейных коллективов. И тысячелетиями длился процесс сложения племен, т.е. групп, обладавших уже сложной социальной структурой.
Нельзя с точностью определить время формирования первых семейных групп. Они стали возникать в период палеолита, исчисляемого десятками тысячелетий. Первые такие семейные ячейки начинали выделяться из той среды, которую некоторые историки стали определять как «человеческое стадо». В этих ячейках люди вступали беспорядочные сексуальные контакты, не считаясь поначалу ни с возрастом, ни со степенью кровного родства. Понятия отцовства сначала вообще не существовало — очевиден был лишь факт наличия матери, т.е. рожающей женщины. Она и почиталась очень долго как глава семейной группы, бесспорная руководительница и вождь.
В русском языке сохраняется обширный комплекс слов, связанных с основополагающим корнем «рд (род)», с функцией женщины как непосредственной физиологической продолжательницы жизни семейной ячейки. Это: роды, народ (т.е. «те, кого она на-род-ила»), Родина; родич (или родственник), порода и др. И в основе этих слов и понятий лежит слово «руда» — «кровь», произведенное оттого же корня «рд». Оно непосредственно определяет указанную функцию женщины, ту, которую, начиная с момента пробуждения человеческого сознания, можно было безошибочно определить, так сказать, навзгляд.
Автор начинает цикл своих «историй» именно с рассказов о периоде матриархата. Этот период длился долго, а у

некоторых племен и отдельных групп в составе современного «патриархального» населения сохраняются его явные пережитки. И если период, именуемый патриархатом, в достаточной мере изучен, то об отношениях людей в предшествующие времена можно судить лишь на основе логических построений или по догадкам. Автор создал свою своеобразную летопись минувших эпох.
Люди ХІХ-ХХ веков, как литераторы, так и ученые, стали все чаще обращаться мыслью к проблемам глубочайшего прошлого. Думая, например, об истоках расового облика европейцев, некоторые приходят к выводу о некогда якобы существовавшей исходной расе. На Западе ей обычно присваивают название северной, по объединяющему признаку светлой окраски кожи, глаз и волос (светлой или просветленной). Часто эту расу стали называть и арийской — особенно после времен гитлеризма и усиленных поисков во внешности людей чисто арийских черт.
А откуда же взялось это определение арийский?
Слово «арийский» происходит от названия «арья; арьи; арии» — так именуют племена, пришедшие в Индию и Иран в III—II тыс. до н.э. А откуда? В Индию, как соглашается подавляющее большинство ученых, они прикочевали с земель Восточной Европы через Среднюю Азию, и именно это утверждение легло в основу первых историй обсуждаемой здесь книги.
Автор пишет именно о пребывании этих предков в области верховьев Волги. Откуда они туда попали? Тем более, что в книге говорится о здешних их контактах с предками европейцев и, конкретно, славян.
Вспомнив о названии «северная раса», остановимся вкратце на одной из популярных научных теорий, известной как «арктическая». Геологи, гляциологи и палеоклиматологи сближаются во мнении, что в течение примерно 20 тысяч лет земли Европы (гл. о. северной) покрывал ледник, который был не очень мощным и подвергся таянию, завершившемуся его сползанием в Ледовитый океан между XII и X тыс. до н.э.

I В те годы, когда Р. Санкритьяяна писал свою книгу, наука была еще далека от таких утверждений, как датировка ухода последнего ледника. Он соотносит жизнь своих персонажей в верховьях Волги с веками палеолита, датируя описываемые события VI тыс. до н.э. Они, безусловно, сначала такт и жили, и их поведение и семейные группы соответствуют его описаниям, но только современный читатель должен внести ту поправку в его датирование, которая соответствует современной науке — следует отодвинуть эту дату на много тысячелетий в глубину эпох, к периоду последнего межледниковья в Арктике. Не случайно автор подчеркивает именно северные «арийские» черты описываемых им переселяющихся в сторону Индии племен арьев — в этом он удивительно точен. Э|ги светлокожие арьи, придя в Индию, встретились там с местными жителями, отличавшимися от них по расовому типу, по более высокому уровню развития культуры и по обычаям и верованиям. Точен взгляд автора на конфликты и контакты между арьями и доарийскими народами, которых он именует асурами, и на то влияние, которое эти народы ока- заіи на хозяйство, религию и жизненные навыки арьев, перешедших на оседлый образ жизни.
с
«
Вся история арийских племен в Индии описана именно точки зрения оценки всех этих перемен, и каждая новая история» в книге служит яркой иллюстрацией таких перемен, а также и того, как складывалась жизнь смешанных групп и как постепенно «арийская» наследственность вливалась в «общеиндийскую».
I В завершение следует сказать, что ниже приводится только шесть первых глав книги. Это вызвано необходимостью снести воедино именно те темы «истории», которые дают возможность проследить связь узловых моментов, относящихся конкретно к истории арьев и к тем жизненным переменам, с которыми они встречались на своем долгом пути к Йндии и прошли через ряд трансформаций в самой Индии. Автор показывает, как неизбежен был процесс не только культурного, но и физического смешения арьев с доарийс- ими народами этой страны («асурами»), в результате чего и сложился в ходе многих веков наиболее широко распространенный в Индии расовый тип красивых смуглых, темноглазых и темноволосых людей, наших с вами современников.
Привлекательно и интересно выглядит найденный Сак- ритьяяной прием излагать исторические события в форме далеко рассеянных во времени узловых моментов, которым он придал характер кратких новелл («историй»). Эту книгу написал истинный знаток истории Индии, правдиво рассказавший нам об очень многом, о том, что может знать только историк, родившийся в этой стране и глубоко погрузившийся в ознакомлении с ее далеким прошлым.
Глава 1 НИША, МАТЬ РОДА
Место: область истоков Волги
Народ: индоевропейцы
Время: 6 тысячелетие до н.э.
Этот рассказ переносит нас примерно на 360 поколений вглубь истории человечества. Все расы Индии, Ирана Европы были тогда еще единообразны. Это была заря сложения человеческих племен.
Полдень. Сегодня, после многих дней отсутствия, вернулся солнечный свет. И хотя солнце дарит свое тепло и свет только пять часов в день, но уже нет ни туч, ни снегопадов, ни туманов или сильных ветров. Солнечные лучи озаряют все вокруг, восхищая взор и пробуждая радость в душе теплом своего прикосновения. Что открывается взгляду? Под покровом синего неба земля все еще покрыта снегом, блестящим и плотным, но за прошедшие сутки нового снегопада не было. Снежное покрывало земли не скрывает разнообразия ландшафта. С севера на юг тянется длинная серебристая линия холмов, а стороны далеких гор очерчены темной кромкой леса. Подойдя ближе, можно увидеть, что в нем больше всего белоствольных берез, утративших с осени свой лиственный наряд, и прямых сосен, шатром простерших вверху свои ветви. И подтаявший снег на ветвях и стволах деревьев, подчеркивает узор черно-белых теней и отблесков.

А что еще тут можно увидеть и ощутить? Повсюду царит нерушимая тишина. Разве ничего здесь нет, кроме снега, земли и сосен? Не слышно ни потрескиванья колышущихся сучьев, ни пения птиц, ни голосов животных. Разве же здесь ничего и не растет, кроме этих громадных деревьев, ни травы, ни цветов? Две трети зимы уже остались позади, сейчас еще длится последняя, и неизмеримо толстые пласты снега покрывают в лесу старые упавшие деревья. Много его выпало за эту зиму и многие жизни он унес навсегда.
А что можно увидеть, взобравшись на вершину сосны? Все тот же снег, тот же лес, те же холмы и горы. Но... Вот на одном из склонов виден дымок. Как он странен в этой безжизненной и беззвучной пустыне. Давайте взглянем, что там такое.
Дым был очень далеко, хотя эта прозрачность безоблачного света как бы приближала его к нам. И вот мы подошли к нему, сразу ощутив запах горячего мяса и жира, стали слышны голоса детей. Нам надо двигаться крайне осторожно, чтобы ни звука наших шагов, ни дыхания не было слышно — ведь эти существа там могут оказать нам самый нежданный прием.
Да, тут около дюжины детей, старшему из которых не больше восьми лет, а младшему около года. Их дом — это пещера, но как далеко она уходит в глубину горы, в эту темноту — мы не знаем, и лучше не пытаться узнать. Из взрослых же здесь видна лишь одна старая женщина, и лицо ее завешено спутанными прядями волос цвета светлого дыма. Она поднимает руку и отбрасывает волосы с лица, и мы видим ее сретлые брови, видим и щеки, изрытые глубокими морщинами. Пещера согрета теплом костра, и все, кого мы видим здесь, жмутся к огню. На теле старухи нет никакого покрова. (|)на сидит, опираясь на руки и ее голубые глубоко посаженные глаза кажутся безжизненными, отражая лишь искры Цостра. Но слух ее напряжен и улавливает голоса детей — вот н|скрикнул один из них, и она сразу же обернулась к ним:
Іорько закричал годовалый мальчик, возле которого стояла евочка постарше и сосала косточку, видимо отнятую у ма- ыша. Оба ребенка светловолосые, как и старуха, но их головенки не были такими тусклыми, и глаза были ярко-голубым. Старческим хриплым голосом старуха крикнула:
— Аджин, иди сюда, иди к бабушке.
На Аджин не двинулся с места, и тогда мальчик постарше, лет восьми, поднял его и отнес к бабушке. У этого мальчика волосы были еще более золотистого цвета, чем у малышей, и стояли спутанной копной, обнаженное же тело
— такого же светлого оттенка, но покрыто грязью. Он посадил маленького возле бабки и сказал:
— Бабушка, это Рочана отняла у него косточку, и он плачет.
Старший мальчик отбежал, а бабка взяла Аджина на руки.
Лаская ребенка и целуя его щеки, на которых слезы промыли светлые бороздки по грязи, она хлопала рукой по полу пещеры, на котором многолетняя пыль спекалась с брызгами жира, и повторяла: «Не плачь, Аджин, вот я бью Роча- ну». Но он продолжал реветь, и она вытирала ладонью его щеки, покрывая его светлое лицо пленкой грязи. Она прижала голову ребенка к своему телу, и он ухватил ртом сосок одной из ее старых грудей, висевших словно высохшие тыквы, и замолчал.
В это время снаружи донеслись голоса, и Аджин сразу повернулся, не выпуская изо рта сухой сосок. Послышался ласковый голос: «Аджи-ин». И малыш сразу разразился новым взрывом плача. Вошли две женщины и сбросили на пол большие вязанки хвороста, которые они принесли на головах. Одна из них подхватила на руки Рочану, а другая Аджина, кричавшего: «Мама, мама!». Отбросив покрывавшую плечи бычью шкуру, скрепленную колючкой дикобраза, она скинула ее на пол. Ее тело было стройным, но очень худым — ведь зимой пищи не хватало всем. Кожа ее отличалась тем же светлым оттенком, что и кожа детей, и волосы были такими же золотистыми, но не спутанными, как у них, а ниспадавшими длинными прядями на плечи. Широкие плечи, крепкие бедра и упругие, сильные ноги говорили о привычке к тяжкому труду этой восемнадцатилетней женщины. Подхватив малыша, она дала ему грудь, сев на сброшенную бычью шкуру, и он успокоился. Когда другая женщина взя-
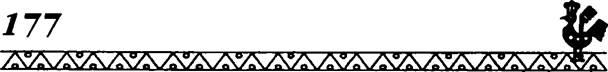
ла на руки Роману и села тут же рядом, мы могли увидеть, что это были две сестры.
2
Теперь, оставив их, оглядимся вокруг. По снежной пелене шли в одном направлении следы ног, обмотанных полосами шкур. Давайте пойдем за ними побыстрей... Эти следы уводят к лесу на другой стороне холма. Мы спешим, но дорожка следов как бы не имеет конца. Мы пересекаем снежное поле, переваливаем через вершину, снова идем по полю у достигаем лесистого склона. Снизу нам видна безлесная иршина, где снег встречается с голубым небом. И там вид- ы на фоне неба силуэты нескольких человек. Мы можем х разглядеть в ярком свете дня. На их плечи наброшены ычьи шкуры белые, как этот снег. Оружие в их руках тоже Кажется нам белым. И вообще трудно разглядеть все с точ- остью на этом широком белом пространстве.
Подойдя ближе, мы видим, что их возглавляет женщина лет сорока-пятидесяти, очень сильная по виду, о чем ясно
Іоворит ее непокрытая шкурой правая рука. Волосами, ли- [ом всем своим обликом она напоминает двух женщин в іещере, но она явно более рослая. В левой руке она держит яжелую заостренную палку, метра в полтора длиной. В правой руке она несет каменный топор с отточенным лезвием. Этот тяжелый камень привязан к толстой рукояти кожаными ремнями. За ней следуют четыре мужчины и еще две женщины. Один из мужчин выглядит несколько старше женщины, возглавляющей эту группу, а другим можно дать по двадцать-двадцать шесть и четырнадцать лет. У первого длинные светлые волосы, как и у других, а лица скрыты под стыми усами и бородой. Его тело, как и тело женщины, ыглядит очень сильным, и в руках он сжимает такие же, ак и у нее, орудия. Двое других имеют тоже бороды и усы и тличаются от него лишь по возрасту. Одна из женщин выг- ядит года на двадцать два, а другая — на шестнадцать или коло того. Вспомнив лица жителей пещеры, мы без сомне- ия увидим, что вся эта группа представляет собой близких одственников старухи, видимо, ее потомков.
Можно легко понять, к какой цели стремится эта группа людей, если судить по их оружию и по напряженности их движений.
При спуске с вершины Мать — мы вполне можем так ее называть — повернула налево, и все молча последовали за ней. Они проходили по снегу совершенно беззвучно, легко ступая своими ногами, обернутыми полосами шкур. Прямо перед ними была скала с нависающими валунами.
Охотники стали теперь продвигаться особенно осторожно и медленно, неслышно вытаскивая ноги из снега и опираясь руками о камни. Мать первой достигла входа в пещеру. Она внимательно разглядела снег перед входом, и не обнаружила на нем следов. Затем вошла в пещеру одна. Сделав несколько шагов, она заметила, что стены поворачивают в сторону и там темнее, чем у входа. Немного помедлив, чтобы глаза привыкли к полумраку, она прошла дальше и увидела трех спящих медведей — самца, самку и медвежонка. Они казались безжизненными в этом крепком сне. Мать бесшумно возвратилась к остальным, и они поняли сразу по выражению ее лица, что она нашла добычу. Сжав мизинец с большим пальцем, она подняла три пальца, и два мужчины, сжав оружие, двинулись за ней, а все другие остались снаружи, затаив дыхание. В пещере Мать зашла со спины к медведю, старший мужчина занял такую же позиции возле самки, а третий — возле медвежонка, затем их заостренные крепкие дубины одновременно с силой вонзились в тела медведей и поразили сердца зверей. Медведи и шевельнутся не успели, они были еще скованы своим шестимесячным сном, который должен был кончиться только через месяц. Охотники проткнули еще несколько раз животы зверей, и лишь тогда вытянули за лапы эти тяжелые туши наружу. Все вокруг сразу же огласилось радостными криками и смехом.
Мать достала спрятанный в складках ее одежды острый нож и взрезала живот медведя. Своей сильной и опытной рукой она завернула шкуру зверя, отсекла кусок его теплого сердца и схватила его зубами, а затем дала каждому по куску, но первому — четырнадцатилетнему юнцу.

Когда первое сердце было съедено и Мать начала вырезать другое, девушка взяла в рот комок снега и отошла, а за ней последовал и старший мужчина, тоже освежив рот снегом. Он взял девушку за руку и привлек к себе. Ее сопротивление было слабым и, недолгим, и обняв ее, он отвел ее в сторону от пиршества.
Когда они вновь подошли к добыче, зажав в руках охлаждающие комья снега, их щеки пылали жаром и в глазах таился блеск.
Мужчина сказал:
— Мать, ты устала. Дай я буду резать тушу.
Мать отдала ему нож, а сама бросила взгляд на молодого мужчину, потом взяла его за руку и тоже отвела в сторону от пещеры.
Они съели все три сердца медведей, но жира было мало, он рассосался за время долгого сна зверей. Досыта они поели только мяса медвежонка, более нежного и вкусного, а затем улеглись на отдых тут же на поЛу пещеры, возле своей добычи.
Пришло время возвращения. Связав лапы медведей, мужчины подвесили туши на толстые палки и подхватили их на плечи. Девушка взяла тушу медвежонка, а Мать продолжала сжимать в руке свой топор и снова возглавила всю группу.
Эти дикари не знали часов, но зато точно знали, когда
3сходит месяц, и к началу заката солнца они покрыли уже емалое расстояние, надеясь достичь цели в брезжащем свете сумерек. Но внезапно Мать остановилась и стала внимательно прислушиваться. И все застыли в молчании. Ее чуткий слух уловил какой-то звук. Юная девушка подошла к молодому мужчине и прошептала: «орр...грр...волки...волки...» и добавила возбужденно «уже близко, тут».
Сбросив добычу на землю, все схватились за оружие, образовав круг, спина к спине, они ждали. И вот стая в семь или восемь волков стремительно приблизилась к ним и закружилась, высунув языки и не решаясь сразу напасть на людей, вооруженных дубинами и топорами. Младший парень, стоя в центре круга, быстро оторвал от покрывающей его плечи шкуры тонкую полоску, связал ею концы изогнутой палки и, соорудив так лук, наложил на него стрелу с каменным наконечником и сразу передал его в руки более старшему охотнику. Они вдвоем натянули тетиву и двумя стрелами сначала ранили, а затем убили одного из волков. Другие из стаи начали сразу же раздирать его тушу, а охотники, подхватив свою добычу, стали быстро уходить. И тогда Мать уже замыкала эту процессию, поминутно оглядываясь. Сегодня снег не шел, и они снова легко бежали домой по своим собственным следам. Уже невдалеке от их пещеры они подверглись нападению волков. Они опять опустили на снег добычу и схватились за оружие. Но теперь ни одна стрела не попала в волков, так как они непрерывно прыгали и крутились вокруг. И вдруг четыре зверя сразу кинулись на девушку. Стоявшая рядом с ней Мать вонзила копье в живот одного из них, но три других впились зубами в ноги девушки, рванули ее в сторону, тут же разорвали ее живот, стали пожирать внутренность. В тот миг, когда каждый пытался защитить девушку, волки кинулись на молодого мужчину, сбили его с ног и загрызли. Бросившись на его защиту, люди оставили девушку, и ее тут же сожрали эта страшная стая. Оглядевшись, мать увидела, что молодой охотник испускает дух, а рядом с ним подыхает окровавленный волк, которому он успел воткнуть в горло копье. А другие волки жадно лакают текущую кровь. И Мать решила, что нужно скорее уходить всем уцелевшим, пока хищники заняты своими жертвами. Вся эта битва заняла несколько минут, и все они знали, что волки, как только сожрут тела девушки и молодого охотника, нападут снова на оставшихся. Подхватив туши медведей и одного убитого волка, они пустились бегом, оставив умиравшего на снегу, и скоро достигли своей пещеры.
Горел костер, трещали дрова, и в его красном свете спали дети. Старуха услыхала шум снаружи и спросила дрожащим голосом:
— Ниша, это ты?
— Да, — ответила Мать. Она отложила оружие, сбросила с плеч одеяние и осталась совсем нагой. Все другие, сложив
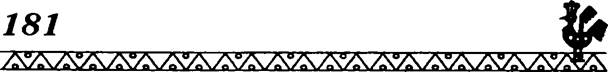
туши медведей, разделись тоже и подставили свои обнаженные тела теплу костра. Тут проснулись и все спавшие. Все здесь с детства привыкли просыпаться мгновенно, по первому же звуку. Мать смогла сохранить семью живой до самой весны, благодаря своему умению использовать запасы пищи. Ведь уже с началом зимы прекратилась охота на оленей, зайцев, коз, баранов и лошадей — все они ушли к югу, в теплые солнечные земли. Семья Матери тоже должна была бы уйти куда-нибудь Южнее, но шестнадцатилетняя девушка заболела, по обычаю людей того времени, не надо было бы обращать на это внимание, чтобы не погубить несколько жизней ради спасения одной, но сердце Матери внезапно смягчилось, и они остались. А вот теперь семья лишилась двух своих членов вместо одного. До возврата легко добываемой добычи оставалось еще два месяца, и теперь неизвестно, сколько жизней могут еще быть потеряны. Ведь трех медведей и одного волка не хватит на то, чтобы продержаться остаток зимы.
Но этой добыче радовались дети, бедные созданья, часто засыпавшие с пустыми животами. Мать дала им по куску волчьего сердца, и пока они пировали, она освежевала тушу волка, аккуратно содрав с нее ценную и прочную шкуру. Самые голодные члены семьи стали есть сырые куски розданного ею мяса, но другие начали умело обжаривать свои порции на углях костра. Каждый предлагал Матери взять хотя бы малую частицу от его куска, но она стойко отказывалась, говоря:
— Ладно, сегодня набивайте полные животы, завтра вы
же столько не получите.
I Детям дали отпить по глотку перебродившего сока из бур- Дюка, взрослые не отказали себе в этом удовольствии, и в
Мещере воцарилось долгое веселье: пили и плясали с окрасневшими глазами, отбивая ритм палкой о палку, и выкликали слова песни. Мать управляла семьей, взрослые члены которой все были ее детьми, и все они считались здесь равными и подчинялись ей. А она сама, как и старший мужчина, были рождены на свет той, что сейчас сидела у огня.

И никто из них не знал таких слов, как «мой» и «твой» — права всех и каждого были равными. И пройдет еще много- много лет до того дня, когда появятся представления о собственности. Все члены семьи, включая и мужчин, безоговорочно подчинялись Матери. Будет неверным предположить, что она не сожалела о смерти молодого охотника — ее сына и в то же время мужа, но условия жизни в ту эпоху вынуждали людей больше думать о текущей минуте, а не о том, что уже прошло. Здесь сейчас присутствовали два других ее мужа —двое взрослых сыновей, и подрастал третий, тот, кому было четырнадцать лет. Из числа детей мужского пола никто не мог предсказать, сохранится ли его жизнь до того мига, когда он сможет стать ее мужем. Сейчас она была близка с охотником двадцати шести лет, а другие женщины семьи знали, что их общим мужем является тот, старший мужчина.
3
В день, когда зима уходила с земли, старая бабушка уснула навсегда. Волки к этому времени убили троих из семьи, а когда с реки стал сходить тающий лед, старший мужчина утонул в быстром ее потоке. И от семейной группы в шестнадцать человек осталось в живых только девять.
Наконец расцвела весна. Миновал долгий сон, и пробудившаяся природа обретала новую жизнь. На березах зашелестели листья после столь долгого молчания. Растаявший снег уступил место буйно растущей траве. Ветер широко разносил опьяняющий аромат пробудившейся зелени и влажной земли. Все, что казалось мертвым, исполнилось жизни. Разноголосица птичьего пения долетала из крон деревьев, все вокруг наполнилось звоном цикад. По берегам ручьев, уносящих остатки снега, тысячи уток и гусей искали себе еду, и лебеди начинали свои любовные игры. На зеленеющих лесных полянах паслись стада оленей, косуль и буйволов, а к ним то тут, то там начинали подкрадываться изголодавшиеся волки и пантеры.
И семьи людей, проведшие долгие месяцы зимы в пещерных укрытиях, тоже начали передвигаться в другие места, подобно ручьям, освободившимся из-под ледяных покро-
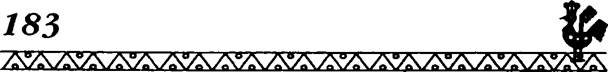
bob. Они уносили с собой своих маленьких детей, а также груз своих орудий и оружия и добытых шкур. И главное — хранимый в особых сосудах огонь своих очагов. В этих новых переходах они впитывали в себя энергию солнца и земли, и день заднем укреплялись их мускулы и нарастали жизненные силы, как у животных и растений на их пути. То их собаки догоняли и загрызали для них косулю или барана, то они сами добывали пищу, загоняя зверей в ловушки или убивая их метко посланными стрелами и деревянными копьями. А ведь было же и много рыбы, так много в верхнем течении Волги, что плетеные ловушки никогда не извлекались из воды пустыми.
Ночи еще были холодны, но дни становились все теплее и теплее, и вся семья Ниши, передвигаясь по берегу, встречалась и с другими семьям, во главе которых тоже стояли сильные и храбрые женщины. Да, женщины, а не мужчины. И среди них тоже нельзя было бы определить, кто же был отцом, а точнее — отцами других членов семьи. Ниша дала жизнь восьми дочерям и шести сыновьям, и они, в свою очередь, породили четырех девочек и трех мальчиков. И все те из них, кто остался в живых, входили в их семью, которую она возглавляла в свои пятьдесят пять лет. Рожденные ею были безусловно ее детьми — об этом говорил сам акт рождения, но от кого они были зачаты, каждый из них, сказать было невозможно.
Бабушка Ниши, которая долго стояла во главе семьи, сближалась в годы своей зрелой жизни и с братьями, и с сыновьями, да и они же сходились с юной Нишей, когда отмечали охотничьи удачи пением, плясками и любовью.
В этой семье Ниша была самой старшей и властной, но это верховенство могло теперь уже скоро завершиться — через пару лет она могла уже занять место бабушки, а семью возглавит самая старшая и самая сильная из ее дочерей. Это произойдет не без острых столкновений между этой дочерью, по имени Лекха, и ее сестрами. Но каждая новая Мать семьи прежде всего должна была заботиться о том, чтобы уберечь ее членов от гибели — ведь всегда можно было стать

жертвой волка, пантеры или медведя, а то и угодить на рога дикого буйвола. Поэтому могло быть и так, что одна из сестер Лекхи, чувствовавшая себя достаточно сильной, могла создать свою отдельную семью, тоже став ее Матерью.
...И такое положение вещей длилось и длилось до тех пор, пока наконец мужчина не стал во главе семейной группы, подчинив женщин своей власти...
Ниша видела, что Лекха с каждым разом все удачливей проявляла себя в охоте и стремительней оленя носилась по горным лесам. Им случилось однажды набрести на высокую скалу, и на самой ее вершине они увидели большой улей диких пчел. На эту высоту не мог бы забраться даже медведь, известный любитель меда, но Лекха связала концы нескольких длинных палок и влезла по ним наверх, как ящерица. Она прихватила дымный факел И, выкурив рассерженных пчел, набрала в подставленный бурдюк много меда. Этот поступок Лекхи стали восхвалять члены и ее семьи и других близко бродивших семейных групп. Но Нишу это не обрадовало. Она видела, что мужчины ее семьи все более охотно присоединяются к Лекхе в танцах и песнях и все менее радостно откликаются на ее собственные призывы к взаимности, хотя на открытое противостояние ей еще не идут.
Наступило время, когда Ниша стала искать выход из такого положения вещей; ей даже приходила в голову мысль о том, что ведь можно задушить Лекху, когда она покрепче заснет. Но она тут же обрывала себя, понимая, что ведь Лекха настолько сильнее ее, что в одиночку ей не одолеть свою дочь. Но если обратиться к кому-либо за помощью, то кто и почему согласится ей помогать в этом деле? Ведь каждый мужчина семьи стремится завоевать симпатии Лекхи, да и другие дочери не согласятся ей помочь — они все уже боялись Лекхи, зная, что в случае неудачи она их немедленно убьет.
Сидя в сторонке, Ниша постоянно перебирала в уме способы победить Лекху. И однажды ее лицо озарила радость возможной удачи.
Наступил час после полудня, когда все члены семьи спали под навесом из шкур. Ниша села над высоким обрывис-

тым берегом реки неподалеку от игравшего тут трехлетнего сынишки Лекхи. Держа в руке, как чашу, лист лопуха, наполненный собранными ягодами, она бросила одну ягоду под ноги малыша. Он сразу подхватил ее и съел. Она бросила вторую поближе к кромке обрыва, и мальчик тут же подбежал и подобрал ее. Ниша стала бросать одну ягоду за другой, и вот нога ребенка соскользнула с берега, и он упал в воду.
Крик Ниши раздался одновременно с громким всплеском холодного потока. Лекха мгновенно кинулась к обрыву и увидела, что малыш уже почти скрылся под водой. Бросившись в реку, она подхватила ребенка, уже почти задохнувшегося в холодной воде, пронизавшей его тельце, словно ледяные иглы. С огромными усилиями удалось Лекхе проложить путь к берегу сквозь стремительные струи сильного течения. Сжимая одной рукой ребенка, она била другой рукой и ногами по воде, пытаясь плыть. Но внезапно сильные пальцы сомкнулись на ее горле, и она поняла, кто это был. Она давно уже замечала как меняется отношение Ниши к ней, и вот наступил миг, когда Ниша старается выдернуть ее из своей жизни, как колючку из ноги. Она могла бы еще и тут дать Нише почувствовать свою силу, но дитя связывало ее движения. Видя,чтоЛекха все же отчаянно борется, Ниша навалилась грудью ей на голову, вжимая ее под воду, лишая последних сил. И тогда Лекха изо всех сил сжала свободной рукой горло матери, и обе они скрылись в глубине потока, не будучи уже в состоянии бороться дальше. И оба их тела были унесены неукротимыми волнами Волги.
И тогда Рочана, самая сильная из оставшихся женщин, стала матриархом этой семьи.
Глава 2
ДИВА, НАСЛЕДНИЦА ВЛАСТИ
Область: среднее течение Волги.
Народ: индо-славы.
Время: 3500 до н.э.
Этот рассказ посвящен одному из кланов (родов арьев, жившему за 325 поколений до нас. В это время он был час-

тью белой расы Индии, Ирана и России, и к ним я отношу название индо-славы, а наука относит языки этой большой группы к той части индоевропейских языков, которую называют «сатэм».
—Дива, солнце так печет, что ты покрылась потом. Иди сюда, посиди на этом прохладном камне.
— Иду, Сур, иду, — с этими словами девушка подбежала и села рядом с ним на обломок скалы в тени высокой сосны.
И правда, ее лоб покрылся каплями влаги, как мелким жемчугом. В этот жаркий летний полдень они оба гнались за оленем, но он убежал, и теперь они остановились у подножия высокого холма, поросшего соснами. Широкие ветви деревьев, густо усыпанные длинными иглами, рассеивали солнечные лучи, создавая прозрачный узор теней. И вся трава поляны вокруг юной пары пестрела яркими цветами. Эта свежесть, этот аромат сразу освежили обоих. Сур отложил в сторону свой каменный топор, лук и стрелы, подбежал к журчавшему невдалеке ручейку, напился и стал собирать цветы, оглядываясь на Диву. Она тоже отложила свое оружие и обеими руками расправила тяжелую волну своих золотых волос. Перед ней несла свои воды манившая прохладой широкая Волга, но Дива оглянулась, и ее взор вдруг остановился на Суре, собиравшем цветы. И золотистые его волосы вдруг показались ей очень красивыми, и светлая бородка, обрамлявшая его молодое лицо, тоже была красивой. Затем девушка впервые обратила внимание на то, как сильны его руки, и она вспомнила, что он недавно у нее на глазах перебил камнем хребет могучего вепря. Какими мощными были тогда его руки, и какими слабыми они казались ей сейчас, когда он касался цветов так осторожно. Но нет, и сейчас видны были под его светлой кожей выпуклые бугры развитых мускулов. Ей вдруг захотелось подойти к нему и погладить эти плечи, эти руки. И ноги его, казалось, не знали усталости, напрягаясь при каждом легком шаге. И впервые Диве все это показалось прекрасным и привлекательным...
А ведь Сур всегда подавлял в себе желание завоевать ее любовь. Он гасил в себе нужные слова и скрывал выраже-

ние глаз. Когда все танцевали, он так хотел бы быть с нею, но она часто сплетала руки с другими юношами их рода, танцевала и разрешала им целовать ее губы, склоняя голову не на его плечо. Огорчаясь, Сур уже не надеялся на ее поцелуй или объятие или даже на протянутую к нему в танце руку.
И вот он подошел к ней с охапкой цветов в руках, и она пожалела, что так долго не приближалась к нему, не прикасалась к его могучему телу и вообще о нем никогда не думала. Но не она была в этом виновна, это Сура одолевала какая-то застенчивость, и он лишнего слова вымолвить не мог. А ведь дверь открывают только тому, кто в нее стучится...
Когда он подошел, Дива сказала с улыбкой:
— Ты собрал красивые цветы. И такие душистые.
— Когда я их вплету в твои волосы, — откликнулся он, рассыпая цветы по камню, — они станут еще красивее.
— Ты их для меня собирал, да?
— Да. Я смотрел на них и на тебя и думал о водных девах.
—О водных девах?
— Да о них. О том, что они исполняют все желание тех, кто им угодит и могут даже убить того, кто их рассердит.
— А на какую же из них похожа я?
— Не на вторую, нет.
— А я ведь никогда не старалась принести тебе радость, — раздумчиво сказал Дива и умолкла.
— Но ты никогда и не сердилась на меня. Даже в нашем детстве.
— В те дни я тебя иногда целовала.
— И я тогда так радовался этому, я это помню.
—Но когда я подросла и моя грудь округлилась, на меня стали смотреть другие, и я тебя забыла, — молвила Дива с сожалением. — Я ошиблась.
— Но это была не твоя ошибка, а моя. Ведь когда юноши просили тебя о поцелуях, ты не отказывала им. Они просили обнять, и ты соглашалась. Отказа не знали сильные, удачливые в охоте, веселые в плясках.
—Но и ты был таким же, Сур. И даже сильнее и удачливее других, а я приносила тебе разочарование.

— Но ведь я никогда ни о чем тебя не просил.
— В словах не просил. Как это было и в детстве, но я тебя понимала. А потом я как бы забыла о тебе. Я теперь уже другая Дива, а ведь мое имя означает «день». И она сможет опять забыть о Суре, чье имя значит «солнце»? Нет, никогда.
— Значит, мы снова вместе?
— Да, да. И я буду целовать твои губы.
И эти двое, эти повзрослевшие дети заключили друг друга в объятия. Глядя в его глаза, такие же голубые, как у нее, Дива воскликнула:
— Как я могла надолго забыть тебя, сына моей собственной матери?!
— Нет, ты не забыла. Ты просто выросла, и все изменилось в тебе, и все стало другим — и тело, и глаза и даже голос. И я отошел от тебя.
— Вечером будешь плясать со мной?
—Конечно!
—И весь день будешь радом?
— Да, да!
—И всю ночь тоже?
— Да и всю ночь.
— Ну, тогда я сегодня никому другому не позволю быть рядом со мной.
К ним подошла группа других молодых охотников их рода. Видя, как ласково Дива обнимает Сура, кто-то спросил:
—На сегодня, Дива, ты выбрала для себя Сура?
— Да. Вот взгляните, как он сумел украсить меня цветами.
— О, Сур, — воскликнула одна из девушек — убери так и мои волосы.
— Не сегодня! — ответила за него Дива. — Сегодня он мой. Ты — завтра.
— Завтра Сур будет моим?
—Нет. И завтра он будет принадлежать мне.
— Ты что, Дива, хочешь, чтобы он был каждый день только твоим? Это неправильно.
— Не каждый день, — согласилась Дива, поняв, что она
неправа.

— Но сегодня и весь день завтра.
Постепенно подошли и другие охотники. Большая черная собака подбежала к Суру и стала лизать его в лицо. Тогда он вспомнил об оставленной им добыче. Прошептав что- то на ухо Диве, он вскочил и убежал вслед за собакой.
2
Общим жилищем рода служила обширная деревянная хижина, крытая соломой. При обработке больших бревен для стен пользовались не только каменными топорами, как бы они ни были остры, но прибегали и к обжигу. Хижина, а точнее большой дом, вмещала в себя всех членов рода Ниши — такое название он носил по имени женщины-основатель- ницы. Все они жили вместе, охотились или собирали мед тоже все вместе. Все подчинялись верховной женщине, а старшие члены рода наблюдали за его общими делами. Никакие личные дела или интересы отдельных членов рода не отделялись от общей жизни, будь то охота, пляски, любовные связи, работы по строительству или выработке одежды из шкур. За всеми этими работами присматривали те, кого назначала мать-руководительница.
В этом доме жило 150 членов рода Нищи, и всех их можно было считать в определенном смысле членами одной семьи, хотя в ее пределах уже определялись и отдельные группы, подобные складывающимся семьям: пока была жива мать, возглавлявшая род, именно ее дети держались как такая группа, подчеркивая свою с ней ближайшую связь. Дети других женщин рода тоже осознавали свою прямую связь со своей матерью, но не отличались от всех других в правах и обязанностях, подчиняясь верховной женщине. И все, что они добывали вне дома, на охоте или при поисках меда или сборе плодов, делилось между всеми, не принадлежа никому в отдельности. Признание обычаев рода и покорность велениям старших были для каждого столь же естественны, как их собственные чувства и порывы.
Такой дом был для них лишь временным жильем — как только истощался участок их охоты и добывания разных видов пищи, они переходили на новое место. Опыт многих веков подсказывал им путь к другим источникам питания. А оставленный ими дом разрушался и зарастал травой, уходя навеки в землю, даже если иногда они строили его стены из камня. На новом месте возводилось новое жилище, и постепенно в таких общих домах люди начали выделять отдельные части как склад вещей и продуктов и как место для очага, на котором в дни холода готовили пищу. Издревле они привыкли использовать черепа убитых животных в качестве посуды, но затем постепенно стали лепить вручную грубые сосуды из глины, высушивая их на солнце в летние месяцы. Но мясо они или жарили на огне или ели его сырым, но не сушили впрок. Меда же было здесь на берегах Волги такое изобилие, что дупла служили им не только как естественные пчелиные ульи, но и как приметные места для приманивания медведей, больших любителей меда. И часто самая удачная охота на медведей протекала именно возле таких дуплистых деревьев. Перебродивший мед эти люди издавна уже привыкли высоко ценить за его опьяняющее воздействие, и весь род Ниши знал это.
И вот наступил вечер, и над поляной возле дома разлилась песня, в которой переплетались мужские и женские голоса. Возможно, ее сопровождали и ритмические удары по какому-нибудь предмету, и это могла быть туго растянутая для просушки шкура — дальний родич будущего барабана. Они все часто пели и во время какой-нибудь общей работы — ведь все давно поняли, что песня снимает усталость. А в холодные вечера они собирались все вместе в одной части своего обширного жилища, садились возле поленьев, сложенных для костра под отверстием, проделанным в крыше для выхода дыма, и пели, разжигая дрова, стараясь песней призвать волшебную силу огня, называя его святым именем Огна, или Агни.
«Приди, Огна, приди» — повторялось часто в этой песне, и их пение было как молитва, обращенная к огню. И в сопровождении этой песни мать и старшие в роде начинали бросать в огонь куски мяса, жир, сладкие плоды и медо-

вые соты. К началу осени род накопил много разных продуктов, и вот теперь ночь полной луны, все одаривали ими Агни, бога огня.
Мать возлила в огонь опьяняющий медовый напиток, и это священное возлияние все наблюдали уже стоя, а не сидя. У них, стоявших в свете огненных вспышек, были такие сильные прекрасные тела — ни ожирения, ни искривлений, ни уродства. Да, это было в давние века тем, что мы сейчас называем красотой. И здоровьем. А чертами своих лиц они все были явно или не очень уловимо похожи друг на друга — ведь члены этого рода были потомками Ниши, ее дочерей и внучек, порожденными от ее же сыновей и внуков, взаимно сочетавшихся в моменты возникавшего влечения с любой из женщин рода. Здоровье и сила — эти два качества определяли жизнь каждого. Бессильные не выживали в условиях суровой природы и при постоянных встречах с хищниками.
После принесения жертвы богу Агни все перешли в общее помещение дома и расселись на утрамбованном глиной полу. Бурдюк из шкур, и еще один, и еще появились в их кругу, и из этих кожаных мешков все стали наливать в глиняные чаши пьянящий медовый напиток. В их руках были не только сосуды из глины, но и из высушенных черепов, из рогов убитых ими туров или из выдолбленных кусков дерева. Пили и ели все вместе — и дети, и юные, и взрослые, и старые члены рода, но уже молодые подсаживались ближе к молодым, а те, кто постарше, друг к другу, и, конечно, дети норовили сесть поближе к своим матерям, дающим им пищу. Старые женщины повествовали в такие часы о тех радостях жизни, которыми они наслаждались в дни своей молодости, юные, слушая их, понимали, что теперь настала их очередь. Но никто из молодых при этом не забывал, что в круг их жизни входили не только наслаждения, но и обязанности заботиться о стареющих членах рода. Они непрерывно подливали сладкий напиток в чаши их угасающей жизни. Возле своей бабушки сидела и Дива, окруженная такими же молодыми, как она и Сур.

Сытная пища, сладкий напиток, пения и пляски заполнили вечер. А затем старики и дети погрузились в сон, а те, кто жаждал друг друга, слились в объятиях...
Вслед за миновавшей ночью наступило утро, и, как всегда, одни занялись работой в доме, другие отправились собирать съедобные растения и плоды, а третьи удалились в поисках охотничьей добычи. Часть женщин осталась при новорожденных и маленьких детях, кормя их и следя затем, чтобы они не убегали далеко от разостланных для них в тени шкур. За самыми маленькими присматривали и дети постарше, играя с ними, развлекая их веселой болтовней или плескаясь вместе с ними в мелкой воде на краю песчаного берега Волги.
За долгое время, прошедшее с техдней, когда Матерью рода была Ниша, многое изменилось в жизни ее потомков. Постепенно ослабела жесткая власть одной верховной женщины, и в пределах этой разросшейся родственной группы возникли ее мелкие, члены каждой из которых тяготели к своим старшим матерям. Почитая старшую изо всех, они уже не подчинялись ей как бесспорному матриарху, и власть в роде сосредоточилась в руках нескольких матерей, совместно обсуждавших и решавших дела. И в эти дни уже не могло возникнуть у начавшей стареть главной женщин стремление избавиться от старшей дочери, угрожавшей ее абсолютному авторитету и привлекавшей общую любовь проявлениями своей ловкости и силы, как это было во времена Ниши.
3
Миновала и молодость Дивы, и настал день, когда ей исполнилось сорок пять лет. У нее уже было четыре сына и пять дочерей, и ее признали верховной матерью. Но к этому времени, за последние двадцать пять лет, род Ниши стал в три раза больше. В день, когда Сур поцеловал Диву, она сказала ему: «Все, что мы имеем, мы получаем благодаря милости бога Агни и щедрости бога солнца-Сура. Все, кого защищают Агни и Солнце, всюду найдут потоки меда, подобные Волге, и стада оленей в своем лесу».
Но куда бы ни пришли все члены этого разросшегося рода, им уже стало не хватать и меда, и добычи. И вот не

стало необходимым строить такие обширные жилища, как прежде, в центре общего охотничьего угодья — теперь уже требовалось охотиться на участке в три раза более обширном. И вот поневоле более мелкая группа рода, возглавляемая теперь Дивой, отошла от прежнего их общего дома, в котором осталась группа другой Матери, Уши. Отошли и некоторые члены рода, объединившись под власть подобных Диве новых Матерей, но продолжали все же охотиться на всем том угодье, которое раньше было их общим. На совете Матерей заговорили о неизбежности взаимных столкновений из-за добычи, и тогда Дива сказала: «Бог умножил число наших ртов, жаждущих пищи, и эти леса должны прокормить нас всех. Только в лесах мы сможем найти все нужное для сохранения жизни. Род Ниши не может отказаться от медведей, быков и других животных, населяющих эти леса, как и от рыбы, которую нам дарит Волга».
Люди из группы Уши посчитали, что подобные слова несправедливы. Встречаясь на охоте с людьми других групп рода, они старались доказать, что этот лес издревле принадлежит именно членам их группы и что раньше не возникало ни ссор, ни столкновений на этой почве. Но другие, считавшие себя более близкими родственниками Ниши, боялись, что над ними уже нависает угроза голода, и они не вдавались в разговоры о справедливости — ведь когда слабеют старые законы, вступает в силу закон джунглей. И каждая группа искала своих путей, постепенно все больше и больше отдаляясь одна от другой, захватывая новые участки охоты, питаясь, живя и размножаясь вне связи с другими и все более прочно замыкаясь в Кругу своих жизненных целей, своих интересов.
Группа, носившая имя Ниши, проникла однажды на участок леса, который люди Уши считали своим, начав вытеснять пришельцев силой. Местных было больше, чем пришедших, и в результате вспыхнувшего сражения люди Ниши вынуждены были отступить, оставив на месте несколько человек убитыми и унося с собой своих раненых.
Матери, бывшие членами общеродового совета, собрались обсудить это событие и решили собрать вместе всех чле-

нов рода. На этом сборе все пришедшие узнали о происшествии, услыхали имена убитых и раненых, и тогда их братья и сыновья, их матери, сестры и дочери стали настаивать на том, что необходимо отомстить обидчикам, кроваво отомстить. За всех убитых членов родовой группы. Мысль о плате кровью за кровь не противоречила отношениям между родами, и не возникало противоречия со старыми законами. И тогда музыка плясок превратилась в музыку боевых призывов, оставив в доме нескольких человек для охраны детей и стариков, все взрослые члены группы двинулись на бой, вооружившись луками, топорами, деревянными копьями и дубинами и надев одежду из толстых непробиваемых шкур. Первыми двигались музыканты, ударяющие в свои инструменты, а за ними все вооруженные мужчины и женщины. Дива возглавляла всю свою группу. Шум, поднятый этими идущими, разносился далеко по лесу, заставив птиц и зверей унестись подальше.
Сначала они перешли промежуточную полосу леса, разделявшую охотничьи участки. Никаких пограничных знаков в те века еще не существовало, но каждый охотник или рыбак, каждый член рода знал, где пролегает ничем не обозначенная границами, никто не мог, не должен был ошибаться. И никто не мог ложно оправдываться, ведь люди тогда еще и не знали лжи, не умели лгать. Люди из группы Уши услыхали шум этого наступления, созвали всех и не медля вышли вооруженные на бои. Они вышли бороться за свои охотничьи угодья, за свои права, но те, кто наступал, не думали ни о каких правах, и битва разгорелась на чужом для них участке земли. В воздухе засвистели стрелы с кремневыми наконечниками, топоры сталкивались с грохотом, со страшным стуком бились одна о другую тяжелые дубины. А когда оружие ломалось, то сражавшиеся как мужчины, так и женщины продолжали драться, нанося удары руками, ногами и впиваясь друг в друга зубами, как дикие звери.
Число напавших превышало вдвое число оборонявшихся, и победа осталась за ними. Но не следовало оставлять в живых никого из пораженных врагов, и, добив на месте всех

раненых, воины Дивы устремились за убегавшими. Старые женщины рода Уши, остававшиеся в доме после ухода других на битву, попытались было убежать, унося детей за скалы на берегу Волги, но это ни одной из них не удалось. Победители догоняли и убивали, не щадя и детей, а спрятавшихся в доме сожгли, разведя огонь под его стенами. В те века царил закон, повелевавший искоренять весь род противников, и воины Дивы ликовали, слыша крики сжигаемых и вознося молитвы благодарности богу Агни за ниспослание беспощадного огня.
Захватив все съестные припасы рода Уши, победители тут же устроили пиршество. Ликующая Дива танцевала у костра со своим взрослым сыном по имени Васу и с хохотом вспоминала, как она размозжила головы трем девочкам чужого рода и как звонко разбивались их черепа о скалу. В дикой пляске победы они обнимались, не скрывая взаимного тяготения, и все виели, что на эту ночь она избрала его для любви.
Завоеватели радовались тому, что захватили новые обширные участки для охоты и поисков пищи, а значит голод им не грозил в эту зиму. Но вместе с тем их охватывал и страх перед злыми духами, в которых теперь превратились все убитые ими враги. И все боялись в дальнейшем даже произносить вблизи обугленных развалин сожженного дома Уши, как верили, что именно там, на месте сгоревших людей селятся духи. Многие говорили, что видели там плясавшие тени, в которых узнавали своих бывших родственников, а Диве по ночам представлялось, как убитые ею младенцы хватают ее за руки, пытаясь куда-то увести, и она просыпалась, крича от страха. И когда наступило время менять место жилого дома и возводить жилище где-то подальше, то все члены рода проходили мимо погорелища тесной группой и только днем, в часы, когда солнце стояли высоко в небе.
4
Дива возглавляла свой род более двадцати лет, и за это время он разросся, много раз выигрывал в столкновениях с соседями, захватывая лучшие земли и имущество, хотя многих потерял в таких боях, но все же оставался сильным и не-

зависимым. И каждый год все они достигали главной цели — к каждой осени накапливать достаточно пищи для всех, и в зимние холода не знали голода. Дива воспринимала это процветание рода как особую милость к ней богов, и видения убитых ею младенцев давно перестали тревожить ее сон. Она продолжала считать себя главной наследницей имени прабабушки Ниши, и всю свою разросшуюся семью называла родом Ниши.
Но эта семья разрослась уже так широко, что с приходом очередной зимы, когда морозы превратили скованную Волгу в серебряную дорогу и все вокруг покрыл толстый слой снега, пришлось взрослым и сильным выходить на зимнюю охоту. С ними вместе бежали и давно прирученные собаки, наводя их на след добычи. К этому времени в жизни людей появилось и много нового. Заметив, что зимой копытные животный бродят по тем местам, где из-под снега можно было, разбив его толстый слой, добыть засохшую траву, люди стали засевать семенами трав не очень далекие от их жилищ места. А затем в лютые морозные дни подстерегали здесь свою охотничью добычу. Да и осенью олени часто выбирали такие густо заросшие травой поляны. Много нового входило постепенно в жизнь наследников Ниши.
Случилось так, что один из молодых охотников забежал далеко в лес, преследуя зайца, которого гнала его собака. Ее лай все удалялся и замолк где-то вдали, а затем она вдруг подбежала к нему, и он увидел, что из-за густых зарослей вышла незнакомая девушка с убитым зайцем в руках. На ней была одежда из белых шкур, и из-под шапки выбивались пряди золотистых волос. И она приветливо улыбалась, держа орудие в опущенной руке.
— Это твоя собака, друг?
—Да, моя. Но я тебя никогда не видел. Ведь ты не из нашего рода?
— Нет, из другого. Мой род носит имя Куру. И это наш участок.
— Род Куру? — растерянно переспросил охотник. И вспомнил, что такое имя носил соседний с ними род, враждебный

род, с которым не раз приходилось сражаться. Но те были очень осторожными, лишний раз не вступали в ссоры с его родом, опасаясь их силы, а если и случались столкновения, то люди Куру предпочитали спасаться бегством, отказываясь от боя. И воины Дивы поклялись истребить их всех, но те не приближались к чужому угодью, держась в стороне.
— Вот эта собака загрызла зайца, и если она твоя, то возьми его, — продолжила разговор девушка, удивленная недоверчивым взглядом охотника.
— Но ведь заяц был убит на земле Куру, — неуверенно пробормотал он.
— Да, верно. А я тут ждала хозяина собаки.
— Ждала?
— Да, чтобы отдать ему добычу.
В его сердце сначала вспыхнула было привычная ненависть к людям Куру, но приветливые слова девушки смягчили его, и он неожиданно для себя самого вдруг ощутил к ней дружеское расположение.
— Ты сама отдала мне и зайца и мою собаку, а собака мне очень дорога.
— Да, у тебя хорошая собака.
— Она лучше всех собак у нас. Она бежит ко мне, лишь только заслышит мой голос.
— А как ты ее зовешь?
— Ее имя Шамбху.
—А твое?
— Рикшу. Я сын матери Рочаны.
— Рочаны? Мою мать тоже звали Рочана. Слушай, Рикшу, если тебе не надо спешить, давай, посидим здесь, отдохнем немного.
Рикшу отложил свой лук, скинул шкуру, укрывавшую его плечи, сел возле девушки на поваленное бурей дерево.
—Твоя мать сейчас жива?
— Нет, ее убили в сражении с родом Ниши. А она меня так любила,.. — и девушка вдруг разразилась слезами. Рикшу ладонью смахнул слезы с ее щек и проговорит раздумчиво:
— Да, война... Это очень плохое дело...

— Уходят из жизни те, кто кого-то любит, — согласилась девушка. — Но как может война кончиться раньше, чем один из противников не будет совсем истреблен? Так говорят все. Я слышала, что люди Ниши хотят опять напасть на наш род. Там, наверно, такие же молодые-молодые воины, как ты, Рикшу, да?
— А среди Куру есть такие же юные девушки, как ты...
— И вот, смотри, мы почему-то должны убивать друг друга. Ну, почему так?
И тут Рикшу вспомнил, что его люди собираются через три дня напасть на род Куру. И вдруг девушка сказала:
— Но мы теперь не собираемся воевать. Вообще не будем.
— Как это? Куру больше не будут никогда воевать?
— Нас осталось мало, и у нас нет надежды на победу.
— Так что же вы будете делать?
— Уйдем совсем с этих берегов. Далеко уйдем. Хотя эта река так дорога нам. Это наша кормящая мать. Вот почему я часто прибегаю сюда теперь и подолгу смотрю на ее ледяной простор. Она спит зимой подо льдом.
— А потом ты никогда больше не увидишь ее?
— Да. И плавать в ее струях никогда больше не буду. А это так хорошо — нырять поглубже, когда купаешься летом, — и она снова заплакала.
— Да, тяжело тебе сейчас, — промолвил Рикшу печально.
— Как это все жестоко, как жестоко...
— Но таковы обычаи людей, сын Романы. Обычаи каждого рода.
—Людей? Скорее, это обычаи хищных зверей...
Глава 3
АМРИТ, ПЕРВЫЙ БРАК ПО ЗАКОНУ
Область: Центральная Азия — Памир
Народ: индо-иранцы
Время: 3000 до н.э.
Этот рассказ посвящен тем арьям, которые жили за 200 поколений до нас. Это была ветвь той светлокожей расы, которая в дальнейшем расселилась по Индии и Ирану, и название
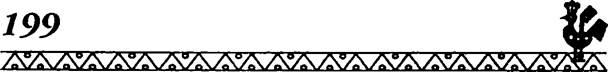
«арьи» было общим для этих племен. Их основным занятием было скотоводство.
Те, кому довелось в наши дни увидеть Кашмир, могут легко представить себе, как прекрасна была в давние века долина Ферганы, лежащая в окружении зеленых гор и омываемая дивными реками. И вот здесь миновала зима, и расцвела весна, превратив эту долину в истинный рай на земле. Пастухи, укрывавшиеся от холода в горных пещерах возле костров или в каменных хижинах поселков, стали выгонять скот на летние пастбища. Их летние селения состояли из шатров, крытых грубой тканью из конских волос, и теперь здесь начал подниматься к небесам дым новых костров.
Молодая женщина вышла, откинув полог шатра, и с пустым бурдюком на плече стала спускаться к ручью, призывно журчавшему между камнями. На ее пути вдруг встал молодой светловолосый мужчина, и она резко остановилась, испугавшись,., но затем узнала его и приветливо улыбнулась.
— Аты сегодня поздно идешь за водой, Сома, — обратился он к ней.
— Да, Риджра, верно. Но почему ты здесь бродишь?
— Не случайно, милая, я пришел к тебе.
—Тогда не мешай мне набрать воды, а потом пойдем к нам в дом. Ведь Амрит голоден и ждет меня.
— Он, наверно, вырос уже и стал совсем рослым?
— Да, вырос. А ведь ты его не видел уже несколько лет, верно?
— Верно. Около четырех лет.
—Ему сейчас уже двенадцать. И он сейчас похож на тебя.
— Ну, чем же тут удивляться, мы с тобой были так близки... в те дни. А где жил Амрит все эти последние годы?
— В поселке племени вахликов, в доме своего дяди. Принеся воду наверх, женщина вошла в шатер и сказала Крич- ре, своему мужу, что к ним пришел гость. Кричра сразу вышел и радостно приветствовал пришедшего, спрашивая о его жизни и здоровье.
— Благодарение богу, Агни. Все у меня хорошо.
— Ну, входи, входи. Мы как раз закончили готовить наш

дивный напиток сому, в четь которого и моя жена носит свое имя. Такой крепкий получился. Да есть и мед, и молоко кобыл к нему.
— Мед и сома? В это время дня?
— А мне надо отправляться к табуну своих лошадей поскорей. Ты видел, стоит ли там снаружи подготовленный к отъезду конь?
— Видел, видел. Значит, ты к вечеру не вернешься?
— Может быть, и вернусь. Но на всякий случай я беру с собой этот бурдюк со свежим сомой и кусок конины.
— Конины? У тебя много лошадей?
— Да. Агни благословил мой табун, а я главным образом развожу коней.
— У вас их раньше было очень мало.
— Да, мой отец был не богат.
— Ну, входи, входи. А я за тобой, за хозяином.
— Давай лучше посидим здесь, в тени, на траве. Жена, слышишь, принеси сюда и сому1, и свежее мясо.
— Но, Кричра, подожди, ты же собирался немедленно ехать.
— Да ладно, поеду завтра.
Вышла Сома, вынося бурдюке напитком и чаши. Вышел и Амрит и уселся между мужчинами как взрослый. Она гостеприимно спросила:
— Какое мясо ты предпочитаешь, Риджра, вареное с солью или жареное? Это мясо молодого жеребенка, его можно вкусно пожарить над огнем.
— Да, я люблю такое. Иногда я жарю жеребенка целиком над огнем. Сделай нам жареное мясо и приходи. Без тебя я пить не стану, хочу, чтобы ты сначала отхлебнула из моей чаши. Сама чаша станет сладкой от твоих губ.
— Да, да, — вскричал и Кричра, — иди сюда, мы так давно не видели Риджру.
—Я быстро, — ответила ему Сома, — молодое мясо быстро поджарится.
1 Сома — пиво. Оно воспето в Ригведе как напиток, дарующий бессмертие.

— А куда ты так спешишь с сомой? — спросил гость, видя, что хозяин уже подносит к губам полную чашу напитка. Да и не первую.
— Ох, и вкусен же свежий сома! Это поистине напиток бессмертия! Пей!
— Бессмертия? Если будешь столько пить, то долго не протянешь.
Подошла Сома, неся готовое мясо на кожаном подносе. И Кричра вскричал, пьянея, что он любит их обоих, и сому и эту свою Сому. А затем осведомился, зачем прибыл к ним Риджра. И к кому — к нему или к Соме.
—Ко мне, ко мне, — ответила ему Сома. — Сегодня я принадлежу гостю.
— Гостю или старому дружку? — ухмыляясь, переспросил ее муж. Тут Риджра усадил женщину рядом с собой и поднес ей чашу ко рту.
— Пей, Сома. Мы так дол го не виделись. Подсласти мою чашу.
— Да, да, подсласти, подслас-с-с... эт-т-ту ча-а-ашу и мне,
— забормотал опьяневший Кричра — и мне то-о-о...то-оже..
Мальчику надоело молча сидеть среди неинтересных ему взрослых и слушать их болтовню. Он встал и убежал к другим мальчишкам, игравшим у шатров. А пьяный его отец стал затягивать песню, бормоча при этом, что он поет здесь лучше всех в их племени Куру. Потом улегся на траву и заснул.
—Ну вот,— сказал Риджра, — он так напился, что встать не может. Долго не проживет с этим напитком бессмертия. А ведь по обычаю пить сому можно только после захода солнца.
— А он пьет по любому случаю и в любое время, — отозвалась Сома. И эти двое ушли от места пиршества и уединились на высоком берегу над рекой, густо заросшем высокой травой и яркими цветами. Громко звенели струи потока среди камней, и иногда у самого берега сверкали серебристой чешуей подплывавшие близко рыбы. Высокие сосны сторожили тишину, и ветер был свежий и легким. Здесь воскресла в душах обоих некогда соединявшая их любовь. После жарких объятий Сома стала вспоминать те давние дни, те дни, когда ей было шестнадцать лет и юный

Риджра не разлучался с нею ни днем, ни ночью. Они были двоюродными братом и сестрой — ее отец из племени вах- ликов приходился дядей Риджре. Но однажды в день весеннего праздника Риджра ушел навестить дядю, а в это время Кричра выиграл победу на состязании женихов и увел Сому с собой, гордо унося на своих плечах гирлянду жениха-победителя. Да, она стала его женой. Но не собственностью, так как в те века женщина еще была свободна от власти мужа. Она. встречалась и с другими избранниками своего сердца, да и более того — тогда было обычным для всех уступать свою жену гостю, и вот сегодня этот обычай принес ей истинную радость.
2
— Ты не устала, Мадхура?
— Нет, я люблю быструю скачку.
— Но эти парни похищали вас, девушек, так грубо.
—Да, вахлики всегда являются похищать девушек из племени пакхтов. И не только девушек, но и коней, и коров.
— Верно. Но из-за скота эти племена враждуют долго, а из-за девушек — нет. Приходится отцам девушек волей или неволей признавать зятьев.
— Но назови себя. Ведь я даже имени твоего не знаю.
— Меня зовут Амрит. Я сын Кричры из племени Куру.
— О, мой дядя тоже из Куру.
— Ладно, Мадхура, ты теперь в безопасности. Куда ты хочешь отправиться? Некоторые из девушек-пакхтов не отказываются остаться в наших селениях.
— Даже те, кого похитили?
— Да, ведь многие из них наши родственницы, двоюродные сестры.
— Но я все же думаю, что этот способ приобретения жен очень плох.
— И я так думаю. Ведь брак методом похищения далек от любви.
— Я считаю, что лучше всего жениться на дочерях своего дяди, которых уже знаешь и можешь любить даже с детства. И даже совсем сближаться.

— Ay тебя уже была такая близость с кем-нибудь?
— Нет. У моего отца не было сестер, а значит и племянников от сестер.
—Ну, а кто-нибудь другой был к тебе близок?
—Постоянного не было.
— А ты не хочешь подарить мне счастье?
Девушка не ответила и раздумчиво опустила глаза. Тогда он стал ей рассказывать о других местах и тамошних обычаях, говоря, что есть племена, не похищающие девушек, и в среде людей женщины имеют все те же права, что и мужчины.
— Как это? И оружием могут владеть, как мужчины?
— Да, они все там равны друг другу. Во всем.
— А где эта страна, Амрит?
— Далеко, Мадху. Далеко к западу от нас. Я был там и все это видел сам. Там не посмеют похищать женщин, охотиться на них как на тигриц.
— А что там с детьми? Как они живут?
— Там все жители деревни являются одной семьей, и никто не знает, кто из мужчин является отцом каждого ребенка. Женщины свободны в своем выборе. И они ходят и на охоту, и на бой.
— А они разводят коней и коров?
— Нет, этого они не умеют. Они охотятся, ловят рыбу и собирают плоды.
— А где они берут молоко?
— Только новорожденные пьют там молоко, сосут своих матерей. И у них нет тканой одежды, они носят одеяния из шкур.
— А я хотела бы походить на мужчин в своей свободе. Чтобы силой не брали замуж и не уводили, куда не хочу.
— А если я тебя буду любить, я, не другой. Ты согласишься?
—Но ведь я сейчас в твоей власти, ты меня похитил.
— Я все тебе буду разрешать, все, что зависит от меня. Но я не смогу ослушаться старшего мужчину, нашего патриарха. Этого я не смогу, только этого. Но во всем остальном я буду относиться к тебе как к свободной и независимой женщине.
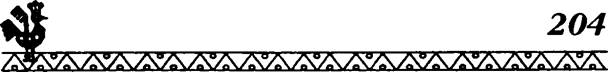
— И даже смогу любить другого?
—Если тебя позовет твое сердце. Но я буду всегда с тобой.
— О, Амрит, я верю в твою любовь. Я согласна остаться с тобой. Но все же не было бы лучше, если бы мы жили в се- леньи нашего племени, а не Куру?
И тут Амрит мгновенно повернул лошадей, и они направились туда, откуда он ее похитил. Ее отец не мог поверить своей радости, когда внезапно снова увидел ее перед собой. И похитителя рядом с ней.
— Он не хочет силой взять меня замуж, — пояснила Мадхура родным.
— Но обычай велит тебе принадлежать ему теперь!
— И я буду ему принадлежать, но жить мы будем здесь, так как я решила не нарушать обычаев его племени и нашего. Муж должен принять невесту из рук ее отца, таким должен быть закон1. Отдай меня ему, отдай. И тогда я добровольно уйду за ним к его родным. И я... я уже полюбила его.
Так среди людей рода Куру зародился новый обычай — отказ от нападений на чужие селения ради похищения девушек.
3
Прошли года, и в семье Амрита подросло четверо прекрасных сыновей, с помощью которых он умножил свои стада коров и овец и табуны коней. Достигнув зрелого возраста, он стал патриархом многочисленного рода Куру и мудро поддерживал каждого, кто к нему обращался за советом или помощью. А в мудрой поддержке нуждались многие, и особенно в возникавших противоречиях между более богатыми и более бедными членами общины. В прочных и богатых семьях установился обычай принимать к себе работников из числа тех, кто «беднел, лишившись скота или потерял в частых битвах многих мужчин своей семьи, и такие работники считались как бы членами принявшей их се-
1 Вплоть до нашего времени в Индии придерживаются формы бракосочетания, которая называется «канья уддана» (или «канья дана» — отдание девушки), — на свадьбе отец вручает свою дочь ее жениху (см. «Законы Ману», III, 27).

мьи. По разным поводам могли возникать споры среди людей, и слово патриарха было в те дни для всех решающим. Он был честным и благородным, и не нарушал своих обещаний или решений. Даже жене своей Мадхуре он предоставил обещанную ей свободу, и она выезжала рядам с ним и на охоту и на военные столкновения, хотя в других семьях от женщин требовали только занятий домашним хозяйством, и давно уже были преданы забвению те века, когда Куру жили на берегах Волги и все подчинялись главной матери. Однажды в день праздника, когда жители селения пировали и предавались веселью на большом лугу вблизи своих шатров, их собаки вдруг стремительно понеслись куда- то, оглашая окрестности злобным лаем. Со стороны пастбищ подбежала, задыхаясь, женщина, и все узнали в ней Мадхуру, которая давно ушла от пировавших соплеменников, чтобы проверить, не спят ли там пастухи. И теперь она принесла ужасную весть, громко крича: «Скорей! Скорей! Люди рода Пуру1 угоняют наш скот. Скорее бегите!»
Но упившиеся сомой мужчины были почти все пьяными, когда Амрит, схватив свою булаву с каменным наконечником, стал сзывать их на бой, поднялись лишь некоторые из числа тех, что были помоложе. Амрит велел женщинам отпаивать всех опьяневших кислым молоком и стал громко взывать ко всем, кто там был:
— Люди Куру, вставайте на битву! Враги угоняют наши стада. Нам всем грозит гибель. Бежим туда все вместе. И женщины тоже! Вспомним старые времена, пусть и они сражаются за жизнь своих детей!
И тогда все, кто был в силах, вскочили на коней и не менее, чем через два часа усиленной скачки, догнали похитителей. Оставив нескольких погонщиков возле украденного скота, группа воинов отделилась от них и бросилась навстречу догонявшим. В жаркой схватке люди Куру стали уже те-
1 Индийский эпос содержит много преданий о двух древнейших семейно-родовых группах Пуру и Куру: О потомках рода Куру — Кауравах повествует «Махабхарата».

рять силы, но на конях прискакали мгновенно протрезвевшие их родичи, и враги вскоре обратились в бегство, потеряв многих ранеными и убитыми. Селение рода Пуру было выше в горах, и хозяева скота гнались за ними до их жилищ, продолжая бой. Семьи похитителей, остававшиеся в поселке, пытались спастись бегством, но тесны были долины вокруг и высоки скалистые горы, и после того, как всех догнали защитники скота, не более десяти человек осталось в живых из числа членов обширного враждебного рода.
Глава 4
ПУРУХУГА, ПЕРВЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ
Область: долина р. Окса, Таджикистан.
Время: 2500 до н.э.
Этот рассказ — часть истории тех племен арьев, которые жили за 180 поколений до нас. Некоторые их группы уже готовились к переселению в Индию. В эти века уже было освоено земледелие и вошло в практику производство изделий из бронзы. Было распространено рабовладение, хотя и зарождался протест против него.
Внизу в долине рокотали воды Окса. По правому его берегу прямо от кромки берега поднимались скалистые склоны гор, а по левому раскинулись спокойные поля долины и далеко синела полоса леса с его высокими соснами и низкой порослью мелких деревьев и кустов. Уже кончалось лето, но дожди еще не начинались. И если в низинах в это время люди страдали от жары, то здесь, на землях возвышенных предгорий, она не ощущалась так остро.
Молодой мужчина, шедший по берегу вдоль реки, даже не сбросил с плеч своей шерстяной одежды1 и снял только шапку, подставив голову под освежающие струи ветерка. Светлые пряди его волос красиво обрамляли лицо, в чертах которого уже начинали появляться признаки усталости. Может быть, его утомил долгий подъем на склон холма, а
1 Арьи умели раньше изготавливать только шерстяные ткани и одеяла.

может быть, тяжелая корзина на спине, большой лук за плечом, колчан, наполненный стрелами, и бронзовый меч у бедра. Он мерно шагал по тропе, насвистывая и бросая взгляды вокруг. Впереди него шли подгоняемые им овцы, навьюченные мешками с зерном, а за ним бежала большая косматая собака.
Сверкая на солнце, со скалы сбегала струйка воды, срываясь из деревянного ложа, заботливо устроенного кем-то наверху. По скале лепилась и виноградная лоза, приманивая путников тяжелыми гроздьями, и когда овцы жадно припали к стоку воды, юноша стал утолять голод сочными ягодами, не созревшими еще и кисловатыми, но такими вкусными. Зная по опыту, что ледяная вода вредна для разгоряченного тела, он предпочел утолить жажду сначала этим обильным соком. Усевшись на траву возле сброшенной со спины корзины, он достал из нее большой кусок вяленой баранины, извлек нож из кожаного чехла у пояса и отрезал по большому ломтю для себя и собаки, которая мигом проглотила свою порцию. Потом вдруг насторожила уши и тихо предупреждающе заворчала, глядя в сторону недалекой заросли кустов. Рука юноши метнулась к мечу, но тут же и опустилась. Донеслось легкое бряканье деревянного колокольчика, и из-за кустов показался груженный мешками осел, а за ним следовала девушка, белокурые волосы которой и плечи были прикрыты шерстяным покрывалом. Она слегка сгибалась под тяжестью корзины на спине, смотрела под ноги и не сразу заметила путника у родника. Он слегка присвистнул, и когда она тревожно обернулась на этот звук, он увидел, что ей не больше шестнадцати лет и что ее юное лицо прелестно. Он пытался понять, куда она может направляться, ведь вверх по реке селений не было, а нижние были очень далеки отсюда. Девушка приблизилась, поспешив за ослом, который быстро направился к водопою, но ничуть не испугалась при виде незнакомца и лишь отерла пот со лба и с трудом стала опускать на землю свою тяжелую корзину. Он сразу подбежал, чтобы помочь ей, и она сказала, приветливо улыбнувшись ему:

— Как сегодня жарко.
— Тебе жарко, потому что ты поднималась в гору. Сядь, отдохни.
— Скоро начнутся дожди и будет трудно ходить по скользким склонам. Мои ослы будут часто падать. А овец у нас в доме нет. А куда ты идешь?
—Наверх, туда, где наш скот и кони на горных лугах. А ты куда?
— И я туда же, несу зерно для пастухов. Там мой дедушка, мои братья и сестры. Они смотрят за скотом. А дедушка старый-старый, но ни за что не соглашается жить в деревне. Он говорит, что в дни его юности люди не жили на одном месте, а кочевали по воле, шли, куда хотели.
— Как тебя зовут? Ты чья?
— Я Рочана из клана Мадра. А ты?
— Я Пурухута из клана Пуру Но моя мать из Мадра.
—Она из верхних Мадра или из нижних?
— Из верхних, горных.
— И моя мать из этого же рода, значит мы с тобой родственники!
— Но как ты не боишься в одиночку ходить здесь? А если леопард нападет?
— Днем здесь многие ходят, а ночью я раскладываю костер. И привязываю ослов поближе к огню. Я ношу с собой растопку и палочки для трения, чтобы добывать первую искру. Бывает трудно вызывать бога Агни к себе, но он милостив, и я знаю заклинания и молитвы. И тогда ничего не боюсь.
— Но теперь пойдем наверх вместе, все же тебе лучше не ходить одной.
Они подняли свои корзины и погнали своих животных вверх по горе. День потихоньку догорал, а они шли и шли, болтая без устали и рассказывая дуг другу о членах своего рода и о своей жизни. Стало темнеть, и Пурухута привел ее к засыпанному золой кострищу, специально оставленному невдалеке от тропы. Найдя под золой несколько тлеющих углей, он развел огонь, и к восходу луны все вокруг озарилось яркими отблесками пламени.

— Вот здесь и остановимся на ночь. Лучшего места не найдем.
И действительно вокруг было много густой травы для уставших животных и куча сушняка, согнанного ветром к подножию недалекой скалы, а значит не придется ночью бродить в поисках топлива. Они вдвоем развьючили овец и осла, и Рочана, схватив кожаный бурдюк, сбегала к придорожному роднику за водой. Достав из своей корзины бронзовый сосуд, Пурухута извлек оттуда же большой кусок сырой телятины. Отрезав от него половину, он бросил мясо в сосуд, а оставшееся завернул в сухой кожаный лоскут и уложил обратно.
— Далеко еще до шатров твоих родичей? — спросил он. — Завтра к вечеру это мясо начнет уже портиться.
— А мы завтра туда и доберемся. Это за первым перевалом. А твои где?
— Мои будут дальше по этому же пути. Значит, завтра я повидаю твоих.
— Да, это чудесно. А сейчас дай-ка я насыплю зерна в этот сосуд и соли. И налью воды побольше, чтоб дольше кипело. Будет готово, когда придет пора спать ложиться. Пойди привяжи животных поближе к костру.
Когда варево стало закипать над жарким огнем, Рочана сказала:
— Это хорошая штука этот котел из бронзы. Где ты его взял?
—Выменял на лошадь. У тех, что живут в низовьях реки.
— У твоей семьи много разного скота, да?
—О, да. И много зерна. Вот почему у меня есть вещи из бронзы. Взгляни, твой осел чего-то пугается. Наверно, он знает, что леопарды пожирают ослов охотнее, чем овец или телят. Правда, надо привязать его поближе.
С этими словари Пурухута встал, быстро нарвал большую охапку травы, бросил ее возле своей корзины и подогнал осла. А потом извлек горячее мясо из котла, положил его на расстеленный кусок сухой кожи и разделили на двоих. Сварившееся зерно они вычерпали деревянными чашками, и

почувствовали себя сытыми и отдохнувшими. Рочану стало уже клонить ко сну, но ей показалось, что она слышит звуки флейты. Протерев глаза, она увидела, что Пурухута наигрывает на тростниковой флейте, задумчиво глядя в огонь.
—Как? Ты и играть на ней умеешь? Как это хорошо! Поиграй для меня.
— Видишь этот маленький кожаный сосудик? Это мама дала мне в дорогу немного вина, которое она сама готовит из винограда... Вот я и играю...
Она долго слушала эти легкие нежные звуки, забыв обо всем, и лишь когда они замерли в ночи, она увидела догорающий костер и звездное небо над ним. До рассвета они спокойно спали, завернувшись в свои шерстяные покрывала, а с первыми лучами зари двинулись дальше.
—Скажи, Пуру, ты очень любишь пить вино?
—Нет, не очень. Так, иногда. А почему ты опрашиваешь?
— Потому что я ненавижу людей, которые много пьют. Они безобразны!
— Нет, это не обо мне. Я за вторым глотком не тянусь. Я флейту люблю. Как только я подношу ее к губам, забываю обо всем на свете. Музыка как-то сама рождается, сама по себе, без меня... А ночью я играл для тебя, милой моей новой сестрички. Я рад, что мы встретились на этом пути.
Болтая о том, о сем, они не чувствовали усталости, одолевая подъем в гору, и наконец увидали шатры стойбища.
2
Первым встретил их старый прадед Рочаны. Выслушав рассказ девушки, он сердечно обнял Пурухуту и сытно накормил обоих странников.
— Взгляни вокруг, юноша, обратился он к нему потом, — что ты видишь там и тут, куда ни бросишь взор? Ты видишь простор. И свободу, полную свободу. Все вокруг открыто для нас и отдано нам. И зовет нас к себе, зовет в путь. Эти луга обещают нам обилие молока, творога, масла и мяса. Когда трава иссякает на одном участке, мы ищем другой. Да, человек рожден не для того, чтобы жить, подобно узнику, на одном месте всю жизнь. Покров шатра из шкур надежно ук-

рывает нас от бурь и дождей, а зимой мы спускаемся со своим скотом ниже.
— И что же, — спросил Пурухуту, — весь ваш род так мал, что помещается в этом поселке из шатров и двух-трех мазанок, таких маленьких?
— Нет, наш род обширен, но люди уже отказываются от вольных кочевий. Многие Мадра живут в деревне у подножия гор, над рекой. Вот внучка приходит оттуда. Да и другие приходят за маслом и мясом. А я хочу жить, как мои предки жили, вольно перегоняя свои стада с места на место. Ведь от людей, долго живущих на одном клочке земли, да и от их скота тут же, накапливается столько грязи, что это трудно выносить. Земля обширна, легко найти новое место. Она наша Великая Мать, она всех накормит. И мне вот не нравятся эти ваши вещи из бронзы. Мне тяжело видеть, как режут грудь земли металлические плуги, эта ваша — как вы ее называете? Эта ваша новая работа?
— Она называется пахота, дедушка.
— Вот-вот, пахота, да. Боги стали гневаться за все это, а потому внизу у реки начались болезни, новые какие-то болезни. И участились убийства, да!
— А разве раньше совсем не было вещей из металла?
— Совсем не было. Мои прадеды делали вещи из камня, кости, рога и дерева. Каменными топорами они прекрасно рубили деревья и обрабатывали их. И никуда не спешили. А вы все торопитесь, вот уже сколько лесов свели своими бронзовыми топорами. А людей сколько порубили? Наше оружие жестоко. А ведь вы сейчас отдаете за бронзовый топор лошадь, которая вас возит на себе чуть не половину вашей жизни или является складом мяса, которого хватит на два месяца.
—Но в войне наши топоры лучше.
— Лучше? Это называется «лучше»? То, что раны глубже и из них вытекает больше крови?
— Но если мы откажемся от такого оружия, враги нас быстро истребят.
— Вы строите свои дома из дерева, камня и глины, и в них не проникает даже воздух. Вот в чем ваша слабость.
И в неподвижной жизни на одном месте. А побеждать можно и прежним оружием, не только каменными топорами, но и копьями с острыми каменными наконечниками и стрелами с тонко заостренными каменными жалами. Но вы к этому не вернетесь, вы ждете нападений со стороны той группы Мадра, что отделилась от рода и поселилась на землях, где живут и Парсу, наши враги. Там, где великая река Оке выбегает из гор, а куда течет она дальше? Этого никто не знает. Говорят, она течет в мировой океан. И вдоль того ее течения живут какие-то темные люди, враги наших богов. Я слышал, что их называют асурами, безбожниками. Они все лжецы. И Парсу тоже много лгут. И нижние Мадра тоже стали лгать.
— О чем вы говорите, дедушка?
— Ну, вот, возьми, даже наши ближние Мадра, приходя сюда, рассказывают, что у Парсу есть животные, у которых ноги велики, как горы, а шеи такие длинные, что могут протянуться над всей шириной Окса. Это разве правда?
— Это не совсем правда, но у них есть животные с длинной шеей и с горбами на спине. Их зовут верблюдами.
— Как?
—Это верблюды, дедушка.
— А... Да мне это все равно, я забуду это название. Не в нем дело, а в топорах. Вот до них не было ссор между теми Мадра, что живут у нижнего течения, и нашими прибрежными Мадра. И мы не воевали с Парсу. А теперь?! Я знаю, что если мы откажемся от бронзового оружия, а эти Мадра и Парсу сохранят свое, это будет нашим самоубийством. Но с металлом будет и дальше расширяться зло, помяни мое слово. На бронзе нет благословения богов. И за эти плуги, рвущие грудь Великой Матери, они отомстят. Уже мстят. Вот скажи, почему так измельчал наш скот? Почему травы стали такими низкими, почему даже олени и медведи становятся все мельче? Почему жизнь людей стала так коротка? Потому что те, живущие в низовых землях, ввели в свои дела то, что не было создано богами для людей. Вот почему!
— Но без вспаханного поля и зерна не будет. Я знаю, наши предки собирали плоды и дикие полевые зерна, но ведь они мельче пшеницы, и их мало.
— Наши предки питались мясом и плодами, а зерна почти и не ели. Эти низовые там забывают даже язык наших предков, не умеют призвать богов. Когда всех вас, Пуру, и нас, верхних Мадра, ограбят эти враги, у вас опустеют эти бронзовые сосуды. Пустые, но зато бронзовые...
—Ах, дедушка, есть другие новости. Там у низовых женщины стали украшать себя, свои уши и шеи изделиями из белого и желтого металла, называя его серебром и золотом. Вот такая новость! И за одно украшение отдают лучшую лошадь.
— Ну вот, скоро и наши женщины станут подражать им, и мы останемся не только без скота, но и без покрывала для тела. О, великий Агни, молю тебя: возьми мою жизнь. Я не хочу больше жить среди таких людей, не хочу...
— О, дедушка, а я хотел сообщить и последнюю новость. Позволишь ли?
— Ну, говори, говори все.
— Эти низовые захватывают пленников и заставляют их работать в своих хозяйствах, изготовлять металлические мечи и топоры. Это пленники из каких-то других народов, там дальше где-то живущих, где жарко. Их заставляют делать любые тяжелые работы, а кормят один раз в день. И плохо кормят. И еще, и еще: они продают их.
— Как? Да что это ты говоришь?! Продают? Людей, живых людей продают?
— Да. Они называют их рабами и за людей не считают.
—О, боги! И это ветвь великого рода Мадра могла так низко упасть! Нет, я не хочу жить, чтобы и дальше все это видеть, не хочу.
— А эти асуры, которых берут в рабство, они очень многое знают, и они во всем такие умелые. Интересно бы было побывать в их стране, посмотреть, как они там у себя живут...
— Нет, юноша, не отходи от своего народа и от обычаев своих предков. Без твоей защиты мы не выдержим этой новой жизни...
Вскоре Романа проводила Пурухуту далеко по горам к его родным.
3
Не прошло и двадцати пяти лет после смерти дедушки, и его пророчества стали сбываться. Достояние жителей верховых земель стало постепенно перетекать во владения низовых Мадра и Парсу. Их красиво тканные шерстяные шали и одеяла они начали легко отдавать за более дешевые одежды, изготовленные рабами. Приезжали на верблюдах и лошадях нижние купцы и привозили многие нужные изделия, часто бывавшие и непрочными, но красивыми. Но бронзовые вещи теперь требовали и приобретали все, отдавая за них ткани, кожи, коней и коров и как бы не видя, что их достатки убывают с каждым годом.
Некоторые из верхних жителей пробовали и сами заняться торговыми операциями, будучи уверенными, что нижние их во всем обсчитывают. Время от времени вспыхивали ссоры из-за этого, переходившие в серьезные стычки. Верхние группы Мадра и Пуру не раз пытались прорваться мимо селений нижних, но безуспешно: те охраняли выходы из горных районов. Наконец, в горах возникло нечто вроде военного союза двух ведущие родов, к которым присоединились и более мелкие группы, рассеянные в горах и на ближних к ним подходах. После долгих обсуждений все пришли к единому мнению, что для успеха дела им требуется вождь, правильно видящий и оценивающий обстановку. Единодушно был избран Пурухута, достигший к этому времени своих зрелых тридцати пяти лет. Род Пуру был и многочисленней, и сплоченней рода Мадра, да к тому же те были разделены на две враждующих группы — верхних и низовых, а поэтому все члены рода Пуру заслуженно считали себя более опытными в жизненных делах. Избрав Пурухуту своим предводителем, все преклонились перед ним, признав его верховным правителем, первым, по сути дела, царем в истории арийских племен.
Вот в те годы впервые стала создаваться армия в составе этих племен. Пурухута организовал процесс производства бронзовых изделий силами своих местных мастеров, и это принесло успех. Он призвал для руководства нескольких умельцев из рабов, и их встретили с радостью. Быстро все сосуды и другие бронзовые изделия были переплавлены в оружие. Молодой вождь — царивший над всем и всеми, приказал даже изготовлять бронзовые нагрудники для защиты жизни своих воинов. В качестве мест для первых атак он избрал селения Парсу и выбрал зимние месяцы, когда многие уходили далеко для проведения меновых операций. Решив выбить низовых жителей из их мест, Пурухута назначил военачальников и внезапно обрушился на врагов в быстрой атаке. Пленных не брали, убивая всех подряд, и, несмотря на отчаянное сопротивление оборонявшихся, их селения одно за другим перешли в руки союзнического войска. По завоеванному пути Царь Пурухута победно вступил на великий простор земель Куру. Низовые Мадра, пытавшиеся остановить двигавшуюся, как лавина, армию, были перебиты, а все женщины были взяты победителями в качестве жен или рабынь. Те же рабы, которых принудительно держали в своих хозяйствах низовые Мадра и Парсу, были отпущены на волю.
Потомки тех Парсу, что были в дни этой битвы вдалеке от своих домов, расселились по более восточным землям Ирана и в последующие века стали известны миру под именем персов.
А приходившие постепенно на берега Окса другие кочевые группы арьев, близкие к великим родам Мадра и Пуру, расселялись мирно по прибрежным землям и горам. И от них затем приходили все новые и новые группы переселенцев на земли Куру.
С течением веков имя Пурухуты было обожествлено, и его род Пуру стал считаться родом, произошедшим от божественного предка.
Глава 5
ПУРУДХАНА.УРОКИ ТЕМНОКОЖИХ
Область: Верхний Сват, крайний северо-запад древней Индии
Народ: Индоарьи
Время: 2000 до н.э.
Это рассказ о вражде, разгоревшейся в среде местных народов около 170 поколений тому назад. Рабство еще не укоренилось в жизни горных арьев, но упрочились такие нововведения, как пользование медными и бронзовыми изделиями, и стало развиваться занятие торговыми операциями.
Место своего нового расселения арьи стали называть Су- васту, составив это имя из двух слов: «су» — «прекрасный» и «васту» — «жилище». Они стали возводить дома из камня, а крыши делать из толстых сосновых ветвей. Невдалеке были видны одетые зеленью горы, а на полях ветер волновал зреющую пшеницу. Чтобы дойти до этих мест, пришлось перевалить через горные цепи Памира и пересечь не одну бурную реку, но они одолели все преграды и уже забыли горные пастбища над Оксом. Но не забывалась помощь, которую оказали боги, и на праздниках продолжали приносить жертвы Индре1 и этим же именем называли своего первого храброго царя Пурухуту, воспевая его подвиги, его властность и умение вести вперед свой народ. И те, кто расселился по этим местам, уже не были раздельными группами рода Пуру, а были племенем, единым народом Пуру, в котором все возводили свое происхождение к великому родоначальнику Пурухуте.
Здесь у них была и столица, город Мангалпур, и многие жители любили украшать свои дома гирляндами ярких флажков, а не только свежими душистыми ветками сосен. И когда однажды спросил у горожанина спустившийся с гор торговец скотом, из чего сделаны эти яркие флажки, такие тонкие и мягкие, он услышал в ответ, что не из шерсти.
1 Индра в Ригведе — бог-покровитель воинов.
—Как это не из шерсти? Мы знаем только ткани из шерсти овец.
— А это особая шерсть, она растет на деревьях и кустах.
—Да что ты, Пуру, такого не бывает! Шерсть растет на овцах.
—Ну взгляни, вот из нее мы прядем тонкие нити.
— Какой счастливый народ живет возле лесов с такими деревьями!
—Да, верно. Мы у них покупаем эту растительную шерсть.
— Там, возможно, и мясо растет на деревьях? Ты не слыхал?
— Нет, вот таких деревьев нету.
— А сколько же вы платите за эту шерсть? Она прочная? Она греет?
— Она намного дешевле настоящей шерсти. Но быстро изнашивается.
— Іде вы ее покупаете?
— У асуров. Их страна не так уж далеко от нас. Они делают одежды из этой шерсти.
— А если она такая дешевая, то почему же мы так не одеваемся?
— Она не годится для зимы.
— А как же асуры укрываются от холода?
—Так у них зимы не бывает, они не знают морозов, их края теплее наших.
— А почему ты торгуешь только с южными жителями? Почему не пойти на восток или север, или запад?
— С югом выгоднее торговать — хоть там бывает и страшно жарко, прямо шагу не ступишь без глотка воды, но товаров больше, самых разных.
— А что это за люди там? Какие они?
— Очень невысокие, кожа у них темнее меди, словом, уроды, на дьяволов похожи, да еще как будто словно безносые, приземистые, плоские твари. И законы у них дикие — они продают и покупают людей.
—Что?!
— Они называют их рабами.
— А рабы от них отличаются по виду?
— Да нет, это просто несчастные рабы, вроде имущества. Телом и душой они принадлежат своим господам.
— Да охранят нас боги от такой беды. Чтоб мне их никогда и не видеть!
— Ну ладно, хватит болтать, пора идти на жертвоприношение.
— Верно, верно. Кто бы давал нам скот и сому без Инд- ры? Пошли на праздник.
— А как поживает твоя жена? Ее не было сегодня на площади.
— А тебе бы хотелось лишний раз взглянуть на нее, да? Тебя это задело?
— Задело? Да нет, что ты. Ведь это ты решил взять себе такую молодую.
— Так и я еще не стар. Мне только пятьдесят.
— Ну, все же, ей-то только двадцать.
— Она могла отказаться сразу.
— Да, верно. Но ее родители глядели больше не на твой возраст, а на твои большие стада. А бедная юная Уша могла только молчать.
— И ты замолчи! Вы, молодежь, вечно суете свои носы, куда не следует. Идем скорее, да и Ушу прихватим с собой на праздник.
— А она так и сидела дома все это время?
— Послушай, отстаньте вы все, молодые, от нее. Пусть она меня любит.
Подходя к жертвенной площадке, они застали там уже много собравшихся на церемонию. Молодежь Мангалпура знала и любила Пурудхану, и все стали радостно ему улыбаться. Еще не все собрались, но площадка была украшена цветочными гирляндами и ветками сосен, и всюду были разбросаны пышно набитые травой валики, возле которых уже многие сидели и болтали. К вечеру должны были прийти все жители города и все другие люди племени Пуру. Эта часть земли принадлежала им, а по другому берегу реки Сват расселились люди Мадра родственного, но все же уже отдельного племени. Увидев подходящих, Уша подбежала к мужу и приветствовала его:
— О, дорогой, а я уже не знала, где тебя искать. Ты так давно ушел.
— Ну вот и пришел. Ничего со мной не случилось, я не умер, как видишь.
— Ах, не говори таких слов. Не хочу стать вдовой смолоду.
— Да и не стала бы. Твой деверь сразу же женится на тебе. Ты же знаешь обычаи нашего народа.
— Ты намекаешь на то, — вмешался Пурудхана, — что и при живом муже деверь может приближаться к его жене? На этот старый обычай?
— А как же. Вот она жалуется, что меня не было долго, а сама посетила за день несколько домов, куда была звана. А вечером парни будут хотеть танцевать именно с нею, и будет из-за этого драка. И мне придется выслушивать новые оскорбления.
— Ах, вот что! — воскликнула Уша. — Ты хочешь держать меня в сундуке.
С этими словами она призывно улыбнулась Пурудхане и скрылась в толпе, теснившейся вокруг алтаря. В этот день проводилась церемония принесения Индре в жертву самой лучшей лошади, и ее мясо, частично возложенное в жертвенный огонь, распределялось затем между старейшинами каждой семьи. Тут же разгорался и пир, люди опивались сомой, смешанным с кислым молоком, и им было разрешено один раз в году, в этот день, есть жареную конину, от которой давно уже отказались, и, больше того, — любить по своему выбору, не вникая в семейные связи. Пурудхана увел с собой юную Ушу, и муж ее, лишь поглядев им вслед, зная, что не смеет нарушать святой древний обычай, чтобы не вызвать всеобщего возмущения. Ежегодный праздник бога Ин- дры был праздником юности и силы, и все в племени любили его и ждали этого дня.
К наступлению ночи жрец покинул алтарь, пожилые люди разошлись по домам, а все те, кто без устали предавался жарким пляскам, разбрелись по сторонам, и их скрыл полог звездной ночи.
Земли в верховьях Свата были богаты скотом и зерном, и люди здесь процветали. Из числа новых вещей, в которых они нуждались, первое место занимала бронза, но и не на последнем уже стояли изделия из драгоценных металлов и камней. Для проведения торговых операций с юга приходили те, кого здесь называли асурами, и основывали свои временные поселки у слияния рек Свата и Кабула. Следы одного из таких больших поселений здесь можно обнаружить и в наше время. Сюда приносили свои товары и приводили скот на продажу все группы арьев, расселившихся в предгорьях и в горных долинах — Пуру, Куру, Мадра, Шиви, Уши- нара и другие. Не одну сотню лет протекал в этих местах активный обмен товарами между арьями и группами доарий- ских племен. Но постепенно среди арьев стали распространяться слухи о том, что асуры ведут нечестный обмен, и год за годом нарастало недовольство в среде арийских племен. Пурудхана, ставший с течением лет отцом обширной семьи после женитьбы на овдовевшей Уше, часто приводил сюда торговые караваны. За многие годы общения с асурами он, как и другие члены его племени, научились не только понимать их язык, но и объясняться на нем, что очень облегчало проведение торговли.
Но вместе с тем, вникая в разговоры асуров, он уловил, что они относятся ко всем арьям как к существам грубым и неразвитым, не знающим истинной цены ни вещам, ни людям, не имеющим истинных представлений о красоте и богатстве. Между представителями двух рас начало накапливаться недовольство, неуклонно переходящее во враждебность.
Города асуров были очень благоустроенными. Дома здесь были выстроены из обожженного кирпича, улицы прямы и чисты, вода подавалась в дома по трубам, фонтаны сверкали на всех площадях, освежая жаркий воздух[5]. Несмотря на
возрастающее недовольство арьев по вопросам товарных операций, они постепенно разглядели, что асуры не так уж безобразны, как их описывали те, кто впервые встретился с ними в прошлые годы. Разглядели они и то, что женщины асуров бывают весьма привлекательны, несмотря на их более темную кожу. Да и глаза у них были прямо неправдоподобно большими и сверкающими, как алмазы. И все же свой Мангалпур, украшенный деревянными балкончиками и окруженный сосновыми лесами с их непревзойденным ароматом, они считали более красивым, чем города асуров. Но, с другой стороны, вызывало зависть и наличие у асуров рабов, выполнявших все тяжелые работы, что подталкивало к мысли о полезности рабства. Соприкосновение на торгах порождало не только недовольство, но приводило все чаще к возникновению личных приятельских отношений, и некоторые зрелые мужи стали бывать в городах асуров, гостить в их домах и близко знакомиться с их жизнью. Не раз бывал там и Пурудхана, всматриваясь все более пристально в глубинное существование этих чуждых племен. Он многое узнал и понял, уловив устройство их общества, увидев непреодолимый рубеж в отношениях между рабами и их владельцами и поняв, что верхние слои одолеваемы страхом перед силой множества рабов, как и перед возможным нападением вражеских племен, племен арьев. Общество асуров было ослаблено тем, что роскошь растлила правящее сословие, что не могут создать и возглавить в бою армию те, чье внимание поглощено умножением богатств, приобретением все большего и большего числа рабов и пополнением новыми красавицами женских покоев своих дворцов. И он узнал, что во дворце правителя асуров в его столице было уже много и светлокожих юных арийских женщин, похищенных в горах или поддавшихся своей все разгоравшейся страсти к золотым украшениям, столь умело изготовленным мастерами асурских городов.
Правителя асуров Пурудхана никогда не видел, но видел его наместника, с которым вел некоторые дела. Это было отвратительное оплывшее жиром существо, мочки ушей
которого свисали до плеч под тяжестью массивных золотых серег, а златотканые одежды были почти не видны под покровом драгоценных цепей и ожерелий. И случилось так, что его посланцы заметили, что в составе каравана, пришедшего с гор для обмена товарами в должное место почти без охраны, есть много юных прекрасных женщин, устремившихся сюда, чтобы накупить украшений. Он отдал приказ напасть на караван на его обратном пути в горы и захватить женщин. Это был глупейший приказ — ведь он знал, что горцы были могучими воинами, но похоть оказалась сильнее проблеска разума.
А в этот день Пурудхана и Уша пировали в доме знатного асурского купца, с которым давно завязали дружеские отношения. Этот купец ненавидел наместника, забравшего себе его любимую дочь, и искал возможности разделаться с ним. Слуха пирующих вдруг достигла весть о коварном плане нападения на караван. Пурудхана мгновенно вернулся домой, собрал совет воинов, велел всем покупать только оружие, и даже женщины отказались от украшений. За оружие были отданы все лошади, и каждый воин оставил себе только боевого коня.
Пурудхана сообщил, что асурские воины собираются напасть там, где караван войдет в узкое ущелье, а другая их группа перекроет возможность отхода и бегства. Он велел объединиться трем караванам из разных горных селений и сам возглавил их обратный путь. Подходя к ущелью, он послал вперед группу воинов на разведку, и те спровоцировали нападение на себя асурских бойцов. Сразу повернувшись обратно, они указали на расположение врагов в засаде. Тогда Пурудхана решил завязать бой с теми, что укрывались на следах караванов, ожидая его бегства. Он знал, что, хотя асу- ры купили и много лошадей, но натренировать их еще не успели, а поэтому и бой будет ему под силу. Оставив группу для охраны людей и животных, он обрушился в бешеной атаке на не ожидавших нападения преследователей. Те не могли выдержать этого внезапного удара воинов, великолепно владевших своими копьями и мечами, стремившихся к тому же доказать асурам, насколько опасным было их намерение захватить женщин из арийских племен. Разбив эту группу врагов, Пурудхана отозвал и других и все войско бросил на торговый город. Неподготовленные к нападению жители этой цитадели наместника бежали в панике, оставляя за собой горы убитых.
Взбешенные предательством асуров, арьи перебили всех мужчин, а наместника растерзали на площади у всех на глазах. Они отпустили на все четыре стороны женщин, купцов и детей. Если бы в те годы в среде арьев сложилось стремление обзаводиться рабами, они не истребили бы стольких мужчин, но тогда они рабства еще не восприняли, и город, большой цветущий город, был разрушен почти до основания.
С этого времени уже не утихала вражда между этими двумя великими расами — арьями и асурами, которая вошла в мифологию арьев как преданье о великой битве между богами и демонами, между Дэвами и Асурами.
Обменные операции между этими народами на некоторое время замерли после этой страшной битвы. Но жизнь диктует свои условия, и по прошествии срока снова возобновился обмен, и все большее количество металлических изделий стало накапливаться в руках расселявшихся по новым землям арьев.
Глава 6
АНГИРА. СМЕШЕНИЕ АРЬЕВ С НЕАРЬЯМИ
Область: Гандхара-Таксила, северо-запад древней Индии
Народ: Индоарьи
Время: 1800 до н.э.
Этот рассказ о людях, живших за 152 поколения до нас и о конфликтах между арьями и асурами, часто вспыхивавшими на северо-западе древней Индии.
— Эти одежды из хлопка бесполезны, они не защищают ни от холода, ни от дождя, — проговорил юноша, сдирая с плеч прилипшую ткань и набрасывая на себя шерстяное одеяло.
— Но они хороши при жаре, — возразил ему другой, делая
то же самое.
Вечер еще не наступил, но в караван-сарае было уже много людей, отдыхавших перед пылающим очагом. Молодые собеседники отошли и сели поближе к окну, поплотнее запахнув на себе одеяла.
— Нам уже немного осталось пройти до этой прославленной столицы Гандхары, но противно идти все время под дождем, — заметил первый.
— Да, Такс ила почти рядом, — согласился другой, — но эти тучи обещают снова проливной дождь и холодный ветер. А крестьяне молят Индру о ниспослании дождей, а пастухам и того жарче.
— Верно. Они-то не путешествуют, как мы. Хорошо, что мы с тобой встретились на пути. А как тебя зовут? Откуда этот шрам у тебя на шее?
—Мое имя Пала. Я из Мадров. А ты?
— А я Варуна из рода Саувиров. Ты, похоже, идешь с севера?
— Да, из Мадры. А ты с юга? Это верные слухи, что асуры все еще нападают на арьев?
— Да, но только на побережьях, где еще стоят сохранившиеся их города. Мне иногда кажется, что наш царь разрушил не меньше сотни их укрепленных городов.
— Люди говорят, что их крепости сделаны из меди или бронзы.
— Нет, хоть у них и много этого металла, все же его не хватило бы на возведение стен. Их постройки из красных обожженных кирпичей, горящих на солнце, как медь. Хоть и похоже, но медью не назовешь.
— Но, Варуна, эти слухи упорно расходятся.
— Да потому, что как же трудно их захватывать, как медные крепости.
— Об этом их Шамбаре тоже ходят слухи, что его дворец стоит посреди моря, и он летает на воздушной колеснице. Об этом много говорят.
— Чепуха это все об этой колеснице. Вот верно то, что асуры слабы в верховой езде. Не знают обращения с конями и даже в дни своих праздников не пользуются колесницами, а ездят на бычьих упряжках. Кони — вот что стало основой наших побед, наши колесницы врывались в их города. Прошло уже двести лет после смерти Шамбары, а я и сейчас уверен, что даже у него, при всех его богатствах, не было ни одной колесницы. Уж не говоря о воздушных.
— Но если он был таким обычным, почему столь прославился наш царь, победив его?
— Потому что Шамбара был все же великим героем. Я видел в нашей стране захваченное у него оружие, эту прекрасную бронзу с накладками из золота, одна вещь лучше другой! Да и сам он был огромен, силен и широк, а наш Магха- ва был ведь еще юн, и все же победил его. На берегах Инда еще можно видеть следы разрушенных асурских городов. Сто лучников из-за их стен могли сдерживать тысячу нападающих. Это были неприступные крепости, а наш царь был истинным вождем воинов.
— Ну а на юге, у асуров есть еще сила? Есть еще крепости?
— Я же сказал тебе, что последняя пала. Я сам участвовал в штурме.
— А кто вел вас в бой? Индра? Вы так звали вашего царя?
— Мы отказались почитать его. Царь Индра? Нет, нам нужен там, на юге, не бог-руководитель, не его воплощение на земле, а вождь, избранный на собрании воинов. Воту асуров правят цари, истинные их владыки, единовластные. Их воля — закон, а непокорных убивают.
— Ну, у нас, арьев, такого быть не может.
—Но у асуров может. Они считают своего царя богом, и их жрецы молятся ему, как богу.
— Верно. Я видел сам, как их жрецы дурачат народ.
— Да, как ослов. Они не приносят жертв богу Агни, а поклоняются мужскому сексуальному органу. Я не спорю, он необходим для жизни, но зачем поклоняться? У них всюду стоят изображения этого органа, и ему молятся.
—Что они, сумасшедшие?
— Нет, их жрецы, мне кажется, гораздо хитрее нас. Нам надо бы у них многому научиться. Их культура выше нашей.
У нас никогда и нигде не было таких великолепных зданий, дорог, бассейнов, да и такого умения торговать. Я видел, что мы не в силах даже восстановить разрушенные нами их прекрасные города. А новый их город фантастичен, как столица богов! Дома там двух- и трехэтажные, вода подается в ванны... Дивно! Да и еще одно — асуры могут разговаривать, не открывая рта:
—Да как же это?
— Берут пластинку из камня или глины, или кожи и чертят на ней какие-то знаки, которые другие понимают, как слова1. Арьи никогда этого не знали. Начали теперь учиться, но слишком трудно, слишком.
— Похоже, что асуры умнее нас, да?
—Да, друг, намного умнее. И какие у них умелые мастера! Все умеют, все!
— Но не храбрые, как мы, да?
— Не храбрые. Наши дети начинают играть мечами уже в колыбели, у нас каждый мужчина воин, а у них воины — это особая группа, отдельная от ремесленников, купцов и рабов. Их воины презирают всех других. Из каждой сотни жителей один является воином, а сорок — рабами. Остальные — полузависимые ремесленники, слуги, торговцы и т.п.
— Вот почему мы их и побеждаем с легкостью.
— И потому, что у них велика власть царей.
— А у нас, у Саувиров, тоже хотели сделать царем, живым Индрой, одного из членов рода. Но другие не позволили.
— Правильно сделали!
Но у нас часто осуждают тех, кто слишком восхищается искусством асуров. Но нельзя не восхищаться. И надо многое делать, как они. Вот я сильно поранил шею, но врач из асуров мигом залечил рану, и остался лишь этот шрам. Они знают природу этой страны, и все ее растения и животных. И надо научиться делать такое же оружие. И колесницы побольше, как их повозки, тогда можно брать в бой много колчанов и стрел, и копий. Да, но не все надо воспринимать, вроде этого моления мужскому органу. И жрецов.
—
1В областях цивилизации Хараппы были найдены сотни печатей с нерасшифрованной до сих пор письменностью.
— А ведь уже раздаются голоса, что и у нас нужно учредить ордена жрецов, таких, как у асуров. И что надо точнее различать, кто чем занимается: купцы, мастера, воины и все другие должны быть отдельно заметны. А, знаешь, я думаю, что после того, как у нас появится отдельная группа жрецов, быстро утвердится и почитание мужского органа. Наши жрецы, завидуя доходам асуров, станут во всем подражать им.
— Плохие времена настанут, Варуна, тяжелые.
— А ведь арьи за последние двести лет уже многое заимствовали у асуров. И далеко не самое лучшее. Надо удержать молодежь на наших привычных путях. Вот, говорят, на западе, в Гандхаре этому поучает мудрец Ангира. Я хотел бы предложить ему мою помощь в таком важном для арьев деле.
— Вот так совпадение! И я мечтаю о том же!
— Но, Пала, подожди. Ты мне еще не сказал о положении арьев у вас.
— О, у нас на востоке они распространяются, как лесной пожар. Мы, Мадры, главенствуем там.
— Значит, там множество арьев повсюду?
— Нет, чистых арьев не так много, но чем дальше они продвигаются, тем более широко смешиваются с местными жителями, причисляя многих к арьям.
— Кого именно? Каких это местных?
— Разных: и асуров, и жителей тех гор, и людей из лесных племен.
— Полагаю, там теперь много боевых стычек с ними со всеми?
— Нет, они все убегают, лишь завидев наших конников. Но, правда, нападают на наши поселки, за что мы с ними жестоко расплачиваемся, заставляя укрываться глубоко в лесных дебрях.
— Значит, там у вас нет опасности влияния асуров?
— Среди нас, Мадров, пока нет, но там дальше... Ничего сказать не могу.
Беседа двух друзей продолжалась до поздней ночи и прервалась лишь когда хозяин пришел предложить им ужин: мяса с поджаренными зернами, что всегда предлагалось светлокожим арьям в отличие от других постояльцев и гостей.
2
Ангира, проповедник и учитель, пользовался в Гандхаре, в области на левом берегу Инда, высоким авторитетом. Эта земля принадлежала теперь арьям, а побежденные асуры покинули ее после разрушения их большого торгового города и отошли к югу. Два крупных племени арьев поделили завоеванную землю между собой — ветвь рода Гандхара расселилась в междуречье Инда и Джелама, а ветвь Мадра заняла земли еще дальше к востоку, вплоть до реки Рави. Поскольку к этому времени это были уже не родовые группы, а укрупнившиеся племена, их называли уже не по именам родоначальников, которых мы здесь должны писать с заглавной буквы, а считали народами или, точнее, племенами, названия которых (т.е. этнонимы) мы дальше будем начинать с буквы прописной. Итак, племена гандхара и мадра стали властвовать на обширных просторах левобережья мощной и полноводны реки Инд, и эти области стали известны в истории по именам их завоевателей.
Столкновения с асурами продолжались, не утихая, и их жестокость не смягчалась ничем. И это длилось до тех пор, пока асуры не прекратили своего сопротивления и не были вытеснены со своих цветущих земель, но в то же время, как правильно заметил Варуна, арьи уже начинали присматриваться к асурской культуре и заимствовать кое-что из ее достижений.
Ангару, бережно сберегавшего память о вековых традициях арьев, пришедших с прибрежных земель Окса, беспокоило то, что начинал меняться привычный быт, что светлая раса арьев вплотную приблизилась к угрозе смешения с темнокожими асурами. Он напоминал в своих проповедях о необходимости сохранения обычаев предков и вводил их в жизнь своих учеников и последователей. Его слава разошлась так далеко, что из разных областей, где расселились пришедшие на новые земли арьи, к нему на учение приходило немало молодых представителей разных родовых групп. Он не давал им отвыкнуть от воинского мастерства, от умения поддерживать навыки скотоводства, от привычного питания конским мясом, дающим силу и храбрость, от выработки шерстяной пряжи и т.п. Его школа так расширилась, что скоро стала известна повсюду — это именно ее стали в дальнейшем называть Академией Таксилы.
Растущему влиянию Ангиры на учеников способствовала и его внешность: в свои шестьдесят пять лет он был высок и силен, белая борода ниспадала на его широкую грудь, голубые глаза светились ясно и ровно, и весь его облик как бы излучал спокойствие и понимание. Должно было пройти еще много-много лет до того времени, когда появятся чернила и перья и люди станут писать на пальмовых листьях, создавая из них первые книги, а поэтому в описываемые здесь дни устное слово было важнее и ценнее всего при взаимном общении людей. И слова учителей заучивались наизусть и повторялись много раз в течение всей жизни ученика.
В школе Ангиры молодые его последователи, жившие здесь подолгу, сами должны были заботиться о своем пропитании и одежде. Под его руководством они расчищали участки леса, занимались пахотой, посевом и сбором урожая, собирали топливо перед наступлением холодного сезона и, по его велению, уделяли много времени и внимания выращиванию породистых лошадей, которые прославились далеко за пределами Гандхары.
Оба новых ученика, Варуна и Пала, не сразу нашли учителя в школе — он оказался далеко в поле, где вместе с группой юношей обрабатывал землю. И их работу сопровождали песни, старые песни с берегов Окса, сберегаемые Ангарой в памяти как одна из веточек того великого дерева, которое именуется традицией и которому нельзя было дать засохнуть. В классе же Ангира взял в руки прялку и веретено и стал учить выпрядать тонкую нить, повелев всем заняться этой работой. В это же время Ангира разъяснял ученикам ценность давних традиций, четко выделяя те, которые следует сберечь, отбрасывая те, что уже обветшали и должны уйти из жизни.
— Не следует утверждать, — говорил он, — что все старое пригодно для новой жизни, не мешает приглядеться и к новому, даже чужому, ради пользы. Но часто мы делаем то, чего не следует делать, а что приносит вред. Так, на берегах Окса многие возражали против бронзовых изделий, защищая каменные. Но куда бы мы, арьи, пришли сейчас с каменными топорами?
— А как вообще в те годы могли все успевать и делать этими каменными орудиями? — спросил Варуна. — Это же смешно! То ли дело бронза!
— Да, сейчас она важна и ценна, но кто поручится за то, что завтра не появится что-нибудь прочнее и ценнее бронзы? И люди будут удивляться так же, как ты сейчас, и смеяться над нами. Каменные топоры не были пригодны против бронзовых, а завтра бронзовые могут не выстоять против каких-нибудь новых. Все живут в том времени, в каком живут. Мир рождает всё новые условия жизни и надо к ним применяться. Если бы я цеплялся только за все старое, я не мог бы создать этой школы, не мог бы выращивать таких отборных коней. Мы здесь заимствовали у асуров и их способ орошать поля, создавая развитую систему каналов, и результаты прекрасны. Мы подражаем им и в планировании городов, и в лечении людей и животных, во многом, не заботясь о том, что это ново. Ведь раньше арьи и не слыхали, что можно прясть нити из хлопка, а теперь вы все носите эту одежду.
— Но есть у них и много вредного, от чего следует отказываться?
— О, да. Вот, например, их поклонение мужскому органу. Или их деление на классы — если и мы так разделимся, то не сможем призывать всех мужчин племени на бой с врагам, на защиту своей земли. И у нас появятся «высокие» и «низкие». Нет, мы не должны смешивать нашу кровь с ними, а то из-за такого смешения и у нас будут такие же «высокие» и «низкие», и это будет связано с занятиями тех
и других[6] — разве не все арьи считают недопустимыми браки с асурами?
— Все так считают, но не все соблюдают это, их женщины привлекательны. В пограничных с ними землях многие встречаются с ними и даже ходят в их города к их уличным женщинам.
— Ну и что же из этого выйдет? Ничего хорошего, говорю я вам. Дети нашей крови будут рождаться в среде асуров, и мы же станем принимать их как своих. Что останется от чистоты ихней крови? Все должны остерегаться таких связей, все! Так же, как остерегаться и введения рабства у нас. Оно очень опасно для чистоты нашего общества, нашей расы. Говорю вам и повторяю — не должно быть в среде арьев ни одного неарья!
— А чем еще опасны обычаи асуров?
—Тем, что они придумали монархии и породили жречество при царях. Ни один асура не свободен в жизненном пути, он может делать только то, что будет приказано царем. Жрецы говорят им, что нет свободы у человека в его словах и делах, что все проверяется богами через заменяющего их на земле царя. Вот у нас тоже выбирали военачальника царем-Индрой, но это временно, и прав у него больших не было. Но сам этот титул уже был опасен, и даже у нас некоторые такие избранные пытались властвовать неограниченно, стараясь учредить монархии, как у асуров. Но нельзя облачать одного человека такой полнотой власти, нельзя! Если у нас это утвердится, сразу же появится и множество жрецов при царе, которые будут утверждать его власть и добиваться для него милости богов за большие его дары. Вот тут народ и попадет к ним в рабство.
— Да, теперь мы видим, что нельзя нам допускать до этого, мы должны хранить чистоту арийской крови и нашего общества!
За время пребывания Варуны в школе Ангиры до него не раз доходили слухи, что в землях у низовья Инда в арийской обществе все же происходят заметные перемены и что многие военачальники соревнуются в стремлении добиться более высокого положения и более прочной власти. Обращаясь за советом в Ангире, он слышал от учителя, что такое случается не только на юге Инда, но и в других завоеванных арьями землях. В прежние времена в родовой группе арьев все считались с каждым, а теперь их соблазняет зрелище неограниченной власти одного царя над всеми, и что не избежать смертельной схватки между этими двумя положениями вещей, двумя этими стремлениями.
Пробыв в школе Таксилы восемь лет, оба друга направились в те области, откуда пришел Варуна. Спустившись по Инду на лодке, они довольно быстро достигли Саувиры. И по пути и в этой стране они многое увидели и услыхали. Новости были безрадостны: все тяжелые работы арьи уже старались свалить на плечи рабов-асуров, а сами предпочитали упражняться в битвах на мечах и в дрессировке боевых коней. Поскольку письма еще никто не знал, все новости доходили до других мест лишь в устной и часто искаженной передаче, но ничего с этим нельзя было сделать. В своем городе Варуна убедился, что слухи не были слишком преувеличены. Военачальник по имени Сумитра, победивший асуров на этих землях, стремился к полновластию, но ему сильно противодействовали другие воины. Споры разгорались все жарче. Сам же город заметно изменился за минувшие годы, и Варуне показалось, что асуров в нем больше, чем завоевателей-арьев. Повсюду виднелись богатые дома асурских купцов, издавна ведших здесь морскую торговлю, продолжавших удерживать в своих руках все нити этих торговых связей.
Сами арьи заметно изменились. Так, Сумитра жил в роскошном дворце, и когда Пала пришел к нему, чтобы передать дары из Таксилы, он поразился тем, что этот бывший храбрец и воин вел теперь жизнь изнеженного владыки, подобно асурским царям, и отличался от них, пожалуй, только светлой кожей и золотистыми волосами. Дворец же его, в отличие от привычной простоты убранства жилищ арийских военачальников, состоял из множества покоев, украшенных золотом и серебром.
-
Обоих друзей поразило и заметное изменение в жизни местных арьев, которые широко пользовались плодами трудов асуров, проводя свои дни в развлечениях и пьянстве в обществе доступных асурских женщин. И это были те, кто еще несколько лет тому назад бесстрашно сражался здесь, захватывая город и землю? Да, это были они, и их храбрость в битвах Варуна хорошо помнил. Когда он покидал Гандха- ру и великую школу Таксилы, он встретился со многими семьями этих воинов и принес теперь сюда им весть от их жен, стремящихся воссоединиться со своими мужьями, в их числе была и жена Сумитры. Но в ответ на эти просьбы он услышал отказы, прикрытые многими лживыми словами. Более того, Варуна увидал, что навстречу приходящим сюда новым группам арьев Сумитра посылал рабов, чтобы хитростью губить их.
Уйдя с побережья во внутренние районы Саувиры, Варуна рассказал воинам обо всем этом, и все увидали, что при таком положении вещей воинам-арьям придется сражаться не только с асурами, но и с бывшими своими собратьями, явно вступившими в союз с асурами и воспринявшими их обычаи и образ жизни. Варуна посоветовал покинутым женам немедленно направиться к своим мужьям, забывшим о долге и чести, и привести их в чувство, а сам стал собирать войско, готовясь к новой битве за захват прибрежных земель. Вскоре боевые отряды двинулись к югу вдоль Инда. Услышав о его приближении, многие из арьев, почти утратившие свой облик воинов, раскаялись в своем легкомыслии и примкнули к войску Варуны, а Сумитра, оставшийся почти без воинов, сдался наступавшим.
Варуна не стал истреблять асуров, живших там, но твердо решил отделить от них арьев и занялся возведением нового города в стороне от старого, заставив работать всех без исключения, преподав им урок великого Ангиры о всеобщем равенстве в бою и труде.
Заключение
В самой же стране осуществилось многое, о чем мечтали и говорили герои этой книги. Арьи, пришедшие на ее земли пять тысячелетий тому назад, забыли в основном своем большинстве о стремлении сохранять свою «светлоликость», и результатом их смешения с местными доарийскими племенами выработался постепенно тот «расовый тип индийца», который сейчас известен всему миру. В значительной степени уравновесились в Индии и взаимоотношения разных этнических и религиозных групп, и эти новые формы жизни общества дают право самим индийцам определять население своей страны формулой «множество в единстве».
ГУСЕВА Наталья Романовна
РУССКИЕ СКВОЗЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Арктнческдя теория
Издание второе расширенное
Редактор: С. Удалова Компьютерная верстка: В. Санкин Обложка С. Удалов
Подписано в печать 21.09.2006. Формат 84x108/32. Печать офсетная. Печ. л. 7,5. Тираж 2000 экз. Заказ № 3852
Издательство «Белые альвы»
109542, Москва, а/я 82, Светлане Николаевне Удаловой Тел./факс (495) 235-8797 E-mail: lebcdy@online.ru support@influx.ru zakaz@influx.ru Сайт, интернет-магазин: www.influx.ru
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета в ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие
«Правда Севера»
163002, г. Архангельск, ир. Новгородский, 32 Тел./факс (8182) 64-14-54, тел.: (8182) 65-37-65, 65-38-78, 29-20-81 www.ippps.ru, e-mail: ippps@atnet.ru
Гусева, Наталья Романовна Г49 Русские сквозь тысячелетия. Арктическая теория. Издание второе расширенное. — М.: Белые альвы, 2007. — 240 с.: ил.
ISBN 5-7619-0254-0
Работа посвящена выявлению общих и сходных черт в языке и культуре древнейших предков славян, в том числе русских, и предков арийских племен.
Сколько веков насчитывает история славян? И как глубока история русских как основного массива славянства? Следует ограничить в печати упоминания о тысячелетней истории Руси, так как одной тысячей лет измеряется лишь история распространения христианства в русской среде. Русские расселялись на землях от Балтики до Заволжья за много веков до появления названия «Русь». В глубочайшей древности их предки были близки предкам арьев. В данной работе речь идет о теории сложения обеих групп в арктических областях, о подтверждающих данных из древнеиндийской литературы, о сходных и одинаковых словах из русского языка и древнего «языка индийской культуры» — санскрита. Эта публикация предназначена широкому кругу читателей.
О Гусева Н.Р., 2007.
© Потабенко С.И., иллюстрации, 2007. ISBN 5-7619-0254-0 © «Белые Альвы», 2007.
Книга посвящается 60-летию освобождения Индии от
колониальной зависимости.


Наталья Романовна Гусева - выдающийся ученый, доктор исторических наук, лауреат международной премии имени Дж Неру, автор около 200 печатных трудов по культуре и религиям Индии.
www.e-puzzle.ru
www.e-puzzle.ru
[1] Более подробные сведения см. Приложение V.
[2] См. Приложение V.
[3] См.: Agrawala V.S. India as known to Panini.
[4]В русском и санскрите «с» и «ш» могут взаимно заменяться. В латинском транскрибировании два санскритских звука «ш» могут быть переданы двумя начертаниями: «s» и «sh».
[5] Речь идет о цивилизации Хараппы на северо-западе земель древней Индии. Ее очаги охватывали и север. Она датируется 1V-II тыс. до н.э. Археологи обнаружили множество следов высоко развитой культуры.
[6] Здесь автор высказывает мнение, что деление индусского общества на касты было заимствовано арьями у доарийского населения.








