Представленный русскими социал-демократами
МЕЖДУНАРОДНОМУ РАБОЧЕМУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ
КОНГРЕССУ В ЛОНДОНЕ В 1896 ГОДУ
От издателей
Настоящий доклад был для конгресса напечатан на немецком и английском языках и роздан в большом количестве экземпляров делегатам всех национальностей. Издавая теперь русский подлинник, мы считаем нужным предпослать ему несколько слов о приеме, оказанном Международным конгрессом представителям русского рабочего класса, и о значении этого приема.
Заседавший в Лондоне в июле 1896 года Международный рабочий социалистический конгресс был первым, на который явились представители организованного русского пролетариата. Рабочие десяти русских городов пожелали через своих представителей заявить, что и они присоединяются к борющейся за свое освобождение мировой армии рабочих. Представители всемирного пролетариата оценили значение этого первого появления русского рабочего на Международном социалистическом конгрессе. Россия — единственное большое и сильное государство в Европе, в котором рабочие не только экономически угнетены, но и не пользуются никакими политическими правами для борьбы за лучшее будущее. В России государственный закон и государственная власть требуют от рабочего класса полного безмолвия и безусловной покорности и жестоко преследуют всякую его организацию. В России неограниченно царит воля царя и его чиновников, а творит эта воля то, что ей предписывают интересы дворян и капиталистов.
Западные народы также на собственном теле испытали благодеяния царского самодержавия. Дорогой ценой бесчисленных человеческих жертв смели они это препятствие на пути к конечному торжеству рабочего класса. Представители их хорошо поняли, как тяжела для русских рабочих борьба против самодержавия царя и полиции. Но русское самодержавие гнетет не только русский народ. Все те, кто на Западе с ужасом смот-
176
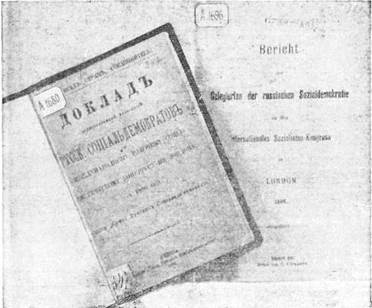
Издания на русском и немецком языках «Доклада, представленного русскими социал-демократами Международному рабочему социалистическому конгрессу в Лондоне в 1896 г.».
рят на возрастающее влияние рабочего класса, видят в русском самодержавии сильнейший оплот против этой новой силы, грозящей положить конец всякому угнетению и всякой эксплуатации. Русское самодержавие — живая угроза европейской свободе. Его падение — заветное желание европейской демократии, борьба с ним — настоятельная задача мирового пролетариата.
Вот почему Лондонский конгресс единогласно и восторженно принял следующую резолюцию:
«Конгресс считает нужным указать на чрезвычайно важный и небывалый до сих пор факт присутствия представителей от русских рабочих организаций на международном съезде. Он приветствует пробуждение русского пролетариата к самостоятельной жизни и от имени борющихся рабочих всех стран желает русским братьям мужества и непоколебимой бодрости в их тяжелой борьбе против политической и экономической тирании. В организации русского пролетариата конгресс видит луч-
177
шую гарантию против царской власти, являющейся одной из последних опор европейской реакции» 1.
Это заявление представителей рабочего класса всего мира наглядно показывает, какое огромное значение они придают вступлению русских рабочих в ряды освободительной армии, какие надежды возлагаются на них европейско-американскими братьями. Обязанность передовых слоев нашего пролетариата — направить все свои силы и всю свою энергию на то, чтобы возможно скорее оправдать эти надежды. Восторженное сочувствие, выраженное Лондонским конгрессом освободительным усилиям русских рабочих, пусть послужит им источником ободрения на их трудном пути. Сознание тесной связи с миллионами борющихся братьев на Западе будет придавать им новые силы в борьбе за свободу и равенство.
Доклад
Дорогие товарищи!
В докладе, представленном от имени редакции журнала «Социал-демократ» Международному социалистическому конгрессу в Брюсселе, сказано (стр. 15) 2:
«Мы считаем своим долгом покрыть Россию сетью рабочих кружков. Пока эта цель не будет достигнута, мы не будем принимать участие в ваших конгрессах: до этого момента всякое представительство русской социал-демократии было бы фикцией».
В настоящее время мы можем с законной гордостью сказать, что эта задача отчасти исполнена. Первые, самые трудные шаги на поприще организации русского рабочего класса уже сделаны, по крайней мере — местами. И вот почему русская социал-демократическая делегация является на Международном рабочем конгрессе нынешнего года более многочисленной, чем когда-либо прежде.
Чтобы дать вам хоть некоторое понятие о том, как приходится нам вести свое дело и с какими трудностями мы встречаемся почти на каждом шагу, мы укажем прежде всего на то, что происходило и происходит в столице русской империи, С.-Петербурге 3.
В течение всего десятилетия 80-х годов рабочее движение тлело в многочисленных, но разрозненных рабочих кружках, где велась социал-демократическая пропаганда. То усиливаясь, то опять затихая, терпя огромные потери и опять, как феникс, возрождаясь из пепла, эта пропаганда велась с переменным успехом, не выхо-
178
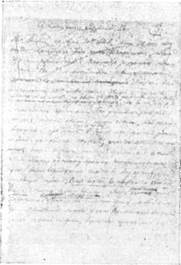
Рукописная копия «Доклада» с редакционной правкой Г. В. Плеханова. Сверху пометка Л. Г. Дейча.
дя за пределы кружков, вплоть до самого последнего времени, т. е. до осени 1895 года. Только в этом году разрозненные дотоле группы нашли возможным слиться в одну организацию, принявшую название: «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 4, только с этого времени удалось социал-демократам С.-Петербурга выйти на широкую арену массовой агитации. Образование союзов и касс взаимопомощи на случай стачек, с одной стороны, выработка сознательных агитаторов — с другой, наконец, массовая агитация путем воззваний, распространения брошюр, формулирования требований рабочих различных мастерских, фабрик и заводов, с третьей,— таковы в немногих словах ближайшие, практические задачи, поставленные себе «Союзом».
Условия, в которые поставлен названный «Союз» русской действительностью, дают нам возможность говорить с некоторою определенностью лишь об этой последней публичной стороне его деятельности.
Периодическое, массовое появление летучих листков было в Петербурге явлением давно не виданным и основательно позабытым даже русской полицией. Тем большее впечатление производили воззвания «Союза», с ноября месяца появляющиеся массами во всех концах Петербурга. Прокламации, разбросанные в тысячах экземпляров в рабочих кварталах на улицах, приклеенные в виде афиш на столбах, рассеянные в мастерских
179
и на фабриках,— производили удручающее впечатление как на гг. фабрикантов, так и на местную администрацию, прилагавшую крайние усилия, дабы искоренить крамолу. Хватались представители так называемой «интеллигенции», высылались на родину десятками и сотнями заподозренные рабочие, но ничто не помогало. Листки появлялись немедленно вслед за арестами, как бы дразня своим появлением ретивых слуг царского правительства.
Отличительная черта этих воззваний «Союза» — их конкретный, практический характер. Каждое из этих воззваний имело дело с определенным злоупотреблением со стороны фабриканта, с определенным произволом администрации, каждое из них, опираясь на подробности данного случая, имело целью формулировать требования рабочих, развить в них классовое самосознание, показать противоположность их интересов интересам капиталистов, показать, наконец, что царское правительство являлось и является во всех случаях усердным слугою буржуазии, усердным гасителем всякого сознательного движения русского пролетариата. Почва, которую приходилось культивировать петербургской социал-демократической организации, была полна жизненных соков; само уже появление «Союза» служило знаменательным симптомом пробуждения петербургского пролетариата; неудивительно, что результаты планомерной деятельности «Союза» не замедлили сказаться.
Зима 1895/96 г. в Петербурге была богата, как никогда, стачками и волнениями рабочих, полна той жизни, которая характеризует проснувшееся сознание рабочих масс.
В ноябре прошлого года вспыхивает стачка на суконной фабрике Торнтона; рабочие выставляют требования, формулируемые «Союзом» в массе разбросанных прокламаций; запуганный фабрикант и растерявшаяся полиция спешат удовлетворить требования негодующих рабочих. Почти одновременно волнуются и забастовывают папиросницы на табачной фабрике Лаферма . Начавшееся <было> стихийно, движение принимает, благодаря «Союзу», более рациональные формы; опять выставляются требования, и опять их спешат удовлетворить во избежание дальнейших «недоразумений». Месяц спустя происходит забастовка на фабрике Т-ва механического производства обуви. Возникает стачка на лесопильне Лебедева. Волнуются рабочие Путиловского завода, происходят неприятные для администрации объяснения
180
на бумагопрядильне Кенига. В январе <месяце> успешно и быстро заканчивается стачка на бумагопрядильне Воронина (на острове Резвом); наконец, появившиеся листки вызывают волнение среди рабочих «Нового Адмиралтейства». Одно уж появление листков заставляет идти на уступки администрацию казенного Александровского чугунного завода, а угрозы забастовки вторично сламывают упорство г. Воронина, хозяина уже упомянутой нами мануфактуры.
Таково было положение дел к началу мая 1896 г. Только что отмеченные стачки произведены были рабочими различных отраслей производства и по различным поводам. Нетрудно, однако, уловить несколько общих, типичных черт в требованиях, выставленных стачечниками. В огромном большинстве случаев рабочие протестуют против прямых нарушений со стороны фабричной администрации закона, т. е. тех или других статей того самого законодательства, которое, вообще говоря, ставит рабочего в полную зависимость 5 от хозяина.
Рабочие требуют, во-первых, точного исполнения закона: они стараются, во-вторых, удержать за собой прежний уровень заработной платы, сохранить status quo и противодействовать понижательному движению в ценах на рабочие руки.
Иллюстрируем сказанное.
Чего требуют, напр., забастовавшие рабочие фабрики Торнтона? Они требуют, как говорилось в одном из листков, чтобы исполнялся «закон о том, что рабочему должна быть перед началом работы объявлена величина того заработка, на который он идет», они требуют, чтобы фабричный инспектор следил за тем, «чтобы в расценках не было обмана, чтобы они не были двойными» 6.
Или вот, волнуются рабочие так называемого «Нового Адмиралтейства». Почему? Дело в том, что начальник порта адмирал Верховский <с решительностью военного человека> издает распоряжение о выдаче рабочим платы только раз в месяц, а закон между тем с совершенной ясностью гласит: «При найме рабочих на срок неопределенный выдача заработной платы должна производиться не реже двух раз в месяц».
Вскоре после окончания стачки на табачной фабрике Лаферма (в начале декабря 1895 г.) фабричная инспекция должна была признать правильность требований работниц, стоявших на почве закона, и заявить в циркуляре, напечатанном в русских газетах 20-го декабря 1895
181
года и разосланном табачным фабрикантам, что «жалобы работниц верны» и что «нельзя произвольно браковать товар. Если хозяин признает товар негодным, то он не имеет права из-за нескольких испорченных папирос браковать всю сотню. Такая браковка совершенно произвольна. Только за испорченные папиросы (от небрежной или неумелой работы) хозяин может налагать штраф по табели, порчу же материалов взыскивать только по суду» и т. д.
Таковы же по своему характеру главнейшие из требований, выставленных рабочими на Калинкинской мануфактуре, на бумагопрядильне Кенига, на мануфактуре Воронина, на Александровском чугунном заводе и т. д.
Мы говорили уже о другой общей черте в требованиях петербургских рабочих — о стремлении их сохранить существующий или вернуть недавно бывший размер заработной платы.
Таковы крайне умеренные требования петербургских рабочих. А между тем, надо вспомнить, сколь малым приходится довольствоваться теперь русскому пролетарию. Здесь не место давать характеристику его экономического положения, отметим только две-три цифры, почерпнутые нами из петербургской литературы «воззваний». Когда ткачи фабрики Торнтона, измученные нуждою, потеряв всякое терпение, устроили вышеупомянутую стачку, многие из них, благодаря затишью в производстве, зарабатывали не более семи рублей в месяц — цифра, невероятная для рабочего западноевропейской крупной капиталистической промышленности.
Когда в начале мая, во время грандиозной стачки петербургских бумагопрядилен, господствовало возбуждение на так называемой Русско-Американской резиновой мануфактуре, расходившиеся среди рабочих листки указывали между прочим на то, что какой-нибудь вальцовщик при 11-часовом рабочем дне, при работе, которая по прошествии немногих лет вызывает кровохарканье, зарабатывает всего-навсего 65 коп. в день. Существование невероятно низкого уровня заработной платы признают, в откровенную минуту, даже представители русской администрации. Во время «усмирения» стачки на фабрике Лаферма, когда папиросницы, жалобы которых циркуляр фабричной инспекции признал «верными», а положение «очень бедственным», когда эти самые папиросницы обливались, по приказанию начальника петербургской полиции, из пожарных насосов, этот самый воинственный градоправитель имел наглость,
182
признав всю недостаточность заработка работниц, посоветовать им в виде подспорья заняться проституцией.
Придавленное страшной нуждой, эксплуатируемое самым наглым образом, третируемое полицией, еще неорганизованное большинство петербургских рабочих чутко прислушивалось к голосам своих организованных, сознательных товарищей. То здесь, то там вспыхивали и пожаром разгорались волнения рабочих, стоило лишь появиться листку социал-демократической организации. Фабрикант, как мы уже не раз видели, спешил в тревоге делать уступки, а царская полиция с лихорадочной поспешностью принималась за «оздоровление атмосферы», за удаление неблагонадежных элементов, льстя себя надеждой, что ей удастся дезорганизовать, разгромить, стереть с лица земли ненавистный «Союз».
С начала декабря (стар. стиля) прошлого года правительство предпринимает целый поход против невидимых «злоумышленников».
В ночь с 8-го на 9 декабря схвачено было несколько десятков «подозрительных» для полиции лиц как из среды так называемой «интеллигенции», так и из среды рабочих. Полиция торжествовала, полагая, что держит в руках «вожаков» движения. И что же? Немедленно после этих арестов появилась прокламация «Союза», разбросанная на массе фабрик и предупредительно посланная господам представителям власти. В ней «Союз» заявлял, что полиция «ошиблась в адресе», возвещал о новых стачках и заканчивал ее следующими словами, силу и значение которых русское правительство оценило лишь впоследствии: «Арестами и высылками не подавят рабочего движения: стачки и борьба не прекратятся до тех пор, пока не будет достигнуто полное освобождение рабочего класса из-под гнета капиталистов».
С этих пор начинается своего рода поединок между петербургской полицией и организацией «Союза». Обозленные жандармы хватают направо и налево. Единичные аресты продолжаются в течение всего декабря, в январе происходят массовые обыски, аресты, высылки, и затем не проходит недели, чтобы не вылавливался из рабочей массы тот или другой заподозренный в сношениях с «Союзом» рабочий.
А издание прокламаций, раскрывающих глаза рабочим на капиталистическую эксплуатацию, на своеволие царских слуг, идет своим чередом, непрерывно подымая бодрость и веру пролетария в свои силы, внося тревогу и страх в сердца предпринимателей.
183
Наконец, царское правительство считает нужным, устами своего министра финансов, г. Витте, забить тревогу — министр издает секретный циркуляр, невзначай попадающий на страницы центрального органа немецких соц.-демократов, а затем и в русские газеты; в нем он призывает фабричных инспекторов блюсти за сохранением патриархального строя отношений, якобы существующего на русских фабриках, предостерегает самих рабочих от козней подстрекателей — этих, по словам циркуляра, злейших врагов рабочего класса 7.
Опубликованный циркуляр, распространенный «Союзом» в рабочей среде, уничтожил последние следы и без того слабого престижа русского фабричного инспектора, он раскрыл его двусмысленную роль будто бы защитника интересов рабочего, разоблачил его сущность безгласного слуги абсолютизма, заигрывающего с буржуазией. «Союз» вообще не упускал случая дискредитировать в глазах рабочего царское правительство, показать рабочему, что в борьбе за лучшее будущее он должен рассчитывать лишь на свои собственные силы. Первого мая настоящего года «Союз» издал прокламацию, выясняющую рабочим значение всемирного рабочего праздника. Жадно хватается петербургский рабочий за печатное слово и нарасхват читает он листок, говорящий о том, каких успехов достигли рабочие других стран, благодаря упорной борьбе, благодаря стройной организации.
Кроме листков, написанных по определенному поводу, «Союз» распространял еще массами брошюры и всякого рода издания, частью привезенные из-за границы, частью напечатанные в тайных типографиях в самой России. При этом следует, однако, заметить, что спрос на печатное слово значительно превышает предложение, что «Союз», при всем старании, не был в силах вполне удовлетворять растущей потребности рабочего в знании при тех невыносимо тягостных условиях, в которые ставили его вечные репрессалии русского правительства.
Усилия петербургских социал-демократов не пропали даром: брошенные семена дали богатую жатву. В среде рабочих создалась атмосфера, насыщенная духом недовольства и протеста. При таких-то условиях возникла и разрослась колоссальная (на русскую мерку) стачка почти всех петербургских бумагопрядилен, стачка, сыгравшая крупнейшую роль в истории не только петербургского, но и всего русского рабочего движения 8.
Как известно, русские промышленники, не без приятности приютившиеся под сенью русской протекцион-
184
ной системы, все без исключения — «патриоты своего отечества», пользующиеся всякой оказией для выражения своих верноподданнических чувств. «Патриотами» явились они и во время недавних коронационных торжеств. Их «патриотизм», однако, быстро иссяк, когда дело дошло до реальных, хотя и незначительных жертв, когда дело коснулось до их туго набитого кошелька. Почтенные представители русской промышленности — по крайней мере многие из них — наотрез отказались удовлетворить требования рабочих, настаивавших на получении платы за коронационные дни, которые они «прогуляли» не по собственной вине. Такой отказ получили между прочим рабочие так называемой Екатерингофской мануфактуры, расположенной на одной из окраин Петербурга. Рабочие этой мануфактуры обратились за помощью к другим бумагопрядильням и послали к ним своих делегатов. Рабочие целого ряда бумагопрядилен горячо отозвались на этот призыв; было постановлено представителям разных фабрик собраться на сходку и формулировать общие всех петербургских бумагопрядилен требования. В конце мая состоялось в Екатерингофском парке собрание делегатов; присутствовало на нем человек сто — явление, совершенно необычайное для Петербурга и поражающее всякого, хоть немного знакомого с полицейским режимом русского государства. На этой сходке под открытым небом были выставлены общие требования всех занятых в бумагопрядильнях рабочих, они были затем формулированы в прокламации, изданной «Союзом» и распространенной в огромном количестве по всему Петербургу. Затем началась стачка.
Приводим текст этой прокламации, подписанной «Союзом» 30 мая 1896 г. озаглавленной: «Чего требуют рабочие бумагопрядилен».
«Мы хотим,
1. чтобы рабочий день у нас везде продолжался от 7 час. утра до 7 час. вечера, вместо теперешних от 6 ч. утра до 8 час. вечера;
2. чтобы обеденное время длилось полтора часа и, таким образом, весь рабочий день продолжался 10½ ч. вместо 12;
3. чтобы расценки везде были повышены на одну коп., и где можно, — на две коп. против нынешних;
4. чтобы шабашили по субботам везде одновременно в 2 ч.;
5. чтобы хозяева самовольно не останавливали машин и не пускали их в ход раньше времени;
185
6. чтобы заработок за первую половину месяца выдавали правильно и вовремя, а не оттягивали;
7. чтобы было сполна заплачено за коронационные дни».
В течение нескольких дней стачка охватила 17 бумагопрядилен, вскоре примкнуло еще 4, и таким образом, за ничтожными исключениями, все петербургские бумагопрядильни прекратили работу. В стачку вовлечено было от 30 до 40 тысяч рабочих.
Впечатление от стачки получилось потрясающее. Петербургское буржуазно-чиновничье общество, ошеломленное неожиданным для него явлением, задавало себе вопрос: неужели и у нас на Руси есть рабочий вопрос, неужели и у нас проснулся беспокойный дух пролетария, не дающий спать «гнилому Западу»? В особенное недоумение приводило петербургского обывателя необычайное спокойствие, дисциплина забастовавшей массы рабочих. Патрули казаков и усиленные отряды полицейских передвигались в рабочих кварталах среди пустынных улиц, на которых не было слышно даже обычного шума и гама. Там, где собиралась толпа и говорились речи, единичные призывы к насилию встречали отпор со стороны сознательных рабочих. Толпа была спокойна даже тогда, когда тот или другой местный полицейский чин обращался к ней с речами, выхвалявшими заслуги фабрикантов, якобы в поте лица своего трудящихся на общую пользу. Изумленный Петербург в первый раз громко заговорил о рабочем движении: стачку обсуждали, ее защищали, на нее нападали, о ней толковали все, она у всех была на устах, даже у тех, кому впервые приходилось обращать внимание на подобного рода вопросы. А представители власти между тем не теряли времени: созвано было экстренное собрание фабричного присутствия, на котором обсуждался вопрос, что делать; министр финансов конфиденциально сообщил фабрикантам о готовности правительства поддержать их; градоначальник обращался к рабочим с печатными воззваниями, тон которых заметно понижался, по мере того как стачка затягивалась, а рабочие продолжали сохранять спокойствие, на зло и удивление полиции. Положение становилось угрожающим. Стачечное настроение заразительно. Ходили слухи, что рабочие Путиловского и некоторых других металлических заводов не сегодня завтра бросят работу,— а это было равносильно увеличению числа стачечников еще на несколько десятков тысяч. На писчебумажной фабрике Варгунина было не-
186
спокойно. На Александровском чугунном заводе рабочие уже забастовали, но начальство поспешило их успокоить, пообещав выполнить их требования. На огромной резиновой мануфактуре ходили листки и вызывали волнение. Нужно было покончить со стачкой во что бы то ни стало. Тем более что — неслыханное дело! — из-за стачки сам царь откладывал свой торжественный въезд в Петербург.
И вот были приняты самые радикальные средства. В иных местах градоначальник обращался лично к рабочим (как это было на фабрике Кенига) с увещаниями, обещая после рассмотреть их требования, удовлетворить, насколько это будет «возможно», только бы теперь, перед въездом царя, они перестали «бунтовать». Где не помогали меры «кротости», действовали иначе. Фабричные дворы были оцеплены солдатами, к рабочим, оставшимся дома, врывалась полиция и спрашивала каждого из них поодиночке, желают ли они возобновить работу или нет. Нежелающие немедленно арестовывались, сажались в тюрьму, высылались. Излишне прибавлять, что фабрики были наводнены шпионами, как это, впрочем, вообще в обычае у русской полиции. Но главные удары, по мнению властей, должны были быть направлены против «Союза», против той организации, которая заявляла во время стачки о своем существовании бесчисленными прокламациями. Возобновились аресты, хватались опять «интеллигенты», почему-либо возбуждавшие подозрение полиции.
Не имея достаточно материальных средств, чтобы долго держаться, под гнетом страшных репрессий, терроризовавших население, рабочие начали понемногу приниматься за работу, стачка постепенно затихала и, наконец, совсем прекратилась 9.
Министр финансов издал воззвание: указывая на противозаконность стачек, которые вызываются подстрекательствами «злонамеренных людей», г. Витте говорит в лицо рабочим наглую ложь, что «правительству одинаково дороги как дела фабрикантов, так и рабочих». Русские рабочие, конечно, хорошо знают, что соглашение и союзы рабочих, что нарушение контракта и стачка по русским уголовным законам преступны, но петербургский пролетариат под руководством «Союза» и задается как раз преступною целью сломить эти возмутительные, противные культуре и человеческому достоинству законы, в которых так ярко выражается одинаковая забота самодержавного правительства о хозяевах и рабочих.
187
Каков, спросят нас, результат стачки, что дала она, если вообще дала что-нибудь петербургскому рабочему? Некоторые требования рабочих были удовлетворены, другие было обещано рассмотреть впоследствии. Это немного. Но не в этом смысл и великое значение только что закончившейся стачки. Нам важен и дорог ее поистине огромный нравственный результат. Она служила живым свидетельством того, что русский рабочий умеет дружно и стойко стоять за свои интересы, что он способен к дисциплине, к организации, вызывающей слова удивления у злейших врагов его.
Стачка была, и это главное, живым уроком самому рабочему. Постоянные столкновения с полицией чрезвычайно наглядно и чувствительно показали ему его бессилие в нынешнем русском государстве; он понял, что за спиной капитализма стоит другой враг — русское самодержавие; он понял, что ему нужно прежде всего и больше, чем кому бы то ни было, добиваться политической свободы. Фактически политический вопрос всплыл во время стачки на поверхность русской общественной жизни. О нем-то и говорил «Союз», обращаясь в своем воззвании к представителям русского общества и заявляя им, что все те, кто являются в русском обществе действительными, а не мнимыми врагами самодержавия, должны всеми зависящими от них средствами поддерживать начинающееся массовое движение русского пролетариата.
То, что происходило в Петербурге, совершалось в общих чертах, хотя и в меньших размерах, и в других центрах русской общественной и промышленной жизни.
Так, весною 1895 года прекращают работу из-за неудовольствий с администрацией рабочие железнодорожного депо на Московско-Курском вокзале. В двадцатых числах мая того же года волнуются рабочие на ткацкой фабрике Прохорова в Москве; в июне происходит столкновение рабочих с казаками и полицией на фабрике Мазурина и Герасимовых в Кускове под Москвою; в том же июне вспыхивает стачка рабочих в складе товарищества К. и С Поповых. Наши московские товарищи, подобно петербургским, пользуются всеми явлениями этого рода для выяснения рабочему классу его современного положения и его задач в будущем. Так, по поводу недавней петербургской стачки центральный комитет московского рабочего союза выпустил две прокламации, в которых приглашал московских рабочих оказать дружную поддержку их петербургским братьям.
188
В мае 1895 г. стачка рабочих на фабрике Корзинкина в Ярославле (на этой фабрике работало 7579 человек: 4238 мужчин, 3028 женщин, 111 мальчиков и 22 девочки), к сожалению, вызвала целое кровопролитие: офицеры Петров и Калугин напали со своей солдатней на одну, до тех пор совершенно мирную, группу стачечников, а когда неожиданно атакованные рабочие стали защищаться камнями, они приказали сделать залп, после которого на месте столкновения оказалось три убитых (в том числе один ребенок и одна женщина) и 18 раненых * 10.
Подобное же столкновение рабочих с войсками едва не произошло в большом фабричном селе Тейково близ города Иваново-Вознесенска Владимирской] губ[ернии], весною 1895 г., на фабрике Каретниковых . Рабочие, в числе 5000 чел., собрались на фабричном дворе и вступили в шумные объяснения с англичанином-директором. Перепуганный директор выстрелил в рабочих из револьвера, что и послужило сигналом к его гибели: он был немедленно сбит с ног и буквально растерзан ожесточенной толпою. Местная полиция телеграфировала об этом происшествии в губернский город Владимир, откуда немедленно выступили в Тейково казаки и пехота. К счастью, кровавое столкновение было предотвращено благоразумием гг. Каретниковых! Они уступили требованиям рабочих; работы немедленно возобновились, и администрации осталось лишь начать полное грубого произвола следствие об убийстве директора.
Немало насилий со стороны администрации было и во время стачки на фабрике товарищества Иваново-Вознесенской ткацкой мануфактуры в октябре того же года. Эта стачка окончилась, по-видимому, торжеством предпринимателей; после двух недель борьбы рабочие вынуждены были взяться за работу. Но дружный отпор, данный ими предпринимателям, все-таки не остался без последствий. Опасаясь новых волнений, фабричный инспектор убедил товарищество несколько повысить заработную плату.
В Нижнем Новгороде местный социал-демократический союз должен был зимою 1895/96 г. вступить в борьбу с особого рода подрядной системой найма рабочих и расплаты с ними, практиковавшейся на механ[ическом]
 * Убийцы-офицеры получили за свой подвиг «Высочайшую» благодарность: император Николай заявил, что он «весьма доволен стойким и спокойным поведением войск во время фабричных беспорядков»!!
* Убийцы-офицеры получили за свой подвиг «Высочайшую» благодарность: император Николай заявил, что он «весьма доволен стойким и спокойным поведением войск во время фабричных беспорядков»!!
189
зав[оде] товарищества] «Добров и Набгольц». Воззвание, с которым нижегородский соц.-демократический союз обратился к рабочим «Доброва и Набгольца», произвело очень сильное впечатление на рабочих и большой переполох в среде заводской администрации и полиции. Под его влиянием некоторые из самых вопиющих злоупотреблений, имевших место на названном заводе, прекратились, хотя, может быть, и не надолго.
На юге России пробуждение классового сознания рабочего класса идет не менее быстро, чем на севере. Там тоже нет ни одного крупного промышленного центра, в котором последние два-три года не ознаменовались бы стачками и иными проявлениями растущего недовольства пролетариата. Так, уже в 1893 и 1894 гг. полиция Ростова-на-Дону имела много хлопот с рабочими железнодорожного депо Владикавказской дороги, которые требовали (в марте 1894 года) повышения заработной платы и сокращения рабочего дня и вообще оказались весьма «неблагонадежными» * 11.
В Екатеринославе летом 1895 года полиция напала на след социал-демократической пропаганды на рельсопрокатном Южно-Александровском заводе. Уже тогда арестовано было 16 рабочих. Эти аресты возобновились зимою 1895/96 г., и тогда наши екатеринославские товарищи пострадали очень сильно; арестовано было на разных фабриках и заводах около 100 человек; кроме того, многие рабочие, заподозренные в социалистическом образе мыслей, были лишены заработка, т. е. осуждены чуть не на голодную смерть.
Но едва ли не быстрее, чем в других центрах русского юга, идет вперед пробуждение классового самосознания пролетариата Одессы. Минуя множество мелких фактов, мы укажем на то, что в этой столице Новороссии в течение долгого времени рабочие собирались на правильные собрания в одном из местных ресторанов. На этих собраниях была выработана «программа южнорусских рабочих». Полиция узнала об этих собраниях и в один день арестовала двести человек, которые потом обвинялись в составлении тайного общества, имеющего целью вести агитацию среди рабочих законными и незаконными средствами. Но с этими арестами не прекратилось рабочее движение в Одессе. В июле того же года
 * В марте 1894 года полиция выслала из Ростова-на-Дону административным порядком около 200 ра-бочих. Другие были посажены в тюрьмы под предлогом «политического преступления». Один из аре-стованных, рабочий Шамуров, был доведен до сумасшествия.
* В марте 1894 года полиция выслала из Ростова-на-Дону административным порядком около 200 ра-бочих. Другие были посажены в тюрьмы под предлогом «политического преступления». Один из аре-стованных, рабочий Шамуров, был доведен до сумасшествия.
190
полиция сочла нужным закрыть три ресторана и один трактир, где происходили тайные собрания рабочих, и произвести много арестов в городе. В декабре того же года опять произошли аресты. Все арестованные обвиняются в социалистической пропаганде.
Переходя на запад России, мы с особенным удовольствием указываем нашим иностранным товарищам на успехи социал-демократической пропаганды между евреями, составляющими весьма значительную, а иногда и преобладающую часть населения в городах и местечках этого края. В этой местности фабрично-заводская промышленность развита слабо, там преобладает мелкий ремесленный труд, на почве которого вырастают своеобразные виды эксплуатации и которыми занимаются по преимуществу бедные евреи. Эти парии русской земли, не имеющие даже тех жалких прав, которыми обладает христианское население, «обыватели» России, обнаружили в борьбе со своими эксплуататорами столько стойкости и столько чуткости в понимании социально-политических задач современного рабочего движения, что их в некотором отношении можно считать авангардом рабочей армии в России *.
До какой степени ясно сознание передовых представителей еврейского социал-демократического движения, покажут несколько строк, выписанных нами из брошюры, изданной по поводу стачки на табачной фабрике одного из западнорусских городов:
«Нет единого еврейского народа, внутри его имеется два народа, два враждебных класса, и борьба этих классов дошла до таких размеров, что ее не может уже погасить ни уважение к синагоге и духовенству, ни грозная власть начальства».
И далее.
«Нам ли сожалеть об этом? Нам ли стараться помешать этому: ведь мы только в этой борьбе с капиталистами почувствовали себя людьми, только на этой борьбе научились понимать свои интересы, только в этой ненависти к капиталу мы воспитали в себе любовь и братское чувство к своим товарищам по страданиям, ведь только из этого раскола между капиталом и трудом выросло наше сознание, в этой борьбе оно развилось и окрепло. Нам ли жалеть о тех старых временах, когда невежественные, презираемые и ненавидимые снизу, опле-
 * Укажем на то, что наш товарищ Плеханов является на Лондонском конгрессе представителем, между прочим, тысячи организованных рабочих одного из городов западной России 12.
* Укажем на то, что наш товарищ Плеханов является на Лондонском конгрессе представителем, между прочим, тысячи организованных рабочих одного из городов западной России 12.
191
вываемые и притесняемые сверху, евреи влачили жизнь дикарей, вечно трясущихся за свое жалкое существование, вечно ожидающих грозы? Нам ли жалеть о потере связи между еврейским бедняком и еврейским магнатом, когда мы вместо нее приобрели связь, соединяющую нас с рабочими русскими, польскими, литвинскими, с рабочими всех стран? Будущее несет нам укрепление этой связи, рост нашей силы и нашего сознания,— чего же нам жалеть о темном прошедшем, без борьбы, без раскола, но зато и без жизни?» 13.
Эти строки не нуждаются в комментариях.
Как на яркий признак пробуждения сознания русского рабочего класса укажем, наконец, на тот интерес, с которым читаются нашими рабочими все попадающие в русские газеты известия о движении западноевропейского пролетариата, на празднование Первого мая, которое происходит на тайных собраниях русских рабочих, и на те приветствия, с которыми рабочие Петербурга и Москвы обратились в нынешнем году к французскому пролетариату по поводу празднования памяти Парижской коммуны 1871 г. На общей могиле борцов Коммуны на кладбище Pére-Lachaise между другими многочисленными венками были также венки от русских рабочих Москвы и Петербурга и от еврейских рабочих организаций западной России.
Таково, товарищи, положение рабочего движения в нашем отечестве. Мы указываем вам на него, ничего не увеличивая, но и не скрывая тех чувств гордости и надежды, которыми наполняются наши сердца при виде его пока еще скромных, но все-таки совершенно несомненных и многознаменательных успехов. Мы твердо верим, что раз начавшееся у нас рабочее движение будет быстро расти и развиваться. На парижском Международном рабочем социалистическом конгрессе 1889 года наш товарищ Плеханов сказал, между прочим, что революционное движение в i России восторжествует как рабочее движение или совсем не восторжествует 14. В то время его слова казались сомнительными многим представителям нашей оппозиционной и даже радикальной «интеллигенции». В настоящее время все более и более становится ясным, что движение в среде наших рабочих есть единственное истинно революционное движение в современной России. Все, что находится вне его, не может иметь серьезного самостоятельного значения. Борьба против абсолютизма сделается победоносной только тогда, когда идеи политической свободы широкою вол-
192
ною проникнут в массу рабочего народа. Мы убеждены, что это время уже недалеко, что, следовательно, недалек и тот момент, когда падет русское самодержавие, этот последний и некогда самый надежный оплот европейской реакции.
Не желая, однако, ни обольщать самих себя, ни вводить в заблуждение наших западных товарищей, повторяем, что нами сделаны только первые, правда, самые трудные шаги на пути тайной организации революционных сил русского пролетариата.
Между тайными социал-демократическими организациями, действующими в различных местностях России, пока еще нет достаточной связи, а в их действиях — иногда и надлежащего единства. Создание такой связи и такого единства — основание единой и нераздельной социал-демократической организации России — должно составить главную цель наших усилий в ближайшем будущем 15.
О ДЕМОНСТРАЦИЯХ
Дни идут за днями, но не походят один на другой. Давно ли люди, мнившие себя опытными «практиками», старались убедить «теоретиков» в том, что «толковать рабочей массе в России об уничтожении капитализма, о социализме, наконец, об уничтожении самодержавия — вообще нелепость», и резко порицали группу «Освобождение труда» за то, что она будто бы хотела «взять самодержавие на уру». Теперь голоса таких «критиков» окончательно смолкли, теперь даже неисправимые «экономисты» стараются придать своим речам политический оттенок, и теперь, по-видимому, в самом деле появились люди, думающие, что самодержавие может быть взято «на уру» одним энергичным усилием. Кто напоминает этим людям, что наша победа над царизмом еще не близка, того они упрекают в «расхолаживании» революционеров. Это, конечно, необдуманные упреки: серьезных революционеров не расхолодишь никакими напоминаниями о продолжительности предстоящей им борьбы, а на кого такие напоминания могут подействовать угнетающим образом, тот горяч лишь на поверхности. Победят врага не те, которые ежедневно твердят, что мы переживаем «канун революции», а те, которые готовы неустанно исполнять всю — как праздничную, так и будничную — работу, необходимую для скорейшего наступления кануна революции. Те крестоносцы, которые, едва выступив из своих деревень, при виде каждой колокольни спрашивали: «не это ли Иерусалим?» — не попали в Палестину. Иерусалим был взят теми опытными воинами, которые знали дальность ожидавшего их пути и приняли меры для преодоления его трудностей. В нашем деле самообман опаснее для нас, чем все военные хитрости нашего коварного неприятеля.
Демонстрации, ознаменовавшие собою начало 1901 г.,
194
повторились в его конце 1. Все заставляет думать, что и новый, 1902 год будет таким же, если не более, бурным, как и его предшественник. Рабочий класс принимает самое деятельное участие в демонстрациях; по большей части он составляет главную их силу. Но не будем обманывать себя словами. Рабочий класс оказывается представленным в демонстрациях лишь некоторыми своими слоями. Он еще не двинулся всей своей массой. Исключение из этого правила составляют разве лишь известные московские волнения 2. И именно тем, что не вся рабочая масса участвует в демонстрациях, объясняется то, что полиция пока еще очень легко справляется с «нарушителями порядка». Она еще нигде не встретила отпора. А отпор психологически необходим, потому что если его еще долго не будет, то демонстрации станут утрачивать свое воспитательное влияние на массу и приобретать в ее глазах значение опыта, доказывающего полную невозможность открытого сопротивления власти. И тогда неизбежно, естественно, возникнут такие формы борьбы, которые отдалят революционеров от рабочей массы и чрезвычайно сильно затруднят им решение их важнейшей задачи, о которой они не должны забывать нигде и никогда,— задачи систематического и неуклонного содействия всестороннему развитию классового самосознания пролетариата. Кто умеет ценить воспитательное значение демонстраций и кто желает сохранить это их значение, тот должен всеми силами стремиться к тому, чтобы они все более и более приобретали массовый характер. Там, где массовые демонстрации еще невозможны, лучше до поры до времени не выходить на улицу. Но зато там надо с тем большей энергией и немедленно же взяться за подготовление массовых демонстраций.
До сих пор на эту сторону дела не было обращено достаточного внимания. Перед нами лежит письмо, полученное редакцией «Искры» несколько недель тому назад из одного университетского русского города и прекрасно подтверждающее справедливость наших слов. «Вот теперь, — говорит автор письма, — опять начались студенческие волнения, грозящие разрастись в новые «беспорядки». Кажется, давно бы пора выпустить к рабочим прокламацию, излагающую ход событий в студенческой среде, объясняющую причины волнений и т. д., но ничего подобного не делается. Не знаю, чем это объяснить... Почему не сообщить рабочим о том, как борются за свои права студенты, почему не выяснить значения их борьбы с министерством народного просвещения
195
в общей борьбе всех оппозиционных элементов с правительством, не указать на стойкость и взаимную поддержку учащихся разных городов?.. Интеллигенция как будто довольствуется тем, что две-три сотни рабочих, сконцентрированные в ее кружках, знают об всем, что творится кругом ее... до той же массы, которая скрывается за этими избранниками, ей никакого дела нет...»
Мы не хотим ручаться за то, что в этой картине нет никаких преувеличений. Отнюдь не хотим! Мы прекрасно знаем, что преувеличения вполне возможны в устах и под пером того, кто, близко и внимательно наблюдая ход дорогого ему дела, особенно поражается замеченными им упущениями и недостатками. Но что указанные автором письма недостатки и упущения действительно существуют, это для нас не подлежит сомнению. Политическая агитация в массе еще недостаточно обдуманна, широка и систематична. Рабочая масса, взятая в ее целом, еще мало знает о том, что делается в тех — рабочих и «интеллигентных» — слоях населения, которые уже вполне прониклись духом «беспорядка». Поэтому она и не оказывает этим слоям всей той поддержки, которую она могла бы и должна была бы оказывать. Если бы демонстрациям предшествовала обдуманная, систематическая и широкая агитация в рабочей массе, подобная той, которая имеет место в студенческой среде,— где перед каждой большой демонстрацией происходит множество подготовительных совещаний и собраний,— то на наш призыв откликались бы не тысячи, а десятки тысяч рабочих, и тогда мы повели бы с нашими «усмирителями» совсем другой разговор.
Верно, конечно, и то, что обдуманная, деятельная и широкая агитация в массе для подготовки целесообразных демонстраций сама предполагает существование стройной и прочной организации сил революционной социал-демократии. Но без такой организации нам теперь вообще невозможно обходиться.
Скажем еще раз: демонстрации должны теперь приобретать все более и более массовый характер. Но этого мало. На каждой демонстрации надо уметь противопоставить полицейским бесчинствам организованное сопротивление. Как организовать сопротивление? Лучший ответ на этот вопрос будет дан, разумеется, опытом. Но за опыт придется платить страшно дорого. Поэтому нам следует заранее прислушиваться ко всем практическим указаниям, идущим из лагеря противников нашего нынешнего политического строя.
196
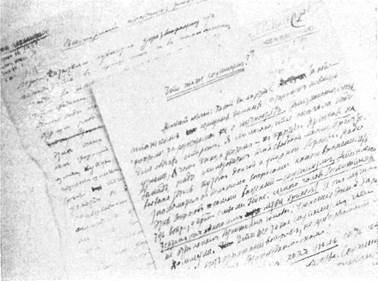
Воззвание и лекция Г. В. Плеханова о значении идей научного социализма для развития революционного движения в России. Автограф.
Не так давно вышедшая за границей брошюра «Об уличных беспорядках (Мысли военного)» 3 дает нам несколько советов насчет того, как сопротивляться организованной и вооруженной силе царского правительства. Правда, автор брошюры приурочивает свои советы к такому моменту, который еще не настал и пока еще неизвестно, когда настанет. Он советует в самом начале борьбы народа с войском как можно скорее «изъять из обращения» гражданское, полицейское и военное начальство. Этот совет сам по себе очень не дурен. Революционная социал-демократия, вероятно, и сделает рекомендуемый автором смелый шаг в то время, когда она, крепко организовав свои силы и приобретя решительное влияние на народную массу, а следовательно, и на весь ход общественных событий, окажется в состоянии взять на себя почин вооруженного восстания для нанесения последнего, смертельного удара издыхающему царизму. Это будет счастливое время. Но теперь мы вынуждены ставить себе те более скромные практические задачи, без предварительного решения которых указанное счастливое время никогда не станет для нас настоящим време-
197
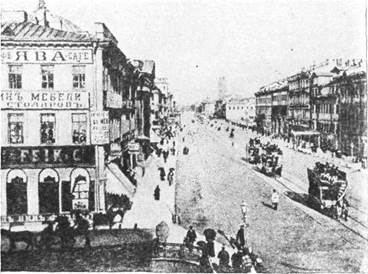
Невский проспект в конце XIX в.
нем. А в числе этих задач одно из самых первых мест занимает, по нашему мнению, организация такого сопротивления предержащим властям, которое, не будучи — пока еще преждевременным — открытым восстанием, вместе с тем обеспечило бы участникам демонстрации возможность давать хорошую сдачу полицейско-казацкой орде. Но и в этом смысле советы автора названной выше брошюры представляются нам далеко не бесполезными. Он пишет, напр.: «В современной народной толпе есть элемент очень ценный с точки зрения силы, могущей быть противопоставленной силе войска... Среди рабочих имеется немало запасных воинских чинов всех родов оружия. Есть пехотинцы, есть кавалеристы, есть артиллеристы... Сгруппировавшись по родам оружия, разделившись на десятки, с выбранным начальником во главе, рабочие из запасных воинских чинов во время волнения будут центрами, около которых сами собою сгруппируются разрозненные элементы толпы. Организованные в мирное время «десятки» — во время волнений явятся кадрами народного войска. Люди «десятка» должны хорошо знать друг друга, должны быть в состоянии доверять друг другу и вполне полагаться друг на друга... Во время боя люди «десятка» должны во что бы то ни стало держаться вместе...»
198
В другом месте брошюры автор обращает внимание своих читателей на ту пользу, которую может принести протянутая поперек улицы (на аршин от земли) проволока. По его замечанию, такая проволока может остановить движение конницы и артиллерии и породить очень полезную для революционеров сумятицу.
Наконец, отметим еще вот какие советы нашего автора: «Пехоту следует окружать со всех сторон, стеснять, разобщать солдат друг от друга и от их офицеров»... «Солдатам же следует заранее внушать, что не против них бьется народ...»
Все это очень похоже на полную и чрезвычайно полезную правду, и мы от всей души благодарим г. «военного» за его «мысли».
Конечно, дело не в частностях. Запасные рядовые могут быть организованы не в «десятки», а как-нибудь иначе. Рядом с ними могут возникнуть и, вероятно, возникнут другие боевые единицы из рабочих и студентов. Очень возможно, что боевые дружины этого последнего рода окажутся даже более соответствующими свойствам нашей революционной среды. Но верно то, что мы уже теперь можем приступить к организации сопротивления во время демонстраций. Когда мы организуем его, тогда полицейские кулаки и казацкие нагайки перестанут безнаказанно гулять по головам и по спинам студентов, рабочих и «посторонних лиц».
Эти соображения о пользе, которую могло бы принести нам создание подвижных боевых дружин, снова приводит нас к мысли о необходимости общей, централизованной организации сил революционной социал-демократии. Высказать эту мысль — значит повторяться. Но повторения в этом случае неизбежны, и мы не боимся их. С терпением перса, поневоле каждый день повторявшего своему господину: «Царь, помни об афинянах», мы добровольно будем твердить нашим товарищам: помните, что нам надо сорганизоваться! 4
РУССКИЙ РАБОЧИЙ КЛАСС И ПОЛИЦЕЙСКИЕ РОЗГИ
День Первого мая есть день международной рабочей демонстрации. В этот день рабочие всех стран выступают под одним знаменем — под красным знаменем международной социал-демократии. В этот день они наглядно показывают всем, имеющим очи, что боевой клич авторов Коммунистического манифеста: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» не остался гласом вопиющего в пустыне. В этот день даже очень близорукие люди видят, что мыслящие пролетарии всех стран действительно соединились и что число немыслящих — тех темных тружеников, которые еще не пробудились к сознательной социально-политической жизни, — будет уменьшаться именно в той мере, в какой сознательные рабочие будут продолжать влиять на бессознательных. День 1 Мая показывает нам, что уже сделано в рабочей среде, и призывает нас с новой энергией продолжать действовать в ней, если только наша цель для нас не пустое слово и если мы не забыли, что освобождение рабочих может быть лишь делом самих рабочих.
В этот великий день господствующие классы всех стран чувствуют себя очень нехорошо: он напоминает им о приближающейся социальной революции. И вот почему их газеты злобно издеваются над демонстрантами, а их охранители «порядка» — полицейские всех ведомств и всяких наименований — придираются к рабочим гораздо усерднее, чем в обыкновенное время. А 1а guerre comme à la guerre (на войне — по-военному). Но война имеет свои законы. Законы этой войны, которая называется борьбой классов, определяются — по крайней мере тогда, когда дело еще не дошло до окончательной развязки,— политическим устройством тех стран, где она происходит. В конституционных странах, пользующихся благами политической свободы, рабочий класс имеет право печатно защищаться от нападок
200

Последняя страница варианта статьи Г. В. Плеханова «Русский рабочий класс и полицейские розги».
враждебной ему печати, а полиция сдерживает свое охранительное рвение ввиду того, что и на нее есть законная управа. Не то у нас в России. Рабочий класс лишен у нас всякой законной возможности открыто обсуждать и защищать свои интересы, полиция же наша прекрасно знает, что воля начальства есть для нее высший закон и что нет такого бесчинства, за которое ее могли бы притянуть к ответственности, если только это бесчинство совершено ею по приказанию свыше.
Самодержавие главы государства на практике равносильно самодержавию администрации, это — старая истина. Но и эта истина имеет свои оттенки. Еще Герцен заметил, что абсолютизм существовал когда-то и на Западе, однако на Западе никому в голову не пришло высечь Спинозу или отдать Лессинга в солдаты 1, в России же непременно сделали бы и то и другое. До какой степени справедливо это замечание, показывает вся история русской литературы, а еще лучше показывают это события последних лет. Отдача в солдаты целых сотен студентов представляет собою факт небывалый в истории западноевропейских университетов, а слух о сечении участников майской демонстрации кажется тенденциозной ложью даже тем из людей Запада, которые хорошо помнят подвиги западноевропейского абсолютизма.
Унизительные истязания, которым подверглись наши товарищи не только в Вильне, но и в некоторых других городах, чрезвычайно ярко характеризуют отношение ца-
201
ризма к рабочему движению. Царизм, основывающийся на полном бесправии подданных, предполагает, как свое непременное условие, их совершенное безличие и их полную бессознательность. Майская демонстрация — дело сознательных рабочих — громче, чем все другие демонстрации, свидетельствует о том, что в русскую рабочую среду уже проник свет сознания, что в ней уже пробудилось чувство собственного достоинства. Столкновение было неизбежно, и оно приняло ту форму, которую оно должно было принять, сообразно всему характеру царского правительства. Этому правительству нужны рабы. В лице демонстрантов перед ним явились смелые граждане. И вот оно схватилось за розгу, чтобы напомнить этим гражданам, что чувства, их воодушевляющие, составляют у нас запрещенный товар и что тех, кто его распространяет, ждет последняя степень унижения.
Свист розог характеризует нынешний наш политический порядок несравненно лучше, чем мог бы характеризовать его гром выстрелов. Сечение — наказание, придуманное для рабов,— показывает, что самодержавие царя, равносильное самодержавию администрации, означает в то же время полное рабство пролетариата. Оно разоблачает колоссальную, по своему бесстыдству, ложь зубатовской политики 2: чего ждать русским рабочим от правительства, которое порет их розгами за участие в такой демонстрации, которая совершенно свободно совершается там, где трудящаяся масса завоевала себе политические права? — Ничего, кроме новых цепей, ничего, кроме новых унижений! Русские рабочие не могут возлагать на него ни самомалейшей надежды. Русские рабочие должны проникнуться самой горячей, самой непримиримой ненавистью к царизму.
«Теперь мы достаточно знаем, что такое наш старый абсолютизм, — говорил Фердинанд Лассаль в одной из своих громовых речей.— Потому прочь всякие колебания, прочь всякая нерешительность! За горло его и колено ему на грудь!» 3
Многие и многие из тех русских рабочих, которые уже начали задумываться об интересах своего класса, но которые еще не решались выйти на путь революционной борьбы с правительством, теперь, под влиянием известия о расправе с участниками майской демонстрации, наверно перестали колебаться, наверно расстались со всякой нерешительностью и прониклись страстным
202
желанием поскорее положить конец нашему позорному политическому порядку, сделавшему возможным грубое издевательство над их братьями, рабочими. Они поняли, что первым крупным шагом к освобождению русского рабочего класса от его многочисленных бедствий должно быть низвержение царизма.
Нет, должен быть насилию предел!
Коль угнетенный права не находит,
Коль для него несносно стало бремя
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Когда ничто помочь ему не может,
Тогда ему остался острый меч!
Полицейская расправа с участниками майской демонстрации громко вопиет о мщении. Ни один сознательный русский пролетарий, ни один искренний друг русского пролетариата не имеет права успокоиться до тех пор, пока месть не совершилась. Но как мстить? кого карать? Вот вопрос, настоятельно требующий от нас ответа.
Самоотверженный Леккерт решил его по-своему, направив несколько пуль в Виленского обер-палача. Вечная память герою. Но герой погиб, а иго царизма по-прежнему давит на израненные плечи русского рабочего класса, и по-прежнему позор розги угрожает всему трудящемуся населению России за самомалейшее проявление самосознания и независимости. Как избавиться от этой угрозы, одно существование которой есть уже кровная обида всему трудящемуся населению России?
По нашему мнению, к этой цели ведет только один путь, но зато этот путь вполне верен, и наша партия не может миновать его в настоящее время.
Если вчера Иван подвергнут был телесному истязанию в участке, а сегодня Петр убьет кого-нибудь из полицейских, то человеческое достоинство Ивана все-таки останется поруганным. Вера Засулич выстрелила в Трепова, приказавшего высечь Боголюбова розгами 4. Этот поступок сделал честь Вере Засулич, но, к сожалению, он не вывел Боголюбова из невыносимого нравственного состояния. Наша ближайшая практическая задача заключается не в том, чтобы карать отдельных слуг царя — мы все равно не в состоянии были бы покарать каждого из них в отдельности,— а в том, чтобы вообще отбить у правительства охоту отвечать на демонстрации розгами. А этого мы не достигнем самоотверженными действиями отдельных лиц; этого можно дос-
203
тигнуть только отчаянным сопротивлением со стороны всех тех, кому угрожает телесное истязание.
Администрация имела законное право сечь революционеров, заключенных в Шлиссельбургскую крепость: она не пользовалась этим правом, она хорошо знала, что Шлиссельбургских узников можно повесить, можно задушить подушками, можно заколоть штыками или убить прикладами, но нельзя наказать розгами. Она понимала, что они будут сопротивляться до последней крайности и что, вследствие этого, вместо «наказания» произойдет просто-напросто изувечение или даже убийство одного или нескольких заключенных — факт, способный наделать много неприятного шума в России и за границей. Отчаянная решимость предохраняла Шлиссельбургских узников от поругания. Она же предохранит от него и нынешних участников демонстрации.
И пусть не говорят нам, что в Шлиссельбурге заключены революционеры, энергия которых была закалена целыми годами борьбы, между тем как в демонстрациях могут принимать участие обыкновенные, «средние» люди, только что вышедшие на путь протеста. Между арестованными демонстрантами, наверное, всегда найдется несколько закаленных и испытанных борцов, способных взять на себя почин сопротивления и увлечь за собой средних людей «толпы». Русская трудящаяся масса,— рабочий городской и сельский уже пережил тот период детства, в течение которого он легко мирился с розгой. Теперь она глубоко оскорбляет его нравственное достоинство, и его уже нетрудно заразить примером самозащиты.
Сопротивление палачам; сопротивление во что бы то ни стало; сопротивление до последних сил, до последнего издыхания — вот необходимый теперь ответ на полицейские розги. Благодаря такому сопротивлению, сцены «исправительного наказания» уступят место гораздо более драматическим сценам геройской самозащиты революционеров в полицейских застенках. И если после такой самозащиты,— которая, разумеется, поведет за собою многие «неприятности» и даже опасности для руководителей полицейской расправы, — если даже и после нее полицейским варварам удастся-таки подвергнуть истязанию своих побежденных пленников, то из такого истязания совершенно исчезнет элемент «наказания», ломающего волю наказуемого и заставляющего его, подобно рабу, покорно ложиться под розги победителя, останется только элемент живодерства, напоминающий те
204
Мучения, которым краснокожие дикари Америки подвергали своих врагов. И это мучительство окажется таким могучим агитационным средством; оно покроет правительство таким позором; оно вызовет к нему такую жестокую ненависть во всех слоях населения, что от него вынуждены будут отказаться даже самые допотопные помпадуры.
Отдельные лица, способные на самоотверженный подвиг, бывали у нас прежде; они есть и теперь, но самоотверженные подвиги отдельных лиц не устранят нынешней нашей политической системы; а нам нужно устранить именно всю эту систему, потому что только ее полное крушение, только полное политическое освобождение России может достойно отомстить за все притеснения и за все унижения, испытываемые русским пролетариатом со стороны нашего полицейского государства. Нам, стоящим на точке зрения пролетариата, необходимо вдохнуть дух героизма в рабочую массу. И мы вдохнем его в нее, потому что русский рабочий уже не раб по своему настроению, потому что он уже сознает свое достоинство и способен носить с честью «гражданина сан».
Итак, надо сопротивляться розге. Но этого недостаточно. Надо уметь также сопротивляться и арестам во время демонстраций. «Искра» давно уже указывала на то, что необходимо организовать такое сопротивление. Она указывала отчасти и на то, как можно, по ее мнению, организовать его 5. Но этот последний вопрос принадлежит к числу тех практических вопросов, которые лучше всего решатся на месте соединенными силами сознательных рабочих. Мы же скажем теперь одно: эти сознательные рабочие должны помнить, что на них лежит теперь великая обязанность: обязанность помешать полиции остановить революционное воспитание массы.
ЗНАЧЕНИЕ РОСТОВСКОЙ СТАЧКИ
Всякий новый шаг, сделанный русским пролетариатом на пути своего политического развития, вызывает в нашей революционной среде новые споры по тактическим вопросам. Это вполне естественно и очень хорошо. Естественно — потому, что новые шаги рабочего движения служат для нас новыми «уроками жизни», а уроки жизни настоятельно требуют своего истолкования. Хорошо — потому, что тактические споры содействуют этому истолкованию и тем избавляют нас, по крайней мере, от некоторых практических ошибок и от тяжелых разочарований, неизбежно следующих за практическими сшибками. «Практика» — великая и ничем не заменимая вещь. Но сама по себе она еще ровно ничему не учит. Чтобы пользоваться ее указаниями, надо уметь замечать и понимать их.
О недавних ростовских событиях много и горячо спорят теперь русские революционеры. Мы от души радуемся этим спорам, но мы позволим себе заметить, что иное дело судить о каком-нибудь общественном явлении, а иное дело судачить по его поводу. Судаченье бесплодно по самой природе своей. Оно не только ничего не выясняет, но, напротив, затемняет даже и то, что было ясно с самого начала. К сожалению, о ростовских событиях многие именно не судят, а судачат, и это очень, очень жаль, ибо эти события заслуживают самого серьезного внимания.
Результатом судаченья являются, между прочим, те обвинения, которые выдвигаются против нашего Донского комитета. Эти обвинения подчас поистине комичны. Так, например, один «интеллигент» (как видно, весьма неинтеллигентный) публично (т. е. на большом собрании революционеров) упрекал названный комитет в том, что тот не поддержал группы молодых людей, явившихся с революционными песнями на одно из первых соб-
206

Письмо Г. В. Плеханова В. И. Ленину от 9 февраля 1903 г. о ростовских событиях.
раний стачечников. Перед такими упреками можно не останавливаться. Всякий дельный революционер без труда поймет, что бывают положения, когда агитаторам совсем не до песен. Но есть обвинения, имеющие более серьезную видимость.
Некоторые сторонники политической агитации находят, что Донской комитет дурно поступил, не воспользовавшись волнением ростовской рабочей массы для устройства демонстрации. А иные идут так далеко, что приписывают ему, на этом основании, склонность к печальной памяти «экономизму». Перед этим обвинением нельзя не остановиться, так как оно не только несправедливо, но и способно посеять ряд самых опасных тактических недоразумений.
Несправедливость его состоит в том, что оно совершенно неверно изображает дело. Демонстрация в Ростове была, и притом очень величественная и необычайно продолжительная. Она началась в четверг, 7-го ноября, и окончилась только в следующий четверг, т. е. в тот день, когда состоялось последнее массовое собрание под открытым небом. Число участников этой величественной и необычайно продолжительной демонстрации, разумеется, не оставалось неизменным, но, несмотря на все колебания, оно было очень велико, временами достигая до 20 и даже до 30 тысяч. Таких демонстраций у нас еще никогда не бывало, и вот почему ростовские события составляют эпоху в истории нашего рабочего движения. Не понимать этого могут только те, которым вообще не-
207
ясны значение и задачи нашей агитации в рабочей массе.
Обвинителей ввела в ошибку внешность явления. Они привыкли думать, что уличное шествие составляет необходимый признак демонстрации, и потому, услыхав, что в Ростове уличного шествия не было, они умозаключили, что не было и демонстрации. Но названное шествие вовсе не составляет необходимого признака демонстрации. Его не было во время демонстрации перед Казанским собором в 1901 г.1, его не было и во время демонстрации перед тем же собором в декабре 1876 г.2 Скажут ли нам, что тогда не было и демонстраций? Наконец, если бы ростовские народные собрания под открытым небом и не были демонстрациями в собственном смысле этого слова, если бы нам доказали, что их правильнее назвать, например, митингами для выражения народного неудовольствия, то мы и в этом не видим беды. Шекспир говорит где-то, что, как бы мы ни назвали розу, она не утратит своего запаха. О ростовских собраниях мы скажем, что какое бы имя мы им ни дали, мы все-таки должны будем признать, что они имели колоссальное влияние на развитие классового самосознания ростовских рабочих. А развитие классового самосознания в рабочем классе и есть та великая цель, которую мы преследуем в своей агитации, и если Донской комитет достиг ее, не прибегая к демонстрации, то от этого не уменьшилась его заслуга. Обвинители говорят, что Донской комитет должен был вести собравшихся «в балке» рабочих в город. Но мы не понимаем, почему это было обязательно. Зачем было идти из «балки» в город, когда весь город шел «в балку»? Почему Магомет непременно должен идти к горе даже в том случае, когда сама гора идет к Магомету? Агитация агитации — рознь. Есть агитация, плодотворная с точки зрения социал-демократов, и есть агитация, полезная с точки зрения других партий, например анархистов, или так называющих себя социалистов-револю-ционеров . Агитацией занимались люди, говорившие политические речи собравшимся «в балке» ростовским рабочим. И агитацией занимались бы люди, которые воспользовались первым загородным собранием рабочих для того, чтобы вести их в город. Но между тем как огромные собрания «в балке» послужили превосходнейшей школой политического воспитания ростовского пролетариата, демонстративное движение в город могло бы закончиться таким столкновением с военной силой, на которое потратилась
208
бы вся энергия совершавшегося тогда массового движения и которое не только не подвинуло бы вперед самосознания массы, но надолго задержало бы его развитие. С точки зрения социал-демократии такое столкновение было бы вредно. Мы должны не бояться жертв, когда они полезны для дела, но мы обязаны избегать их, когда они не приносят пользы делу или даже — как было в разбираемом случае — отодвигают его далеко назад. Но если бы мы не были социал-демократами, если бы неизменным критерием в наших суждениях нам не служил вопрос о том, как повлияет данный шаг революционеров на развитие классового самосознания рабочего класса, то мы рассуждали бы иначе. Мы твердили бы: надо идти в город. А если бы шествие в город закончилось кровавой неудачей, мы сказали бы: вот новое доказательство того, что демонстрации ни к чему хорошему не ведут. Да здравствует террор! Да здравствует «боевая организация», которая завоюет рабочему классу политическую свободу! (См. опубликованные «Революционной Россией» 3 письма Качура 4.) По-своему мы были бы очень логичны, но наша логика не имела бы ничего общего с логикой освободительного движения пролетариата.
Колоссальные ростовские собрания «в балке» не только представляют в своей совокупности чрезвычайно внушительную демонстрацию, но и свидетельствуют о том, что наша политическая агитация может и должна войти теперь в новую необходимую и плодотворную фазу.
До сих пор у нас и в демонстрациях обыкновенно обнаруживалось то разделение и та отчужденность «героев» от «толпы», которые были в одно и то же время и следствием, и причиной слабости нашего революционного движения. «Герои» прохаживались перед «толпой» крича: «Долой самодержавие!», махая красными флагами и, по мере возможности, отбиваясь от полицейских бандитов. «Толпа» прислушивалась к «возмутительным» возгласам «героев», читала надписи на красных флагах, более или менее сильно возмущалась полицейскими зверствами и более или менее громко выражала свое сочувствие демонстрантам. Но дальше этого дело не шло или шло очень редко. Чаще всего «толпа» оставалась сама по себе, а «герои» сами по себе, и именно потому, что эти последние оставались сами по себе, им приходилось со стыдом уступать первому серьезному натиску со стороны полиции. А это приводило их к сомнению в
209
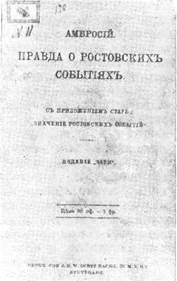
Титульный лист брошюры А. Мочалова (псевд. Амвросий), где была напечатана статья Г. В. Плеханова «Значение ростовской стачки» (подзаголовок в типографии дан неверно).
целесообразности демонстраций как агитационного средства. Они — или, по крайней мере, некоторые из них — говорили себе и другим: «Стоит ли выходить на улицу для того, чтобы после самого непродолжительного сопротивления улепетывать от полицейских кулаков и казацких нагаек? Не лучше ли, не целесообразнее ли давать единоличный отпор наиболее зарвавшимся царским опричникам?» И многим начинало казаться, что поступать так действительно будет лучше и целесообразнее. А раз они приходили к этому убеждению,— они начинали смотреть на так называемый (на самом деле никого не пугающий) террор, как на самое действительное средство революционной борьбы, приписывая демонстрации лишь второстепенное, подчиненное значение. А террор роковым образом привел бы к еще большему отчуждению «героев» от «толпы» и к еще большему ослаблению сил «героев». Таким образом весь ход нашей политической агитации неизбежно приводил нас к следующему противоречию: в интересах развития политического самосознания в массе мы должны были прибегать к демонстрациям, а прибегая к демонстрациям, мы, против всякого ожидания, укрепляли то настроение в революционной среде, в результате которого явился бы фактический отказ от непосредственного воздействия на
210
массу. Разрешить это противоречение можно было только одним путем: путем устранения той причины, которая вызывала слабость сил демонстрантов. А так как эта причина заключалась в том, что демонстрации были делом не «толпы», а одних только «героев», то нужно было, чтобы «герои» перестали существовать в качестве отдельного от «толпы» элемента. Другими словами, необходимо было придать демонстрациям массовый характер. На эту необходимость мы указывали еще в № 14 нашего органа 5.
И вот ростовские события показали, что мысль о слиянии «героев» с «толпой» не имеет в себе ничего несбыточного. В ноябре прошлого года в Ростове-на-Дону не было ни «героев», ни «толпы», а была огромная, многотысячная масса рабочих, неудержимо рвавшихся в новую, сознательную жизнь и готовая самоотверженно бороться со своими угнетателями и усыпителями. «Герои» исчезли в «толпе», «толпа» слилась с «героями». Она сама прониклась героическим самосознанием и потому перестала быть «толпою», превратившись в сознательный отряд сознательной армии международного пролетариата.
И как только состоялось это превращение, сейчас же всем стало ясно, что теперь полицейские бандиты совсем не так сильны и страшны, как были прежде. «Боимся ли мы атамана?» — спросил один из ораторов у рабочих, собравшихся на балке. — «Нет, не боимся!» — дружно отвечали рабочие. «Стало быть, мы будем продолжать наше собрание?» — спросил он опять. «Да, будем продолжать!» — как один человек, отвечала вся огромная масса. И собрание продолжалось на глазах у удивленных и испуганных бандитов полицейского «порядка», которые должны были понять тогда — если они еще не совсем утратили способность понимания, — что на общественную сцену России выступает новая, могучая сила.
Если дело приняло такой счастливый и многознаменательный оборот, то этим мы в значительной степени обязаны находчивости, благоразумию и такту нашего Донского комитета, который сумел избежать тактических односторонностей и извлечь из событий наибольшую долю того, что можно было извлечь из них для политического воспитания рабочих. Этим он оказал нашему движению большую услугу. И чем скорее распространится в русской социал-демократической среде сознание важности этой услуги, тем более очевидно станет
211
для каждого из нас, до какой степени неосновательны нападки *, сыплющиеся на Донской комитет со стороны тех людей или даже целых направлений, у которых очень слаба сила суждения, но зато очень сильна потребность судачить.
Да, ростовские события открыли собою новую эпоху, эпоху массовых демонстраций. Демонстрации «героев», прохаживающихся перед «толпой», и отжили свое время, и утратили свое значение. Теперь демонстрации должны быть массовыми, или их вовсе не должно быть. Говоря это, мы ни на минуту не позабываем о том, что массовые движения не могут быть вызываемы по произволу той или другой революционной организацией. Они подготовляются общим ходом социального развития. Но люди, понимающие ход этого развития, могут способствовать его ускорению. В том и состоит отличие социальной демократии от других политических партий, что ее деятельность является сознательным выражением бессознательного общественного процесса, который делает из пролетариата передовую общественную силу. Раз мы убедились в том, что теперь начинается эпоха массовых демонстраций, мы должны сообразно с этим убеждением направить всю свою подготовительную агитационную работу. «Искра» уже указывала на агитацию в студенческой среде, как на такую, которая в известной мере может служить образцом для агитации в среде пролетариата. Студенческим «волнениям» последних лет предшествовала обыкновенно систематическая, подготовительная работа, выяснявшая смысл начинавшейся борьбы и значение выставляемых требований. Известно, что даже и такая систематическая работа не приводила к полному единодушию между студентами. В их среде всегда находились элементы, относившиеся к движению несочувственно или просто равнодушно. Это неудивительно; такие элементы найдутся всегда и везде. Но важно то, что, благодаря систематической подготовке движения, к нему присоединялись все студенты, по своему умственному развитию и по своим нравственным свойствам способные к нему присоединиться. Студенческое движение располагало, вследствие этого, наибольшим числом тех сил, которыми оно могло располагать. И потому с ним так трудно было справиться. А то политическое движение, которое должно увлечь за собою все
 * Эта статья была уже набрана, когда мы получили № 15 «Революционной России», дающей замеча-тельные образчики этих неосновательных нападок.
* Эта статья была уже набрана, когда мы получили № 15 «Революционной России», дающей замеча-тельные образчики этих неосновательных нападок.
212
живые элементы пролетариата, до сих пор увлекало только незначительный его слой, между тем как другие его слои оставались неподвижными, несмотря на то что и в них накопился уже немалый запас революционной энергии. До них не достигали политические призывы социальной демократии, и потому они не давали на них никакого отклика. А этим неизбежно обусловливалась слабость нашего политического движения. Чтобы устранить ее, нам нужно подготовить свои демонстрации так же старательно, как подготовляет передовое студенчество свои «волнения» в среде учащейся молодежи. Нам нужно звать на борьбу все те элементы рабочей массы, которые уже способны примкнуть к ней. В этом случае нам помогут «возмутительные воззвания», если только мы сумеем — а мы обязаны суметь — придать им действительно массовое распространение. Наконец, нам необходимо способствовать развитию тех элементов пролетариата, которые еще не пробудились от своей политической дремоты. Это наши товарищи будущего времени. Сегодня они еще боятся «политики» и потому неохотно слушают политических агитаторов. Но скоро — может быть, не далее как завтра — они поймут, что «политика» соц.-демократии есть политика их собственных, насущных и осязательных классовых интересов,— и тогда они будут отвечать восторженным «ура!» на наши политические речи. А чтобы им стал понятен смысл нашей «политики», мы, принимаясь за агитацию в их среде, должны исходить именно из насущных и осязательных интересов, всеми силами стараясь в то же время обнаружить противоречие этих интересов с интересами существующего порядка. Ростовские события показали, между прочим, что при умелом ведении дела нас ждет здесь верный и скорый успех. А успех означает в этом случае не более, не менее, как то, что к революционной армии постоянно будут примыкать свежие, все более и более густые, все более и более многочисленные колонны и политическая борьба, начатая «революционной бациллой», все более и более будет становиться массовым движением, борьбой целого класса.
Много тяжелой работы предстоит нам впереди! Но это-то и хорошо! Даром ничто не дается, а наша тяжелая работа быстро приближает нас к нашей великой цели. Весело жить в такое время!
ИСТОЧНИКИ, ПРИМЕЧАНИЯ, КОММЕНТАРИИ
И. Н. Курбатова
Г. В. ПЛЕХАНОВ — ИСТОРИК РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
1 См : Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу // Полн. собр. соч. Т. 24. С. 129.
2 Известия Петроградского городского общественного управления. 1918. № 40. С. 1.
3 См: Ленин В. И. 1) Из письма в редакцию газеты «Трудовая правда» // Полн. собр. соч. Т. 48. С. 296; 2) Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках тт. Троцкого и Бухарина // Там же. Т. 42. С. 290.








