Мастерицам табачной фабрики Шапшал. Сим объявляю, что, по случаю остановки сбыта товара, я сбавляю с каждой 1000 папирос по 10 к.
Шапшал .
Мастерицы, здесь уже в числе 200, немедленно сорвали это объявление и на его месте вывесили новое:
Хозяину табачной фабрики Шапшал. Мы, мастерицы вашей фабрики, объявляем, что не согласны на сбавку, потому что и так от нашего заработка не можем порядочно одеться.
Мастерицы вашей фабрики.
Приказчик собрал мастериц и потребовал, чтобы они указали писавшую объявление. Они ответили, что это излишне, так как объявление писано от имени их всех, и стали уходить. Приказчик поспешил послать за хозяином. После напрасных попыток убедить мастериц работать за пониженную плату г. Шапшал вынужден был уступить подобно г. Мичри.
В следующем, 1879 году стачечная зараза охватила несколько фабрик одновременно. Обнаружилась она прежде всего на знакомой уже читателям Новой Бумагопрядильне.
109
С тяжелым сердцем уступив полицейскому насилию, рабочие Новой Бумагопрядильни говорили нам, что они покоряются не надолго и при первом же удобном случае опять забастуют. По правде сказать, мы не верили им, видя в их словах не более как желание утешить себя и нас в испытанной неудаче. Но мы ошибались. Уже в ноябре 1878 года полиция имела много хлопот с неугомонной Бумагопрядильней. Восьмого ноября (Михайлов день) тамошние рабочие не явились на фабрику, мотивируя это тем, что, дескать, праздник, работать грех. Но на других фабриках работа шла своим чередом, и управляющий Бумагопрядильни вздумал наверстать потерянное время удлинением рабочего дня с 13 часов, как было до тех пор (от 5 час. утра до 8 ч. вечера, с вычетом 2 час. на еду), до 13¼ час, и продолжать работу при этом условии до тех пор, пока из маленьких кусочков времени не составится полный день. Два дня работа шла до 8¼ ч., возбуждая сильное неудовольствие рабочих. На третий день кому-то пришло в голову завернуть главный газопроводный кран в 8 часов. Как только эта мысль была приведена в исполнение, рабочие густой толпой повалили с фабрики, причем разбили несколько стекол и испортили 9 основ. Верный друг «отечественной промышленности», полиция не могла вовремя явиться для восстановления «порядка», но зато на следующее утро на фабрику явилась целая орда охранителей, и в течение нескольких дней работа происходила в их благодетельном присутствии, хотя уже не до 8¼, а только до 8 часов. Началось следствие: кто потушил газ? Кто мог потушить? Человек 7 рабочих таскали в участок. Пристав горячился и кричал, что «ушлет их в Архангельскую губернию». Однако это не помогло. Рабочие отвечали, что ничего не знают. Одна женщина, работавшая недалеко от крана, показала на допросе, что кран завернул какой-то рабочий, лицо которого было закрыто передником. Кто был этот рабочий, осталось неизвестным; дело пришлось передать «суду и воле божией». С тех пор полиция стала зорко следить за рабочими.
15 января следующего года рабочие Бумагопрядильни по обыкновению пришли на фабрику рано утром. Несколько часов прошло обычным порядком; но перед обедом в ткацкое отделение явился главный мастер и вывесил объявление, приглашавшее 44 ткачей к расчету. На вопрос — за что такая немилость?— мастер ответил, что эти 44 человека выбрасываются на улицу за свое «буптовство» и что впредь все неблагонадежные будут
110
прогоняемы. Заявил он также, что вообще администрация фабрики, ввиду постоянных бунтов, думает заменить ткачей-мужчин женщинами и детьми. Речь его была прервана взрывом негодования. Объявление было изорвано в клочки, сам оратор должен был ретироваться. Ткачи высыпали на улицу и разбрелись по домам обедать. После обеда они собрались перед воротами фабрики густой толпой, через которую не прошел ни один из тех, кто колебался пристать к стачке. Директор поспешил известить полицию о новом «бунте». Около фабрики забегали «фискалы», показались околоточные, в полной форме, с револьверами на боку; их сопровождали десятки городовых. Но полиция пока еще не обнаруживала большой стремительности, вероятно, потому, что не получила еще надлежащих наставлений свыше.
К вечеру того же дня ткачи решили, кроме отмены распоряжения об изгнании бунтовщиков, требовать также: 1) повышения заработной платы — 5 к. на кусок ткани; 2) сокращения рабочего дня па 2½ часа; 3) отмены некоторых штрафов; 4) изгнания нескольких ненавистных им мастеров и подмастерьев; 5) присутствия выборных от рабочих при приеме сдаваемой ими ткани и, наконец, 6) выдачи им платы «за все время стачки, как будто работа и не прекращалась». Требования эти были немедленно записаны и, если не ошибаюсь, отпечатаны в тайной типографии «Земли и воли» 44.
Слухи о стачке на Новой Бумагопрядильне быстро распространились между фабричными, и на следующий день на Обводный канал явилось 40 выборных от ткачей фабрики Шау (Шавы, как произносили рабочие) за Нарвской заставой. «Шавинские» также решились забастовать и предлагали «новоканавцам» * выработать общие требования. Правда, полного тождества в требованиях стачечников этих двух фабрик быть не могло, так как порядки, практиковавшиеся г. Шау, значительно отличались от порядков, существовавших на Бумагопрядильне. У «Шавы» работа шла безостановочно день и ночь, причем рабочие разделялись на две смены: одни сутки одна смена работала 16 часов, а другая — 8, следующие — наоборот. Трудолюбивый фабрикант не прекращал работы даже вечером накануне праздников: она приостанавливалась только в 6 ч. праздничного утра. Г. Шау заботился также и о продовольствии рабочих: у него была мелочная лавка, в которой они обязаны были
* Рабочие называли иногда Обводный канал Новой Канавой.
111
покупать продукты. Читатель легко может представить себе, как выгодно это было для заботливого капиталиста. Иногда, придя за получкой в контору, рабочий узнавал, что весь его заработок ушел на уплату по его забору в хозяйской лавке.
С одобрения «новоканавцев» «шавинские» рабочие представили своему хозяину следующие требования:
1) Чтобы на каждый вытканный кусок прибавили платы по 5 коп.
2) Чтобы прогульные дни не считались, если сам хозяин виноват в прогуле.
3) Чтобы основы выдавали хорошие и чтобы материал выдавался при наших выборных.
4) Чтобы товар не браковали зря; чтобы за этим тоже следили наши выборные.
5) Чтобы не штрафовали за полом инструментов, за отсутствие из фабрики по болезни и надобности.
6) Чтобы за харчи платить не в конторе, как теперь, а в лавке, по получке денег на руки.
7) Чтобы на больницу платилось не по l¼ коп. с рубля, а по 10 коп. в месяц.
8) Чтобы за кипяток * на фабрике рабочие не платили.
9) Чтобы утром давалось время с 8½ до 9 ч. на завтрак.
10) Чтобы накануне праздников работа кончалась в 8 ч. вечера.
11) Чтобы газовые горелки расположить, как лучше для работы; мы сами укажем место для них; а то теперь в иных местах вовсе свету нет.
12) Чтобы прогнать с фабрики подмастерьев: Никифора Арсентьева и Нефеда Ефимова, Николая Волкова и шпульника Кирилла Симонова. Нам от них житья нет! и мы с ними не хотим работать.
13) За время стачки денег с нас не вычитать, потому что мы не работаем не по своей вине, а по упорству хозяев.
14) Чтобы никого из нас не брали в полицию за то, что не работаем, а тех, что теперь забрали, пусть выпустят **.
 * Для чаю.
* Для чаю.
** Подробности об этих и некоторых предыдущих стачках заимствованы мною из 3 и 4 №№ «Земли и воли», где они были описаны мною же на основании сведений, своевременно собранных на месте.
112
Предъявленное фабриканту последнее (14) требование с формальной точки зрения может показаться бессмыслицей. Но в действительности оно имело большой практический смысл, так как аресты рабочих происходили по настоянию и, нередко, по личному указанию фабрикантов. Стачечники нашли полезным предупредить г. Шау, что даже в случае исполнения всех остальных требований они не станут работать, пока не прекратятся аресты и не будут освобождены арестованные.
На сходке представителей от обеих фабрик были, между прочим, обдуманы меры для поддержания беднейших из стачечников. Таких, естественно, должно было оказаться более у «Шавы», который грозился немедленно прекратить выдачу рабочим припасов из своей лавки. Решено было первые сборы предоставить в распоряжение его рабочих. Сборы же предполагалось делать на всех фабриках и заводах. В этом смысле были напечатаны (разумеется, в тайной типографии) воззвания ко всем петербургским рабочим. Надежда на их помощь не была напрасной: сборы делались почти повсеместно, и возбуждение рабочих во время этих сборов было подчас так велико, что грозило перейти, а местами и переходило, в забастовку.
На фабрике Мальцева (на Выборгской стороне) разбросаны были воззвания стачечников. По этому поводу полиция арестовала рабочего, заподозренного в их разбрасывании; его товарищи заволновались. Пошли толки о том, чтобы последовать примеру «новокаиавцев», но хозяин ласковым обращением и обещанием разных благ в будущем восстановил спокойствие. Г. Чешеру (его фабрика тоже была на Выборгской стороне) не удалось отделаться одними обещаниями: он вынужден был прибавить по 3 к. на каждый кусок ткани. Волновались рабочие и на Охте. Так заразительно подействовал пример. А тем временем полиция и фискалы делали свое дело.
Уже в ночь с 16-го на 17-е число произведено было несколько арестов. Арестованных было 6 человек из рабочих Шау, 20 человек с Новой Бумагопрядильни, один слесарь на Лиговке и т. д. Аресты еще более усилили раздражение рабочих. До 17-го числа только ткачи участвовали в стачке на Н. Бумагопрядильне. С того же числа к ней пристали и прядильщики; фабрика совсем остановилась. О подаче каких бы то ни было «прошений» теперь уже никто не думал. «Новоканавцы» только смеялись, когда мы напоминали им об их прошлогоднем
113
хождении к наследнику: «то-то дураки-то были!» — говорили они.
На фабрику Шау в качестве миротворца явился некий «полковник». Рабочие подали ему письменное изложение своих требований и категорически заявили, что на меньшем не помирятся.
— Согласны вы на эти требования?— спросил полковник хозяина.
Тот, разумеется, ответил отрицательно.
Ну, так чего же вы, такие-сякие, хотите? — зарычал на рабочих миротворец, — да я вас!., и т. д. и т. д. — полились обычные в таких случаях словеса «кротости и увещания», т. е. брань, украшенная непечатными словами... — У меня, — закричал храбрый воин, — сейчас 25 000 солдат под ружьем, попробуйте только бунтовать!
— Больно уж много ты, ваше благородие, войска-то для нас наготовил-то, — насмешливо заметили рабочие, — пас всего-то здесь 300 человек и с бабами, и с ребятишками, а мужиков-то не будет больше сотни.
Полковник понял, что зарапортовался, и прикусил язык, приказав, для поддержания своего авторитета, схватить одного из остряков, но толпа окружила эту жертву полковничьего смущения и отстояла ее от полицейских покушений. Так и уехал ни с чем воинственный миротворец.
Не желая обращаться к властям ни с какими прошениями, стачечники предъявили им теперь очень настойчивые требования. Так, например, рабочие Н. Бумагопрядильни решились требовать освобождения своих товарищей, арестованных ночью с 16 на 17 января. 18-го числа, часов около 10 утра, толпа около 200 человек собралась недалеко от здания фабрики. Здесь было прочитано и одобрено следующее заявление:
«Мы, рабочие Новой Бумагопрядильни, сим заявляем, что не пойдем на работу, пока не будут уважены все наши заявленные хозяину требования. Что же касается полиции, то мы отказываемся от всякого вмешательства с ее стороны для примирения нас с хозяином, пока не будут освобождены наши товарищи, люди, за которыми мы не знаем ничего худого. Если их обвиняют в чем-либо, пусть судят их у мирового, причем мы все будем свидетелями их невинности. Теперь же их арестовали и держат без суда и следствия, что противно даже существующим законам».
Когда читалось это заявление, подошел околоточный; он предложил рабочим пойти к участку для объяснения
114
с приставом, но они предпочли переговорить с градоначальником. Путь их к дому градоначальника лежал через Загородный проспект. На нем есть или, по крайней мере, был дом «мещанской гильдии» с проходным двором. Едва рабочие прошли через этот двор и вышли на Фонтанку, их атаковали жандармы с приставом Бочарским во главе, тем самым приставом, который только что приглашал стачечников прийти к нему для объяснений. По всей вероятности, полиция, еще накануне узнавши о намерении рабочих добиваться освобождения заключенных, заранее приготовилась к отпору, и переданное околоточным приглашение пристава было простой ловушкой. Видя, что не удастся заманить рабочих в участок, г. Бочарский пустился преследовать их, как фараон убегавших из Египта евреев.
Произошла свалка. Жандармы мяли лошадьми рабочих, рабочие защищались, как умели. У некоторых оказались кистени, а знакомый уже читателю Иван, опять принимавший горячее участие в стачке, вытащил даже кинжал и ранил им лошадь наскакавшего на него жандарма. Но силы были слишком неравны, нападение было слишком неожиданно. Жандармы победили. К счастью для рабочих, упомянутый проходной двор обеспечил им довольно безопасное, хотя и беспорядочное отступление.
Со времени этой битвы полиция удесятерила свою энергию. Начались беспрерывные аресты. Нескольких так называемых зачинщиков выслали на родину, других — в северные губернии 45. Рабочих били и даже грабили *. Лавочникам полиция прямо запретила давать стачечникам в долг продукты. Зараженные стачкой местности были буквально наводнены «силищей жандармскою». Через несколько дней упорного сопротивления рабочие сдались, получив некоторые ничтожные уступки.
 Эта новая неудача изменила настроение бывших стачечников разве только в смысле еще большего озлобления против всяческого начальства и еще большего сочувствия к революционерам. Рабочая среда вообще все более привыкала смотреть на революционеров как на своих естественных друзей и союзников, а на тайную «землевольческую» типографию — как на орудие гласности, всецело предназначенное к их услугам. Такой
Эта новая неудача изменила настроение бывших стачечников разве только в смысле еще большего озлобления против всяческого начальства и еще большего сочувствия к революционерам. Рабочая среда вообще все более привыкала смотреть на революционеров как на своих естественных друзей и союзников, а на тайную «землевольческую» типографию — как на орудие гласности, всецело предназначенное к их услугам. Такой
* Один из стачечников проходил недалеко от Н. Бумагопрядильни, играя на гармонике. На него бросился жандарм и выхватил гармонику. Рабочий отправился жаловаться на этот «дневной грабеж» в участок, Его выругали, а гармоники не возвратили.
115
взгляд укреплялся даже в тех уголках Петербурга, куда не проникала революционная пропаганда.
Однажды мне, как члену редакции «Земли и воли», передали конверт с надписью: Господину редактору. Я нашел в нем две четвертушки серой бумаги. «Господин редактор,— написано было на одной четвертушке,— пожалуйста, напечатайте наше воззвание и, если нужно, будьте так добры, поправьте». На другой написано было воззвание: «Голос рабочего народа, работающих и страдающих у подлеца Максвеля». В воззвании говорилось, что рабочие фабрики Максвеля, доведенные до крайности хозяйскими притеснениями, видят себя вынужденными прибегнуть к стачке и, сообщая об этом остальным петербургским рабочим, просят их поддержки. Текста воззвания я на память, разумеется, восстановить не могу. Помню только одну фразу из середины: «мы работаем, стараемся, а он свенья не доволин нами», — да заключительные слова: «Будем же твердо стоять каждый за всех и все за каждого». Зато я хорошо помню общее впечатление, произведенное воззванием на меня и на моих товарищей по редакции. Мы положительно пришли в восторг. Столько свежего чувства, столько простоты и непосредственности, столько трогательной неумелости и вместе с тем столько неотразимой убедительности было в этой далеко не грамотной прокламации, что мы сочли непозволительным делать в ней какие-нибудь существенные изменения и ограничились исправлением грамматических ошибок. Едва ли не на следующий же день воззвание было отпечатано и передано авторам.
Вот что узнал я о причине неудовольствия максвелевских фабричных.
Низкая плата, непомерно длинный рабочий день, штрафы и придирки мастеров и подмастерьев — все это, разумеется, имело место на фабрике г. Максвеля, как и на других фабриках. Но этот находчивый предприниматель внес, кроме того, еще одну особенность в практикуемый им способ эксплуатации рабочей силы. Около своей фабрики (за Невской заставой) он выстроил большой дом для помещения своих рабочих. Другими словами, к выгодному ремеслу фабриканта он решил присоединить тоже не безвыгодное ремесло домовладельца. Надо отдать ему справедливость, дом его был построен очень хорошо, жить в нем было бы очень удобно,— несравненно удобнее, чем в тех грязных домах без воздуха и света, где ютились его рабочие. Беда заключалась лишь в том, что назначенные г. Максвелем квартирные
116
цены были сравнительно очень высоки и уж, во всяком случае, не по средствам фабричным рабочим. Вот почему те и не хотели селиться в его фаланстере. С своей стороны, просвещенный капиталист так твердо решился облагодетельствовать свои «рабочие руки», что не отступал даже перед очень крутыми мерами. Он грозил немедленно прогнать с фабрики всех консерваторов, отказывающихся жить в его доме. Отсюда — раздражение рабочих, решившихся стачкой положить конец оздоровительному упорству г. Максвеля. Совершенно без всяких «посторонних внушений» и помимо всякого влияния затронутых революционной пропагандой «бунтовщиков» — таких не было на их фабрике, — они выработали план действий, а для исполнения его сочли необходимым обратиться за помощью к рабочему населению Петербурга и к революционному обществу «Земля и воля». Нечего говорить, что воззвание было написано ими самими, но следует прибавить, что мысль о нем подана была им примером «шавинских» и «новоканавских» рабочих, которые, как я уже сказал, во время своей стачки обращались с воззванием «к рабочим всех петербургских фабрик и заводов». Вероятно, это последнее воззвание тогда же попало на фабрику Максвеля, очень вероятно также, что максвелевские рабочие не отказались поддержать «новоканавских» и «шавинских» стачечников своими трудовыми грошами, и теперь были уверены, что и им не откажут в такой же поддержке. Заключительные слова «голоса рабочего народа, работающих и страдающих у подлеца Максвеля» были целиком заимствованы из одного воззвания, напечатанного по поводу второй стачки па Обводном канале. Эти слова: «будем же твердо стоять каждый за всех и все за каждого» — как видно, хорошо выразили тогдашнее настроение петербургских рабочих, потому что после неизменно повторялись ими во всевозможных случаях их борьбы с полицией и предпринимателями.
Вообще в то время рабочее движение росло с небывалой быстротой. Любопытно видеть, как отражалось это явление в тогдашней революционной литературе.
Передовая статья № 4 «Земли и воли», вышедшего в свет 20 февраля 1879 г., целиком посвящена была вопросу о роли городских рабочих «в боевой народно-революционной организации». «Волнения фабричного населения,— говорится в этой статье,— постоянно усиливающиеся и составляющие теперь злобу дня, заставляют нас, раньше, чем мы рассчитывали, коснуться той роли,
117
которая должна принадлежать нашим городским рабочим в этой организации. Вопрос о городском рабочем принадлежит к числу тех, которые, можно сказать, самою жизнью, самостоятельно выдвигаются вперед, на подобающее им место, вопреки априорным теоретическим решениям революционных деятелей» *. Чрезвычайно характерно это невзначай вырвавшееся у народника признание. Рабочий вопрос, действительно, самою жизнью выдвинулся вперед, наперекор народнической догматике. Неудивительно, что разрешить его с помощью этой догматики было совершенно невозможно. Народническая интеллигенция могла лишь, подобно автору указанной статьи **, рекомендовать рабочим-социалистам «агитацию», «агитацию», «агитацию» и «агитацию» да упрекать их в том, что они будто бы, забывая об этой агитации, слушают «чтения о каменном периоде или о планетах небесных». К началу 1879 года рабочее движение переросло народническое учение на целую голову. Ввиду этого неудивительно, что наиболее развитая часть петербургских рабочих, вошедшая в основанный около того времени «Северно-Русский рабочий союз», в своих политических взглядах и стремлениях значительно разошлась с бунтарями-народниками 46.
IV
«Северно-Русский рабочий союз» естественным образом возник из того ядра петербургской рабочей организации, которое, как я говорил выше, составилось из «старых», испытанных революционеров-рабочих. Формальное основание Союза относится, насколько могу припомнить, к концу 1879 г. 47 Уже с первых недель своего существования он насчитывал не менее 200 членов, а вокруг пего группировалось по крайней мере столько же рабочих, сочувствующих, но еще не посвященных в организационную тайну. Большинство членов его принадлежало к числу «заводских». В каждом значительном рабочем квартале Петербурга были особые кружки, составлявшие местную ветвь Союза. Каждая ветвь имела свою кассу и свою «конспиративную» квартиру. Для заведывания ее делами выбирался небольшой комитет. Члены местного комитета были в то же время членами
 * Курсив мой.
* Курсив мой.
** Примечание ко второму изданию. Должен признаться, что ее автором был я сам.
118
Центрального кружка, который собирался через известные промежутки времени по общим делам Союза. В распоряжении Центрального кружка находилась особая касса, а также союзная библиотека. Центральная касса, как и местные кассы, пополнялась членскими взносами. Около времени второй стачки на Новой Бумагопрядильне в ней было рублей 150—200. Эта «свободная наличность», как выразился бы русский министр финансов, вся ушла на поддержку стачечников, но члены Союза исправно делали свои взносы, и потому пустою касса его никогда не оставалась. Что касается библиотеки, то ею особенно дорожил и гордился Союз. И действительно, она была самым ценным его достоянием. Составилась она частью из купленных рабочими, а больше из пожертвованных интеллигенцией книг. Собирались эти книги в течение целого года, и собирались так старательно, что едва ли хоть один гражданин «интеллигентной» республики Петрополя избежал неожиданного книжного налога. Много хламу подарила рабочим интеллигенция, но подарила не один хлам. По пословице «с миру по нитке — голому рубаха», у Союза образовался большой запас книг по различным отраслям знания. Число книг было так велико, что нельзя было хранить их в одной рабочей квартире. Вследствие этого библиотека была подразделена на несколько частей и развезена по различным рабочим кварталам. Каждый квартал имел своего библиотекаря, у которого был полный список всех принадлежавших Союзу книг. Если кто-нибудь из членов местной ветви выбирал по этому списку такое сочинение, которого не было в библиотеке данного квартала, то библиотекарь представлял заявленное требование очередному собранию Центрального кружка, и книга доставлялась из другого квартала. Благодаря такой постановке дела полиции все же не так легко было открыть существование библиотеки и «накрыть» ее обладателей. Пользовались книгами через посредство знакомых членов и не принадлежавшие к Союзу рабочие, но о существовании библиотеки, разумеется, не знали.
Практика скоро обнаружила главнейший недостаток новой организации. Союз, как целое, мог действовать только по решению Центрального кружка, собиравшегося раза два в неделю. Занятые работой и живущие в различных частях города, а иногда и за городом, члены Центрального кружка не могли встречаться чаще. Но в промежуток времени между двумя его собраниями могли совершиться события, требовавшие немедленного дей-
119
ствия со стороны Союза. Как поступить в таком случае, устав не говорил. Когда началась вторая стачка на Новой Бумагопрядильне, до очередного собрания Центрального кружка оставалось два дня. Халтурин, тотчас узнавший о ней, очутился в очень затруднительном положении: стачка легко могла быть подавлена полицией еще до очередного собрания; а между тем, чтобы обегать всех членов Центрального кружка и созвать их на чрезвычайное собрание (известно, что к почте русские революционеры по понятной причине прибегают очень неохотно), надо было тоже не менее двух дней. Замедление во всяком случае было неизбежно, и Халтурину пришлось на первое время ограничиться личными сношениями со стачечниками. Придать организации Союза бóльшую подвижность можно было лишь избранием особого распорядительного комитета, состоящего из небольшого числа лиц и имеющего право в важных случаях действовать по собственному усмотрению, не дожидаясь очередного собрания. К этой мысли, кажется, и пришли потом члены Союза.
Возникновению Союза нельзя было не радоваться даже с нашей тогдашней, народнической, точки зрения. Но программа его причинила нам немалое огорчение. В ней — о, ужас! — прямо было сказано, что рабочие считают завоевание политической свободы необходимым условием дальнейших успехов своего движения. Мы, презиравшие «буржуазную» свободу и считавшие ее опасной ловушкой, оказались в положении курицы, высидевшей утят. В особой заметке, посвященной обзору новой программы, редакция «Земли и воли» мягко, но решительно высказалась против неприятной ей рабочей ереси. В заметке повторены были те доводы, которые обыкновенно выставлялись народниками и бакунистами против «политики». Но членам Союза такие доводы уже перестали казаться убедительными. В ответ на заметку они прислали длинное письмо в редакцию, в котором говорили, что решительно не видят, как может успешно идти рабочее движение при отсутствии политической свободы и каким образом для рабочих может быть невыгодно приобретение ими политических прав *. Тяжело было народникам слышать от рабочих — и каких рабочих!— члены Союза составляли сливки революционного
 * К сожалению, у меня нет № 5 «Земли и воли», в котором появилось письмо рабочих, и окончания № 4, содержащего вышеупомянутую заметку редакции. Поэтому я указываю только на общий смысл поднявшейся полемики, который я очень хорошо помню,
* К сожалению, у меня нет № 5 «Земли и воли», в котором появилось письмо рабочих, и окончания № 4, содержащего вышеупомянутую заметку редакции. Поэтому я указываю только на общий смысл поднявшейся полемики, который я очень хорошо помню,
120
рабочего Петербурга — столь «буржуазные» рассуждения. Но еще тяжелее поразило их почудившееся им в письме презрение Союза к крестьянству. Дело в том, что, защищая свое требование политической свободы, авторы письма сказали, между прочим, что ведь они, рабочие, не Сысойки *. Это выражение истолковано было революционной интеллигенцией в смысле кичливого презрения к крестьянству. Но правильно ли было подобное истолкование? Конечно, нет. Слова — «мы не Сысойки» свидетельствовали только о том, что русские рабочие уже тогда стояли бесконечно выше того «простонародья», на которое ссылались все социалисты — противники политической свободы. С давних пор наши социалисты из «интеллигенции» утверждали, что как у нас в России, так и за границей «простонародью» не нужно свободы печати, потому что книг и газет оно не читает и, следовательно, цензурным уставом не интересуется; что ему не нужно политических прав, потому что, задавленное бедностью, оно политической жизнью своей страны не интересуется; что его интересы затрагиваются только экономическими порядками, политические же формы для него безразличны и т. п. и т. п. Так рассуждал иногда еще Чернышевский и так же рассуждали мы, когда предостерегали рабочих от увлечения политикой. Но развитому рабочему очень трудно было согласиться с нами. «Как же это так? Простому человеку не нужно свободы печати, потому что он ничего не читает; не нужно политических прав, потому что он не интересуется борьбою политических партий! Что же хорошего в простом человеке, отличающемся подобными отрицательными свойствами? Ведь это дикарь-Сысойка! И ведь пока простонародье будет состоять из дикарей-Сысоек, социализм останется несбыточной мечтою! Простонародье должно читать, а потому оно должно добиваться свободы печати; оно должно интересоваться политическими делами своей страны, а потому оно должно добиваться политических прав; оно должно иметь свои союзы и собрания, а потому оно должно добиваться свободы союзов и собраний. И не только должно. Оно отчасти уже читает книги, уже чувствует потребность в союзах и собраниях, уже стремится выступить на политическую арену. Оно уже переросло дикарей-Сысоек. Мы, рабочие, уже не таковы, каким воображают народ его
 * Примечание ко второму изданию. Сысойка — герой известного романа Решетникова «Подлипов-цы» — был, как известно, совсем диким человеком, пока оставался в своей деревне.
* Примечание ко второму изданию. Сысойка — герой известного романа Решетникова «Подлипов-цы» — был, как известно, совсем диким человеком, пока оставался в своей деревне.
121
интеллигентные доброжелатели. Доказательством этому служит наше собственное движение. Но все это только начало. Если мы хотим идти вперед, нам непременно нужно сбить заграждающие наш путь полицейские рогатки!» Вот смысл ответного письма Союза и в особенности слов: «мы не Сысойки». Может быть, авторы письма не вполне выяснили его себе тогда со всех сторон; может быть, Сысоек они упомянули не затем, чтобы одним метким словом характеризовать тот идеальный «народ», который бунтари готовы были противопоставлять будто бы зараженному буржуазным духом петербургскому пролетариату. Но характеристика все-таки была дана, хотя бы и не преднамеренно. Северно-Русский рабочий союз сознавал, что он состоит не из Сысоек. И именно это сознание свидетельствовало об его политической зрелости.
Как бы там ни было, будущий историк революционного движения в России должен будет отметить тот факт, что в семидесятых годах требование политической свободы явилось в рабочей программе раньше, чем в программах революционной интеллигенции *. Это требование сближало Северно-Русский рабочий союз с западноевропейскими рабочими партиями, придавало ему социал-демократическую окраску. Говорю — окраску, потому что вполне социал-демократической программу Союза признать было бы невозможно. В нее вошла немалая доза народничества. Этой прилипчивой болезни трудно было избежать в России, да притом авторы программы, разойдясь с нами по коренному вопросу о политической свободе, не чужды были, кажется, желания позолотить пилюлю, порадовав нас целой кучей народнических требований.
Напечатанная в виде отдельного листка программа Союза не была, к сожалению, перепечатана ни в одном революционном издании. Найти ее теперь можно было бы только в архивах покойного Третьего отделения. Говоря о ней на память, я, разумеется, не могу входить ни в какие подробности 48.
Известие об основании Союза радостно встречено было рабочими всюду, куда оно проникло. Варшавские рабочие приветствовали петербургскую организацию ад-
 * Примечание ко второму изданию. Говоря это, я имею в виду наиболее деятельную и наиболее влиятельную часть тогдашней революционной интеллигенции: народников. Кроме народников, были тогда полулибералы, толковавшие о политической свободе. Они издавали «Начало», но влияния они не имели.
* Примечание ко второму изданию. Говоря это, я имею в виду наиболее деятельную и наиболее влиятельную часть тогдашней революционной интеллигенции: народников. Кроме народников, были тогда полулибералы, толковавшие о политической свободе. Они издавали «Начало», но влияния они не имели.
122
ресом, в котором говорили, что пролетариат должен быть выше национальной вражды и преследовать общечеловеческие цели. Союз отвечал им в том же духе, выражал надежду на скорую победу над общими врагами и заявлял, что не отделяет своего дела от дела рабочих всего мира. Это был едва ли не первый пример дружеских сношений русских рабочих с польскими.
Союз не думал ограничивать поле своей деятельности одним Петербургом. Самое название его (Северно-Русский союз) принято было лишь на время, лишь до тех пор, пока не пристанут к нему рабочие провинциальных городов. Идеалом вожаков Союза была единая и стройная всероссийская рабочая организация.
V
Что представляли тогда собою провинциальные рабочие? Насколько коснулось их революционное движение? Читатель знает, что пропаганда между рабочими считалась народнической интеллигенцией побочным делом, что ее революционные программы никогда не отводили рабочему классу самостоятельной роли. Главные силы интеллигентных революционеров направлялись на крестьянскую массу. Отсюда вытекали такого рода, на первый взгляд странные, явления.
Как промышленный центр, Москва почти не уступает Петербургу. Но в Петербурге происходило значительное рабочее движение, в Москве оно было слабее, чем в Киеве или в Одессе. «Рабочее дело» всегда было обязано своими успехами случайным причинам. Центром северно-русских революционных организаций интеллигенции являлся Петербург. Там всегда было много свободных революционных сил. И уже одного этого было достаточно, чтобы там началась пропаганда между рабочими. Из Москвы революционные силы стремились в Петербург или даже в большие города юга. В Москве «рабочее дело» могло бы начаться только в том случае, если бы ему придавалось самостоятельное значение. Но это условие отсутствовало, поэтому и было слабо в Москве «рабочее дело».
В Саратове очень мало была развита фабрично-заводская промышленность; тамошние рабочие были по преимуществу мелкими ремесленниками, а между тем в 1877—1878—1879 гг. там постоянно жил то тот, то другой «землеволец», занимавшийся исключительно пропагандой между рабочими. Владимирская губерния усеяна
123
фабриками, ее население местами сплошь состоит из фабричных рабочих, но никому из землевольцев и в голову не пришло поселиться во Владимирской губернии. Отчего это? Понятно отчего! Поволжье считалось местностью, в которой крестьянство еще сохранило свои революционные «предания». Поэтому оно избрано было главной ареной «бунтарской» деятельности. В Самарской, в Саратовской, в Астраханской губерниях заводились «поселения в народе», Саратов был главной квартирой действовавших в «народе» землевольцев. Поэтому они считали полезным и нужным обеспечить себе поддержку со стороны его рабочего населения: когда поднимется поволжское крестьянство, пригодятся и саратовские ремесленники. Во Владимирском же промышленном округе торжествовал капитализм, в этой несчастной местности с незапамятных времен прекратились значительные крестьянские движения, в ней умерли народные «предания», исказились народные «идеалы». Поэтому ходить туда землевольцам было незачем. Призрак оказался сильнее действительности. Мертвый схватил живого — по известному французскому выражению. Постоянно мелькавшие в воображении бунтарей тени Разина и Пугачева больше влияли на распределение революционных сил, чем действительный ход русского экономического развития.
До какой степени ошибались бунтари в оценке живых сил народа, может показать следующий замечательный факт. В 1878 г. землевольцы много толковали о том, чтобы проникнуть в Ярославскую губернию. Вы подумаете, может быть, что их почему-либо привлекало к себе тамошнее рабочее население. Совсем нет, о тамошних рабочих они забыли и думать. Тут была другая и уж поистине более тонкая причина. Из «Сборника правительственных сведений о раскольниках» Кельсиева землевольцы узнали, что в Ярославской губернии процветала когда-то секта бегунов. Один бунтарь «слышал» даже, что и теперь существуют бегуны в одном селе Ярославской губернии. Вот и думали снарядить экспедицию для их изловления. Но бегун потому и называется бегуном, что вечно бегает. Изловить его не так легко, как «поселиться» среди мирно живущего под игом своих «идеалов» крестьянства. Увидя, что подступа к ярославским бегунам не имеется, бунтари махнули рукой на Ярославскую губернию. Интересоваться ею из-за одних рабочих не позволяла программа.
В тех же провинциальных городах, где интеллиген-
124
ция по тем или другим причинам находила нужным шевелить трудящееся население, рабочие кружки непрерывно существовали с самого начала семидесятых годов. Иногда их разбивала полиция, иногда, вяло поддерживаемые интеллигенцией, занятой другим делом, они действовали очень вяло, но в общем почва для революционной рабочей организации была и в провинции подготовлена довольно хорошо.
В Одессе рабочая масса настолько сочувствовала революционерам, что во время суда над Ковальским (я июле 1878 г.) она принимала деятельное участие в демонстрации перед зданием суда *. Относительно Харькова у нас есть любопытное свидетельство местного губернатора. «Социальные учения, — писал он в своем «всеподданнейшем» отчете за 1877 г., — к счастью и несмотря на делаемые многочисленные попытки со стороны злоумышленников, можно сказать, вовсе еще не проникли в среду сельского населения, остающегося верным началам религии, нравственности и порядка. Нельзя того же сказать о низшем классе городского населения, которое, подкапываемое социальными учениями, во многом утратило прежнюю неприкосновенность религиозных верований и патриархальности семейных отношений. Класс фабричных рабочих, весьма многочисленный в Харькове **, требует усиленного надзора и не представляет залогов устойчивости против распространения новых учений. В среде этого населения революционная пропаганда встречает постоянное сочувствие, и в случае какого-либо движения в смысле перехода от теории к действию класс харьковских рабочих в огромном большинстве своем не представит отпора возмутителям. В этом
 * См. статью «Одесса во время суда над Ковальским» в № 2 «Земли и воли». «Из пяти дней судебного разбирательства три выпали на долю праздничных, когда народ не работает,— говорит автор этой статьи. — Это обстоятельство в значительной степени содействовало скоплению публики у здания суда». Как вела себя эта в значительной степени рабочая публика, читатель может видеть из той же статьи. Я приведу из нее только один эпизод. Когда войска оттеснили толпу от суда, часть ее направилась к приморскому бульвару. «На бульваре аристократия сибаритничала за столами, уставленными напитками и яствами. — Сволочь! — обратился один рабочий к благодушествующим,— вы объедаетесь и опивае-тесь в ту минуту, когда осуждают людей на смертную казнь! Палачи предают смерти одного из лучших сынов русской земли, а вы любуетесь прекрасными видами! Будьте вы прокляты!» Это было сказано среди бела дня, под солдатскими ружьями и казацкими пиками.
* См. статью «Одесса во время суда над Ковальским» в № 2 «Земли и воли». «Из пяти дней судебного разбирательства три выпали на долю праздничных, когда народ не работает,— говорит автор этой статьи. — Это обстоятельство в значительной степени содействовало скоплению публики у здания суда». Как вела себя эта в значительной степени рабочая публика, читатель может видеть из той же статьи. Я приведу из нее только один эпизод. Когда войска оттеснили толпу от суда, часть ее направилась к приморскому бульвару. «На бульваре аристократия сибаритничала за столами, уставленными напитками и яствами. — Сволочь! — обратился один рабочий к благодушествующим,— вы объедаетесь и опивае-тесь в ту минуту, когда осуждают людей на смертную казнь! Палачи предают смерти одного из лучших сынов русской земли, а вы любуетесь прекрасными видами! Будьте вы прокляты!» Это было сказано среди бела дня, под солдатскими ружьями и казацкими пиками.
** Это неверно, фабричных рабочих вовсе было тогда немного в Харькове, но не в том дело,
125
отношении заслуживают особого внимания подслушанные агентом полиции в среде фабричного населения разговоры об обременительности податей, о неизвестности, на что и куда тратятся деньги, забираемые с народа, о бесконтрольности правительства и тому подобные суждения, не слыханные в простом народе еще несколько лет тому назад. Конечно, свобода суждений повременной печати могла частью навеять подобные мысли, но несомненно, что главные виновники подобного настроения фабричного населения это — распространители революционной пропаганды, усиленно работающие между фабричными города Харькова. Вообще политическое состояние губернии, спокойное в отношении массы сельского населения, поместного дворянства и вообще владельцев недвижимой собственности, весьма тревожно в отношении низших классов городского населения, учащейся молодежи и тех подонков общества, не имеющих ничего терять, которые столь многочисленны в больших городах» *. В отчете екатеринославского губернатора за 1879 г., наверное, заключались столь же резкие выражения по адресу «низшего класса населения» Ростова-на-Дону. Известно, что у ростовской полиции были в том году большие неприятности с рабочими,
Дело было так. Не помню точно, в какой день праздника пасхи, полицейские схватили на базаре подгулявшего рабочего и потащили его в часть, не жалея, как водится, пинков и подзатыльников. «Братцы, заступитесь, — закричал рабочий покрывавшему базарную площадь народу,— изувечат меня в части!» Народ зашевелился; довольно значительная группа рабочих последовала за уводившими арестованного полицейскими, прося их отпустить его. Те отвечали ругательствами и, вве-
 * См. «Извлечение из всеподданнейшего отчета харьковского губернатора за 1877 г.» в № 2 «Земли и воли». «Подслушанные агентом полиции «толки» о бесконтрольности правительства» и т. д, показывают, что и харьковская рабочая среда начинала сознавать значение политических прав и политической свобо-ды. Казалось бы, что нашим либералам нужно было прежде всего искать опоры п подобной среде. Но они, по крайней мере многие из них, ни о чем так охотно не рассуждают, как о незрелости и непригодно-сти русского рабочего класса к борьбе за политическую свободу. Удивительно проницательные и глубо-комысленные люди!
* См. «Извлечение из всеподданнейшего отчета харьковского губернатора за 1877 г.» в № 2 «Земли и воли». «Подслушанные агентом полиции «толки» о бесконтрольности правительства» и т. д, показывают, что и харьковская рабочая среда начинала сознавать значение политических прав и политической свобо-ды. Казалось бы, что нашим либералам нужно было прежде всего искать опоры п подобной среде. Но они, по крайней мере многие из них, ни о чем так охотно не рассуждают, как о незрелости и непригодно-сти русского рабочего класса к борьбе за политическую свободу. Удивительно проницательные и глубо-комысленные люди!
Примечание ко второму изданию. Так было до недавнего времени; так остается, пожалуй, и теперь, но теперь есть некоторые основания думать, что скоро передовая часть нашей буржуазии радикально изменит свое отношение к политическому движению рабочих. Она постарается подчинить его своему влиянию. Понятно, это не в интересах социал-демократов,
126
дя арестованного в здание части, принялись колотить его не на живот, а на смерть. Услыхав его отчаянные крики, эта группа стала бросать камни в окна и ломиться в ворота частного дома. Группа быстро разрослась в толпу. Кто-то крикнул, что следует разнести всю часть. Сделать это было не так-то легко: ее крепкие ворота были заперты, а в окнах нижнего этажа стояли городовые с обнаженными шашками и револьверами. Начался правильный приступ. Несколько дюжих молодцов притащили откуда-то огромное бревно; толпа поняла их мысль, бревно схватили десятки рук; распевая «дубинушку», им стали действовать как тараном, и через несколько минут ворота были выбиты. Народ ворвался в часть. Полицейские, которые успели тем временем сделать несколько выстрелов в нападавших, моментально скрылись. В самое короткое время часть была разнесена. Покончив с нею, толпа бросилась на другие полицейские части, потом опустошила квартиры полицеймейстера и некоторых квартальных. О сопротивлении ей никто не думал. Полуживой от страха полицеймейстер прятался в Нахичевани, а военные власти Ростова не уверены были даже в том, что им удастся оборонить банк и острог (где сидело несколько «политических»). Разумеется, полетели телеграммы к губернатору; из Новочеркасска двинулись для усмирения казаки, а в Таганроге стала готовиться к выступлению артиллерия *. Но пока что город был в руках «бунтовщиков».
Я приехал в Ростов на другой же день после «разнесения» частей и видел все его следы. Невозможно представить себе картину более полного опустошения. В зданиях частей выломаны были полы, выбиты стекла с рамами и двери с притолоками, разрушены печи, попорчены дымовые трубы и крыши. И на далекое расстояние мостовая, усеянная обломками мебели, покрыта была, как снегом, мелкими клочками разорванных полицейских бумаг.
 — Какая дикость! — воскликнет иной благовоспитанный читатель. Пожалуй, — дикость. Но ведь противодействие равняется действию, и странно удивляться, что дикий произвол полиции вызывает дикую подчас ярость народа.
— Какая дикость! — воскликнет иной благовоспитанный читатель. Пожалуй, — дикость. Но ведь противодействие равняется действию, и странно удивляться, что дикий произвол полиции вызывает дикую подчас ярость народа.
* Вскоре после этого я познакомился с одним из стоявших в Таганроге артиллерийских офицеров. «У нас офицеры говорили, что они не станут стрелять в народ», — сказал мне мой новый знакомый. Не знаю, как другие, а этот человек не ограничился бы словами. Впоследствии он делом доказал свое сочув-ствие революционерам.
127
А в то же время заметьте, что эта разъяренная толпа умела вполне сохранить свое достоинство. Никто из опустошителей не позволил себе взять ничего из уничтожаемого имущества полицейских. Это тогда же подтверждено было всеми очевидцами. Только когда стали «разносить» дом полицеймейстера и выкинули на улицу несколько штук прекрасного полотна, какой-то солдат попросил себе кусок на рубаху. Толпа удовлетворила просьбу «служивого», тут же уничтожив весь остаток.
Еще одна интересная черта. Разбивши одну часть и направляясь к другой, толпа проходила мимо еврейской синагоги. Мальчик кинул камень в ее окно. Его сейчас же остановили. «Не трогай жидов, — сказали ему, — нужно бить не жидов, а полицию».
Настоящая дикость выступила на сцену только ночью в лице многочисленных в Ростове «босяков». Буйно провела эту ночь и вдоволь потешилась ростовская «босая команда»! Обрадовавшись отсутствию полиции, она прежде всего поспешила разграбить питейные дома, а потом, напившись до беспамятства, обрушилась на публичные дома и стала бить несчастных проституток. Явившиеся на следующее утро войска положили конец этим безобразиям, в которых рабочие совсем не участвовали и которыми они возмущались до такой степени, что и без прихода войск их антиполицейское движение, вероятно, прекратилось бы в силу естественной реакции против подвигов «босой команды».
Несмотря на такой неожиданно плачевный оборот ростовской «революции», воспоминание о ней долго еще ободряло рабочих, как наглядный пример того, что народ может дать хороший урок даже и всемогущей в России полиции.
Мне рассказывали, что, когда слух о «разнесении» ростовской полиции дошел до углекопов донецких копей, они двинулись отрядом в 150—200 человек на помощь ростовцам, но дорогой узнали о восстановлении «порядка» и поспешили возвратиться домой. За достоверность этого слуха я совсем не ручаюсь.
Что касается существовавших в провинциальных городах революционных рабочих кружков, то лично я знал такие кружки в Ростове, Саратове, Киеве и Харькове. По составу своему они были гораздо разнообразнее, смешаннее петербургских. В них попадались члены, по развитию и по высокому уровню потребностей не уступавшие петербургским заводским рабочим, но рядом с ними попадались и совсем «серые», иногда неграмотные.
128
Нередко преобладали в них мелкие самостоятельные ремесленники, и притом не подмастерья, а именно хозяева. В Петербурге я совсем не встречал подобных последователей социализма и чувствовал себя в странном положении, когда, случалось, революционер-хозяин советовал мне остерегаться его работника, как ненадежного человека. «Да ведь ты сам эксплуататор, ведь на тебя два рабочих трудятся»,— шутил иногда со своим приятелем-портным переехавший из Петербурга в Саратов «заводской» В. Я. Портной конфузился. «Да что же делать-то, брат ты мой? Я и сам не рад, что теперь такие порядки, а жить-то тож надо. Вот придет революция, тогда уж не буду „эксплуататором"».
Мне хотелось допытаться, откуда берется недовольство у людей этого слоя, какая из темных сторон их положения яснее всего отражается в их сознании. «Очень уж нас притесняет дума, все городские расходы на нас, бедняков, сваливает»,— объяснил мне один ростовский мещанин, горячий революционер, имевший свою кузницу и нескольких подмастерьев. Возможно, что и многие другие ремесленники-революционеры были разбужены прежде всего безобразиями нашего городского «самоуправления».
«Чарочка», «пьянка», к сожалению, слишком привлекательны иногда для русских ремесленников. В этом отношении они далеко оставляют за собою фабричных и заводских рабочих, у которых я редко замечал склонность к сильному злоупотреблению спиртными напитками.
На Волге и на Дону между рабочими-революционерами попадались люди, прежде придерживавшиеся раскола. Раскол не имеет, да и никогда не имел, серьезного значения как оппозиционная общественная сила. Часто он действует прямо вредно, приучая человека к обрядности, к буквоедству, отвлекая его мысль от земных нужд к небесному блаженству *. Но тяжелый жизненный опыт и потребность в чтении научили раскольников не бояться запрещенной книги и уважать людей, страдающих за свои убеждения. Землевольцы «спропагандировали» на Волге молодого бегуна, очень способного парня. По их просьбе он написал воспоминания о своей жизни между раскольниками. Из этих воспоминаний я как сейчас помню то место, где он рассказывает о своей
 * Примечание ко второму изданию. Маркс недаром называл религию опиумом народа и говорил, что критика религии естественно превращается в критику общественных отношений.
* Примечание ко второму изданию. Маркс недаром называл религию опиумом народа и говорил, что критика религии естественно превращается в критику общественных отношений.
129
встрече с ссыльными поляками. Совсем еще ребенком ехал он с отцом из Тюмени в одну из внутренних губерний Европейской России. На дороге столкнулись они с партией поляков. «Что это за люди?» — спросил мальчик отца. «А это, мой милый, поляки; их гонит царь не хуже нас грешных. Много горя принимают они от правительства». Эта способность сочувствовать политическому «преступнику» уже сама по себе может послужить залогом сближения с таким «преступником», а потом — при благоприятных условиях — и полного усвоения его образа мыслей. И это тем более, что между раскольниками встречаются страстные и беспокойные искатели истины, не способные надолго удовлетвориться сектантской догматикой. Я знал одного бывшего раскольника, который уже пятидесятилетним стариком пристал к революционной партии. Этот человек всю жизнь «ходил по верам», забредал даже в Турцию, ища между тамошними раскольниками «настоящих людей» и «настоящей правды», и, наконец, нашел искомую правду в социализме, распростясь навсегда с небесным царем, и всей душой возненавидел царя земного. Я не встречал более страстного, более неутомимого проповедника. Часто вспоминал он, бывало, о каком-то расколоучителе, очевидно имевшем на него прежде сильное влияние. «Эх, кабы мне теперь встретить его,— восклицал он,— я бы объяснил ему, что есть истина!» Он был душою рабочего кружка (где именно, не скажу, «страха ради иудейска»), и его нельзя было запугать никакими преследованиями. Он с самых юных лет знал, что хорошо «принять мученический венец» за свои убеждения. Кончил он Сибирью.
Повторяю, всюду, где интеллигенция давала себе труд сходиться с провинциальными рабочими, она могла похвалиться очень заметным успехом. А если бы делу сближения с рабочими она посвятила хоть половину тех сил и средств, которые потрачены были на «поселения» и на разные агитационные опыты в крестьянстве, то к концу семидесятых годов социально-революционная партия твердо стояла бы уже на русской почве. Рабочие охотно шли навстречу интеллигенции*. И в Харькове, и
 * В шестидесятых годах в Саратове жил под надзором полиции впоследствии оставивший Россию А. X. Христофоров. Он сблизился со многими местными рабочими. Они долго помнили его. В 1877 г. они рассказывали нам, землевольцам, что со времени его пребывания в Саратове в местной рабочей среде ни-когда не потухала зароненная им искорка революционной мысли. Люди, никогда не знавшие его лично, вели от него свою умственную родословную. Такой глубокий след оставляет в этой среде всякое доброе влияние!
* В шестидесятых годах в Саратове жил под надзором полиции впоследствии оставивший Россию А. X. Христофоров. Он сблизился со многими местными рабочими. Они долго помнили его. В 1877 г. они рассказывали нам, землевольцам, что со времени его пребывания в Саратове в местной рабочей среде ни-когда не потухала зароненная им искорка революционной мысли. Люди, никогда не знавшие его лично, вели от него свою умственную родословную. Такой глубокий след оставляет в этой среде всякое доброе влияние!
130

С. Н. Халтурин.
в Киеве, и в Ростове-на-Дону мне постоянно приходилось слышать одни и те же жалобы, одни и те же просьбы: «интеллигенция забывает о нас; займитесь рабочим делом; пришлите из Петербурга хоть нескольких знающих, ловких людей, — вы увидите, как пойдет оно в нашем городе».
Ввиду этого как нельзя более своевременным являлось намерение Центрального кружка Северно-Русского рабочего союза войти в правильные сношения с провинциальными рабочими. Между его членами были люди, которые и по знаниям, и по энергии, и по опытности могли поспорить с любым «интеллигентом», Таков был, например, Степан Халтурин.
Я уже несколько раз упоминал его имя, занимающее одно из самых почетных мест в истории русского революционного движения. Пора поближе познакомить читателя с этой замечательной личностью.
VI
Степан Халтурин родился в Вятке. Его родители, бедные мещане, посылали его в детстве в какую-то школу, а затем отдали в учение к столяру. В начале семидесятых годов он приехал в Петербург, где скоро нашел место на заводе. Не знаю, когда именно и при каких обстоятельствах захватило его революционной волной, но в 1875—1876 гг. он был уже деятельным пропаганди-
131
стом. Если не ошибаюсь, в первый раз я встретился с ним дня за два до описанных в первой статье похорон убитых взрывом рабочих патронного завода. Я был в числе «бунтарей», приглашенных принять участие в задуманной по этому поводу демонстрации, он — в числе рабочих, подготовлявших демонстрацию. Он был из тех людей, наружность которых не дает даже приблизительно верного понятия об их характере. Молодой, высокий и стройный, с хорошим цветом лица и выразительными глазами, он производил впечатление очень красивого парня; но этим дело и ограничивалось. Ни о силе характера, ни о выдающемся уме не говорила эта привлекательная, но довольно заурядная наружность. В его манерах прежде всего бросалась в глаза какая-то застенчивая и почти женственная мягкость. Говоря с вами, он как будто и конфузился, и боялся обидеть вас некстати сказанным словом, резко выраженным мнением. С его губ не сходила несколько смущенная улыбка, которою он как бы заранее хотел сказать вам: «я так думаю, но если это вам не нравится, прошу извинить». Такими манерами отличались иногда в доброе старое время молодые, благовоспитанные провинциалы на первых шагах своей светской карьеры. Но к рабочему она мало подходила, и во всяком случае не она могла убедить вас в том, что вы имеете дело с человеком, который далеко не грешил излишней мягкостью характера и недостатком самоуверенности.
Близко сойтись с ним можно было только на деле. Рабочему вообще некогда вдаваться в те бесконечные собеседования, которыми любит услаждаться «за чаем» «интеллигентная» публика и в которых собеседники выворачивают друг перед другом всю свою душу. Степан же в особенности не любил душевных излияний. Хотя во внешнем обращении застенчивость его исчезала при более близком знакомстве с человеком, однако она всегда держала его настороже, делая для него совершенно невозможным то нравственное состояние, которое обозначается словами: «душа нараспашку». Побеседовать и он был не прочь и притом не только со своим братом рабочим, но и с «интеллигентами». Пока он был легальным, он даже охотно селился по соседству со студентами и искал их знакомства, заимствуясь у них книгами и всякого рода сведениями. Нередко за полночь засиживался он у таких соседей. Но и там он мало высказывался. Придет и поднимет разговор на какую-нибудь теоретическую тему. Хозяин оживится, обрадованный случаем
132
просветить темного рабочего человека, говорит долго, вразумительно и по возможности «популярно», а Степан слушает, лишь изредка вставляя свое слово и внимательно, несколько исподлобья, посматривая на собеседника своими умными глазами, в которых по временам появляется выражение добродушной насмешки. В его отношении к студентам всегда была некоторая доля юмора, пожалуй, даже иронии: знаю, мол, я цену вашему радикализму, пока учитесь, все вы — страшные революционеры, а кончите курс да получите местечки, и как рукой снимет ваше революционное настроение! Подсмеивался он также над студенческим трудолюбием. «Видел я, как они работают, — говаривал он, — разве это работа! Посидит часа два на лекциях, почитает час-другой книжку, — и готово, иди в гости чай пить и разговоры разговаривать!» К рабочим он относился совсем иначе, подшучивать над ними не позволял ни себе и никому другому, в особенности «интеллигенции». Как огонь вспыхивал он, когда «интеллигент» делал при нем какой-нибудь не совсем лестный отзыв о рабочих. В рабочих он видел самых надежных, прирожденных революционеров и ухаживал за ними, как заботливая нянька: учил, доставал книги, «определял к местам», мирил ссорившихся, журил виноватых. Его очень любили товарищи. Он знал это и платил им еще большей любовью. При всем том не думаю, чтобы и в обращении с ними его покидала привычная сдержанность. Не знаю, как вел он себя с теми рабочими, которых привлекал к делу в революционных беседах с глазу на глаз. Может быть, тогда он и давал волю всему, что кипело у него на душе. Но на кружковых рабочих собраниях он говорил редко и неохотно. Только в тех случаях, когда дело не клеилось, когда собравшиеся говорили что-нибудь несообразное или уклонялись от предмета сходки, Степан прорывался. Краснобаем он не был, — иностранных слов, которыми любят щеголять иные рабочие, никогда почти не употреблял, но говорил горячо, толково и убедительно. Его речью и исчерпывались обыкновенно прения. И не потому, чтобы его выдающаяся личность давила окружающих. Между петербургскими рабочими были люди не менее его знавшие и способные, были люди, больше его видавшие на своем веку, пожившие за границей. Тайна огромного влияния, своего рода диктатуры Степана заключалась в неутомимом внимании его ко всякому делу. Еще задолго до сходки он переговорит со всеми, ознакомится с общим настроением, обдумает воп-
133
рос со всех сторон и потому, естественно, оказывается наилучше подготовленным. Он выражал общее настроение. То, что говорил он, сказал бы, вероятно, каждый из его товарищей, но они не так вдумчиво отнеслись к делу, — иные по лености, иные потому, что заняты были другими, может быть, даже гораздо более важными делами, а Степан ни к чему не мог относиться невнимательно. Не было такой ничтожной практической задачи, решение которой он беззаботно предоставил бы другим. Он приходил на собрание с совершенно установившимся взглядом на подлежавший обсуждению вопрос. Потому-то с ним и соглашались. А с другой стороны, потому-то он и досадовал, потому-то он и горячился, когда прения затягивались без толку. «Ведь это же все так просто, — говорило его выразительное лицо, — неужели же вас могут затруднять подобные пустяки?»
Халтурин отличался большою начитанностью *. Это вызывало невольное уважение к нему, но и эта черта не могла особенно удивить человека, знавшего заводских рабочих: страстные любители чтения вовсе не были редкостью между ними. При ближайшем знакомстве оказывалось, однако, что и читал Степан так, как умеют читать только немногие. Он всегда хорошо знал, зачем именно раскрывал такую-то книгу. К тому же мысль постоянно шла у него рука об руку с делом. У него, например, вовсе не было того интереса к естественным наукам, который замечается у многих рабочих. Все внимание его было поглощено общественными вопросами, и все эти вопросы, как радиусы из центра, исходили из одного коренного вопроса о задачах и нуждах нарождавшегося русского рабочего движения. О чем бы ни читал он — об английских ли рабочих союзах, о великой ли революции, или о современном социалистическом движении, — эти нужды и задачи никогда не уходили из его поля зрения. По тому, что читал Халтурин в данное время, можно было судить о том, какие практические планы шевелятся в его голове. Еще задолго до организации Северно-Русского рабочего союза он принялся изучать европейские конституции.
— Что это ты на них набросился? — спрашивали его.
— Да что же, ведь это интересно, — отвечал он.
Программа Союза лучше его объяснила, почему он набросился на конституции: он обдумывал политическую
 * Примечание ко второму изданию. Он читал гораздо прилежнее и больше, чем огромное большин-ство известных мне тогда революционеров-практиков из «интеллигенции».
* Примечание ко второму изданию. Он читал гораздо прилежнее и больше, чем огромное большин-ство известных мне тогда революционеров-практиков из «интеллигенции».
134
программу русских рабочих. В умственном труде, как и во всем остальном, Халтурин был силен умением сосредоточиться на данном предмете, не отвлекаясь от него ничем посторонним. Ум его до такой степени исключительно поглощен был рабочим вопросом, что ему едва ли когда случалось заинтересоваться пресловутыми «устоями» крестьянской жизни. Он знакомился с интеллигентами, слушал их толки об общине, о расколе, о «народных идеалах», но народническое учение так и осталось для него чем-то почти совсем чуждым.
— Что ты пишешь теперь?— спросил он меня незадолго до своего поступления в Зимний дворец. Я ответил, что пишу разбор одной только что вышедшей книги по истории общинного землевладения. Это была очень серьезная книга, лично мне оказавшая огромную услугу, так как она впервые и очень сильно поколебала мои народнические воззрения, хотя я и спорил еще против ее выводов. Я был сильно заинтересован ею и подробно изложил Степану ее содержание. Он долго слушал, а потом вдруг сразил меня неожиданным вопросом: «Да неужели это действительно так важно?» Община занимала самый почетный, передний угол в моем народническом миросозерцании, а он даже не знал хорошенько, стоит ли из-за нее ломать литературные копья!
Нелегко было бы мне теперь определить его тогдашние социально-политические взгляды. Тогда я сам смотрел на вещи далеко не так, как смотрю в настоящее время. Могу сказать одно: в сравнении с нами, землевольцами, Халтурин был крайним западником. Западничество развивалось и поддерживалось в нем как общими условиями исключительно интересной для него рабочей жизни столицы, так, может быть, отчасти и некоторыми случайными влияниями. С лавристами он познакомился раньше, чем с бунтарями, а лавристы умели, как уже сказано, возбудить в рабочих интерес к немецкому социал-демократическому движению. К тому же двое из близких товарищей Степана долго работали за границей, и западное влияние распространялось через них как лично на него, так и на весь Союз.
В Петербурге родственников у Степана не было. Жил он всегда одиноко, занимая небольшую комнатку на манер студенческой кельи. К обстановке и одежде своей он относился с равнодушием, достойным самого «интеллигентного» нигилиста. Высокие сапоги, широкое, слишком длинное даже для его высокого роста пальто, на котором недостает нескольких пуговиц, довольно не-
135
уклюжая черная меховая шапка,— вот в каком костюме воскресает он теперь в моем воображении. Особого наряда для воскресенья у него, вопреки обычаю всех заводских рабочих, не полагалось. Разговорясь о деле где-нибудь в трактире или в портерной, он охотно выпивал бутылку-другую пива, но вряд ли когда принимал участие в веселых товарищеских пирушках. Других рабочих мне случалось иногда встречать подкутившими. Его — никогда.
И, однако, этот сдержанный, практичный человек был, если хотите, большим мечтателем. Его мечты постоянно и далеко опережали действительные успехи русского рабочего движения. Довольно долго мечтал он об одновременной стачке всех петербургских рабочих. Такая мечта была, разумеется, несбыточной. Но и она принесла свою пользу: Степан неутомимо носился из одного предместья в другое, везде заводил знакомства, везде собирал сведения о числе рабочих, о заработной плате, о продолжительности рабочего дня, о штрафах и т. д. Его присутствие везде действовало возбуждающим образом, а сам он приобретал новые драгоценные сведения о положении рабочего класса в Петербурге. Задавшись мыслью о всеобщей стачке, он по своему обыкновению стал искать подходящих указаний в книгах. Ему нужно было узнать численность петербургского рабочего населения. Но статистика очень мало дала ему в этом отношении. «Удивительное дело, — не раз говорил он мне, — статистические данные о петербургских фабриках и заводах совсем никуда не годятся. Там, где на самом деле триста рабочих, их показано пятьдесят, там, где пятьдесят,— записано сто или двести. И вообще в Петербурге несравненно больше рабочих, чем считает статистика». Как же помочь горю? «Мы сами соберем нужные данные лучше всяких статистиков», — решил Степан и принялся разносить по фабрикам и заводам особые листки, требуя от знакомых рабочих, чтобы те вписывали точные ответы на поставленные в листках вопросы. Конечно, не все отвечали обстоятельно, многие и вовсе забывали ответить. Но через короткое время у Степана все-таки собралось множество данных. Относительно некоторых фабрик он хвалился мне, что ему удастся точно высчитать все расходы и все доходы хозяев и таким образом определить степень эксплуатации работников. Относящиеся сюда выводы он собирался напечатать в отдельной брошюре.
Очень увлекался он также мечтами о будущей все-
136
российской рабочей организации. Когда он заговаривал о ней, собеседнику под влиянием его горячей веры невольно начинало казаться, что препятствия уже устранены, связи повсюду заведены, организация существует и остается только работать для ее дальнейшего развития. Но и в этих мечтах не было ничего маниловского. Еще летом 1878 г., за несколько месяцев до основания Северного союза, Халтурин отправился на Волгу, переходил там с завода на завод и вступил в тесные сношения с тамошними рабочими. Собирался он пробраться и на Урал, но петербургские товарищи убедили его вернуться в Петербург. Он там был слишком нужен.
Тотчас по основании Северного союза возникла мысль об издании рабочей газеты. Автор статьи «Пребывание Халтурина в Зимнем дворце» * приписывает эту мысль исключительно Степану. Он ошибается. Кому принадлежала мысль об издании «Земли и воли»? Всем землевольцам вообще и никому в частности. То же приходится сказать и относительно предполагавшегося издания рабочей газеты. Потребность в ней давно уже чувствовалась рабочими. Выходившая в 1875 г. в Женеве анархическая газета «Работник» была первой попыткой удовлетворения этой потребности. Изданием «Работника» деятельно интересовались многие из рабочих, вошедших потом в Северно-Русский рабочий союз. Когда землевольцы завели тайную типографию в Петербурге, мысль о рабочей газете приняла новую форму. Стали говорить, что орган русских рабочих должен печататься в России. Возрастающие успехи рабочего движения делали его все более и более необходимым. Вопрос о нем стал очередным вопросом. При этом Степан был молчаливо и единогласно признан редактором будущей газеты. Таким образом он стал головою дела, почин которого принадлежал всему Союзу.
Будущий редактор держался того мнения, что газета должна иметь чисто агитационный характер. У Союза было много связей в рабочем мире. В достоверных сообщениях о темных сторонах фабрично-заводского быта недостатка быть не могло. Появление их в печати сочувственно встретили бы все рабочие. Таким сообщениям и должно было принадлежать главное место на столбцах газеты. Авторам передовых статей оставалось бы лишь надлежащим образом освещать эти непосредственно из жизни взятые материалы. С распространени-
 * В календаре «Народной воли».
* В календаре «Народной воли».
137
ем организации на провинциальные города явилась бы возможность обеспечить себе иногородные известия. Все это было очень практично, и казалось бы, что общество «Земля и воля» должно было всеми силами поддерживать задуманное рабочими предприятие. Землевольцы много сделали для развития рабочего движения в России. Отстраняться от него теперь, когда оно стало так быстро расти и крепнуть, было бы по меньшей мере странно. Они и не отстранялись от него сознательно, но незаметно для них жизнь придавала их деятельности совершенно новый характер. Им некогда было думать о рабочей газете.
VII
Уже к весне 1879 г., т. е. в то время, когда Северно-Русский рабочий союз насчитывал едва несколько месяцев существования, общество «Земля и воля» из бунтарского, каким оно было прежде, наполовину превратилось в террористическое. Те из его членов, которые остались верны старой программе, жили большей частью в «народе», в «поселениях», раскинувшихся в разных местах нижнего и среднего Поволжья, на Дону, в Воронежской и Тамбовской губерниях. Большинство же живших в Петербурге землевольцев с ревностью новообращенных стояло за террористическую деятельность, или, как тогда выражались, за дезорганизацию правительства. «Рабочее дело» никем не отрицалось в принципе. Но на деле посвящавшиеся ему силы и средства стали убывать очень и очень заметно. Многие молодые революционеры, начавшие свою деятельность «занятием с рабочими», оставили это занятие под влиянием проповедовавших «дезорганизацию правительства» землевольцев. Революционное движение интеллигенции принимало, несомненно, более острый характер, но русло его все более и более суживалось. О вовлечении в борьбу народной массы переставали думать. Задача движения сводилась к единоборству между правительством и революционной интеллигенцией. В апреле 1879 г., за несколько дней до выстрела Соловьева, мне пришлось оставить Петербург, и я передал «сношения с рабочими» покойному Ширяеву 49. Вернувшись осенью того же года, я застал Халтурина в сильном негодовании против интеллигенции вообще, а против нас, землевольцев, в особенности. «Человек, с которым ты познакомил меня перед своим отъездом, — говорил он, — был у нас один раз, обещал доста-
138
вить шрифт для нашей типографии, а потом исчез, и я не видался с ним два месяца. А у нас уж и станок сделан, и наборщики есть, и квартира готова. Остановка только за шрифтом 50. Да и кроме шрифта есть важное дело, нужно переговорить с кем-нибудь из ваших, а где искать их — неизвестно» *. Я был уверен, что явившееся у Степана новое важное дело относится, как и всегда, к рабочему движению. Вышло не так.
С самого основания своего Северно-Русский рабочий союз поставлен был террористической тактикой интеллигенции в довольно затруднительное положение. С каждым новым террористическим актом росли полицейские строгости, умножались обыски, аресты и высылки. Для нелегальных революционеров этот белый террор до поры до времени был почти совершенно безвреден, так как им удавалось скрывать свои следы от самых опытных сыщиков. В ином положении были легальные революционеры, чем-нибудь успевшие обратить на себя неблагосклонное внимание синего начальства. Они должны были готовиться к самым неприятным неожиданностям« В рабочем союзе нелегальных было немного; кроме Халтурина, нелегального с 1878 г., еще, может быть, два-три человека. Но зато многие — и часто самые деятельные, опытные и влиятельные — легальные члены его давно уже находились у полиции на дурном счету. Им плохо приходилось от белого террора. Их хватали, держали в тюрьмах, высылали. Подобные потери тяжело отзывались на неокрепшей еще организации, и неудивительно, что Северно-Русский рабочий союз сначала очень неодобрительно относился к новому приему революционной борьбы. «Чистая беда,— восклицал Халтурин,— только-только наладится у нас дело,— хлоп! шарахнула кого-нибудь интеллигенция, и опять провалы. Хоть немного бы дали вы нам укрепиться!» Но революционный террор все усиливался; усиливался и белый. Провалы учащались. Выстрел Соловьева довел полицейские строгости до неслыханной степени. Вместе с тем он же указывал, по-видимому, и выход из невыносимого положения. Падет царь, падет и царизм, наступит новая
 * При тогдашнем положении дел — выезд из Петербурга всех «нелегальных» землевольцев (а таких было большинство) перед выстрелом Соловьева, суматоха, вызванная летними революционными съезда-ми в Липецке и Воронеже, и, наконец, совершившееся осенью формальное разделение общества «Земля и воля» — трудно было винить Ширяева за его халатность. Но Халтурин не знал этих смягчающих обстоятельств, и потому досада его совершенно понятна.
* При тогдашнем положении дел — выезд из Петербурга всех «нелегальных» землевольцев (а таких было большинство) перед выстрелом Соловьева, суматоха, вызванная летними революционными съезда-ми в Липецке и Воронеже, и, наконец, совершившееся осенью формальное разделение общества «Земля и воля» — трудно было винить Ширяева за его халатность. Но Халтурин не знал этих смягчающих обстоятельств, и потому досада его совершенно понятна.
139
эра, эра свободы. Так думали тогда очень многие. Так стали думать и рабочие.
Летом 1879 г. кому-то из членов Союза предложено было место столяра в Зимнем дворце. Он сообщил об этом своим ближайшим товарищам. «Что ж, поступай, — заметил один из них,— кстати уж и царя прикончишь». Это было сказано в шутку. Но шутка произвела на присутствовавших глубокое впечатление, они серьезно задумались о цареубийстве. Призвали на совет Халтурина. На первый раз он высказался неопределенно: посоветовал только не болтать да разузнать получше о предлагаемом месте. Ему хотелось хорошенько обдумать это дело, причем он тут же, вероятно, решил, что если найдет его возможным и полезным, то сам же за него и возьмется. А подумать ему было о чем. Как ни жутко приходилось Союзу от белого террора, но его положение все-таки было совсем не безнадежно. Это доказывал уже тот факт, что, несмотря на полицейские строгости, рабочие могли сделать почти все необходимые приготовления к изданию своей газеты. Сношения с провинциальными городами только что начинались и опять-таки, несмотря на все строгости, сулили успех. Намеченные полицией члены Союза высылались один за другим, но на их место являлись новые, ненамеченные, которые при осторожном ведении дела могли продержаться довольно долго. Новое покушение на жизнь Александра II в случае неудачи, наверное, причинило бы Союзу новые потери, тем более что самому Халтурину приходилось идти почти на верную смерть. Он знал, какое расстройство внесет его гибель в дела Союза. Но все эти соображения не устояли перед одним: смерть Александра II принесет с собою политическую свободу, а при политической свободе рабочее движение пойдет у нас не по-прежнему. Тогда у нас будут не такие союзы, с рабочими же газетами не нужно будет прятаться *. Степан недолго колебался. Доступ во дворец был обеспечен. Оставалось запастись взрывчатыми веществами.
Как вел себя Халтурин в Зимнем дворце, рассказано в календаре «Народной воли» **. Читателю известно, вероятно, какую смелость и какое самообладание проявил он там. Арест Квятковского 51, у которого найден был план Зимнего дворца, поставил Халтурина, по словам автора рассказа, «в истинно каторжное положение».
 * Подлинные слова Халтурина.
* Подлинные слова Халтурина.
** «Халтурин в Зимнем дворце».
140
На взятом у Квятковского плане царская столовая была отмечена крестом, и это обстоятельство заставило дворцовую полицию подозрительно относиться к столярам, жившим в подвальном этаже, как раз под столовой. В одной комнате с Халтуриным поместили жандарма; дворцовую прислугу часто и неожиданно обыскивали; динамит приходилось хранить под подушкой; предприятие, а с ним и жизнь Степана, постоянно висели на волоске. С поразительным хладнокровием обошел он все трудности, преодолел все препятствия, и когда приготовления были окончены, когда уже зажжен был роковой фитиль, он «просто восхитил Желябова» 52 тем спокойствием, с которым произнес, «словно фразу из самого обычного разговора», многозначительное «готово». Только последующее его состояние показало, как страшно был он измучен. Придя после взрыва на приготовленную для него конспиративную квартиру, «усталый, больной, он едва мог стоять и только немедленно справился, есть ли в квартире достаточно оружия. «Живой я не отдамся», — говорил он».
«Известие о том, что царь спасся, подействовало ил Халтурина самым угнетающим образом. Он свалился совсем больной, и только рассказы о громадном впечатлении, произведенном 5 февраля на всю Россию, могли его несколько утешить, хотя никогда он не хотел примириться со своей неудачей» *. Не того ожидал он от своей попытки...
После 5 февраля он продолжал действовать более двух лет. Пробовал он вернуться к своему любимому «рабочему делу». Но логика раз принятого способа действий ставила свои неотразимые требования. Степан снова пошел на «террор». Известно участие его в убийстве Стрельникова 53. Он умер на виселице 22 марта 1882 г. При аресте он храбро защищался вооруженной рукой.
Вскоре по поступлении Халтурина в Зимний дворец я вынужден был оставить Россию. С тех пор о ходе русского рабочего движения я мог знать только по рассказам действовавших после меня товарищей. Автор статьи «Пребывание Халтурина в Зимнем дворце» говорит, что Северно-Русскому рабочему союзу удалось-таки приступить к изданию газеты, которая, однако, вместе с типографией была заарестована при наборе первого же номера и не оставила по себе ничего, «кроме памяти о попытке чисто рабочего органа, не повторяв-
 * «Календарь», историко-литературный отдел, стр. 48
* «Календарь», историко-литературный отдел, стр. 48
141
шейся уже потом ни разу» *. Затем прекратилось и самое существование Союза. По-видимому, на его судьбе отразились программные разделения тогдашней интеллигенции. Несомненно, по крайней мере, что уже в 1880 г. появляются между петербургскими рабочими сторонники партии «Народной воли» (см. программу рабочих этой партии, опубликованную в ноябре 1880 г.) и сторонники «Черного передела». В восьмидесятых годах в разное время издавалось в России несколько рабочих журналов: «Рабочая газета» (с 15 декабря 1880 г, до конца 1881 г.), «Зерно» (приблизительно около того же времени), «Рабочий» (в 1885 г.). Правда, рабочие были только читателями этих журналов, редактировались же они «интеллигенцией», но это было, что называется, только полгоря, Во второй половине восьмидесятых годов перестали появляться в России и такие издания. Наступило, казалось, полное затишье. Но раз зажженный огонек мысли не погас в рабочей среде, как об этом свидетельствует даже легальная печать. Почти совершенно оставленный интеллигенцией рабочий продолжал расти умственно и нравственно. Уже в конце восьмидесятых годов Г, И. Успенский мог поздравить русских писателей с «новым грядущим читателем». Недалеко то время, когда «интеллигентных» противников царизма можно будет поздравить с новым, незаменимым и непобедимым политическим союзником.
Когда наша революционная «интеллигенция», чувствуя недостаточность своих сил, спрашивает себя, где искать поддержки, ее доброжелатели дают ей часто довольно странные ответы: «в обществе», в офицерской среде и т. п. и т. п. О рабочих такие доброжелатели интеллигенции вспоминают редко и неохотно. О вкусах, конечно, не спорят, но факт тот, что русские рабочие внесли в освободительное движение последних двадцати лет несравненно больше сил, чем почтенное военное сословие, или — в особенности — наши милые, добрые, развитые, гуманные, образованные, но решительно никуда не годные либералы. А ведь до сих пор совершились только первые, правда, самые трудные, но зато и самые слабые шаги нашего рабочего движения. Что же будет дальше? Людям, претендующим на политическую дальновидность, не мешало бы подумать об этом.
История давно и безвозвратно осудила русский ца-
 * Автор относит эту попытку ко времени, предшествовавшему поступлению Халтурина во дворец. Но это ошибка.
* Автор относит эту попытку ко времени, предшествовавшему поступлению Халтурина во дворец. Но это ошибка.
142
ризм. Но он существует и будет существовать до тех пор, пока та же история не заготовит достаточно сил для исполнения своего приговора. Она деятельно заготовляет их, беря их отовсюду. Пролетариат — самая могучая из создаваемых ею новых общественных сил. Пролетариат — это тот динамит, с помощью которого история взорвет русское самодержавие.
Но рабочему классу не годятся старые, более или менее фантастические революционные костюмы интеллигенции. Наши рабочие, уже в семидесятых годах видевшие слабые стороны народничества, в девяностых годах сознательно станут под знамя всемирной рабочей партии, под знамя социал-демократов.
Пусть же поскорее наступает эта счастливая пора! Много света внесет она в нашу темную жизнь!
ПРЕДИСЛОВИЕ К БРОШЮРЕ „РЕЧЬ П. А. АЛЕКСЕЕВА"
В 1877 году, в течение 22 дней, с 21 февраля по 14 марта, в Петербурге, в особом присутствии правительствующего Сената, происходил суд над 50 лицами, обвиняемыми в социально-революционной пропаганде между рабочими различных фабрик, т. е. в распространении между ними социалистических и революционных учений 1. В числе обвиняемых было несколько человек рабочих, и между ними Петр Алексеевич Алексеев, крестьянин деревни Новинской, Сычевского уезда, Смоленской губернии. Когда судьи предложили ему выбрать себе защитника (адвоката), он ответил: «Что мне защитник? Какой смысл имеет защита, когда всякому известно, что в подобных процессах приговор суда бывает составлен заранее, так что весь этот суд есть не более как комедия: защищайся, не защищайся, все равно. Я отказываюсь от защиты». 10 марта он произнес свою речь, в которой не защищался и не оправдывался, а, напротив, обвинял правительство и капиталистов. Мы издаем эту речь для русских рабочих. Она принадлежит им по праву. Невелика она, но пусть прочтут ее рабочие, и они увидят, что в ней, в немногих словах, сказано много и много такого, над чем им стоит крепко призадуматься. Правда и то, что речь эта не бог знает как искусно составлена. Если она попадется в руки какому-нибудь «настоящему», «заправскому» писателю, то он без труда найдет в ней много недостатков. Начать ее, скажет он, нужно было так-то, а продолжать вот как; в середину вставить вот то, а к концу подогнать вот это. Но дело не в том, как сказал Петр Алексеев; дело в том, что сказал он. Сказал же он вещи не только совершенно верные, но еще глубоко им прочувствованные. Описывая бедственное положение русских рабочих, он снова, в зале суда, испытывал то негодование, ту злобу против врагов рабочего класса, которые заставили его сделать-
144
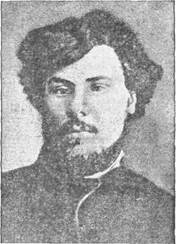
П. А. Алексеев.
ся революционером. Вот почему нельзя читать его речь без увлечения, хотя в ней, с внешней стороны, бесспорно есть недостатки.
Петр Алексеев говорит главным образом о тяжелом положении своих товарищей, русских рабочих. Но мимоходом упоминает о том, как могут рабочие выйти из такого положения. «Русскому рабочему народу остается надеяться только на самого себя»,— говорит он. Это так же справедливо, как и все сказанное им в своей речи. Целые миллионы рабочих западноевропейских стран давно уже пришли к этой мысли. Когда в 1864 году в Лондоне образовалось Международное рабочее общество, то в уставе его было прежде всего сказано: «Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих» 2. Это значит, что рабочий класс не должен рассчитывать ни на правительство, ни на высшие классы (дворянство, купечество и т. п.), потому что ни правительство, ни высшие классы, живущие на счет труда рабочих, никогда ничего для них не сделают. Рабочим остается позаботиться самим о себе. На Западе передовая партия рабочих смотрит теперь на это дело так; по ее мнению, рабочие должны сделать революцию: свергнуть существующие правительства и, захвативши государственную власть в свои руки, распорядиться со своими притеснителями по-своему. Этого, конечно, вдруг не сделаешь, для этого нужна сила, и большая сила. До сих пор еще многие рабочие не понимают своих собственных выгод и
145
сами поддерживают теперешние порядки. Революционная рабочая партия должна убедить, просветить их, растолковать им свои цели и стремления, перевести их на свою сторону. Этим она и занимается во всех западных странах. Этим и у нас в России следует заняться понявшим дело рабочим. Чем скорее они возьмутся за это, тем скорее придет время победы. В ожидании же этого времени западные рабочие стараются вынудить у своих правительств разные второстепенные уступки: там настоят на сокращении рабочего дня, в другом месте добьются заведения хороших школ для народа или облегчения податей и налогов и так далее. Но чего больше всего добиваются рабочие — так это политических прав для своего класса:
1) свободы собираться для обсуждения своих нужд и говорить на этих собраниях все, что вздумается, не отвечая за это ни перед судом, ни перед полицией;
2) свободы устраивать всякие общества для взаимной помощи и поддержки в борьбе с хозяевами и с самими же правительствами;
3) свободы печати. (На Западе рабочие не только читают газеты и журналы, но и сами печатают их, обсуждая в них свои нужды и потребности.)
Правом свободы печати, свободы собраний и обществ очень дорожат западноевропейские рабочие. Не меньше того дорожат они и своим избирательным правом. Известно, что в западных странах делами государства заведуют не одни только короли, как у нас заправляет ими только один царь. Есть страны (республики, например Франция и Швейцария), где королей и совсем нет. Во всех западных странах ход дел зависит больше всего от выборных (депутатов), которые съезжаются в столицы и образуют там законодательные собрания. Вот тут-то для западных рабочих и является вопрос, кто имеет право назначать таких выборных: весь ли народ, то есть, стало быть, и все рабочие, или одни только богатые, то есть землевладельцы, купцы, фабриканты и проч. Рабочие везде стоят за назначение выборных всем народом, т. е. за всеобщее избирательное право.
Надо думать, что скоро и у нас высшие классы потребуют ограничения царской власти; очень уж надоели всем наши нынешние порядки. И это, конечно, будет очень хорошо. Рабочие непременно должны сами требовать ограничения царской власти. Но и тогда следует помнить им великое правило: освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих. Когда будет огра-
146
ничена царская власть, нужно, чтобы рабочие добились права посылать своих выборных в законодательное собрание, или, как мы уже называли его, всеобщего избирательного права. Пользуясь таким правом, рабочие сумеют послать в законодательное собрание своих истинных представителей, которые, конечно, будут отстаивать их дело не так, как отстаивали бы их господа помещики, купцы и фабриканты. Те ведь только о себе и думают.
Но кто же эти истинные представители рабочего класса?
Во-первых, свои же братья-рабочие. В западноевропейских законодательных собраниях уже есть такие рабочие избранники рабочего класса, которые не бьют лицом в грязь перед заседающими там «господами». Со временем будут и у нас такие рабочие. Кроме них, могут очень и очень пригодиться такие люди, которые хотя и принадлежат по своему рождению к высшим классам, но настолько сочувствуют рабочим, что им можно довериться без боязни. Петр Алексеев в своей речи с увлечением отзывается о нашей «интеллигентной молодежи», или, как часто выражаются рабочие, о «студентах». «Она одна,— говорит он,— братски протянула к нам свою руку. Она одна откликнулась, подала свой голос на все слышанные крестьянские стоны Российской империи. Она одна до глубины души прочувствовала, что значит и отчего это отовсюду слышны крестьянские стоны. Она одна не может холодно смотреть на этого изнуренного, стонущего под ярмом деспотизма, угнетенного крестьянина. Она одна, как добрый друг, братски протянула к нам свою руку и от искреннего сердца желает вытащить нас из затягивающей пучины на благоприятный для всех стонущих путь. Она одна, не опуская руки, ведет нас, раскрывая все отрасли для выхода всех наших собратьев из этой лукаво построенной ловушки, до тех пор, пока не сделает нас самостоятельными проводниками к общему благу народа. И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах...» Во всем этом много правды. Революционеры из «студентов» много сделали для пробуждения рабочих. Но беда в том, что теперь наша «интеллигентная молодежь» начинает как-то забывать о «народе», о котором она так много кричала лет пятнадцать тому назад 3. Теперь между революционерами из «интеллигентной молодежи» есть да-
147
же много таких господ, что прямо говорят против рабочего класса. Одни уверяют, что будто и нет его совсем в России; другие соглашаются, что он есть, но прибавляют, что все рабочие очень глупы и необразованны, а потому и внимания на них обращать не стоит. А недавно в одной, тоже, пожалуй, «интеллигентной», газетке (выходившей за границей) один барчонок написал, что, мол, с рабочими дела иметь не стоит, потому что, как только их заберет полиция, так они сейчас же всё и всех выдадут 4. На таких «интеллигентных» (а лучше сказать — вовсе неинтеллигентных, то есть вовсе неумных господ) рабочему классу, конечно, рассчитывать невозможно. Их нужно даже опасаться. Они кричат теперь: не нужно нам рабочих. Придет время, когда они запоют совсем другое и прикинутся лучшими друзьями рабочего класса (именно, когда они увидят, что рабочие могут быть полезны им в борьбе против царя). Но пусть же русские рабочие не забывают теперешнего отношения к ним подобных господ «интеллигентов». Путь они отплатят им равнодушием за равнодушие, презрением за презрение. Пусть они скажут им: «Вам не нужно было нас, теперь нам не нужно вас. Мы и без вас добьемся политической свободы и политических прав и уж конечно воспользуемся ими не для того, чтобы выбирать вас в законодательное собрание. Кто не за нас, тот против нас, а кто против нас, того нам глупо было бы и поддерживать».
Но относясь таким образом к «интеллигентам», желающим «обойтись без рабочих», русские рабочие должны тем более дорожить поддержкой тех революционеров из «интеллигентной молодежи», которые целиком перешли на их сторону и стараются теперь же, несмотря на опасность, распространять между ними правильные взгляды на вещи. Такие люди являются истинными друзьями рабочих, и к ним вполне может быть применено все сказанное Петром Алексеевым об «интеллигентной молодежи».
ЗАБАСТОВКА В РОССИИ
(Морозовская стачка)
Две недели тому назад происходил во Владимире (центральная Россия) процесс, к которому привлечено было около тридцати рабочих по обвинению в участии в забастовке, имевшей место в январе 1885 года на ткацкой фабрике миллионера Морозова, который один занимает свыше двадцати тысяч рабочих в разных местностях Владимирской губернии.
Этот образцовый капиталист, пользуясь свирепствующим промышленным кризисом, ухитрился понизить заработную плату 6000 ткачей упомянутой фабрики, подвергая их штрафам, часто превосходящим 50% более чем скромного «дохода» рабочих.
Измученные притеснениями и потеряв всякое терпение, ткачи объявили забастовку и заявили, что возобновят работу лишь при условии некоторого повышения заработной платы и отмены практиковавшейся на фабрике системы штрафов. При этом они, однако, отнюдь не требовали полной отмены штрафов,— они ограничивали свое требование назначением арбитражной комиссии, составленной наполовину из рабочих и наполовину из мастеров и уполномоченной выносить постановления о штрафах.
Директор фабрики отказался удовлетворить скромные требования рабочих и телеграфировал Морозову, находившемуся в Москве. Последний тотчас же обратился к генерал-губернатору этого «священного» города с просьбою предоставить в его распоряжение войска. Нечего говорить, что князь Долгоруков (генерал-губернатор) пошел навстречу желанию Морозова: батальон пехоты был немедленно послан во Владимир.
Владимирский губернатор, со своей стороны, примчался на место забастовки в сопровождении прокурора, жандармов, казаков и целой стаи шпионов. Прежде
149
всего он спросил у стачечников, чего они хотят. Два человека, Волков и Мосеенко 1, тотчас же выступили вперед и от имени своих товарищей представили записку, в которой перечислены были все жалобы стачечников. Но вопрос губернатора был лишь традиционным маневром русской администрации, чтобы установить «зачинщиков». И действительно, губернатор, даже не ознакомившись с содержанием поданной ему записки, приказал арестовать обоих делегатов «и их сообщников».
Но рабочие не могли отнестись спокойно к этой гнусности. Сообщение об аресте товарищей распространяется среди рабочих, возмущение охватывает всех стачечников, бьют в набат — и толпа набрасывается на жандармов. Арестованные были освобождены, а толпа стачечников, мстя за насилие, разгромила квартиру директора фабрики и лавку, в которой г. Морозов, практикуя truck-system *, продавал своим рабочим всякого рода товары.
Испуганный губернатор велит подтянуть подкрепления, и возмущение рабочих усмиряется вооруженной силой. Несколько времени спустя администрация фабрики уступает рабочим в некоторых пунктах — и работы возобновляются. По окончании забастовки сотни рабочих были арестованы и затем высланы на родину. Около пятидесяти из них предстали в январе этого года перед судом и присуждены были, на основании русского закона, воспрещающего стачки, к тюремному заключению на сроки от 15 дней до 2 месяцев.
Не довольствуясь этим, прокурор, сверх того, привлек к суду 33 стачечников по обвинению в том, что они «ограбили» квартиру директора и лавку г. Морозова, а также и в оказании сопротивления вооруженной силе. В своем обвинительном акте прокурор особенно подчеркнул, что Волков и Мосеенко , два главных вожака забастовки, уже давно принадлежали к социалистической партии и что они уже в 1878 г. организовали забастовку в Петербурге, — обстоятельство, за которое они поплатились ссылкой в Сибирь, откуда они лишь недавно возвратились. Несмотря, однако, на все рвение, проявленное прокурором, чтобы добиться примерного осуждения обвиняемых, присяжные заседатели, на которых, видимо, произвела глубокое впечатление обнаруженная на суде картина подлостей, совершавшихся администрацией фабрики, ответили отрицательно на все 101 (сто
 * Оплата труда товарами вместо денег (англ.).
* Оплата труда товарами вместо денег (англ.).
150
один) вопрос обвинения. Председатель окружного суда приказал тогда отпустить обвиняемых на свободу.
Процесс вызвал к себе огромный интерес в России, где он несомненно явится исходным пунктом нового фазиса рабочего движения. Припадки бешенства, вызванные оправданием наших мужественных товарищей у царских борзописцев, могут служить хорошим указанием. Пресловутый Катков (заправила современной реакции) пишет в своей газете («Московские ведомости»), что «рабочий вопрос народился в России». Со своим обычным цинизмом и бесстыдством он заявляет, что, вместо того чтобы терять время на судебное разбирательство, нужно было административно сослать обвиняемых (Рош и Дюк-Керси 2 из Владимира) в Сибирь, «которая им уже хорошо знакома».
Принимая во внимание жестокий режим, которому подвержена Россия, можно, к несчастью, предсказать, что все оправданные будут сосланы в Сибирь и что социалисты Волков и Мосеенко не избегнут рук царских жандармов 3.








