Тибетцы и их быт. Далай‑лама не пускает русских в Лхасу
Около стоянки кочевали тибетцы, с которыми наша экспедиция теперь могла ближе познакомиться. У тибетцев на голове длинные черные волосы, которые сзади у мужчин обычно заплетены в косу, у женщин же распадаются на много косичек. Живут тибетцы в черных палатках из материи, сотканной из волос яка. По религии тибетцы – буддисты, главою которых является далай‑лама в Лхасе.
Основной пищей тибетцев служит баранье или, реже, яковое мясо, которое они нередко едят сырым. Очень любят чай, в который прибавляют сушеный творог, масло и молоко.
Исключительное занятие здешних тибетцев – скотоводство, тогда как в южном Тибете, центром которого является Лхаса, – земледелие.
Из животных северные тибетцы держат главным образом яков и баранов. Як доставляет тибетцу молоко, прекрасное масло, мясо, наконец кости, из которых варят суп; кроме того, як служит прекрасным вьючным животным. «По крутым горам и по самым опасным тропинкам вьючный, или верховой як, – говорит Пржевальский, – идет уверенной поступью и никогда не оплошает. Даже по льду он ходит и бегает хорошо: там, где очень скользко, катится на своих копытах, словно на коньках». Цвет домашнего яка преимущественно черный, иногда светлокоричневый или пегий; иногда попадаются совершенно белые. Нрав яка свирепый, и иногда яки даже бросались на караван экспедиции. Для того чтобы завьючить яка, надо большое уменье, да и то иногда злые яки бодают своих вожаков и сбрасывают вьюк. Обычный вес вьюка – около восьмидесяти килограммов. Стоимость яка на наши деньги составляла тогда 10 рублей. Баран тоже в Тибете служит вьючным животным; с кладью в 10 килограммов он проходит тысячи километров.
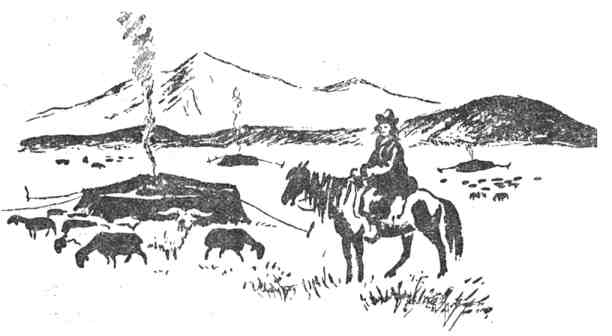
Лошади тибетцев небольшого роста, с длинной шерстью. Они очень выносливы и смирны. Родившись и выросши на громадной высоте, лошади эти легко взбираются даже на крутые горы. Подков они не знают.
Скот тибетцев пасется круглый год на свободе. В числе достоинств здешних мест Пржевальский отмечает отсутствие кусающих насекомых.
В ожидании ответа из Лхасы экспедиции пришлось пробыть на стоянке не двенадцать дней, а целых шестнадцать.

Путь вперед, к Лхасе, был заперт: в небольшом расстоянии от стоянки было собрано до тысячи тибетских солдат. Сношения с окрестными туземцами тоже были затруднительны, частью по незнанию языка, частью вследствие недоверчивости тибетцев, внушенной им властями. Единственным развлечением экспедиции была охота за орлами‑ягнятниками и за снежными грифами. Птицы эти беспрестанно прилетали к стоянке в надежде поживиться куском бараньего мяса. Ягнятники садились иногда не далее двадцати шагов от занятых варкою пищи казаков. Грифы иногда собирались стаями штук в сорок.
При экспедиции находилось посменно пять тибетских солдат под предлогом охраны, но, в сущности, чтобы наблюдать за русскими. Впрочем, большинство этих солдат были услужливы.
В середине декабря (нового стиля) прибыл, наконец, посланец из Лхасы, который привез недобрые для экспедиции вести: тибетские власти не желают пускать русских в свою столицу.

Мотивы были следующие: в Лхасу северным путем ходят только три народа – монголы, тибетцы и китайцы; русские же никогда раньше в Лхасу не ходили, ибо они иной веры; и, наконец, весь тибетский народ и далай‑лама не желают пускать русских к себе.

Никакие уговоры Пржевальского не действовали. В ответ как сам посланник, так и вся его свита, сидевшие в юрте экспедиции, складывали свои руки впереди груди и самым униженным образом умоляли исполнить просьбу – не ходить далее. Предлагали даже оплатить все расходы экспедиции, если русские повернут обратно. «Даже не верилось собственным глазам, – говорит Пржевальский, – чтобы представители могущественного далай‑ламы могли вести себя столь униженно и так испугаться горсти русских».
Предложение об уплате издержек Пржевальский, понятно, отверг, но пытаться итти в Лхасу, наперекор требованиям тибетских властей, было бы бесцельно, и экспедиции пришлось покориться необходимости и вернуться. Лхаса и впоследствии оказалась недоступной нашему путешественнику. Однако времена меняются. Вскоре после описанного путешествия Пржевальского началось проникновение Англии в Тибет, и в противовес этому далай‑лама стал искать сближения с Россией. В 1900 году он прислал делегацию к русскому правительству с просьбой о соглашении. Со своей стороны англичане направили в Тибет войска, которые заняли Лхасу в августе 1904 года. Не дожидаясь этого, далай‑лама бежал в Монголию, в город Ургу (ныне Улан‑Батор). В следующем году Географическое общество направило в Ургу известного путешественника П. К. Козлова для свидания с далай‑ламой. От него Козлов получил в дар для Географического общества собрание предметов буддийского культа, которые и ныне хранятся в доме Географического общества. Через несколько лет этот далай‑лама снова видался с П. К. Козловым, которому сказал: «Надеюсь, что Россия будет поддерживать с Тибетом лучшие дружеские отношения и впредь будет присылать своих путешественников‑исследователей для более широкого ознакомления с природой и населением Тибета». При этом далай‑лама сам пригласил Козлова посетить Лхасу.
Но возвращаемся к путешествию Пржевальского. После неудачной попытки попасть в столицу далай‑ламы экспедиция направила свой путь к верховьям реки Хуан‑хэ, или, в переводе с китайского, Желтой, как ее раньше и называли европейцы. Местность эта лежит к югу от озера Куку‑нор, в северо‑восточном углу Тибетского нагорья. Снаряжался сюда Пржевальский в городе Синине, который расположен на восток от озера Куку‑нор. Сининский губернатор («амбань») сказал при свидании нашему путешественнику, что не пустит его туда. Но на это Пржевальский ответил, что на Хуан‑хэ пойдет и без его позволения.
Верхнее течение Хуан‑хэ населено тибетцами, которых монголы называют хара‑тангутами, то есть черными тибетцами, за их черные палатки. Замечательно, что хара‑тангуты всегда в своих палатках топят бараньим пометом («аргалом»), несмотря на обилие леса в их стране. От этого леса здесь сохраняются в неприкосновенности.
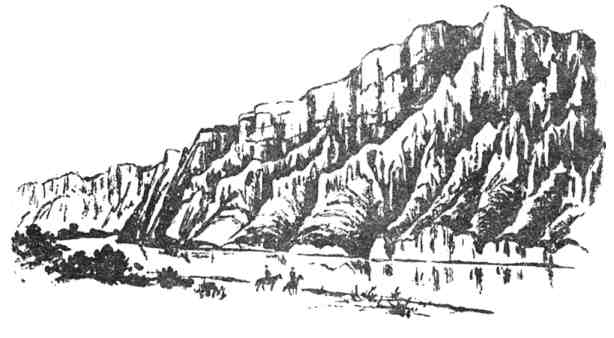
Кроме баранов, хара‑тангуты разводят еще яков.
Хотя хара‑тангуты буддисты, но среди них встречаются шаманы, принадлежащие к сословию лам. Пржевальский описывает, как такой шаман заговаривал град. Заклинания его продолжались с четверть часа, после чего град перестал, так как град обычно падает недолго. Но присутствующие были убеждены, что это случилось благодаря шаманским наговорам. Влияние этих пройдох на тангутов, – говорит Пржевальский, – очень велико.
В здешних еловых и можжевеловых лесах в изобилии растет лекарственный ревень. Корни его достигают громадных размеров; один из таких корней, взятых в коллекцию, весил свыше десяти килограммов в свежем виде.








