Путь к Тянь‑шаню. Знакомство с чолоказаками. Исполинский хребет Заилийский Алатау
Через пять дней езды Семенов из Семипалатинска добрался до Копала – довольно значительного русского поселения у подножия Джунгарского Алатау.
Копал, основанный русскими в 1841 году, был во времена Семенова (1856 год) уже довольно значительным городком, в котором насчитывалось до семисот домов.
Население засевало пшеницу, рожь, овес, ячмень, частью кукурузу и джугару (сорго); в садах можно было видеть яблоки, абрикосы, персики, виноград. Отсюда Петр Петрович поднимался в снеговые горы Джунгарского Алатау. Внизу они были покрыты лесами из тянь‑шанской ели и сибирской пихты; повыше появляются альпийские луга, которые, наконец, исчезают под снеговым покровом.
За Копалом путь шел через пикет Карабулакский, расположенный на реке Каратале, значительном притоке озера Балхаш. Около этого пикета были расположены поселения чолоказаков, выходцев из Ташкента.
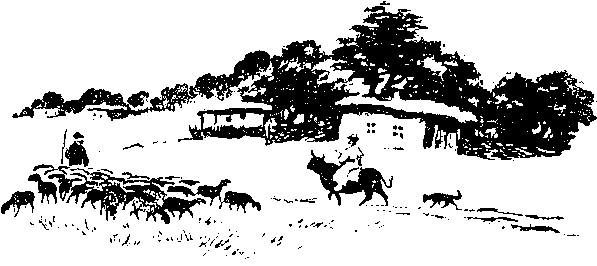
Семенов посетил один из этих поселков, во главе которого стоял престарелый Чубар‑мулла.
Оказалось, что большинство чолоказаков – на самом деле вовсе не ташкентские узбеки, а беглые из Сибири ссыльные поселенцы, преимущественно русские.
Поселившись на самой окраине тогдашних русских азиатских владений, они переженились на местных девушках из казахского народа.
С Чубар‑муллой Петр Петрович объяснялся по‑русски. Оказалось, что Чубар‑мулла еще в 30‑х годах прошлого века поселился в Ташкенте, где занимался сельскохозяйственными работами. Когда он узнал об основании русскими города Копала, у него появилось непреодолимое желание посмотреть на эту новую богатую окраину русского государства и, если возможно, поселиться здесь для того, чтобы, по крайней мере, умереть на родной земле.
На Каратале он нашел у русских казаков гостеприимство и временный заработок. И вот Чубар‑мулла вместе со своими земляками‑товарищами, беглецами из России, и поселились здесь под именем ташкентских выходцев – чолоказаков. Один из таких чолоказаков, печник, рассказал Семенову случай, бывший с ним при постройке русского консульства в Кульдже (город в Китае, на реке Или, по ту сторону Джунгарского Алатау).
Долго объяснялись они с консулом и по‑казахски, и по‑узбекски, но никак понять друг друга не могли. Наконец, печник, не вытерпев, спросил консула по‑русски: «Да какую печку вашему высокоблагородию нужно – русскую или голландскую?» Консул рассмеялся.
Поблизости от поселения Чубар‑муллы Семенов обнаружил при раскопках предметы буддийского культа, очевидно след когда‑то обладавших этой страной калмыков.
В чолоказацком хуторе Петру Петровичу пришлось заночевать. Здесь он пользовался самым радушным гостеприимством бывших каторжников, давно превратившихся в самых мирных и трудолюбивых поселенцев новоприобретенной русской земли.
На дальнейшем пути к Верному (Алма‑Ата) Семенов останавливался в пикете Коксуйском. Отсюда он совершил восхождение на вершину, достигающую трех тысяч метров высоты.
Здесь Семенов собрал много растений, среди них и виды, ранее не известные в науке. Спустившись с гор на равнину, путешественник заночевал в казахском ауле. Хозяин угощал гостя кумысом, чаем, бараниной. «После полуночи, – рассказывает Петр Петрович, – я был пробужден страшной тревогой: послышались крики людей, отчаянный лай всех собак аула и, наконец, испуганные голоса всех домашних животных аула: ржанье лошадей, рев быков и верблюдов, блеянье овец – одним словом, такой дикий вокальный концерт, какой мне привелось слышать только один раз в моей жизни. Через несколько минут около самой юрты раздался громкий выстрел, и я мог распознать причину тревоги. Все казахи, узнав ночного гостя, кричали «аю, аю» (по‑казахски: «медведь}»). Это был медведь, забравшийся в стадо, которое паслось в нескольких шагах от нашей юрты. Испуганный выстрелом моего конвойного казака, медведь предпринял быстрое отступление, похитив только одного барана».

На следующий день Семенов увидал в туманной дали блистающий своими вечными снегами исполинский хребет Заилийский Алатау.
В Илийской низменности путешественник оказался в области иной растительности и животного мира. Здесь появилось много новых кустарников: красивый вид барбариса, вдвое и втрое выше человеческого роста, усеянный крупными розовыми ягодами; колючий чингиль, кустарник из бобовых; гребенщики, или тамариски; дереза и другие. Из животных в этих местах встречались кабаны и тигры, множество пустынных черепах, разные ящерицы, а из паукообразных фаланги, скорпионы и ядовитые каракурты.
Ближе к реке появились и деревья: разнолистные тополи и серебристый лох, или джида.
По мере приближения к Илийскому пикету по реке Или местность становилась оживленнее. Беспрерывно встречались то длинные караваны верблюдов, то ряды телег и повозок с первыми переселенцами в Заилийский край.
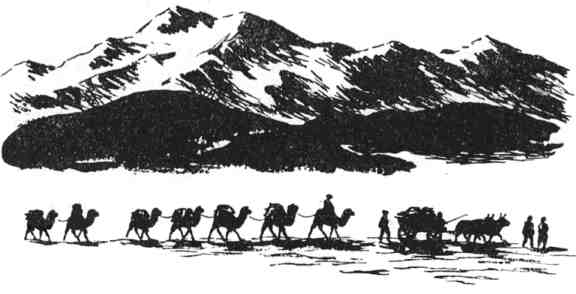
Осенью 1854 года на южном склоне Заилийского Алатау, в бассейне реки Или, было основано укрепление Верное, цветущий город Алма‑Ата, ныне столица Казахской республики, местопребывание Казахской академии наук и университета.
В сердце Тянь‑шаня. Укрепление Верное. Природа и животный мир предгорья
Из укрепления Верное Семенов решил направиться на озеро Иссык‑куль.
Нужно сказать, что в те времена бассейн Иссык‑куля не входил в пределы России. Берега этого озера были предметом спора между двумя племенами киргизов: с одной стороны – сарыбагишей, подданных Кокандского ханства, а с другой – богинцев, подданных Китая.
В результате столкновений между этими племенами дружественные русским богинцы откочевали на восток, а сарыбагиши еще не успели проникнуть на восточные берега Иссык‑куля. В улажении споров между этими племенами Семенову принадлежала самая благотворная роль.
Отряд путешественника состоял из четырнадцати человек, в том числе – десяти конвойных казаков. Путь лежал на восток, вдоль подножия Заилийского Алатау.
В долинах речек, стекающих с этих гор, а также в предгорьях можно было видеть леса из яблони и дикого абрикоса («урюк»). От этих яблонь город Алма‑Ата и получил свое имя («алма» – по‑казахски значит: «яблоко»).

В середине сентября яблони были покрыты спелыми яблоками, но абрикосы уже отошли.
Выше этого пояса в горах располагаются хвойные леса из стройной тянышанской ели, а еще выше – заросли древовидного можжевельника – арчи.
Из зарослей арчи в долине реки Иссык (приток реки Или) путешественники спугнули двух тигров. За ними по следам отправились на охоту три русских казака. Старый казак заметил тигра, притаившегося в кустарниках, но было уже слишком поздно, чтобы иметь время в него выстрелить. Тигр бросился на охотника так стремительно, что ударом лапы выбил у него винтовку из рук. Опытный казак, не теряя присутствия духа, стал перед тигром, который, в свою очередь, тоже остановился и лег перед охотником, как кошки ложатся перед мышью, когда та перестает двигаться. Молодой казак, видевший всё это, поспешил на выручку товарища, но руки его так оцепенели от страха, что выстрелить он не мог. Тогда старый казак потребовал, чтобы тот передал ему свою винтовку. Но и этого молодой казак не был в состоянии сделать. Старый казак сделал два‑три шага, чтобы взять винтовку, но в этот момент тигр бросился на свою жертву и, схватив казака за плечо, быстро потащил его за собой. В это время подошел третий охотник с собакой, которая вцепилась тигру в спину.
Бросив свою добычу, тигр постарался освободиться от своего маленького врага, но тут он был поражен двумя смертельными выстрелами. Зверь имел еще достаточно силы для того, чтобы спуститься до ручья и напиться, но тут же пал мертвым. У старого казака одна рука была перегрызена выше локтя, так что ее пришлось отнять, а у другой сильно повреждены два пальца. В городе пострадавшему была оказана помощь, и он выздоровел, лишившись, однако, руки. Тигровая шкура была передана П. П. Семенову.
Через неделю по выступлении из укрепления Верное (Алма‑Ата) Семенов достиг восточной оконечности Иссык‑куля.








