Первое западнославянское государство
К северу от Дуная, на землях, занимаемых теперь чехами, словаками и моравами, славянские поселенцы осели в конце V столетия и с тех пор в непрестанной борьбе с врагами отстаивали свою независимость.
Грозная опасность чужеземного владычества не раз побуждала славянские племена объединяться, чтобы дать отпор иноплеменным завоевателям. В борьбе с врагами, теснившими славянских поселенцев с востока и с запада, сформировалось древнейшее, западнославянское государство, прозванное по имени его создателя «государством Само». Создание этого государства было ускорено грозным натиском кочевников — аваров.
Авары, двигавшиеся по пути, некогда пройденному гуннами из прикаспийских степей, причинили великие бедствия мирным земледельцам. В VI в. авары появились в прежней римской провинции Паннонии.
Подобно; гуннам, авары не знали земледельческого труда, они составляли многочисленную кочевую орду, располагающую подвижным и грозным конным войском. Рослые аварские воины, защищенные железными и кожаными панцырями, нежданно-негаданно появлялись в отдалённых местах, жгли и грабили, уводили в плен женщин и детей, налагали на мирных жителей бремя дани. Трудно было защищаться разрозненным племенам от внезапных аварских набегов.
На просторе равнины авары возводили круговые земляные насыпи. В широком кольце искусственно возведённого вала располагалось второе такое же кольцо меньшего радиуса, в его пределах третье, за ним четвёртое. Узкие ворота прорезывали насыпи-кольца в различных местах, с таким расчётом, чтобы противник, прорвавшийся через наружные ворота, встретил снова непреодолимую преграду второго и третьего вала, За линией вала высился обычно частокол, составленный из толстых дубовых, буковых и сосновых стволов, достигавших 20 футов вышины.
В каждом таком кольце хранились запасы оружия и продуктов, а в центре его сберегались сокровища, захваченные в разграбленных славянских и германских селениях.
Русский летописец Нестор рисует зловещую участь славянского племени дулебов, порабощенных аварами:
«Аще поехати будяше обрину (авару), не дадяше впрячи ни коня, ни вола, но веляша впрячи три-ли, четыре-ли, пять-ли жон в телегу и повезти обрина».
Но победа доставалась аварам с трудом. Славяне сопротивлялись упорно и часто успешно. Один из славянских князей Лаврита в 578 г. гордо ответил аварскому послу, требовавшему от этого князя покорности и ежегодной дани. «Есть ли кто из людей под солнцем, кто бы мог подчинить себе и сокрушить наше могущество? Мы привыкли господствовать сами, а не повиноваться чужим властителям; и мы не изменим себе, покуда существует война и меч».
Желая вызвать рознь между отдельными славянскими племенами, аварский, хан Баян отправил послов своих с подарками к полабским славянам, прося прислать вспомогательный отряд. Полабские славяне решительно отказались от предложенного им союза.
626 г. застал многочисленное аварское войско у стен Константинополя, которым намеревался овладеть аварский хан. Византийская столица была на этот раз спасена славянскими воинами. Последние отказались повиноваться аварскому повелителю и воевать с византийскими войсками, в рядах которых было немало южнославянских воинов.
Единодушное выступление воинов-славян, отказавших в повиновении аварскому хану и обрекших его на военную неудачу, было не случайным. Именно в эту пору на берегах Моравы началось движение, вскоре приведшее к объединению разобщённых славянских племён и к созданию первого западнославянского государства. Моравские, чешские, сербские племена долгие годы отстаивали свою землю и свою независимость от западных соседей — франков и от восточных соседей — аваров. В 623 г. во главе союза этих племён встал умный и энергичный человек, власть которого охотно признали славянские племена, не только в Чехии и Моравии, но и за их пределами. Человека этого звали Самослав, но современники и потомки прозвали его сокращённым прозвищем «Само», получившим уже к 630 г. широкую известность. Само впервые появился в земле моравской в качестве «гостя» — купца, прибывшего от берегов Нижней Лабы, из лютицких земель, в то время частично захваченных франками. Франкский летописец Фредегар считает Само «франкским купцом», видя в нём выходца из франкской земли.
В действительности же Само являлся заклятым врагом франков-завоевателей. Признанный главою союза объединившихся племён, Само повёл решительную борьбу с противниками славян — аварами и франками.
В 630 г. король франков Дагоберт решил подчинить себе западных славян. Готовясь начать войну с ними, Дагоберт заключил в 629 г. «вечный мир» и союз с византийским императором Гераклием и направил посла своего к Само.
Франкский посол по вмени Сихар, должен был принести жалобы на обиды, будто бы причинённые франкским купцам в земле славянской. Но была у Сихара и другая тайная задача. Он должен был запугать Само грозною аварской опасностью и постараться убедить его, что аварский хан, разгневанный неповиновением славянских воинов, лишивших его своей поддержки у стен Константинополя, — неминуемо нападёт на славянские поселения. Сихару было поручено втолковать Само, что лишь своевременное изъявление покорности и принесение дани милостивому королю франков Дагоберту спасёт молодое славянское государство.
Долго ехал Сихар по скверным тогдашним дорогам, не раз сменял он надорвавшего силы коня на другого, свежего, и за долгую дорогу он взвесил и обдумал все свои доводы, составил в уме и запомнил наизусть цветистую речь, которая, как ему казалось, должна была склонить к покорности нового и, по всей вероятности, неопытного моравского государя.
Сихар старался представить себе возможные возражения, которые способен выдвинуть Само, и он подготовил свои ответы и убедительные заверения. Ему казалось, что всё предусмотрено им заранее. Но сколько ни думал седовласый франкский посол, искушённый в делах управления и в хитроумном искусстве переговоров, он всё же не предугадал, да и не мог предугадать того, что произошло.
Франкскому послу было отказано в приёме. Все настояния были бесплодны. Само не пожелал с ним разговаривать. Подобной возможности не предвидел ни старый посол, ни отправивший его король Дагоберт. Шли дни... Послу ни разу не удалось увидеть Само, жилище которого оберегала надёжная стража. Удручённый Сихар ясно представил себе встречу, ожидающую его на родине. Холодный пот покрывал всё тело посла при мысли о гневе Дагоберта, когда король услышит, что его посол даже не сумел заставить себя выслушать...
И Сихар решился... Он раздобыл где-то славянскую одежду и, преобразив свою внешность, пробрался неузнанным к дому Само. Спрятавшись вблизи дома, он подстерёг Само, остановил его и, едва превозмогая волнение, стал торопливо, скороговоркою излагать заранее подготовленные и рассчитанные на другие обстоятельства речи. Язык франков был знаком Само... Он вслушался, и когда в прерывистой, сбивчивой речи незнакомца прозвучали слова угрозы и предложение признать зависимость от Дагоберта и возложить на себя бремя дани, Само прервал говорившего, назвал его глупцом, которого следует немедленно выгнать, и, не ожидая окончания речи, повернулся спиною к незадачливому послу и стал от него удаляться обычным неторопливым шагом.
Война с франками была неизбежна. Дагоберт заручился союзниками. К границам земель моравских двигались с юга лангобарды, с юго-запада отряды маркграфа восточной марки, а с запада войско самого короля Дагоберта, стремившегося прорваться в долину Дуная. В 630 г. противники встретились в Чехии у Вогастенбурга (близ нынешних Домажлиц). Три дня длилась жестокая сеча, в которой военное счастье покинуло Дагоберта. Большая часть франкских воинов сложила свои кости в этой битве. Великая добыча досталась соратникам Само.
Славяне не ограничились обороной. Вскоре моравские, чешские, полабские воины ответили на удар врага ударом, вторгшись во Франкскую землю. Повсюду разнеслась весть о славной победе славян. Князь сербов полабских, живших меж Лабою и Салой, — Дерван, сверг франкское иго и присоединил народ полабских сербов к союзу, возглавленному Само.
В 631—632 гг. славянская рать вторглась в Турингию, тесня франков далее на запад. Тщетно пытался Дагоберт приостановить напор славян... он вынужден был освободить саксов от дани, платимой франкам, с тем, чтобы саксы защитили границы франкского государства от натиска славян. Вскоре распалось ослабленное войною франкское государство, разделившееся на три части. Герцог Турингии Раудульф, стремясь к независимости и понимая, на чьей стороне сила, стал добиваться дружбы с Само и, в угоду последнему, стал вести себя заносчиво в переговорах с Дагобертом.
Обширное пространство от притоков Лабы, Шпрее и Гаволи на севере, до высоких Татр на востоке и Альп на юге, занято было объединившимися славянскими племенами, вошедшими, в «Моравскую державу Само». Победитель франков сумел собрать силы, достаточные для борьбы с аварами. За 35 лет своего правления Само не раз воевал с аварами, прежде казавшимися непобедимыми. Уже в 626 г. авары вторглись в Чехию, мстя за неудачу под Константинополем. Впервые встретили они значительное войско, сильное своим оружием, сплочённостью и сознанием правого дела, войско, мужественно ставшее на пути грабителей. С тех пор не раз возобновлялась война с аварами. Она кончалась всякий раз победою славян. От владычества аваров были освобождены чехи и моравы. Воодушевлённые их примером, против вековых притеснителей поднялись и жившие в Далмации хорваты, ударившие на аваров с юга и облегчившие этим натиск чехов и моравов с запада. Немало ненавистных славянам аварских укреплений было взято и разрушено славянскими воинами в ту пору. И хотя аварская сила не была сокрушена окончательно, всё же сила эта была подорвана победоносным оружием славянских воинов ещё в VII в. Час гибели аваров был уже не за горами.
Объединение славянских племён в VII столетии сыграло большую роль. Оно позволило спасти славянские селения от разбойничьих наездов хищников-аваров и на широком пространстве освободить западнославянские племена от франкской зависимости и тяжкой дани.
Однако связь славянских племён, вызванная тревогами и невзгодами бурного времени, была непрочной.
Каждое племя жило по-старинке, было мало связано с другими племенами. Поэтому, вскоре после смерти Само, последовавшей в 662 г., славянские племена вновь обособились. Распаду способствовали также и сыновья Само. Из 22 его сыновей некоторые стали князьями, стремившимися править независимо в своих маленьких княжествах.
ВЕЛИКОМОРАВСКОЕ ГОСУДАРСТВО
Немного мы знаем о западных славянах той поры, когда обширнейшие территории западной и средней Европы входили в состав державы Карла Великого.
Известно, однако, что с помощью бодричей Карлом были разбиты и покорены саксы. Замыслив большой поход против аваров, Карл Великий смог осуществить его лишь при участии славян. Когда в 795 г. маркграф Эрих Фриульский повёл франкское войско против аваров, к аварским становищам подошёл с противоположной стороны перешедший Дунай хорутанский князь Звонимир. Одновременный натиск с двух сторон позволил овладеть аварским укреплением и скрытыми в нём сокровищами, отправленными вскоре ко двору Карла.
Таким образом, славянами была не только подорвана еще во времена Само аварская сила, она была и позднее сокрушена лишь соединёнными усилиями славян и франков. Ратная помощь и боевые заслуги не избавляли славян от дани. Чехи повинны были ежегодно отдавать Карлу 120 быков, платить 500 марок серебром да сверх того посылать вспомогательный отряд в войско Карла.
Хитрый император оценил по-своему помощь и силу славянскую. Боясь усиления славянских племён, Карл запретил франкским купцам ввозить в славянские земли лошадей и оружие. Боясь восстания сербов, живших за Лабою, Карл обязал всех жителей сопредельных с ними земель быть наготове и по первому зову поголовно вступать в войско, призванное подавить опасное движение полабских сербов. Что ни год, славянские послы представали перед императором и приносили положенные дары. Уклонение от дани влекло за собою жестокую расправу с ослушниками.
К середине IX в. распалась на части империя Карла Великого.
Бессильные государи франкские не могли удерживать в повиновении ни собственных франкских феодалов, ни те племена, которые давно тяготились вынужденной данью.
Но не забыли об этой желанной для них дани правители восточно-франкского государства. Помнил о ней и внук Карла Великого — Людовик Немецкий, ставший королём Восточно-франкского государства. Недаром писал в 848 г. знавший королевскую волю франкский летописец: «Земля славян, называемых моравами, подчинена государям нашим и народу нашему со всеми её обитателями... она должна платить нам дань».
Впрочем, Людовик Немецкий понимал, что забытые дедовские права не помогут ему покорить вольнолюбивых славян. Он учитывал и то, что не всегда на его стороне военная сила. Поэтому он прибег к помощи духовенства. Ещё Карлу Великому в деле подчинения славянских племён помогали священники и монахи, навязывавшие язычникам-славянам христианство и стремившиеся проповедью смирения и покорности сковать и отвлечь от борьбы за свою независимость племена, жившие за Лабою и в долинах Моравы и Влтавы.
По воле Карла Великого моравов и чехов взялся приобщить к христианству Зальцбургекий архиепископ Арно, завоевавший себе вскоре печальную славу грубого стяжателя, спешившего обременить опекаемых им славян уплатою десятины и других церковных поборов.
Чехам и моравам IX в. были чужды и непонятны слова христианской проповеди, произносимой чужеземцем-проповедником, странным и чуждым был для них латинский язык церковного богослужения. Зато вымогательства алчных чужеземцев, одетых в монашеские рясы, представали перед славянами во всей их неприглядности.
Общее негодование вызывал архиепископ Арно, присваивавший себе четвёртую часть десятинного сбора и одну треть всех прочих церковных доходов.
Выдающийся современник Карла Великого, учёный Алкуин, ясно понимал, что деятельность Арно и его приспешников вызывает лишь ненависть и сопротивление славян.
Алкуин пытался предостеречь Арно и указал ему на неизбежные последствия его чёрных дел: «Будь проповедником благочестия, — писал Алкуин, — а не вымогателем десятины. Десятина, как говорят, уничтожила веру саксов. Зачем возлагать такое ярмо на непривычную ему шею, ярмо, которое ни мы, ни наши братья не могли бы носить».
Но тщетным был предостерегающий голос Алкуина. Поборы и вымогательства продолжались при Арно, а позднее усилились ещё более. Людовик Немецкий ни в чём не ограничивал жадных немецких монахов, с помощью которых он надеялся подчинить славян и превратить их навсегда в смиренных данников. Притязания немецкого государя и вымогательство послушных ему попов не отдаляли, а приближали час борьбы моравских и чешских славян за свою независимость.
В ту пору у чехов и моравов не было единства. Они управлялись многочисленными князьями, власть которых простиралась на небольшую округу, на входившие в неё селения. В усилении княжеской власти были заинтересованы «лехи» — знатные и богатые люди, завладевшие просторными землями и постепенно подчинившие своей власти соплеменников.
Лехи ревниво оберегали свою земельную собственность; пользуясь своей верховной властью на землю, они выделяли участки земли неимущим односельчанам, заставляя последних отдавать за землю часть урожая.
Чтобы сберечь свои владения и права, лехи в краю моравском и чешском поддерживали сильных князей. Но нескоро власть многочисленных князей уступила бы место власти одного государя, если бы не назойливые требования дани, исходившие от немецкого государя, и не разбойничьи вымогательства жадных немецких епископов и монахов.
С каждым годом всё большее число знатных лехов и рядовых членов племени убеждалось в необходимости противодействия чужеземным насильникам, противодействия, которое становилось возможным лишь при наличии сильной власти, сосредоточенной в руках одного государя.
Таким государем стал один из князей моравских Моймир, талантливый правитель и дипломат. Моймир действовал рассудительно и неторопливо. Год за годом сколачивал он объединение моравских племён и до поры до времени ладил с немецким государем. Он понимал, что преждевременное выступление может обречь на провал все его замыслы.
К 830 г. разросшееся княжество Моймира занимало обширное пространство по рекам Мораве и Дые до Дуная. Оно захватывало территории нынешней Моравии и верхней Австрии. К этому времени все моравы уже подчинились Моймиру, и лишь к востоку от Моравы лежало владение князя Прибины, упорно сопротивлявшегося Моймиру и ради сохранения своей власти ставшего вассалом Людовика Немецкого.
Немецкий государь давно понял, что Моймир является его опасным противником. Собрав своих немецких вассалов и прельстив их славянской добычей, Людовик в 846 г. повёл своё войско в Моравскую землю, неожиданно напал на Моймира и пленил его. Желая посеять разлад среди моравов, хитрый немецкий государь объявил одновременно, что соперник Моймира, восточно-моравский князь Прибина, отныне владеет своими землями не как вассал, а как полноправный собственник моравских и паннонских территорий.
Княжий стол Моймира немецкий завоеватель решил предоставить племяннику пленённого моравского князя — Ростиславу, который показным послушанием и вассальной присягой сумел внушить Людовику доверие к себе.
Выводя из славянских пределов немецкое войско, Людовик надеялся, что Ростислав поведёт усобицу с соседом-соперником Прибиной, а немецкий государь сумеет извлечь выгоду из раздоров двух славянских князей. Но коварный король Людовик ошибся. Ростислав оказался продолжателем дела, начатого его дядей. Подобно своему предшественнику, Ростислав первое время притворялся покорным, и пока его послы заверяли Людовика в послушании моравского князя и подкрепляли свои заверения дарами, — Ростислав неутомимо воздвигал на западных рубежах моравских племён крепкие «гроды». Первоклассной крепостью оказался неприступный для врага Девин, опоясанный высокими стенами, рвом и валом. Таким же образом был укреплён и Велеград, стольный город Ростислава. На берегах пограничной реки Дыи отстроены были крепости — Братислав, Зноим, Градец.
Недолго оставалась тайной деятельность Ростислава, и в 855 г. Людовик снова повёл своё войско в Моравию. Войско это встретило непреодолимую преграду. Славянские воины занимали трудно уязвимую позицию. Об их сопротивление разбился натиск сильного врага. Ростислав, отбив удар врага, сам перешёл в наступление и преследовал отступавших уже на немецкой земле. Затем Ростислав отказал в дани немецкому государю и не посылал более послов ни к Людовику, ни на имперские сеймы. Недавние враги заискивали перед Ростиславом, и сын Людовика Немецкого Карломан искал его поддержки, домогаясь баварской короны. Изгнанный из своей земли немецкими рыцарями, чешский князь Славитех добивался помощи и заступничества Ростислава.
Людовик продолжал считать сильного моравского князя самым опасным противником и тщательно готовился к новому походу. Чтобы обеспечить успех своему грабительскому походу, Людовик прибегнул к содействию папы. Тогдашний папа римский, Николай I, поспешил благословить Людовика на борьбу с Ростиславом, так как рассчитывал, что покорение вольнолюбивых моравов принесёт церкви новые доходы. В августе 864 г. большое немецкое рыцарское войско перешло Дунай и осадило застигнутого врасплох Ростислава в Девине. Моравскому князю пришлось заключить невыгодный для него мир и дать Людовику заложников. После неудачи 864 г. Ростислав деятельно готовился к возобновлению борьбы с заклятыми врагами славянского государства. Он привлекает к союзу чехов и полабских славян, решивших отстаивать свою независимость под боевым знаменем: моравского князя. В поисках новых союзников он заключает дружественный договор с болгарами.
Ещё в конце 862 г. Ростислав вместе с племянником своим Святополком посетил Константинополь. Успешные переговоры с византийским императором Михаилом III позволили разрешить, важнейшую задачу, давно намеченную дальновидным Ростиславом. Ростиславу было ясно, что из подвластных ему земель необходимо изгнать немецких попов и монахов — прямых пособников врага.
Их удаления ждали с нетерпением чехи, моравы, сербы, возмущённые жадностью чужеземного немецкого духовенства.. Однако стародавняя языческая религия не отвечала политическим требованиям бурного времени. Многобожие и пестрота верований создавали лишние перегородки между племенами, признававшими различных богов-покровителей. Древнее язычество становилось помехою делу объединения западнославянских племён. Перед глазами Ростислава был пример Запада, убеждавший в том, что власть государя находит опору в церкви.
Влиянию и силе немецкой католической церкви Ростислав стремился противопоставить силу новой общеславянской христианской церкви, способной ускорить объединение разобщённых племён и помочь укреплению власти западнославянского государя.
Именно эти соображения и привели Ростислава и Святополка в Константинополь. Император Михаил III согласился отправить е Моравию двух братьев — учёных греков Кирилла и Мефодия, проповедников, превосходно знавших славянский язык. В 863 г. братья-проповедники уже находились в столице Ростислава. Проповедь, впервые зазвучавшая не на латыни, а на родном, понятном языке, имела большой успех.
Ещё больший успех имела новая славянская азбука, появление которой связано с именем Кирилла, сумевшего изучить древнейшую славянскую письменность, усовершенствовать её и приспособить к новым требованиям.
Новая азбука способствовала развитию славянской культуры, она обусловила появление славянских рукописей, распространение библии и евангелия на славянском языке, доступном и понятном всюду — от берегов Дуная до Балтики и устья Лабы.
Культурное и политическое значение славянской проповеди и славянской письменности (было огромным и очевидным для всех.
Соперник Ростислава, сын Прибины восточноморавский князь Коцел, отдаёт в науку братьям 50 учеников, желая создать и в своих владениях славянскую церковь, ввести у себя славянскую проповедь и письменность.
Большое и ценное дело братьев-проповедников вызвало бешеную злобу со стороны немецкого духовенства, вынужденного выпустить из рук своих славянскую паству.
Алчные притязания католических попов всячески поддерживал Зальцбургский архиепископ, утверждавший, что Кирилл и Мефодий «незаконно» проповедуют там, где с дедовских времён надлежит якобы проповедовать немецким священникам, подчинённым Зальцбургскому архиепископу. Папа вызвал обоих братьев в Рим.
Сменивший Николая I папа Адриан II понял, что ожесточать славян жестоким приговором и осуждением популярных в славянской среде проповедников было бы неблагоразумно.
Папа снял обвинение с Кирилла и Мефодия и даже одобрил переведённые ими на славянский язык книги.
После смерти Кирилла папа возвёл Мефодия в сан архиепископа Моравии и Паннонии и в 870 г. отпустил его во владения князя Коцела, с нетерпением ожидавшего нового главу западнославянской церкви. Необыкновенная уступчивость и «справедливость» папы Адриана II имела свои причины. Незадолго до того болгарская церковь, возмущённая деспотизмом папского Рима, фактически порвала связи с папским престолом и всецело подчинилась влиянию константинопольского патриарха. Это было внушительным уроком, заставившим Адриана II опасаться, как бы западнославянская церковь не последовала примеру болгарской.
Зимою 872 г. Мефодий был вынужден предстать перед собором немецкого духовенства и тратить время и силы на опровержение злобных выпадов своих непримиримых врагов. Мефодий бросил в лицо этим своим врагам исполненные достоинства .слова: «Я проповедую в области святого Петра, а не Зальцбургского архиепископа, и напрасно отцы из-за жадности и скупости ставят преграду доброму делу».
Однако на обратном пути возвращавшийся с собора Мефодий был вероломно задержан своими врагами в Баварии, где в течение двух с половиной лет оставался в плену.
В те дни, когда братья-проповедники находились в Риме, разгорелась большая война с Людовиком. Не только моравы, но и чехи, сербы, лужичане, бодричи взялись за оружие. Чехи вторглись в Баварию, сербы в Турингию. Сын Людовика Карломан, прорвавшись к стольному городу Ростислава — Велеграду, безуспешно пытался овладеть им. В борьбе с войском Карломана была использована испытанная тактика завлечения противника в глубь страны и изнурения его сил.
Князю Ростиславу донесли, что его племянник Святополк вступил в тайные переговоры с Карломаном. Разгневанный князь приказал задушить племянника, заподозренного в измене. Весть о принятом суровом решении дошла до Святополка, который решил опередить своего дядю, напал на него, взял в плен и отдал в руки Карломана...
Доставленный в немецкие земли, Ростислав был сначала приговорён к казни, затем «милостивый» Людовик заменил Ростиславу смертную казнь ослеплением и заточением в монастырь.
Тяжкое впечатление произвела на моравов участь князя Ростислава. Предавший Ростислава Святополк вызвал ненависть соотечественников, которые пленили Святополка и выдали его немцам. В страну, утратившую государя и полководца, вновь ворвались немецкие рыцари. Пользуясь всеобщей растерянностью, они без боя захватили важнейшие славянские крепости. Моравам навязана была власть двух немецких графов — Вильгельма и Энгискалька. В сопровождении вооружённой челяди, чужеземные наместники-графы разъезжали по стране, вымогали дань, снова отдавали славянские селения в руки ненавистного немецкого духовенства, спешившего возродить все поборы, упразднённые Кириллом и Мефодием. Но недолго длилось засилье чужеземцев. Люди брались за оружие, и лютый страх побуждал чужеземных графов воздерживаться от разъездов и месяцами отсиживаться в укреплённых городах, ставших их убежищем. Наместники становились похожими на пленников и взывали о помощи, требуя от Людовика присылки немецкого войска.
Тем временем Святополк, находившийся в немецкой земле, старался снискать полное доверие Карломана. Он вызвался возглавить немецкое войско и повести его на выручку немецким графам. Обманув бдительность Карломана, Святополк добился командования и во главе немецкого войска прибыл к стенам Велеграда. Он ухитрился завязать тайные сношения с соплеменниками, которые по его сигналу внезапно напали на немецкое войско под Велеградом и уничтожили его.
После гибели немецкого войска Святополк стал государем моравским. Женитьбою на чешской княжне он скрепил союз моравов с чехами. В 872 г. по всей линии восточной границы немецкого государства поднялись славянские племена. В борьбе с вековыми врагами окрепла связь чехов и моравов с их полабскими братьями. В мае 872 г. саксонские и турингские войска беспорядочно отступили под натиском соединённых славянских сил.
Летописцы повествуют о героизме и общем подъёме, воодушевлявшем славян в этой войне. Они рассказывают о женщинах, которые преграждали дорогу бегущим с поля битвы немецким воинам, а затем стаскивали их с коней и секли прутьями.
Святополк решил парализовать главные силы Карломана и для этого отсек от них Дунайскую флотилию, гружённую припасами, обеспечивавшими немецкое войско. Карломан отступил.
В 874 г. Людовик должен был подписать со Святополком Форхсгеймский мирный договор. Этим договором за Моравской державой признавалась полная независимость. Немцы были вынуждены вернуть в Моравию Мефодия, вступившего в управление архиепископством Моравским и Паннонским.
Под управлением Святополка Великоморавская держава приобрела отвоёванную в упорной борьбе и признанную врагами независимость. Она раскинулась на широком пространстве, доходя на северо-востоке до Кракова, простиралась до Магдебурга на севере и до реки Стрый.
Византийский император и историк Константин Багрянородный писал о силе и значении Великоморавской державы. О конце правления Святополка Константин Багрянородный отзывался таким образом:
«Князь Моравский Святополк был храбр и страшен для соседних народов. Он имел трёх сыновей и, готовясь к смерти, разделил страну на три равных части и каждому своему сыну дал отдельную часть. Старшего по возрасту сделал он великим князем, двух остальных подчинив его власти. Он убеждал их хранить мир и согласие на примере: связав три прута, дал преломить старшему, потом другим, и когда не смогли преломить, дал каждому по отдельному пруту из этой связки, и они легко преломили их. И сказал он детям: если вы останетесь в любви и согласии меж собою, никогда враги ваши не одолеют вас и не пленят, если же из честолюбия и несогласия захотите каждый взять верх, враги уничтожат вас совершенно».
Византийский историк воспользовался старинной легендой, часто повторявшейся в древних литературных памятниках.
Вскоре после кончины Святополка (894 г.) Великоморавское государство распалось.
Разумеется, распад Великоморавской державы произошёл не потому, что сыновья Святополка легкомысленно пренебрегли заветами отца и поддались личному честолюбию, толкавшему их к розни.
Сама Великоморавская держава не представляла собой чего-либо похожего на прочно сложившееся национальное государство. Она являлась военным объединением, которое перед лицом хищного врага на время связывала обособленные славянские народы, сплотившиеся для спасения своей независимости, своих очагов и селений. Но отсутствие хозяйственной общности не позволило создаться устойчивому единству, не соединило в рамках одной державы племена, жившие своей обособленной жизнью.
Новое разобщение отдельных племён усугублялось раздорами преемников Святополка, не гнушавшихся союзом с исконными недругами славянства — немецкими рыцарями.
В подобных условиях чехов и моравов постигло новое и грозное бедствие венгерского вторжения, произошедшего в 906 г. О последствиях его говорят мрачные слова Константина Багрянородного: «Оставшиеся из народа рассеялись и убежали к соседним народам — к болгарам, туркам, хорватам и другим».
Сокрушительный натиск венгерской кочевой орды лишь довершил полный и окончательный распад Великоморавского объединения славянских племён.
ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ
Давным-давно, ещё в начале XII в., в Печерском монастыре около Киева, древнерусский летописец составил первую историю русской земли. В своём труде он подводил определённый итог, со своей, конечно, точки зрения, развитию русских земель. Недаром начал он свою рукопись знаменитыми словами: «Вот повести минувших лет, откуда пошла Русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла Русская земля». В этих словах заключается важнейший вопрос о происхождении нашего государства. Конечно, летописец интересовался происхождением Русского государства по-своему; прежде всего его занимала история княжеской династии, правившей в Киеве, и её права на княжение. Этим вопросом очень интересовались и московские «книжники» XV—XVI вв. — с такой же целью: подтверждения права московских великих князей на престол.
Нас же интересует главным образом не история княжеской династии, а вопрос, при каких условиях сложилось огромное древнерусское государство — Киевская Русь. Товарищ Сталин учит, что в основе жизни общества лежит способ производства материальных благ; поэтому для того чтобы изучать историю того или иного народа, того или иного государства, нужно прежде всего выяснить, как люди добывали необходимые им средства к существованию, какими орудиями они пользовались для этого и какие отношения между людьми складывались в результате этой деятельности.
Много специальных книг написано по вопросу о происхождении Киевской Руси. До последнего времени авторы этих книг исходили из мысли, что восточнославянские племена — довольно поздние гости на Восточноевропейской равнине. Мало того, некоторые из них изображали древних славян совершенно дикими, жившими в лесах, подобно зверям и птицам. Другие утверждали, что древнерусское Киевское государство было создано норманнами, пришедшими с севера, со Скандинавского полуострова, а культуру восточные славяне целиком позаимствовали у Византии. Эти точки зрения особенно усердно распространяли буржуазные немецкие учёные, отрицавшие какую бы то ни было роль восточных славян в развитии Восточной Европы.
Много труда, сил и времени пришлось затратить, чтобы опровергнуть эти неправильные взгляды. Заслуга установления истины принадлежит советским учёным: историкам, археологам, этнографам. Из года в год, многочисленные научные экспедиции отправляются во все концы нашей необъятной родины разыскивать поселения наших древних предков. В глухих лесах средней полосы, раскапывая курганные погребения славянских племён: вятичей, кривичей, радимичей и других, разыскивая на берегах рек их поселения, наконец, в степных просторах Украины, советские учёные собрали огромный материал, который, подтверждаемый сохранившимися письменными источниками, позволяет сейчас сделать большие и важные выводы о тысячелетней жизни восточного славянства.
Имеющиеся сейчас данные позволяют считать, что население территории, на которой сложилась позднее Киевская Русь, уже в середине первого тысячелетия до н. э. вело довольно сложное хозяйство: в основе его лежало земледелие. Большую роль играло скотоводство, а охота, рыболовство, лесные промыслы, например бортничество, играли в хозяйстве второстепенную, хотя и весьма существенную роль.
Ещё Геродот, греческий историк и географ V в. до н. э., побывавший в Северном Причерноморье, отмечал плодородие почвы, на которой жители выращивали хлеб, чечевицу, лук, чеснок, лён. и коноплю. Согласно легенде, приводимой Геродотом, местное население научилось земледелию потому, что с неба упали плуг и ярмо. Нас, конечно, интересует не такое «объяснение» происхождения земледелия, а то, что факты, сообщаемые Геродотом, подтверждаются археологическими находками. Вот эти-то находки и доказывают, как давно существует земледелие на территории нашей страны. Ещё в конце XIX в. известный русский археолог Хвойка в бассейне рек Днепра и Днестра, т. е. на территории будущей Киевской Руси, обнаружил интереснейшие остатки поселений, жители которых занимались развитым сельским хозяйством. Эти поселения относились к III—II тысячелетию до н. э. Советские учёные развернули огромную археологическую работу и пришли к изумительным выводам.
Раскапывая эти поселения, учёные интересовались, из чего строились жилища, как и где были расположены различные хозяйственные сооружения, какие орудия и предметы быта употреблялись жителями, как производился посев.
Оказалось, что жилища строились из глины, перемешанной с различными отходами, получаемыми при уборке урожая, — колосьями, попорченными зёрнами, шелухой и т. п. Тщательное исследование этих остатков показало, что жителям прекрасно были известны пшеница, ячмень, просо и рожь. В каждом жилище для хранения зерна были приспособлены «бочки», специальные глиняные сосуды до одного метра высотой, а для размола — каменные зернотёрки. В некоторых селениях зерно хранили в ямах, выкопанных в глинистой почве и специально обожжённых. Сеяли все эти злаки пока ещё вручную, т. е. человек мотыгой разрыхлял почву и после этого сеял. Мотыги были сделаны из рогов оленей и лосей, другие сельскохозяйственные орудия — серпы, например, — из костей крупных животных или из мягких горных пород.
По имени украинского местечка Триполья, где впервые Хвойка обнаружил подобные поселения, вся эта культура названа трипольской.
Византийские авторы VI—VII вв. н. э., знакомые с жизнью восточных славян, писали об изобилии у них различных злаков и скота. «У них большое количество разнообразного скота и плодов земных, лежащих в кучах, в особенности проса и пшеницы», — писал один из этих авторов в обширном руководстве о ведении войны с восточными славянами. В этом руководстве он подробно рекомендует, как лучше действовать византийским отрядам, чтобы иметь возможность ограбить славянские поселения.
Но не только материалы трипольских поселений, расположенных в благодатных южных землях, говорят нам о земледелии восточных славян. По мере продвижения на север, в средней полосе и даже в суровой Карелии, общая картина хозяйственной жизни населения, несмотря на совсем другие климатические условия, не меняется. Греческие и византийские авторы ничего не знали о жизни в этих областях. Тот же Геродот на основании каких-то рассказов, прямо писал, что на север от скифских земель лежит пустыня. Но на самом деле было совсем не так. Основой хозяйства северных восточнославянских племён также было земледелие и скотоводство; но в отличие от южных поселений, иногда очень обширных, северовосточные славянские посёлки были небольшие и находились на сравнительно большом расстоянии друг от друга. Это объясняется тем, что земледелие в лесистой местности, как это ни странно звучит, требовало в то время сравнительно больших пространств, чем на лесостепном юге! Дело в том, что на севере было распространено подсечное мотыжное земледелие. (Эта форма земледелия у некоторых отсталых народов, населявших царскую Россию, например у удмуртов, коми, карелов, сохранилась до начала XIX в.) Первоначально для того, чтобы подготовить участок для посева, вырубался участок леса; поваленным деревьям давали высохнуть, а затем их сжигали. Огромный костёр давал не только массу рыхлой золы, благоприятной для посева, но и размягчал верхний слой почвы. Таким образом, сеять можно было прямо в золу. Для разрыхления неразмягчённой почвы употреблялись деревянные бороны, сплошь и рядом представлявшие собой ствол ели с отрубленными до половины сучьями. Такие бороны назывались «суковатками». Позднее, с распространением железных изделий, для этой цели и для выкорчёвывания оставшихся пней стали применяться железные топоры и мотыги. Приготовленный таким образом участок (новина) служил год-два, а затем требовался новый участок, с новой «порцией» удобрения — золой. В календаре древних славян один из зимних месяцев, когда рубили лес, назывался «сечень» (сечь, т. е. рубить), а затем следовали месяцы «сухой» и «березол», во время которых лес сушился и сжигался. В украинском языке и поныне январь называется «сичень». Старый участок забрасывался и мог быть снова засеян только через 40—60 лет, когда вновь зарастал лесом. Подсечное земледелие требовало огромной затраты труда, поэтому над обработкой участка трудились сообща целые патриархальные семьи, состоявшие из двух-трёх поколений. Труд целого рода при примитивном хозяйственном инвентаре был тесно связан ещё с первобытно-общинным строем. Семьи селились в поселениях, городищах, обычно насчитывавших 70—80 человек; городища возникали на высоком берегу реки и ограждались с другой стороны рвом и земляным валом. Жилища в них представляли из себя или полуземлянки с глинобитной печью — на юге, или бревенчатые наземные постройки, — на севере. В дальнейшем из этих типов жилищ и сложилась бревенчатая изба в среднерусской полосе и хата-мазанка на Украине. Археологические находки в различных районах — около Минска, на реке Шексне, на Ладоге и в других местах говорят о распространении там различных злаков. По вычислению некоторых учёных, горох и бобы, найденные в поселениях VI—VIII вв. н. э. около Минска, возделывались там около полутора тысяч лет назад.
Народная память, запёчатлённая в былинах, сохранила до нашего времени воспоминания этого далёкого времени. В некоторых вариантах былины о знаменитом русском богатыре Илье Муромце говорится, что после своего чудесного исцеления от болезни, из-за которой он на печи «сиднем сидел» тридцать лет и три года, пошёл Илья помогать своим родителям-крестьянам.
Пошёл Илья ко родителю, ко батюшке
На тую на работу на крестьянскую.
Очистить надо как от дубья-колодья:
Он дубьё-колодьё всё повырубил.
Шёл век за веком, развивались орудия труда; на севере и на юге вместо первобытной системы земледелия появляется более развитая форма — земледелие пашенное. На смену мотыги и бороне-суковатке появляются сохи, железные плуги, косы и серпы; труд человека заменяется тяговой силой лошади.
В отдельных селениях появляются кузницы с горнами, в которых вырабатывались сельскохозяйственные орудия. Большое количество этих орудий, найденных в отдельных мастерских, говорит о том, что они предназначались не только для обеспечения жителей одного селения, но и для продажи в другие селения. Улучшение орудий труда изменило жизнь славянских поселений. Вместо первобытного патриархального хозяйства, в котором принимали участие члены всего рода, появляется отдельное хозяйство, которое могла вести одна семья.
Времена, когда восточные славяне «живяху каждо с своим родом» проходили, образовывалась сельская община (вервь) из самостоятельных отдельных хозяйств, уже не связанных родственными отношениями. Поля, прежде представлявшие собой временные участки, точно размериваются, межи фиксируют их границы и принадлежность определённому лицу. Появляется частная собственность. Эти изменения также сохранились в народной памяти. Былина о Микуле Селяниновиче рассказывает, как он один пашет:
На кобылушку свою погукивает,
С края в край бороздочки
помётывает.
…………………………………….
У оратая кобылка-то соловая,
На кобылке гужики шелковые.
……………………………………
Сошка у оратая дубовая,
А омешики на сошке чиста
серебра.
Многовековая сельскохозяйственная деятельность отразилась в многочисленных русских пословицах и поговорках, отражающих хозяйственные заботы: февраль — бокогрей, с боку солнце припекает; будет в начале февраля снег — будет весной дождик; а коли в мае дождь — будет и рожь; май холодный — год хлебородный; июль — страдник, работник и т. д.
С изменением орудий труда увеличивается запашка, а вместе с тем и количество получаемых продуктов. Микула Селянинович идёт по пашне — «в край уедет — и другого не видать».
Изучение костей животных, найденных при раскопках древнерусских жилищ VIII—IX вв., говорит о том, что скотоводство играло гораздо большее значение в хозяйстве восточного славянина, чем охота. Например, данные раскопок Старой Ладоги дают 85% костей домашних животных и всего 15% костей диких. Из домашних животных чаще всего употреблялись в пищу свиньи, затем крупный рогатый скот, значительно меньше — мелкий скот (овцы) и очень редко лошади. Охота уже преследовала своей целью не получение средств питания, а добычу драгоценной пушнины, шедшей на уплату дани князьям или на обмен. В лесах того времени неосторожный путник мог случайно погибнуть от лука-самострела, установленного охотником на звериной тропе. На просеках или лесных прогалинах можно было увидеть «перевесища», т. е. сети, в которых запутывались дикие птицы. Важную подсобную роль в хозяйстве имело рыболовство; реки — и южные и северные — были очень богаты рыбой. Нередко при раскопках находили кости огромных щукг сомов, лещей, осетров, белорыбиц. Их ловили неводом или бреднем, били острогой, ловили на крючок или с помощью заколов, когда небольшие реки перегораживались своеобразным забором и в промежутках между отдельными планками ставились самоловные снасти.
Наконец, большое значение в хозяйстве восточного славянина играло пчеловодство, или бортничество (борть — дерево с дуплом, в котором жили пчёлы). Как правило, мёд и воск добывались от лесных пчёл. Каждый, нашедший в лесу дупло с пчёлами, мог поставить свой знак собственности — «знамя», и по установившемуся обычаю никто другой не имел права тронуть такое дерево. В лесах делали также искусственные дупла, подвешивали на деревьях специальные колоды, где селились отроившиеся пчёлы. Промысел этот был опасен, так как пчёлы селились сплошь и рядом на высоких вековых деревьях и добраться до них было нелегко. Для этого употреблялись специальные железные шипы, ремнями привязываемые к ногам древолазов.
Всё это говорит о том, что восточные славяне издавна населяли территорию нашей родины, где развивалась их многообразная хозяйственная жизнь, приведшая к разложению первобытнообщинного строя и созданию первых государственных объединений.
Родовые отношения распадаются, когда отдельные семьи начинают захватывать и добывать больше продуктов. Родовые отношения сменяются военной демократией; появившиеся племенные вожди и их дружинники выделяются из среды общинников. Они начинают совершать иногда очень далёкие походы с целью обогащения, добывая пленников (рабов), скот и другие ценности. Возникает имущественное неравенство; в руках отдельных лиц сосредоточивались большие богатства. Об этом свидетельствуют многочисленные клады арабских монет, найденных в славянских землях и относящихся к VIII—IX вв. н. э.
Об этом свидетельствуют и погребальные курганы этого времени, резко отличающиеся друг от друга: в одних можжно найти только бедную утварь (глиняные горшки, ножи и т. д.) и обычное оружие, в других курганах — дорогое оружие, богатые одежды, кости убитых людей-рабов.
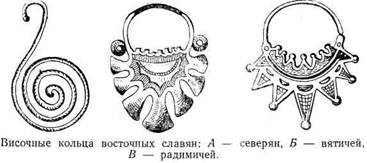
Так складывались два основных класса будущего феодального общества — класс землевладельцев и класс зависимого от них крестьянства.
С постепенным отделением ремесла от сельского хозяйства образуются города — первые центры промышленного и торгового населения, главным занятием которого становится ремесло и торговля. Появляются они там, где было больше всего сельского населения, нуждавшегося в изделиях ремесла. Имеющиеся данные говорят о существовании на Руси в IX—X вв., по крайней мере, 26 городов. Подавляющее большинство их носит славянское название, и поэтому не могло быть основано варягами (Белгород, Белоозеро, Вышгород, Новгодор, Ростов, Чернигов, Изборск и другие). Некоторые из них по данным летописи являлись главными политическими и торговыми центрами для окрестного населения (Киев, Новгород, Полоцк).
Распад родовых отношений вёл к образованию классового общества. Уже к IV в. н. э. образуются первые государственные объединения у славян. В VI в. н. э. известно объединение дулебов, а несколько позднее, к VIII—IX вв., восточные славяне, связанные между собой одним языком, верованиями, общественными отношениями, образуют три отдельных государственных объединения — Славию (с центром в Новгороде), Куявию (вокруг Киева) и Артанию (в Приазовье). Объединение в конце IX в. Новгорода и Киева послужило началом образования Киевской Руси.
В летописи записано, что объединение Новгорода и Киева произошло в 882 г. С этого времени Киев стал центром древнерусского Киевского государства, «матерью городов русских».
Предание, передаваемое нам летописью, говорит о том, что древний Киев существовал задолго до образования единого древнерусского государства; летописец рассказывает, что построили Киев три брата-князя, Кий, Щек, Хорив и их сестра Любедь. Это предание было записано уже в VII в. н. э. одним армянским историком. Известны и другие имена местных князей — «лучших», или «нарочитых», людей, сидевших в своих укреплённых городах и властвовавших над окрестным населением. Данные эти свидетельствуют о том, что образование древнерусского государства произошло путём объединения уже развитых в общественном и экономическом отношении отдельных восточнославянских областей.
Киевские князья Олег и Игорь заставили древлян, северян, родимичей, дулебов, кривичей признать свою власть и платить им дань.
Однако вскоре и князьям, и их дружинникам, и местной знати дани уже нехватает. Они начинают захватывать удобные для обработки земли. Появляется крупное землевладение князей и бояр. На их землях работают зависимые люди. Лучшие охотничьи угодья и рыбные ловли становятся княжеской собственностью. Летопись говорит о существовании специальных княжеских «бобровых ловищ», «тетеревников». В княжеских или боярских дворах сосредоточивается такое количество всякого добра, что в междоусобных войнах враги, захватывая такие дворы, не могли всего вывезти. Летопись рассказывает (правда, о более позднем времени), как в 1146 г. было разграблено «сельцо» князя Игоря Ольговича. В погребах княжеского двора враги нашли так много вина, мёда, «тяжкого товара, всякого до железа и меди», что предпочли всё сжечь. Той же участи подверглось гумно с 900 стогами. Четыре тысячи лошадей они угнали с собой.
О развитии хозяйственной деятельности киевской знати, князей и бояр, говорят активные торговые и международные отношения Киевской Руси с соседними государствами.
С VI в. н. э. восточные славяне стали играть важную роль в международной жизни того времени. Они воюют и торгуют не только со своими соседями, печенегами, хазарами, прибалтийскими племенами, но и с заморскими странами (Византией, Арабским халифатом, Центральной и Северной Европой).
Восточная Римская империя (иначе называемая Византия) в это время переживала кризис. Славянские племена вторгались в её пределы, захватывали земли на Балканском полуострове и образовывали там свои славянские государства.
Византийские войска, прекрасно вооружённые, с опытными военачальниками во главе, терпели поражение за поражением, а их вооружение и военная техника попадали в руки победителей. В 597 г. славяне осадили город Фесалоннику. Как пишет византийский хронист, славяне имели всё, что нужно было по тому времени для осады хорошо укреплённых крепостей. Они подготовили осадные машины и железные тараны, огромные машины для метания камней. Такие машины назывались черепахами. Черепахи были пододвинуты к самым стенам города. Они были четырёхугольные, на широких основаниях. На верху их были укреплены обитые железом цилиндры для метания камней; внизу помещались воины, обслуживавшие метательные приборы и тараны, которыми пробивались стены. Чтобы осаждённые не могли нанести вреда воинам, черепахи были обиты досками, а чтобы осаждённые не смогли поджечь эти машины, сбрасывая со стен горючие вещества, черепахи были покрыты кожами только что убитых быков и верблюдов. Такие осадные машины были грозным оружием, и славяне прекрасно умели их применять. Сделав все необходимые приготовления, славянские войска начали обстрел города. Огромное количество камней и стрел дождём полетело в город. Защитники его не могли даже выглянуть из-за стен.
Византийцы были вынуждены признать, что славяне воюют лучше их самих. Напрасно византийские императоры строили десятки крепостей на Балканском полуострове, — они не могли остановить волны славянских нашествий. В результате этих нашествий рушился рабовладельческий строй Византии и совершался переход к более прогрессивной форме общественных отношений — к феодализму.
В потоке славянских племён, наступавших на Византию, были и восточные славяне. Византийский хронист Феофан рассказывает, что однажды к императору Маврикию, собиравшему войска во Фракии, привели трёх странников-славян. Кроме музыкальных инструментов — гуслей — с ними ничего не было. Они рассказали, что живут на берегу Балтийского моря и шли на юг 15 месяцев, чтобы договориться с южными племенами, аварами, о совместном походе на Византию.
К IX в. между восточными славянами, Византией, Западной Европой и странами Арабского халифата установились постоянные торговые сношения. Оживлённым торговым связям способствовало то, что из славянских земель шли удобные водные пути.
Обилие рек и труднопроходимые леса очень давно способствовали развитию у восточных славян судоходства как средства передвижения. Восточные славяне прекрасно умели выделывать речные лёгкие суда, которые нетрудно было перетаскивать по суше, когда речные пороги препятствовали дальнейшему плаванию или когда нужно было попасть из одной реки в другую. Обычно лодки выделывались из целого ствола огромных деревьев, которых много было в девственных лесах среднерусской равнины. Такие лодки назывались «однодеревки». Вся работа производилась топором и теслом. Ствол очищался от сучьев и коры, выделывался сначала топором, а потом отделывался теслом. После этого полученная колода распаривалась и начиналась разводка, т. е. расширение бортов будущей лодки. Чтобы она при этом не дала трещины, нос и корма крепко связывались. Челноки иногда делались очень небольшие, всего на несколько человек, а иногда огромных размеров — до 20 метров в длину и до 3 метров в ширину. Какие же большие нужны были для этого деревья! На таких ладьях можно было отважиться путешествовать и по морям. Только предварительно, для устойчивости при морской волне, их обшивали досками. Ходили ладьи на вёслах, хотя иногда применялся и парусный ход. Позднее появился и другой тип судна — «насады», те же ладьи, только с высокими бортами из «нашитых» досок и палубой, так что гребцы и воины были защищены от неприятельских стрел.
Путешествие в те времена было делом опасным. Поэтому отправлявшийся в торговое предприятие купец должен был быть прежде всего воином. Такие славянские купцы-дружинники становятся постоянными гостями в Западной Европе и на Востоке.
Византийские и арабские писатели рассказывают нам, как восточнославянские купцы многочисленными караванами на ладьях, верблюдах, лошадях прибывали в столицу Хазарского государства — Итиль, в далёкий сказочный Багдад, Константинополь сбывать меха, воск, мёд, рабов. Европейские хронисты рассказывают о приездах восточных славян с торговыми целями в Германию, Польшу, Скандинавию... Конечно, в этой торговле не был заинтересован славянин-крестьянин. Он жил, как и много веков позже, своим натуральным хозяйством, попрежнему добывая своими руками необходимые средства к существованию. В торговле были заинтересованы князья и их дружинники, они хотели получить дорогие восточные ткани, вино, драгоценности в обмен на отнятые у крестьян меха, мёд, воск.
Иноземные византийские, арабские, норманские купцы, в свою очередь, ехали на Русь. Киев и Новгород становятся крупными центрами международной торговли, на их городских рынках в пёстрой толпе можно было услышать самые различные говоры. Недаром отец князя Владимира Мономаха, князь Всеволод Ярославич (XI в..), «дома седя, изумеяше [т. е. изучил] пять язык».
О путешествиях в Константинополь славянских торговцев нам очень подробно рассказывает византийский император Константин Багрянородный (X в.) в своём сочинении «Об управлении империей».
Ещё в ноябре князья отправлялись в полюдье собирать дань; к апрелю они возвращались с ценными мехами и другими ценными предметами, которые шли на продажу на иноземные рынки.
Погода наиболее благоприятствовала опасным путешествиям в «Царьград» с конца июня и до начала августа. К. этому времени славянские «однодеревки» собирались из Новгорода, Смоленска, Любеча и Чернигова около Киева в Витичеве на Днепре. Там их обычно уже дожидались киевские «однодеревки». Дальше купеческий караван двигался уже сообща к Днепровским порогам, преграждавшим дальнейший путь. Славянские путешественники хорошо знали эти пороги. Каждый порог имел даже особое название. Больше всего трудностей представляли семь порогов. Первый из них назывался «Не спи». Константин Багрянородный так описывает его: «Посредине его выступают обрывистые и высокие скалы наподобие островков. Стремясь к ним и поднимаясь, а оттуда свергаясь вниз, вода производит сильный шум и внушает страх. Посему руссы не осмеливаются проходить среди этих островов, но причалив вблизи и высадив людей на сушу, а вещи оставив в однодеревках, после этого, нагие, ощупывают ногами дно, чтобы не наткнуться на какой-нибудь камень; при этом одни толкают шестами нос лодки, а другие — середину, третьи корму. Таким образом, они со всеми предосторожностями проходят этот первый порог по изгибу речного берега. Пройдя этот порог, они опять, приняв с берега остальных, отплывают и достигают другого порога...» То же самое происходит на втором и третьем пороге. Но четвёртый, Ненасытецкий порог доставлял путешественникам очень много хлопот. Он тянулся на 850 метров, вода падала тут с высоты больше чем на четыре метра, и ладьи приходилось уже перетаскивать по суше. Путники тут «неусыпно держат стражу из-за печенегов», кочевников южных степей постоянно подстерегавших славянские караваны. Остальные пороги не доставляли особых хлопот путешественникам, пока они не доходили до Крарийской переправы. Это было самое опасное место пути. Днепр, сжатый высокими скалистыми берегами, в этом месте был настолько узким, что стрелы кочевников, подстерегавших путников, долетали с одного берега до другого. В этом месте произошел в 971 г. последний смертельный бой поредевших русских дружин князя Святослава, возвращавшихся из Болгарии в Киев, с печенегами.
Но вот ладьи благополучно преодолевали это препятствие и показывался остров Хортица. Путники высаживались и в знак избавления от опасности приносили около огромного дуба жертвоприношения. Константин Багрянородный по этому поводу рассказывает: «Они приносят в жертву живых петухов кругом втыкают стрелы, а иные приносят куски хлеба, мясо и что имеет каждый, как требует их .обычай. Насчёт петухов они бросают жребии — зарезать ли их, или съесть, или пустить живыми».
Дальше путь не представлял особой опасности. Четыре дня шли ладьи по широко раскинувшимся водам Днепра. Вокруг расстилались безбрежные степи, изредка на берегах показывались всадники — печенеги, теперь уже не опасные для путешественников. Появлялись они внезапно, и так же внезапно исчезали в степных просторах. В те далёкие времена украинские степи имели совсем не такой вид, как в наше время. Прошли века, и человек изменил внешний вид степей, поставив их пышное плодородие на службу себе. Только в заповедниках можно увидеть облик девственной степи, где, по словам знаменитого русского учёного Докучаева, рос «ковыль, по пояс человека, где берёза, бобовник и вишенник образуют хотя и низкорослые, но густые, часто непролазные кустарники, упорно выдерживающие борьбу со скотом и человеком, где кишат суслики, во множестве водится дрофа и доживает свой век доисторический байбак»; такая степь «иногда кажется так густо занятой каким-либо растением, что ничто другое, повидимому, и уместиться здесь не может: то покрывается она лиловыми пятнами — это зацвели анемоны; то целые луговины принимают голубой, лазурный колорит — это распустились незабудки; в другое время можно встретить большие участки, покрытые душистым чабером».
Наконец, путники достигали устья Днепра и высаживались на острове Березань, где- происходила оснастка ладей для морского плавания — ставили мачты, паруса, делали небольшой ремонт. При благоприятных условиях путники достигали Березани за 10, а обычно за 15 дней. Дальше путь шёл вдоль побережья Чёрного моря — к устью Дуная, мимо болгарских берегов, к Царьграду. Тут их опять подстерегали печенеги, только и следившие за тем, когда разбушевавшиеся морские волны выбросят однодеревки на берег.
Но вот показались крепостные башни Царьграда — Константинополя, крупнейшего и богатейшего в то время международного торгового центра. «Здесь, — по словам Константина Багрянородного, — оканчивается их [т. е. славянских путешественников-торговцев] многострадальное, страшное, трудное и тяжёлое плавание». Весь этот путь обычно совершался за 30—40 дней.
Был известен восточным славянам и другой, более длинный и сложный путь в Царьград. О нём нам свидетельствует русский летописец: «В море Варяжское и по тому морю ити до Рима [т. е. вокруг Западной Европы], а от Рима прити по тому же морю к Цесарю-городу...» Эти слова летописца подтверждает арабский писатель Аль-Массуди (X в.); он пишет, что жители города Ладоги «путешествуют с товарами в Андалус [т. е. Испанию], Румию [Рим], Константинию [Константинополь] и Хазар».
О пребывании в Константинополе славянских купцов-дружинников нам рассказывают договоры, заключённые киевскими князьями Олегом и Игорем с византийскими императорами ещё в первой половине X в. Попав, так или иначе, в Константинополь, славянские путешественники должны были предъявить выданные им ещё на Руси грамоты, в которых перечислялись все их корабли. После этого они получали право поселиться в монастыре святого Мамонта около города. Недоверчивые византийские власти сильно побаивались даже прибывших в ограниченном количестве славянских дружинников. Входить в город они могли только с византийским представителем в одни ворота, без оружия и не более 50 человек. Если они явились с товарами, то византийские власти им отпускали продукты — хлеб, вино, мясо, рыбу, овощи — на 6 месяцев, а на обратный путь всё необходимое — пищу, якоря, канаты, паруса. Оставаться на зиму в Царьграде русские купцы не могли и, окончив свои дела, в конце лета — начале осени отплывали обратно.
В IX и в X вв. только славянские купцы имели право беспошлинной торговли в Константинополе, вывозя оттуда товары для Скандинавии, Прибалтики, Германии. Это право было вырвано у византийских императоров или силой, военными походами, или как уступка за военную же помощь самой Византии.
Грозно подступали тогда славянские дружины под Царьград... Князь Олег привёл с собой в 907 г., как рассказывает летопись, две тысячи кораблей, опустошил окрестности города, принудил императора к миру и в знак победы повесил свой щит на воротах Царьграда.
Ещё большее значение для русских земель имел в это время восточный торговый путь — в Хазарию и далее по Каспийскому морю на Ближний Восток. Восточная торговля славян началась уже в VIII в., а многочисленные клады арабских монет — серебряных диргем, — разбросанные по всей территории Восточной Европы, говорят о широком распространении этой торговли. Некоторые из этих кладов по своей ценности представляли настоящее сокровище. В городе Муроме, например, был найден клад арабских диргем весом в 42 кг, насчитывавший 11 тысяч монет, а клад, найденный в Великих Луках, весил около 100 кг.
В столице Хазарского государства — Итиле (на Волге) — были специальные русские кварталы, которые, по словам одного писателя того времени, были больше, чем, например, итальянский город Палермо. В Итиле, для решения спорных торговых вопросов, было 7 судей различных национальностей, из них один русский. Арабские писатели, сами бывавшие с торговыми или дипломатическими целями в волжских городах, оставили нам описание внешнего вида славянских купцов, их обычаев,«оружия и т. п. По словам Ибн-Фадлана (начало X в.), русские купцы, прибывшие в Итиль, были высокими, стройными людьми; Ибн-Фадлан сравнивает их с пальмовыми деревьями. Описывая похороны знатного русского дружинника, Ибн-Фадлан пишет, что покойного одели в «шаровары, и обмотки, и сапоги, и куртку, и кафтан парчёвый с пуговицами из золота, и надели ему на голову шапку из парчи, соболевую». Поверх этой одежды накидывался плащ, застёгиваемый особой застёжкой — фибулой.
Дальше Итиля русские купцы шли по Каспийскому морю в Закавказье; они посещали города Бердаа, Рей, Тавриз и даже добирались до Багдада. В IX в. стали налаживаться постоянные торговые связи Руси с Центральной Европой и со Скандинавией.
Вместе с русскими товарами через Киев туда шли и византийские товары. В Центральную Европу путь шёл от Киева через Краков и дальше или в Прагу, или на Вену. По Финскому заливу русские купцы-дружинники выбирались в Балтийское море, шли на остров Готланд, в скандинавские города.
Привлечённые богатством Киевской Руси, в русские города проникают отряды варягов с целью пограбить славянские поселения или наняться на службу к какому-нибудь князю, а потом спуститься дальше на юг, в заманчиво богатый Константинополь. Такие разбойничьи дружины ходили на длинных быстроходных судах с богатой резьбой и раскраской, на носу была устрашающая резная голова дракона или какого-нибудь зверя. Однако никакого следа в жизни восточных славян варяги не оставили. Восточные славяне были гораздо более культурными, чем бродячие норманские охотники за чужим добром.
Образование древнерусского Киевского государства было результатом многовекового развития восточных славянских племён. Сейчас у нас есть все основания считать, что в X в. восточнославянские племена не только жили развитой хозяйственной жизнью, но и имели уже письменность. Договоры с Византией в начале X в. свидетельствуют о существовании на Руси письменности. Распространена она была и в быту. Летом 1950 г. недалеко от Смоленска экспедиция московских археологов обнаружила в одном кургане глиняный горшок с надписью. После изучения её археологи пришли к выводу, что надпись на горшке относится к X в.
Вполне естественно, что Киевское государство заняло важное место в тогдашней международной жизни, не только не уступая по уровню своего развития другим государствам, но и значительно превосходя их по своей культуре.
ДРЕВНИЕ ГЕРМАНЦЫ
(ПО ЮЛИЮ ЦЕЗАРЮ И ТАЦИТУ)
В те далёкие от нас времена, когда на побережье Средиземного моря выросла огромная Римская империя, на безбрежных пространствах Северной и Восточной Европы жили многочисленные варварские племена: кельты, германцы, славяне, литовцы, финны и др. Старые культурные народы — греки и римляне — называли их варварами, т. е. чужеземцами, но так как эти чужеземцы были ещё дикарями, то слово «варвар» и стало обозначать некультурного, грубого, необразованного человека.
Греки и римляне жили на тёплом и светлом юге, у ласкового Средиземного моря, под горячим солнцем, и природа Северной Европы казалась им такой же суровой и неприветливой, как и её обитатели. Да они и мало интересовались всем этим. Но с I века до новой эры варвары, особенно германцы, стали тревожить римлян своими нападениями, и римлянам волей-неволей пришлось познакомиться ближе со своими недругами. Скоро они повстречались с ними лицом к лицу. В 50-х годах I в.. до новой эры. знаменитый римский полководец Цезарь предпринял завоевание Галлии— так называлась в то время страна, где сейчас находится Франция. Тут-то Цезарь и встретился впервые с германцами. Его интересные наблюдения дошли до нас благодаря тому, что он оставил нам своё сочинение «Записки о Галльской войне».
Германцы жили к востоку от Рейна. Страна эта в то время была ещё дикой и малозаселённой. Дремучие леса и непроходимые болота отделяли друг от друга свободные пространства, на которых можно было пасти скот и засевать овёс и ячмень. Так как германцы ещё очень плохо обрабатывали землю и не умели её удобрять, им часто приходилось забрасывать одни поля и переходить к другим, перебираясь таким образом с места на место. Так как к западу от Рейна, где жили кельты, было меньше лесов и земля была лучше обработана, германцы старались перейти через Рейн на кельтскую сторону и отобрать у кельтов землю. В 50-х годах I века до новой эры сильное германское племя свевов, во главе со своим вождём Ариовистом, перешло через Рейн и попробовало захватить земли в южной Галлии, но Цезарь, воевавший в это время в Галлии, вытеснил их обратно за Рейн. Цезарь непосредственно наблюдал жизнь и обычаи германцев, и вот что он о них рассказывает.
Германцы питаются не столько хлебом, сколько молоком, сыром и мясом. Землю они умеют обрабатывать, но земледелием занимаются не очень усердно. Землю германцы занимают сообща, целым племенем, и затем старейшины племени отводят землю каждому роду, а родичи сообща эту землю обрабатывают. Таким образом, германцы не только сообща владели землёю, но и сообща её обрабатывали. У них, следовательно, не было частной собственности на землю. Земля была им нужна не только для земледелия, но и для скотоводства. Больше всего они любили охоту. Они, как мы видели, питались главным образом молоком, сыром и мясом, т. е. продуктами скотоводства и охоты. Как и все дикие племена, германцы были воинственны и жестоки. Для охоты нужны большие пространства, и каждое племя, захватив страну, старалось не пускать в неё другие племена. Поэтому между племенами происходили постоянные истребительные войны. «Величайшей сдавай, — говорит Цезарь, — пользуется у германцев то племя, которое, разорив ряд соседних областей, окружает себя как можно более обширными пустынями». Германцы хвалились тем, что около их племён не осмеливался никто селиться.
Сражались они обыкновенно пешими, хотя имели лошадей и умели на них ездить. Цезарь рассказывает: «Во время конных боёв они часто соскакивают с коней и сражаются пешие: коней, же они приучили оставаться в том же месте, а в случае надобности они быстро вновь садятся на них: по их понятиям, нет ничего более постыдного и малодушного, как пользоваться сёдлами. Поэтому они осмеливаются — даже будучи в незначительном, количестве — делать нападения на какое угодно число всадников, употребляющих седла.
Войну и грабёж они считают благородным занятием. «Этих людей легче убедить вызвать на бой врага и получить раны, чем пахать землю и выжидать урожая; даже больше: они считают леностью и малодушием приобретать потом то, что можно добыть кровью», — сказал о германцах несколько позже знаменитый римский историк Тацит. Как и все дикие племена, которым приходилось отстаивать своё существование в ожесточённой борьбе с другими племенами, германцы больше всего ценили военное воспитание. Они считали, что война воспитывает юношество, закаляет его и мешает ему пребывать в праздности и лени. Прежде чем затеять нападение на соседнее племя, они собирались на сходку — вече, выбирали себе вождя и клялись ему храбро следовать за ним и не покидать его ни при каких обстоятельствах. Тот, кто давал такое обещание, а потом отказывался и не шёл за вождём, считался трусом и изменником, и все относились к нему с презрением.
В мирное же время племя управлялось старейшинами, которые собирали племя на сходки — народные собрания — и здесь решали все дела, судили преступников, разбирали споры.
Германцы жили в стране, в которой были дремучие леса. В этих лесах водились дикие звери, и охота на них была важным занятием для германцев.
То, что рассказывает Цезарь о диких зверях их страны, показывает, что в древности там существовали такие породы зверей, каких теперь там нет вовсе. Цезарь, например, рассказывает, что в большом Герцинском лесу у истоков Дуная и Рейна водился бык-единорог, видом похожий на большого оленя. Посредине лба между ушами у него был большой рог. От его верхушки расходились ветви, подобно пальцам ладони. В лесу водилось много лосей.
Цезарь так описывает охоту на лосей. «Для отдыха лоси не ложатся, а если поваленные по какому-либо случаю они упадут, то они уже не могут подняться. Ложе им заменяет дерево: они прислоняются к нему, лишь немного наклонившись, и таким образом отдыхают. И когда охотники заметят по следам, куда они удаляются на отдых, то на этом месте они подкапывают у всех деревьев корни или подрубают ствол, но так, чтобы дерево сохраняло такой вид, как будто оно стоит. И когда лоси прислонятся к такому дереву, то оно падает, а вместе с ним падает и лось. Тут его захватывает охотник».
Водились в Германии того времени и зубры, которые теперь почти вымерли. Цезарь, вероятно, сам никогда не видел зубров. Поэтому он так описывает их внешний вид: «Они по своим размерам немного меньше слонов, а по наружному виду, строению и окраске похожи на быков. Они отличаются большой силой и быстротою. Увидев какого-нибудь человека или животное, они не дают им пощады. Германцы усердно охотятся на этого зверя, ловят его при помощи ям и убивают. Особенно любят эту охоту юноши, так как для них она — хорошее упражнение. И тот, кто убьёт много зубров, показывает всем их рога и этим заслуживает похвалу от своих родичей и соплеменников. Привыкнуть к человеку и сделаться домашними зубры не могут, даже если их ловят маленькими. Рога их по величине и виду своему во многом отличаются от рогов наших быков. Германцы хранят их, отделывают по краям серебром и пользуются ими как чашами на самых роскошных пирах».
Сто пятьдесят лег спустя после походов Цезаря в Галлию о тех же германцах много интересного рассказывал римский историк Тацит. В отличие от Цезаря он не наблюдал германцев непосредственно. Он собирал сведения о них у современных ему географов, расспрашивал купцов, которые вели с германцами торговлю, видел пленных германцев в Риме. Но как учёный и историк Тацит, изображая германцев в своем замечательном сочинении «Германия», считал возможным говорить о них лишь то, что он считал правильным.
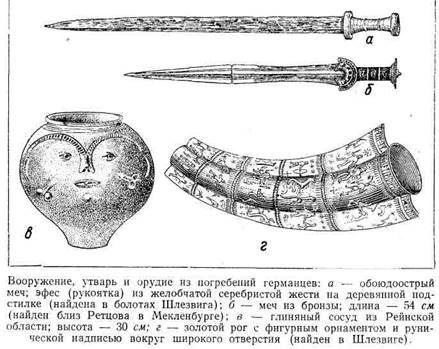
За тот полуторавековый промежуток времени, который разделяет «Записки о Галльской войне» Цезаря и «Германию» Тацита, многое изменилось в жизни германцев. Они стали усерднее заниматься земледелием, меньше бродили с места на место. Появились у них и постоянные селения — деревни.
Заняв сообща землю, германцы во времена Тацита уже не обрабатывали её совместно, а делили её между семьями. Каждая семья теперь обрабатывала отдельно то поле, которое ей досталось в результате раздела, произведённого с общего согласия и утверждённого на общей сходке.
Земля, таким образом, попрежнему оставалась общим достоянием, принадлежа всей деревне. Частной собственности на землю германцы еще не знали, но они уже научились пользоваться землёю раздельно, и каждая семья вела своё самостоятельное хозяйство.
Стало исчезать у германцев и равенство. Раньше, при Цезаре, у них выделялись и почитались лишь родовые старейшины, вожди; все остальные были одинаково свободные и равные члены племени. Теперь у них появились, богатые люди и люди среднего достатка, люди свободные и даже знатные, с одной стороны, и рабы и полусвободные — с другой. При дележе и переделах земли богатая семья, у которой было много рабов, стала получать больше земли, чем простые свободные члены племени и рода. Война, грабёж и торговля с римлянами обогащали часть племени, и эти более богатые люди становились и более знатными. Их дети, даже когда они были ещё юношами, пользовались часто не меньшим почётом, чем старейшины. Но они попрежнему — варвары, грубые и малокультурные племена, враждующие друг с другом, скотоводы и охотники в большей степени, чем земледельцы. «Германцы — говорит Тацит, — любят, чтобы скота было много». Страна их изобильна скотом, но он большей частью малорослый, даже рабочий скот не имеет внушительного вида и не может похвастаться рогами.
Как и все варвары, германцы в своём хозяйстве производят для себя всё нужное сами и лишь в редких случаях продают излишки. Поэтому им не нужны деньги, и пользуются они ими лишь в редких случаях. «В золоте и серебре боги им отказали, — рассказывает Тацит, — не знаю уж, по благосклонности ли к ним, или же потому, что разгневались на них. Впрочем, германцы не одержимы такою страстью к обладанию драгоценными металлами и пользованию ими, как другие народы. У них можно видеть подаренные их послам и старейшинам серебряные сосуды не в меньшем пренебрежении, чем глиняные. Впрочем, ближайшие к Рейну и Дунаю племена ценят золото и серебро для употребления их при торговле: они ценят некоторые виды наших [т. е. римских] монет и отдают им предпочтение. Живущие же внутри страны пользуются более простой и древней формой торговли, а именно — меновой. Из монет они больше всего одобряют старинные и давно известные мелкие римские монеты. Вообще они больше пользуются серебром, а не золотом, не потому, что они любят серебро, а потому, что торговля у них мелкая и их товары дёшевы, легче расплачиваться серебром, чем золотом.
Когда Тацит писал свою книгу, ему хотелось показать, что грубые и простые германцы куда лучше, чем изнеженные и развращённые римляне из высшего класса римского общества. Поэтому он всячески старался показать крепкое здоровье, силу и храбрость германцев. Самое воспитание детей закаляет их и делает их здоровыми и могучими.
Вот что Тацит рассказывает о германских детях: «Дети в каждом доме растут голые и грязные и вырастают с теми мощными члeнами и телосложением, которым мы удивляемся. При этом господин не отличается какой-либо роскошью от раба. Они живут среди того же скота, на той же земле, пока возраст не отделит свободных от рабов...». «Юноши занимаются военными упражнениями. У них один вид забав и на всех собраниях тот же самый: юноши без одежды прыгают между воткнутыми в землю остриём вверх мечами и страшными копьями. Это — большое искусство, похожее на пляску, и оно пользуется любовью у зрителей».
Когда юноша приходил, в возраст, ему торжественно вручалось оружие (до этого юноша не имел права носить оружие). Происходило это так. Кто-нибудь из старейшин. (или отец, или сородич, если отец уже умер) вручал в народном собрании юноше щит и копьё. Юноша считался после этого совершеннолетним и полноправным членом племени. «До этого, — говорит Тацит, — юноша считался, членом семьи, теперь он становился членном государства [т. е. племени]». Если юноша был знатного рода, то он мог стать после посвящения даже вождём, и никто не считал для себя унизительным повиноваться такому молодому вождю.
А вот как германцы одеваются: «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой или, за её отсутствием, колючкой. Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнём у очага». Самые зажиточные отличаются одеждой, которая состоит из рубах и штанов. Остальные носят звериные шкуры, причём Тацит говорит, что те племена, которые живут у северных морей, делают искусно одежду из звериных шкур, расшитых мехами чудовищ, которых производит отдалённый океан и неведомое море. Вероятно, это были меховые одежды наподобие тех, которые употребляются у нас на севере (из шкур оленей, белых медведей и тюленей).
Одежда женщин такая же, как у мужчин, с тою только разницей, что они носят покрывала из холста, который расцвечивают пурпурной краской.
Невесту выкупают у родичей. Тацит, для которого такой обычай был непонятен, говорит, что у германцев «приданое не жена приносит мужу, а муж жене». Грамоты они не знают вовсе.
Вставши от сна, германцы тотчас же умываются, чаще всего тёплой водой, так как зима у них продолжается большую часть года. Умывшись, они принимают пищу, причём каждый сидит отдельно за своим особым столом. Потом они вооружённые идут по своим делам, а нередко и на пирушку. Они много пьют хмельного напитка, сделанного из ячменя (пива), и, как это бывает между пьяными, у них часто бывают ссоры, крторые иногда кончаются убийствами и нанесением ран. В таком случае германцы, как и все первобытные народы, прибегали к обычаю кровной мести, т. е. мести за убийство своего сородича. Начиналась вражда между родом убитого и родом убийцы, которая иногда тянулась многие годы и сопровождалась в некоторых случаях даже полным истреблением родов. Впрочем, Тацит говорит, что в его время такая вражда иногда прекращалась «выкупом крови»: род убийцы платил роду убитого определённое количество скота или денег, и вражда прекращалась.
Но наиболее интересным является рассказ Тацита о том, как германцы вели свои общественные дела и какое у них было управление.
В то время, когда писал Тацит, германцы часто жили большими племенами, во главе которых стояли выборные из знатных родов князья — конунги. Но наряду с такими князьями чаще всего из среды тех же знатных родов выдвигался вождь — человек, отличавшийся своей храбростью и предприимчивостью. К нему стекались все, кто на войне и грабежом соседей хотел увеличить свой достаток и получить славу. Так вокруг вождей создавалась большая дружина, и весьма возможно, что вождь, окружённый такой дружиной, сам становился князем. Само собой разумеется, что в те времена такой князь или вождь, будучи избираем остальными членами племени, не был настолько силен, чтобы распоряжаться жизнью и смертью своих соплеменников.
«У князей. — говорит Тацит, — нет неограниченной или произвольной власти, и вожди имеют власть потому, что своею храбростью они служат примером; они сражаются всегда впереди всех и этим возбуждают удивление. Однако казнить, заключать в оковы и подвергать телесному наказанию не позволяется никому, кроме жрецов, да и то не в виде наказания по приказу вождя, но как бы по повелению бога, который, как они верят, присутствует среди сражающихся»,.
И дела все решаются у германцев не князьями и вождями, а старейшинами и народным собранием.
Вот что по этому поводу рассказывает Тацит:
«О менее важных делах совещаются старейшины, о более важных — все, причём те дела, о которых выносит решение народ, предварительно обсуждаются старейшинами». Свои народные собрания — веча — они созывают в определённые дни, в новолуние и полнолуние, так как германцы верят, что эти дни являются самыми счастливыми для начала дела. «На счет времени, — добавляет Тацит, — ведут они не по дням, как мы, а по ночам, так как они думают, что ночь ведёт за собою день. Они, следовательно, вместо того чтобы сказать «я вернусь домой через три дня», говорят: «я вернусь домой через три ночи...»

А вот как проходит у них народное собрание. «Они — люди свободные, — рассказывает Тацит, — и из этой свободы вытекает тот недостаток, что они собираются не сразу, а проходит иногда два-три дня, прежде чем соберутся все соплеменники». Говоря о свободе германцев, Тацит хочет сказать, что они плохо дисциплинированы, но медленные сборы объясняются, конечно, и тем, что живут германцы на большом пространстве, дороги плохи, — часто приходилось пробираться через леса и болота к месту собрания. Собравшиеся часто проводят собрание, будучи вооружёнными. Молчание водворяется жрецами, которые во время собрания имеют право наказывать. Затем выслушивается князь или кто-либо из старейшин, сообразно с его возрастом, знатностью, военной славой, красноречием. Слушают этих людей, однако, не потому, что они имеют власть, а потому, что их речь убедительна. Если предложение не нравится, его отвергают шумными возгласами, а если нравится, то потрясают копьями. «Восхвалять оружием является у них самым почётным способом одобрения».
В народном собрании не только решаются важные дела, но и происходит суд. Наказания виновных бывают различны, смотря по преступлению. Предателей, и перебежчиков вешают на деревьях, трусов и дезертиров топят в болоте и заваливают сверху хворостом. За более легкие проступки уплачиваются штрафы лошадьми или рогатым скотом. Часть штрафа идёт в пользу князя или всего племени, часть же — потерпевшему или его родичам. На этих же собраниях происходят выборы старейшин, которые творят суд по округам и деревням.
Суровая природа лесистой и дикой страны вызывала у древних германцев представление о могучих и грозных божествах, от которых зависело всё: смена дня и ночи, плодородие земли, дожди и ветры, бури и наводнения.
Когда бушевали весенние грозы и вслед за раскатами грома молния прорезала свинцовые тучи, — германцы думали, что это бог Тонар бросает свой каменный молоток, который, прокатившись по небу, снова возвращается в руки бога и снова падает, вызывая повторный грохот. На громко стучащей колеснице сам бог Тонар разъезжает по небу, и небо сотрясается при этом от грозного гула и грохота. На руках у Тонара железные перчатки, борода его огненно-яркая, она мелькает в просвете туч, вызывая вспышку молнии.
Когда через равнины проносился сильный порыв ветра и взметая пыль и опавшую листву, германцы думали, что это пробудился бог ветра и бури — Вотан.
Весною, когда под лучами солнца растают снега и земля оденется покровом цветов и трав, к людям возвращается богиня земли Нертус, которая приносит с собой тепло и плодородие.
Жрецы, чтобы поддержать эту легенду, в весенние дни проводили особый праздник. В деревню въезжала увитая цветами колесница, которую везли молочно-белые тёлки. На этой колеснице стояла красивая девушка в праздничном одеянии, с венком цветов на голове.
Германцы верили, что это сама богиня Нертус удостоила их посещением. Откуда явилась богиня и куда направит она свой путь — оставалось неизвестным. Жрецы окружали появление весеннего божества глубокой тайной. По рассказу Тацита, германцы верили, что обитель богини Нертус находится на одном из морских островов, в роще.
Там, накрытая покрывалом, долгие месяцы стоит колесница богини, пока не наступит весна и колесница не понадобится богине. И когда богиня возвратится в свою таинственную рощу, колесницу омывают в особом озере, скрытом от взоров непосвящённых. После этого рабов, участвовавших в омовении колесницы, поглощают навсегда воды озера. А весною таинственная колесница снова появляется в германских селениях, и тогда наступает праздник весны.
В эти радостные дни всеобщего ликования никто не смеет браться за оружие и нарушением мира омрачить праздник.
Эта легенда о светлой богине Нертус, несущей земле весеннее обновление, напоминает древнегреческий миф о юной богине Персефоне, похищенной богом мрачного подземного мира. Греки объясняли смену времён года, торжество весны тем, что богиня Персефона освобождается от долгого заточения и, покинув подземные чертоги, поднимается на поверхность земли, украшая землю весенним убором. Подобно греческому мифу, древнегерманская легенда о богине Нертус возникла как попытка объяснить загадочную смену времён года. Жрецы поддерживали эту легенду и создали праздничную церемонию торжественного появления богини среди людей.
Находясь перед лицом непонятных и грозных сил природы, древние германцы пытались их объяснить волею таинственных богов и духов.
Они верили в злых великанов-разрушителей — необузданных пьяниц и обжор. Всякий лесной ручей, поток и водопад находился под покровительством нимфы, над каждым деревом властвовала незримая фея, на лугах плясали эльфы, а в горных теснинах жили особые карлики — гномы, ревниво оберегающие сокровенные богатства гор и отвечающие на человеческий голос дразнящим эхо.
Когда зимою бушевал в лесах снежный ураган и под ударами бури стонали сосны, германцы говорили, что это грозный Вотан в бешенстве бьёт лесных фей.
Древние германцы почти не знали храмов. Убежищем богов они считали священные рощи. Богам приносились жертвы и иногда в угоду верховным богам обрекали на смерть пленников.
Вот что рассказывает Тацит о гаданиях германцев:
«Гадание по птицам и по особым жеребьёвым палочкам они почитают как никто. Способ гадания по жеребьёвым палочкам очень прост. Отрубив ветку плодового дерева, они разрезают её на куски, отмечают эти куски какими-то знаками и разбрасывают их по белому покрывалу. Затем жрец племени, если дело идёт об общественных делах, или же сам отец семейства, если гадают о частных делах, помолившись богам и смотря на небо, трижды берёт по одной палочке и на основании сделанных раньше значков даёт толкование. Если выйдет так, что боги не советуют начинать дела, то обычай запрещает ещё раз в тот же день спрашивать богов о том же деле, если же боги разрешают, то требовалось подтверждение этого разрешения гаданием по птицам. Жрец смотрел, откуда и какие птицы появлялись. Особое значение имели вещие птицы, как, например, ворон, сова и др. Гадали и по поступи лошадей. Германцы держали в священных рощах и дубравах посвященных богам лошадей белой масти и не употребляли их ни для какой работы. Их запрягали в священную колесницу. Вслед за колесницей шли жрец с князем или вождём племени и примечали ржание и фырканье этих коней. Этому гаданию германцы придавали особенно большое значение, и не только простой народ, но и знатные, потому что жрецы, считавшие себя служителями богов, считали, что кони посвящены в божественные тайны».
Был и ещё один способ гадания у германцев. Они заставляли своих воинов сражаться с пленными воинами тех племён, с которыми они вели войну. Победу своих воинов они считали за хорошее предзнаменование.
Когда германец умирал, его тело сжигали на костре, причём, если это был знатный человек, то при сожжении употреблялись деревья особых пород: дуб, бук, сосна и можжевельник. Но особой пышностью обряд сожжения не отличался. В костёр клали лишь оружие воина, а в некоторых случаях сжигали также коня покойного. «Вопли и слёзы, — добавляет Тацит, — у них быстро прекращаются, скорбь же и печаль остаются надолго». И это потому, что, по их мнению, вопли приличны женщинам, мужчинам же приличествует долгая память.
Таковы были нравы и обычаи германцев в тот период их жизни, когда они стали мало-помалу объединяться в союзы племён и нападать на владения Римской империи.
ГУННЫ И АТТИЛА
В середине IV в. н. э. племена, населявшие безграничные степи Причерноморья, объединились вокруг двух больших союзов. На востоке, между Доном и Днестром, господствовали остроготы; на западе, между Днестром и Дунаем, преобладание принадлежало визиготам[1]. Особенно стал усиливаться остроготский племенной союз. Его предводителю, царю Эрманариху, удалось обложить данью многие племена, жившие к востоку и к северу. На больших ладьях готы пускались в плавание по Чёрному морю, проникали на юг, грабили Балканский полуостров, торговали с Восточной Римской империей (Византией). Дань зависимых племён, добыча воинственных набегов, выгодная торговля доставляли готам большие богатства. Войны Эрманариха прославлялись в песнях, слава его далеко разносилась молвой.
Однако непродолжительным оказалось преобладание остроготов. Старому королю Эрманариху пришлось быть свидетелем поражения его народа. Из-за Дона неожиданно вторглись и обрушились на поселения остроготов дикие племена гуннов (около 370 г.).
О гуннах очень рано стали рассказывать различные легенды.
В середине VI в. учёный гот Иордан написал историю своего народа, в которой уделил много места гуннам и бедствиям, причинённым ими готам и римлянам. Однако Иордан, близкий по времени к моменту наибольшего могущества гуннов, не мог или не захотел сказать ничего достоверного об их происхождении.
Он передаёт такую легенду о происхождении гуннского племени. Один из остроготских царей узнал, что многие женщины в его народе занялись колдовством и стали ведьмами. Считая их опасными, царь велел изгнать их в пустыню, примыкавшую к Мэотидскому болоту (так называли тогда Азовское море). В пустыне этой жили злые духи. Они женились на изгнанных сюда ведьмах, и от этих-то браков произошли гунны.
В этом рассказе сквозит глубокая вражда и ненависть к гуннам. Эта же ненависть водила пером и всех античных писателей, которым приходилось писать о гуннах. Поэтому мы имеем в античной литературе сильно искажённое изображение гуннов.
Из дошедших до нас известий древних историков вырисовывается образ кочевника-гунна, прирождённого степного наездника. С лошадью связана вся жизнь гунна. На лошади проводит он большую часть своей жизни, всегда верхом, всегда в разъездах. На спине лошади гунн спит, в седле он ест, ест сырое лошадиное мясо, нарезанное ломтями. Для мягкости гунны держат мясо под седлом, чтобы оно сопрело. Так от лошади гунн получает всё. Её мясом он питается, её молоко пьёт, её запрягает в кибитку, в которой проводят свой век гуннские женщины: рождают детей, ведут нехитрое хозяйство, ткут ткани. Детей ещё в младенчестве татуируют, покрывая порезами их лицо, чтобы, выросши, они наводили ужас на врагов своим страшным и свирепым видом.
В действительности гунны далеко не были так страшны и так сильны, как казалось перепуганным римским писателям. И происхождение их было менее необычайным, чем повествует об этом Иордан.
Уже за много десятилетий до того, как они напали на готов, гунны жили за Доном среди других кочевых племён, известных под именем аланов. Гунны не представляли единого народа. Под этим именем были известны различные племена, схожие обычаями, внешностью, языком. Два могущественных государства того времени, Иран и Восточная Римская империя, постоянно враждовавшие между собою, часто нанимали гуннские отряды.
«Единственно из страсти к золоту и в надежде на добычу гунны, — говорит греческий историк того времени Агафий, — заключали союзы то с теми, то с этими, то опять с другими, чтобы вновь перейти на противоположную сторону. Ибо уже часто они боролись совместно с римлянами, также часто совместно с персами, когда они вели борьбу между собой, и в короткий промежуток времени гунны примыкали к тем и другим и предлагали им солдатскую службу». И остроготские короли не раз нанимали на военную службу гуннские отряды, используя при этом одни гуннские племена против других.
Таким образом, задолго до гуннского нашествия между остроготами и гуннами  возникли довольно частые сношения. Поэтому земли за Доном совсем не были для гуннов неожиданно открытой страной, как утверждает следующая легенда.
возникли довольно частые сношения. Поэтому земли за Доном совсем не были для гуннов неожиданно открытой страной, как утверждает следующая легенда.
Однажды гуннские охотники преследовали антилопу. Она привела их на берег пролива, отделявшего Азовское море от Чёрного и считавшегося ранее у гуннов непроходимым. Антилопа бросилась в пролив и поплыла. Увлечённые преследованием охотники последовали за ней и достигли другого берега. Здесь нашли они обширную и богатую страну и поспешили вернуться, чтобы сообщить соплеменникам о своём открытии. По указанному ими пути гунны пошли на запад, обрушились на готов и победили их.
В действительности не таинственная антилопа (вдобавок, антилопы никогда не водились у Азовского моря), а сами остроготские короли, приглашавшие гуннов к себе на службу, показали им путь в свою землю.
Повидимому, в походе на остроготов участвовали не большие гуннские племена, а только «стремившиеся постоянно к чужому Добру» отдельные дружины гуннов, во главе которых стоял предводитель Баламбер. К ним присоединились искавшие случая повоевать и пограбить отряды из других племён.
Момент для нападения был выбран удачно. Волновались недовольные игом остроготов подчинённые им племена. Среди самих остроготов не было согласия. От короля Эрманариха отпал один из племенных князьков. Из мести Эрманарих велел казнить его жену, привязав её к хвосту лошади. Братья казнённой, мстя Эрманариху, нанесли ему тяжёлые раны. Захирев, король влачил жалкое существование. Его бессилием и воспользовался Баламбер, пошедший со своим войском на остроготов. Эрманарих, которому было больше 100 лет, тяготясь своим бессилием в таких опасных обстоятельствах, наложил на себя руки. Смерть короля дала гуннам преобладание над остроготами. Преемник Эрманариха пал в битве, остроготы были побеждены, перебиты, обращены в рабство, изгнаны из своих владений, ограблены. Оставшихся в живых остроготов гунны заставляли служить в своих войсках, увеличив таким образом свою воинскую силу.
В жажде новой добычи, упоённые успехом, двинулись гунны дальше к западу. Тщетно пытались визиготы, устрашённые судьбой своих восточных соседей, оказать сопротивление гуннам. Визиготы были разбиты и вынуждены искать спасения в бегстве. Они сумели убедить римское правительство отвести им землю на территории империи и переселились за Дунай, причём визиготы обязались поставлять солдат в римское войско.
Только достигнув предгорий Карпат, гунны на время прекратили дальнейшее движение на запад. Теперь их кочевья простирались от Карпат до Дона, но главным образом они расселились на месте прежних поселений остроготов. Гунны попрежнему не были объединены в одно государство, а разделялись на отдельные племена, управлявшиеся своими князьями.
В начале V в. среди князей гуннов стали выделяться более сильные цари, которым удалось теснее сплотить под своим предводительством отдельные гуннские племена и от неорганизованных грабительских набегов на римские земли перейти к большим завоевательным предприятиям.
Царь Руа (в первой трети V в.) отнял у римлян придунайские провинции. Таким образом, гунны продвинулись ещё дальше на запад, где они приобрели населённые и культурные земли. Однако самым важным было то, что гунны получили на большом протяжении общую границу с римлянами и могли грозить Восточной и Западной Римским империям.
Уже Руа понял выгодность своего положения. Тревожа ослабевшую империю постоянными набегами, он добился выгодного договора с восточным и западным римскими императорами.
По обычаю, определявшему тогда отношения римлян с варварами, гунны были признаны «союзниками» (федератами) империи, а Руа — их вождём. Восточный римский император обязался платить Руа 350 фунтов золота в год, а западный римский император признал его права на захваченные придунайские провинции.
«Союз» с римлянами нисколько не мешал гуннам грабить империю, захватывать добычу, уводить в рабство пленных. Гуннские предводители жили за счёт военной добычи и дани от зависимых племён. При дележе этим предводителям доставалась большая и лучшая часть. Их богатства были огромны. Многочисленные рабы стерегли их обширные стада. Дома их, простые деревянные постройки, внутри были настоящими сокровищницами. Пол и стены покрывались дорогими коврами или цветными шерстяными тканями. Обед подавался на золотых и серебряных блюдах. Один из приближённых гуннского царя однажды захватил в плен римского архитектора и велел ему построить великолепную баню, для сооружения которой издалека привезли камень и другие строительные материалы. Пленник усердно взялся за работу, надеясь в награду за свои труды получить свободу. Однако, когда постройка была готова, надежды пленного зодчего оказались напрасными: жестокий гунн сделал его прислужником в построенной им бане.
Когда умер царь Руа (434), власть досталась его племянникам Аттиле и Бледе.
Аттила был неутомимым, грозным и беспощадным воителем. Память о нём вошла в легенду. В легендарных сказаниях германцев, в «Песне о Нибелунгах», рассказывается о могучем короле Этцеле — так изменили германцы слово «Аттила». Впрочем, Аттила — не настоящее имя гуннского короля, а его прозвище («Аттила» по-готски значит «батюшка»).
По описанию современника, гуннский царь был невысок ростом, широк грудью; голова у него была большая, лицо бледное, глазки маленькие, борода редкая. При невзрачной внешности он имел величественную осанку. Среди окружающих его вельмож он выделялся простотою своего костюма. «Даже меч, которым он опоясывался, завязки его варварской обуви и сбруя его коня не были изукрашены золотом или драгоценными каменьями, как у других знатных гуннов. Кушанье ему подавалось на деревянном подносе, пил он из деревянной чаши, а его гости — из золотых».
«Овладев властью, Аттила поставил своею целью сокрушить два могущественнейших народа мира: римлян и вестготов[2]. Это был муж, созданный для того, чтобы потрясти мир, ужас всех стран, неизъяснимым образом повергавший всех в трепет силой одной только страшной молвы, разносившейся повсюду о нём... Он любил войну, но сам держался позади; его сила была в мудрой осторожности». В этих словах Иордана выражено впечатление, произведённое Аттилой на современников.
Аттила с братом продолжали завоевательную политику своего дяди- Они подчинили своей власти ряд новых племён. Область их влияния распространялась от Рейна до Кавказа, где становища гуннов лишь на немного дней пути отстояли от границ Ирана. Поэтому Аттиле приписывали намерение покорить Иран.
Однако центр политической жизни гуннов в V в. находился в придунайских областях. В Паннонии (современная Венгрия) находилась столица Аттилы. Это была большая деревня, обстроенная деревянными домами приближённых царя. Царский дом выделялся среди других своими размерами и был украшен башенками. Но Аттила предпочитал жизни в каком-либо из покорённых городов привольную жизнь в деревне. Сюда съезжались к нему послы от римлян и от зависимых варварских народов, сюда приходили тяжущиеся, и он вершил у крыльца свой суд.
Конечно, связь между отдельными племенами на этом обширном пространстве не была особенно прочной, а власть гуннского царя не была особенно значительной. Покорённые племена продолжали жить по своим обычаям, и во внутренние их дела гунны
не вмешивались.
Над некоторыми покорёнными племенами Аттила ставил правителями своих сыновей, у других племён оставались их прежние князья. Зависимые князья должны были оказывать гуннам военную помощь, поставляя им вспомогательные отряды. Этим и ограничивались их обязанности по отношению к гуннам. Таким образом, расширяя свои завоевания, Аттила увеличивал свои военные силы.
Закончив покорение соседних варварских племён, Аттила окончательно упрочил свою власть, убив своего брата и соправителя Бледу (около 446 г.). Теперь Аттила считал возможным перейти к большим военным предприятиям: от войн с отдельными варварскими племенами к войне с Римской империей.
Аттила искусно использовал раздоры между Восточной и Западной империями, чтобы не дать им объединиться против него. С Западной империей он поддерживал мир, а Восточную всячески унижал и грабил.
Вражда гуннов против Восточной Римской империи усиливалась более близким её соседством с подвластными гуннам племенами. Варварские царьки, недовольные засильем гуннов, искали против них поддержки при константинопольском дворе. Поэтому и Руа, и Аттила старались обессилить Восточную империю.
Но главной целью гуннов была военная добыча. Аттила считал, что римляне обязаны наполнять его казну. В захваченных гуннами городах Аттила всё объявлял своей собственностью. Как далеко шли его притязания, показывает такой случай. Епископ города Сирмия, в ожидании нападения гуннов, вошёл в тайное соглашение с писцом Аттилы Констанцием, родом римлянином. Последний получил от епископа драгоценные кубки с условием, что после взятия города выкупит епископа из плена, а если того убьют, истратит золото на выкуп других сирмитских граждан. Сирмий был взят, но Констанций и не подумал о пленных гражданах. Кубки он припрятал, затем при случае заложил их у одного римского ростовщика, а деньги истратил в своё удовольствие. После смерти Констанция Аттила узнал каким-то путем историю с кубками. Он пришёл в яростный гнев и потребовал от западного римского императора выдачи не только кубков, которые, по его мнению, должны были составить его долю добычи, но и ростовщика, который их принял в заклад. Пришлось отправить специальное посольство, чтобы убедить Аттилу удовольствоваться выкупом и не требовать выдачи ростовщика.
Немаловажным поводом раздора между Восточной империей и гуннами был также вопрос о гуннах-наёмниках в императорском войске. Гунны ещё в начале V в. нередко поступали в римскую армию. Империя, защищавшаяся против одних варваров с помощью других, охотно принимала гуннов на службу. Аттила, желая ослабить войско римлян, стал препятствовать уходу этих военных наёмников в империю. Он объявил их перебежчиками и настойчиво требовал их выдачи, а выданных подвергал жестокой казни. Вопрос о перебежчиках создавал удобные поводы для ссор с империей. Аттила снова и снова требовал выдачи перебежчиков, а из Константинополя отвечали, что выдавать больше некого.
Аттила создавал предлоги для недовольства. От недовольства он переходил к угрозам и вымогательствам, а если угрозы не заставляли императора идти на уступки, гунны начинали военные действия. Кроме того, под видом переговоров о выдаче перебежчиков Аттила отправлял в Константинополь бесчисленные посольства. Каждое из них император должен был щедро одаривать, и эта оживлённая дипломатия стала формой регулярного вымогательства. Если Аттила желал кого-либо обогатить, он посылал его в Константинополь требовать выдачи перебежчиков. Пожив некоторое время в Константинополе за счёт императора, такой посол возвращался обратно хотя и без перебежчиков, но зато обогащенный подарками византийских властей.
Таким путём, посредством угроз и враждебных действий, Аттила держал империю в постоянном страхе и напряжении. Дань, уплачиваемая гуннам, была увеличена. Аттила получил высокий чин «magister militum» — один из высших в империи.
Но жадный и жестокий завоеватель этим не ограничился. Несколько раз вторгался он на Балканский полуостров, проходил на юг, сжигая, истребляя и грабя всё на своём пути. Гунны не раз терпели поражения от римского войска. Однако за Дунаем у них всегда были неисчерпаемые резервы варварских дружин, которые они могли двинуть против Рима. И действительно, отступив после поражения, гунны вскоре предпринимали новое вторжение. Поэтому империя стремилась, независимо от исхода отдельных кампаний, к миру с гуннами во что бы то ни стало. Так, последнее вторжение гуннов в Восточную империю окончилось уплатой им чудовищной единовременной контрибуции в 6 тысяч фунтов золота и обязательством ежегодно уплачивать 2100 фунтов золота, несмотря на тяжёлое поражение, которое гунны понесли в решительном сражении (448).
Когда десятки городов на Балканском полуострове были сожжены и разрушены гуннами, когда императорская казна была опустошена платежами Аттиле и подарками его послам, царь гуннов счёл, что Восток не сулит новой добычи, и решил обратиться против Западной империй.
Аттила прекрасно знал положение Западной империи; не было недостатка в советчиках, которые могли ему разъяснить её слабость. Незадолго до первого похода Аттилы на Запад в его лагере появился бежавший из Галлии вождь восставших крестьян (багаудов) Евдокий. Нет сомнения, что Евдокий мог подробно рассказать царю гуннов, как под гнётом крупных магнатов страдает народ, как безмерно бремя налогов и как беспощадны взимающие их чиновники, под пыткой вымогающие, не утаил ли кто от обложения какой-нибудь источник дохода. Народ, говорил Евдокий, ненавидит своих угнетателей и уже поднимается против них с оружием в руках. Повсюду бродят по Галлии отряды восставших рабов и крестьян. В варварах видят они союзников в борьбе против ненавистной римской власти и готовы примкнуть к ним, чтобы вместе идти на общего врага. Почему могучий Аттила не может победить римлян, которых уже не раз побеждали вестготы, вандалы и другие смелые завоеватели?
Так должно было сложиться у Аттилы решение обрушить свои орды на Запад. Как раз в этот момент представился очень удобный предлог поссориться с западным императором (Валентинианом III). У этого императора, слабого и ничтожного человека, была сестра Гонория. Император дал ей высокий сан «августы» и предназначал её к монашеской жизни. Однако Гонория питала к монашеству мало склонности: она тайно вышла замуж за управителя своих поместий Евгения. Когда это обнаружилось, Евгения казнили, а Гонорию подвергли заключению. Желая любым путём вернуть себе свободу, Гонория отправила тайно посла к Аттиле, предлагая ему жениться на ней. В знак обручения она послала гуннскому царю кольцо. Аттила согласился принять Гонорию в свой гарем, предложил римскому правительству прислать к нему его невесту и дать за ней в приданое половину империи. Разумеется, ему было отказано. Повод к войне был найден.
Аттила с сильным войском устремился на Запад. Вдоль Рейна жили подвластные Аттиле германские племена, обязанные поставлять вспомогательные отряды. По мере продвижения к Галлии силы гуннов возрастали, подобно низвергающейся с горы снежной лавине.
В начале 451 г. гунны вторглись в северную Галлию, разрушили многие города, сожгли и разграбили Мец и двинулись к Орлеану. От Орлеана открывался путь на юг, в Италию, или же на юго-запад Франции, в королевство вестготов. Желая использовать взаимную вражду вестготов и римлян, Аттила писал императору, что он идёт на вестготов, а вестготам, что он идёт на Италию. Благодаря этому вестготы не выступили против Аттилы, а стали выжидать, нападёт ли он на них.
Между тем римское правительство находилось в весьма затруднительном положении. Воевать с гуннами было трудно, ибо долголетний союз с ними доставлял Риму лучшие вспомогательные отряды. Сил, которые могли доставить союзные с империей германские племена, было недостаточно. К тому же зима 450/51 г. была особенно тяжёлой. Империя перенесла жестокую голодовку. Всеобщая нищета была так велика, что многие родители продавали детей в рабство. Эти неблагоприятные обстоятельства были усугублены неожиданным нападением гуннов.
Римский главнокомандующий Аэций спешно выступил в Галлию. Ему удалось указанием на общность грозящей опасности побудить вестготов выйти из бездействия и склонить их к союзу. Совместное выступление римлян и вестготов вынудило Аттилу снять осаду с Орлеана и отступить.
Союзники следовали за врагом по пятам. На Каталаунских полях произошла решительная битва.
Накануне кудесники предсказали Аттиле, что в этой битве погибнет предводитель вражеского войска. Отнеся эти слова к ненавистному Аэцию, талантливому и энергичному полководцу римлян, Аттила решил дать сражение.
«Поле битвы представляло равнину, которая, постепенно повышаясь, переходила в горку. Этим местом стремились овладеть оба войска, ибо его благоприятное положение представляло немаловажные выгоды: таким образом, гунны и их союзники заняли левую сторону, римляне и вестготы — правую, а у ещё незанятого гребня горы разгорелась борьба. На правом крыле (противников гуннов) стоял Теодерид[3], с вестготами, на левом — Аэций с римлянами. Сангибана[4] ... они поставили в центре, позаботившись, таким образом, с военной предусмотрительностью о том, чтобы разместить тех, на чью верность мало было надежды, среди верных людей. Ибо тот, кому отрезан путь к бегству, легко покоряется необходимости сражаться. Напротив, боевой порядок гуннов был таков, что Аттила со своими воинами стоял в центре. Располагая таким образом войско, царь стремился в особенности к тому, чтобы быть самому в полной безопасности среди отборных войск своего племени».
Аттила не мог пустить в бой лучшие гуннские отряды: их неудача вызвала бы восстание подвластных племён. Поэтому с гуннской стороны в сражение вступили вспомогательные германские отряды, бившиеся без большой охоты. Напротив, вестготы, защищавшие свою страну, и римские войска под начальством Аэция бились с воодушевлением. Им первым удалось овладеть опорной вершиной. Сражение достигло большого напряжения.
«Дошло до рукопашной; ужасная борьба, многообразная, ведшаяся с упорством; о чём-либо равном ни разу не говорится в древней истории, когда излагаются деяния этого рода». Вскоре пал вестготский король Теодерид. Сильным ударом вестготы смяли ряды врагов и заставили их искать спасения в бегстве. Сам Аттила погиб бы, если бы не укрылся за ограду своего лагеря, которую он предусмотрительно укрепил телегами. «Хотя это было непрочное убежище, однако там искали спасения те, против кого незадолго до этого не могли устоять никакие стены».
Наступившая ночь прервала битву. Взошедшее солнце осветило равнину, усеянную трупами. Гунны не предпринимали вылазки. Римляне и вестготы сочли себя победителями. Они стали готовиться к осаде лагеря гуннов, рассчитывая взять их измором. Рассказывали даже, что Аттила в своём укреплении соорудил для себя костёр, предпочитая плену смерть в пламени.
Среди приготовлений к осаде вестготы заметили, наконец, отсутствие своего короля. После долгих поисков его удалось найти в большой груде трупов. Короля похоронили, а преемником ему избрали его сына Торисмунда. Пылая местью против гуннов, Торисмунд спросил у Аэция, как у старшего, умудрённого годами и опытом мужа, что ему предпринять дальше.
«Аэций же боялся, что в случае полного уничтожения гуннов вестготы подчинят себе Римское государство, и посоветовал Торисмунду возвратиться на родину и принять на себя оставленную отцом власть, чтобы его братья не захватили отцовские сокровища и не овладели вестготским государством, а ему не пришлось бы бороться со своими».
Торисмунд послушался совета Аэция, проникнутого лицемерной о нём заботой. Таким образом, вражда римлян с вестготами, на которую рассчитывал в начале своего похода Аттила, действительно сослужила службу гуннскому царю, правда, при совсем неожиданных для него обстоятельствах.
Убедившись, что вражеские войска ушли, Аттила вернулся за Рейн и стал готовиться к новому походу. В начале следующего (452) года он выступил против Рима. Через Венецианскую область и долину реки По он вторгся в Италию. Крупный город Аквилея был сравнён с землёю.
Аэций считал Аттилу разбитым и не ожидал его вторжения. Аэций был так уверен в ослаблении гуннов, что даже не выставил заградительных отрядов в Восточных Альпах. Гунны продвигались, не встречая сопротивления.
Теперь настала очередь Аэция думать о спасении. Вместе с императором Валентинианом Аэций стал готовиться к бегству. Тем временем до него дошли слухи о затруднениях, испытываемых Аттилой.
Гунны жестоко опустошили Ломбардию. Города, которые, подобно Милану или Павии, отделались разграблением, считали свою участь лёгкой. Многие из городов разделили судьбу Аквилеи. Это бесцельное и хищническое разрушение богатой страны привело к тому, что вскоре Аттиле негде было добывать продовольствие для своего войска. В его лагере начались голод и эпидемии, производившие большие опустошения, чем любая война. В то же время восточный римский император послал помощь Валентиниану. Аттиле нечего было и думать о походе на Рим. Надо было искать почётный предлог для отступления.
Такой предлог скоро доставили сами жители Рима. Угрозы гуннского царя взять Рим, ещё помнивший ужасы разграбления его вестготами Алариха в 410 г., повергли римлян в страх. Горожане упросили римского епископа (папу) Льва и двух видных чиновников отправиться в лагерь Аттилы и уговорить его отказаться от замыслов против Рима. Такая просьба вполне соответствовала собственным интересам гуннского царя в его затруднительных обстоятельствах. Он выговорил себе ряд выгодных уступок со стороны римского правительства и возвратился в Паннонию, угрожая вернуться через год, если к нему не пришлют Гонорию. Аттиле не пришлось выполнить свою угрозу. В следующем (453) году страшный король гуннов внезапно умер. «Столь страшен казался Аттила великим империям, что они сочли известие об его смерти небесным даром».
Пышные похороны устроили гунны своему царю. Посреди большого поля был поставлен шёлковый шатёр, в котором поместили останки Аттилы. Затем устроили поминальные игры. Лучшие наездники скакали по полю и в погребальных песнях прославляли деяния умершего. Оплакав Аттилу таким образом, гунны справили по нём страву (тризну). Затем в ночной тиши тело его предали земле.
«Его первый гроб сделали из золота, второй — из серебра, третий — из железа. Этим они хотели показать, что всё это подобало могущественному царю: железо потому, что он покорил народы, золото и серебро потому, что он получил драгоценности от обеих империй. К этому прибавили захваченное оружие убитых врагов, ценную конскую сбрую, украшенную всевозможными ценными камнями, и разнообразные почётные знаки». Чтобы сохранить в тайне место этой гробницы, всех работавших над её сооружением перебили.
* * *
После смерти Аттилы начались раздоры и борьба за власть между его многочисленными сыновьями. Усобицу эту использовали подчинённые гуннам народы. Началось всеобщее восстание против гуннов. В большой битве погиб старший сын Аттилы. Варварские племена в области Дуная вернули свою независимость. Оставшиеся в живых родичи Аттилы бежали к своим соплеменникам в Причерноморье. Здесь долго ещё кочевали в степях гуннские племена, мало-помалу смешивавшиеся с другими обитателями степей и утратившие постепенно своё племенное имя, с VII в. исчезающее со страниц истории.
ЮСТИНИАН
В конце V в. три молодых крестьянина из Македонии покинули свои родные горы и отправились искать счастья. На них была бедная одежда, и единственное их достояние составлял скудный запас сухарей в мешке за спиной. Но это были сильные, крепкие люди, и они были твёрдо уверены, что сумеют выбиться на дорогу и разбогатеть.
Шли они пешком в Константинополь, в этот «царственный град», «мастерскую вселенной», как величали его современники. С детства слышали наши путники о несравненной красоте столицы, украшенной чудесными площадями, роскошными храмами, портиками и всем, что только способны создать природа и искусство. В самые дальние уголки проникала слава о мировой торговле Константинополя, об искусных его ремесленниках; золотая парча и пурпур, тончайшие изделия из золота, драгоценных камней и слоновой кости вызывали восхищение не только у варваров, но и в культурных странах Китая, Индии и Персии, куда ездили византийские купцы. Нигде не устраивалось таких пышных празднеств, нигде не было таких щедрых раздач городской толпе, как в Константинополе. Нигде не было столько школ, административных и судебных учреждений, как в столице. Недаром окружающему варварскому миру Константинополь казался каким-то манящим городом-сказкой, легендарным городом на берегах Босфора, окружённым, как венком, голубым морем и сияющей красотой рощ, окаймляющих береговые бухты.
Всё это было хорошо известно трём македонским крестьянам. Поэтому они и шли именно в Константинополь, в это «солнце всего царства, сияющее богатством и славою». Они не думали сейчас о том, что в столице наряду с красотой и роскошью были многочисленные узкие и зловонные улицы, тесно застроенные высокими домами с десятками каморок, заселённых городской беднотой. Они не думали о том, что Константинополь был заполнен голодным и нищим людом, не находившим для себя ни постоянного заработка, ни пропитания, что в царственной столице рядом с дворцовой пышностью ютились вопиющая нищета,— молодые люди ждали от судьбы только радости и удачи. Но самые дерзкие их мечты не могли предугадать того, что одного из них ожидала императорская корона.
По прибытии в столицу приятели поступили в императорскую гвардию. Храбрость и ревностная служба одного из них доставили ему быстрое повышение: он стал офицером, затем генералом и далее сенатором. Когда в 518 г. умер император Анастасий, наш герой был возведён на престол: то был император Юстин I. Этот македонский крестьянин едва умел читать и совсем не умел писать; чтобы он мот подписывать государственные бумаги, пришлось сделать деревянную дощечку с вырезанными буквами его имени; по прорезям дощечки император неуверенно выводил свою подпись.
Как же удалось Юстину достичь императорского престола? Как смог он обеспечить этот престол за собою? Здесь сыграли роль не только настойчивость и воля самого Юстина. Обстановка, сложившаяся в ту пору в Византии, обеспечила Юстину неожиданный успех.
В то время как западная часть Римской империи оказалась к V в. добычей варварских германских племён, её восточная половина продолжала ещё долго существовать. Она называлась теперь Византией по древнему имени столицы «Византион», переименованной императором Константином в 330 г. в Константинополь. Здесь ещё сохранялся рабовладельческий строй; но Восточная Римская империя оказалась крепче и устойчивее, чем её западная половина. Её города — Константинополь, Антиохия, Александрия и Фессалоника — славились своими ремёслами и торговлей. Наряду с рабами здесь было ещё много крестьян, постепенно попадавших в зависимость от крупных землевладельцев, но до конца не потерявших свою свободу. Государство поэтому имело в своём распоряжении больше средств, больше войск, было сильнее и смогло отстоять своё существование и от нашествия варваров, и от восстаний рабов и колонов. С течением времени и в Византии стали развиваться и крепнуть ростки феодальных отношений, но окончательное превращение Византии в феодальное общество и государство произошло лишь в VII—VIII вв.
 В VI в., о котором мы сейчас рассказываем, Византия была ещё крепкой защитой для всех рабовладельцев.
В VI в., о котором мы сейчас рассказываем, Византия была ещё крепкой защитой для всех рабовладельцев.
То было время, когда Западная Римская империя распадалась под напором варваров-завоевателей, объединившихся с восставшими рабами и зависимыми земледельцами — «колонами».
Богатые и знатные сенаторы в ужасе бежали из охваченных пламенем восстания западных провинций. Они держали путь на восток, где правил император Анастасий, которого считали другом и заступником аристократии. Этот император щедро одаривал сановных беглецов. Он дарил им обширные земли, вместе с сидевшими на этих землях подневольными людьми. Он старался вознаградить италийских сенаторов-рабовладельцев за всё то, что они утратили на родине.
К концу царствования Анастасия сильно возросло значение знати. Знать увеличилась численно и приобрела новые права. Могущественные сенаторы-землевладельцы допускали насилия над своими беззащитными соседями. Они силой захватывали чужие участки. Они содержали многолюдные отряды — так называемые «ойкии» — и во главе подобных ойкий совершали нападения, держа в страхе окрестное население. Случалось и так, что какой-нибудь землевладелец-сенатор сам распоряжался, сам судил и даже строил собственную тюрьму, куда помещал тех, кого считал врагами. И не только рабы и подневольные колоны стонали под гнётом своевольных аристократов-сенаторов. Средние и мелкие землевладельцы дрожали за судьбу своих участков и нередко, боясь сенатора-соседа, признавали себя зависящими от него людьми, лишь бы этой ценой спастись от насилий и разграбления.
Царствование Анастасия считалось золотым веком для византийской знати. Император сквозь пальцы смотрел на насилия и беззакония аристократов, ничем не стесняя произвела своих любимцев.
И когда в 518 г. император-аристократ Анастасий умер, в Византии нашлось немало людей, пожелавших увидеть на императорском престоле человека, не связанного с аристократией своим происхождением, симпатиями и взглядами. Армия потребовала, чтобы на императорском троне оказался её ставленник — Юстин.
Грубоватый и энергичный Юстин, сохранивший до конца жизни простоту солдата, казался желанным кандидатом на императорский престол. Аристократы втихомолку высмеивали его неотёсанность, безграмотность, его манеры, зато мелкие и средние землевладельцы, купцы, воины возлагали большие надежды на этого решительного человека, вышедшего из народной среды.
Много врагов оказалось у нового императора в рядах знати, но ещё больше сторонников он нашёл в средних слоях населения. И только труженики — рабы и колоны — отнеслись к появлению нового императора равнодушно. Для них с его приходом к власти ничего не изменилось.
Будучи бездетным, Юстин с ранних пор принял участие в сыне своей сестры, которого звали Юстинианом. Юстин вызвал племянника в Константинополь, усыновил его и позаботился о том, чтобы дать ему блестящее образование. Далее император приобщил Юстиниана к управлению империей, и тот своими дарованиями и дипломатическими талантами оправдал надежды, возлагавшиеся на него дядей. Когда в 527 г. умер Юстин, императорская корона перешла к его племяннику Юстиниану.
Тридцать восемь лет (527—565) царствовал Юстиниан над Восточной Римской империей. Его правление было временным укреплением рабовладельческого государства.
Византия настолько усилилась, что попробовала даже восстановить рабовладельческие порядки и своё владычество на Западе, который недавно был захвачен варварами.
Внешность Юстиниана хорошо передаёт мозаичное избражение императора в церкви св. Аполлинария в Равенне. Всё в этом облике говорит о властном характере и сильных страстях.
Свидетельства современников подтверждают это впечатление. Юстиниан считал себя живым законом, совершенным воплощением неограниченной власти. От высочайшей воли самовластного монарха должно было зависеть всё — государство, религия, закон. «Он не позволял никому на всём пространстве империи принимать малейшее решение по собственному почину», — говорит Прокопий, современник и историк Юстиниана. Юстиниан считал себя продолжателем римских императоров и поэтому стремился окружить своё императорское достоинство всевозможной пышностью и всяческим великолепием.
Усердной помощницей в этом была жена Юстиниана — Феодора. Как и он, Феодора совершила головокружительную карьеру. Дочь сторожа в зверинце, Феодора сначала была цирковой актрисой. Как говорят её биографы, она была красоты несравненной — «такой, что слова и искусство людей не в силах её изобразить». К тому же она обладала умом любознательным и изобретательным на выдумки, отличалась остроумием и весёлостью. Надменные сенаторы, полные высокомерия, никогда не могли забыть происхождения Феодоры, того, что эта женщина перешла с цирковой арены на трон, сменив профессию актрисы на сан императрицы. Прошлое Феодоры давало повод к тайным насмешкам и клевете. Её чернили и всячески порочили те, кто хотел бросить тень на Юстиниана, сделавшего её своей женой.
Став императрицей, Феодора быстро освоилась со своим новым положением. Она старалась увеличить блеск и великолепие своего двора, требовала себе раболепного поклонения. Она установила, чтобы высшие сановники, являясь перед Юстинианом и перед нею, повергались ниц и смиренно лобызали пурпурный сапожок царственной особы. Феодора требовала, чтобы, разговаривая с нею, её титуловали как можно чаще «ваше величество», и приказывала увольнять как неуча всякого, кто погрешал против малейшей детали церемониала.
Особенной пышностью и торжественностью отличался придворный этикет при приёме иностранных послов. Юстиниан заботился о том, чтобы поразить варваров и закрепить в них глубокое и грозное впечатление византийского могущества; для этого гостям показывали всю роскошь, все богатства императорской казны, пытались удивить утончённостью восточного этикета. В великолепных залах дворца по боковым стенам выстраивались гвардейцы. В руке у каждого был золотой щит, на голове — золотой шлем с развевающимся красным султаном, у бедра — меч, а на плече — обоюдоострая секира; впереди них стояли знаменосцы с гордо поднятыми разноцветными знамёнами. Как гвардейцы, так и знаменосцы подбирались гигантского роста и крепкого телосложения. Между этими двумя рядами людей медленно шли послы, поражённые размерами великолепных и многочисленных зал, через которые они проходили, роскошью костюмов и оружия. Наконец, их останавливали перед дверью, закрытой пурпуровой завесой. После томительного ожидания завеса как бы внезапно отдёргивалась и изумлённым взорам зрителей представал император во всём блеске своего величия: он сидел на троне, над его головой две статуи Победы держали лавровый венок, вокруг трона группировались телохранители в белых туниках с золотыми ожерельями на шеях, а поодаль располагались сенаторы и сановники в.пышных одеяниях. Посол и его свита троекратно повергались ниц, ожидая каждый раз приглашения императора подняться; затем, приблизившись, посол лобызал ноги государя и унижённо просил его соизволить принять подарки, которые он привёз. Тогда подарки неторопливо расставлялись перед монархом, который уже заблаговременно получил их списки и знал им точную цену; после принятия подарков император несколькими милостивыми словами прекращал аудиенцию и отпускал послов.
Весь этот затейливый и громоздкий церемониал, пышные приёмы послов возникли не по прихоти императора, не из пустого тщеславия Феодоры. Император стремился восстановить былое могущество и величие всемирной Римской империи, подчинить себе все народы, вернуть утерянные земли и затмить своим блеском и силой все известные тогда государства.
Этой идеей и определялась вся деятельность Юстиниана. Пышный придворный церемониал был также составной частью этой политики. Он должен был производить неотразимое впечатление на иностранцев, внушать им мысль о недосягаемом величии и могуществе византийского императора.
Однако Юстиниану осуществление его политики стоило огромных трудов и упорной, непримиримой борьбы с очень сильными врагами: его главным врагом были крупные землевладельцы-сенаторы, которые презирали императора за его низкое происхождение и ещё более ненавидели за то, что он решительно посягал на их могущество.
Сенаторы-землевладельцы, получая большие доходы со своих земель, чувствовали себя и экономически, и политически совершенно самостоятельными и независимыми от центральной власти. Это были как бы маленькие царьки. Они помнили императора Анастасия, исполнявшего всё, что было угодно аристократии. Юстин и особенно Юстиниан повели совершенно иную политику: они всячески старались подчинить себе непокорных магнатов. Юстиниан боролся против них всеми мерами, не брезгуя ни подлогом, ни подкупом; случалось, что он просто отбирал земли у магнатов по ложным доносам; насильно вынуждал дарения; составлял подложные завещания, по которым земля должна была перейти к государству после смерти сановника, и т. д.
В борьбе против крупного сенаторского землевладения Юстиниан искал поддержки у церкви. Чтобы получить эту поддержку, император жаловал ей огромные поместья. Это усиливало церковное землевладение, способствовало росту независимости церкви от государства и, следовательно, ослабляло центральную власть. Получался, таким образом, замкнутый круг, из которого Юстиниан не мог выйти.
Борьба с сенаторской знатью велась в очень острых формах. Пробой сил была борьба партий ипподрома — места, где происходили конские состязания.
В истории Византии ипподром играл совершенно исключительную роль. Он представлял собою не только арену спортивных состязаний. Он был в то же время центром всей общественной жизни. Здесь при огромном стечении народа происходили торжественные празднества. Здесь выставлялись напоказ всем праздношатающимся и очень многочисленной в Византии городской бедноте, жившей на случайные заработки и государственные подачки, военные трофеи после победной войны. В этих случаях толпа, заполнявшая ступени цирка, любовалась грудами драгоценных камней, роскошными колесницами, дорогими вазами, а иногда золотыми тронами. С особенным любопытством рассматривали пленников-иноземцев, следили, как у ложи императора их бросали перед ним ниц, после чего начиналась раздача военной добычи народу. На ипподроме народ приветствовал Юстиниана и Феодору после их коронации. Здесь же происходили и столкновения между императором и населением столицы. Именно на ипподроме государь и народ встречались лицом к лицу, один — со всею пышностью императорского величия, другой — в своём страшном численном могуществе, и не раз всемогущий император принуждён был сдаваться перед ропотом цирка. Поведение столичного населения, его ежечасно готовое вспыхнуть недовольство внушали Юстиниану постоянное беспокойство. Поэтому главной заботой Юстиниана было кормить, занимать, и непрерывно развлекать население столицы, привыкшее жить за счёт императорских щедрот. Как некогда в Риме, так и в Византии население требовало от своих владык двух вещей: хлеба и зрелищ.
Не меньше, чем хлеба, народ требовал зрелищ, и в угоду ему Юстиниан устраивал на ипподроме зрелища, которые обычно длились семь дней. Здесь устраивались поочередно: бег колесниц, охота на животных, борьба людей с дикими зверями, театральные представления, особенно комические и шутовские пантомимы — словом, «всякие увеселения, которые могут усладить ум и глаза». При этом Юстиниан в особом указе отмечал, что зрелища нужно вести так, чтобы не наводить на народ скуки: «То, что видят редко, — писал он, — особенно вызывает восхищение».
О том, какое огромное значение имел ипподром в жизни византийцев, показывает следующий случай.
При постройке храма св. Софии один собственник не соглашался уступить свой участок земли, необходимый для будущей постройки. Ему были предложены за участок огромные деньги, — он отказался; тогда его заключили в тюрьму, но он упорно не соглашался. Потом его почти перестали кормить; он страдал от голода, но не жаловался и не уступал. Тогда городскому префекту пришла счастливая мысль, — он попросил императора объявить повсеместно и даже по тюрьмам о предстоящих бегах на ипподроме, и это оказалось сильнее мужества заключённого: при мысли, что он не увидит зрелища, он уступил свой участок за дешёвую цену.
Обычно уже накануне представлений на ипподроме весь город был в волнении. А тем временем цирк приготовлялся к предстоящим зрелищам. Это было огромное здание, около 450 м в длину и 75 м в ширину; оно вмещало более 30 тысяч зрителей. Весь ипподром был украшен чудесными статуями, вывезенными из Греции и Рима. В то время как над ареной растягивали пурпурные шёлковые шатры для защиты от палящих лучей солнца, рассыпали по земле свежий песок, смешанный с благоухающим кедровым порошком, и проверяли барьеры, за которыми должны были стоять соперники, ожидая сигнала к выезду, — в это время толпы народа спешили занять лучшие места. На состязании всегда присутствовал император, высшие сановники, иностранные гости. Императрица не присутствовала в императорской ложе, так как этикет этого не позволял. Но Феодора всегда бывала на представлениях, хотя и невидимая; со своими придворными дамами она занимала место на верхних галереях в соседней с ипподромом церкви, откуда было видно всё, что делалось в цирке. Когда за решетчатыми окнами церкви появлялась императрица, спектакль мог начинаться.
Император подавал знак. Внизу под императорской ложей открывалось четверо ворот, и из них вылетали четыре колесницы четырёх цветов, запряжённые каждая четвёркой лошадей. «Надо удивляться, — пишет современник, — тому неслыханному возбуждению, которое охватывало при этом зрелище умы присутствующих. Побеждает зелёный возничий — и одна часть народа в отчаянии; обгоняет синий — и тотчас половина города в крайнем огорчении. В этот момент забывается всё — родные, друзья, божеские и человеческие законы, и думают только об одном — о победе своей партии».
Теперь нет дела ни до опасностей, грозящих государству, ни до личных забот: чтобы обеспечить победу возничему своей партии, всякий с радостью отдал бы и своё состояние и даже самую жизнь. Склонясь вперёд, задыхаясь от волнения, зрители, принадлежавшие к одной из партий, следили за всеми переменами в ходе бегов с тревожным вниманием, которое ещё более усиливалось при виде соперников. Они торжествовали при неудачах противника и негодующе кричали, когда тот ликовал. Удачи и неудачи зелёных и синих возничих вызывали оскорбительные и издевательские возгласы, которыми обменивались обе соперничавшие партии. При этом обе стороны мерили друг друга взглядами, полными ненависти, и только неустанный надзор блюстителей порядка удерживал противников от рукопашных схваток, которые всё же нередко возникали на улице после представления.
По окончании бегов провозглашали победителей. Затем начиналась вторая часть программы: наступала очередь интермедий, пантомим, представлений с дрессированными животными, акробатических упражнений, клоунад.
Но далеко не всегда посетители ипподрома приходили туда только для того, чтобы наслаждаться захватывающими зрелищами. Народные массы пользовались цирком и для того, чтобы предъявлять здесь свои требования императору.
При Юстиниане большую роль в жизни цирка играли партии «синих» и «зелёных», которые называли себя так по цвету плащей возничих цирка. Эти партии объединяли враждебные друг другу слои византийской знати; «зелёные» были партией крупных светских землевладельцев-сенаторов; к ним примыкала и духовная знать, часто враждовавшая с первыми. «Синие» были партией торговых и финансовых кругов, чьи цели и задачи резко расходились с интересами сенаторской знати: эта последняя пыталась укрепить свою власть и ослабить центральную власть. Для купцов и финансистов, для представителей многочисленной бюрократии была, напротив, нужна сильная власть императора, защищавшая их от своеволия землевладельческой аристократии. Юстиниан усиленно покровительствовал «синим» и вёл ожесточённую борьбу с «зелёными». Каждая из партий стремилась привлечь на свою сторону народные массы.
В Константинополе существовали своеобразные объединения народа по районам, так называемые «димы». Вот эти-то димы своей поддержкой «синих» или «зелёных» решали обычно исход борьбы между ними. Однако выступления народных масс на стороне той или иной партии обычно превращались в грозные народные восстания, оставлявшие далеко за собой оппозицию «синих» или «зелёных». И те и другие безмерно пугались размаха движения и нередко объединялись в борьбе против своих недавних союзников.
Одно из крупнейших в истории Византии восстаний, известное под именем «Ника» (т. е. «побеждай»), произошло в 532 г. Это восстание издавна подготавливали «зелёные», которые пользовались всяким случаем, чтобы выразить недовольство политикой правительства.
В восстании 532 г. приняли участие народные массы, которые поднялись против произвола, вымогательств и казнокрадства имперских чиновников. Движение это, как пишет Прокопий, «вопреки ожиданию, оказалось самым большим и завершилось большим несчастьем для народа и сената.» Началось восстание в цирке. Одиннадцатого января 532 г. на ипподроме происходили бега. Император присутствовал на них с большой торжественностью. На этот раз зрители были возбуждены сильнее, чем обычно. На ступенях, где сидели «зелёные», непрерывно шумели и свистели. По всякому поводу партия «зелёных» открыто выражала своё недовольство. Наконец выведенный из терпения Юстиниан приказал своему глашатаю обратиться к «зелёным» с вопросом о причине возбуждения. Император считал ниже своего достоинства самому обращаться к народу, и в нужных случаях от его имени выступал один из его приближённых. Между уполномоченными «зелёных» и императора начался удивительный диалог, во время которого жалобы, сперва почтительные, вскоре превратились в жестокие обвинения, в которых гнев перемешивался с иронией.
Зелёные. Многая лета императору Юстиниану! Да будет он всегда победоносным! Увы, лучший из государей, нам творят всякого рода несправедливости. Богу известно, мы не можем их выносить дальше. Однако мы страшимся назвать нашего притеснителя из страха, что его неистовство усилится ещё более и мы подвергнемся большим опасностям.
Глашатай. Никто не делает вам зла.
Зелёные. Нас преследует один человек.
Глашатай. Я не знаю, кто этот человек.
Зелёные. Нет, ты хорошо знаешь, трижды августейший, кто теперь наш палач.
Глашатай. Я не знаю, кто вас преследует.
Зелёные. Ну так это, владыка мира, спатар[5] Калоподиос.
Глашатай. Калоподиос не имеет никакого дела с вами.
Зелёные. Что бы там ни было, но он испытает участь Иуды. Бог скоро накажет его за несправедливость.
Глашатай. Вы, очевидно, явились сюда не для того, чтобы смотреть на представление, но чтобы оскорблять правящих!
Зелёные. Да! Кто творит нам зло, того постигнет участь Иуды.
Глашатай. Всякий свободный человек может появляться, где хочет.
Зелёные. Мы сами знаем, что мы свободны, но нам не дают возможности пользоваться свободой. И если какой-нибудь свободный человек заподозревается, что он «зелёный», общественная власть тотчас подвергает его каре.
Глашатай. Вы не боитесь за свои души, висельники!
Зелёные. Пусть запретят цвет, который мы носим, и правосудию нечего будет делать. Ты позволяешь, чтобы нас убивали, и сверх того ты приказываешь, чтобы нас наказывали. Ты — источник жизни, а ты умерщвляешь, кого захочешь. Поистине, человеческая природа не может выносить подобных противоречий. Ах, лучше было бы, если бы по воле небес твой отец вовсе не родился: он не породил бы убийцу.
С этими словами партия «зелёных» толпою вышла из ипподрома, чем наносилось самое тяжкое оскорбление, какое могло быть сделано императорскому величеству.
Начались аресты мятежников. Но вместе с «зелёными» хватали и «синих». Это вызвало возмущение последних, и они примкнули к восставшим. Улицы Константинополя заполнили народные массы. Общественные здания и дома частных лиц предавались огню; три дня огонь, раздуваемый жестоким ветром, совершал своё опустошительное дело. «Город, — говорит очевидец, — представлял собою кучу чернеющих домов, он был наполнен дымом и золой; всюду распространившийся запах гари делал его необитаемым, и весь вид его внушал зрителю ужас, смешанный с жалостью». На улицах раздавались победные клики восставших с провозглашением смерти императору, с требованием нового государя. «Сама империя казалась накануне гибели», — прибавляет современник.
«На пятый день восстания, к вечеру, Юстиниан велел Ипатию и Помпею, племянникам бывшего императора Анастасия, идти как можно скорее домой — потому ли, что он подозревал их в замыслах против его жизни, или и сама судьба вела их к тому. Они же, боясь, как бы народ не принудил их царствовать (как это и случилось), говорили, что несправедливо поступят, оставив своего царя, когда он подвергается такой опасности. Услышав это, Юстиниан проникся ещё большим недоверием и настойчиво приказал им немедленно удалиться. Оба они отправились домой и, пока была ночь, оставались там.
На следующий день с восходом солнца сделалось известным в народе, что оба они устранены от пребывания во дворце. Поэтому весь народ побежал к ним, провозгласил Ипатия царём и повёл его на площадь, чтобы принять ему на себя ведение дел. Мария, жена Ипатия, женщина очень умная и высоко чтимая за свою добродетель, цеплялась за мужа, не пускала его, вопила изо всех сил и убеждала всех близких, что народ ведёт его на смерть. Толпа пересилила, и Мария против воли выпустила мужа. Народ призвал на царство Ипатия и, возложив ему на голову золотую цепь, за неимением диадемы или чего-нибудь другого (что подобает надевать на царя), провозгласил его царём римлян. ... (Тогда) Ипатий велел двинуться по дороге к ипподрому» (Прокопий Кесарийский).
Юстиниан, обезумевший от страха, заперся в своём дворце. Страх его был так силен, что он собирался даже бежать из столицы. Все приближённые разделяли это желание. Но этому воспрепятствовала Феодора. Возмущённая всеобщим малодушием, она громко заявила: «Если ты, государь, хочешь бежать, — это твоё дело. Что до меня — я остаюсь. Порфира — великолепный саван». Как говорят современники, эти слова подняли энергию императора, и он начал решительную борьбу с повстанцами. Действовал Юстиниан двумя способами: прямым насилием он уничтожал восставших и, кроме того, пытался разделить объединившиеся партии путём подкупа «синих».
На седьмой день масса восставших собралась на ипподроме. Полководец Юстиниана, Велизарий, с большим трудом, через развалины, по остаткам пожарищ добрался до ипподрома. «Решив, что надо напасть на народ, стоявший на ипподроме в бесчисленном количестве и в полном беспорядке, Велизарий, выхватив из ножен меч и приказав прочим сделать то же самое, бегом и с криком бросился на толпу. Народ, стоявший толпой и не в строю, обратился в бегство, увидев, что покрытые латами воины, прославившиеся храбростью и боевым опытом, беспощадно поражают всех мечами. Когда поднялся громкий крик, то Мунд (другой полководец)... тотчас врывается на ипподром через вход, который называется мёртвым. Тогда бунтовщики Ипатия были истребляемы, подвергаясь сильным ударам с обеих сторон» (Прокопий Кесарийский).
В массе, запертой в цирке, началась паника; ужас овладел народом, когда солдаты двинулись через арену, никого не щадя на своём пути. К ночи эта бойня прекратилась. На окровавленной почве ипподрома осталось более 35 тысяч трупов.
Когда Ипатия стащили с трона и вместе с Помпеем привели к царю, они, по словам «Пасхальной хроники», «упали на колени и сказали: «Государь, много труда стоило нам собрать врагов твоей державы на ипподроме». Однако «на следующий день, — сообщает Прокопий, — воины убили обоих и сбросили их тела в море».
Юстиниан считал, что он победил. Действительно, на некоторое время партии ипподрома притихли. Но никакие репрессии Юстиниана не могли приостановить роста крупной земельной собственности, что медленно, но верно подтачивало силы единой централизованной империи..
Вскоре после того как в Византии разыгралась эта кровавая драма, Юстиниан решил начать войну с вандалами, чтобы захватить принадлежавшую им часть Африки. Стремясь укрепить мощь своего государства, Юстиниан считал прежде всего необходимым восстановить его в тех границах, которых оно достигало в эпоху расцвета Римской империи, и восстановить повсюду рабовладельческий строй, поколебленный восстаниями рабов и разрушенный варварами. До начала завоеваний Юстиниана Византийская империя ограничивалась Балканским полуостровом, Малой Азией, Сирией и Египтом. Юстиниан мечтал расширить свои владения вплоть до Пиренейских гор. Для борьбы с вандалами был послан лучший полководец Юстиниана Велизарий, тот самый, который участвовал в подавлении мятежа «Ника».
Византийская армия была по тому, времени превосходно вооружена. Каждый пехотинец имел меч, пику, иногда секиру и всегда лук и колчан со стрелами. Кавалеристы и их лошади были защищены бронёй. Помимо прочего вооружения у кавалеристов, так же как и у пехотинцев, были лук и стрелы. Конница благодаря этому была сильна и на расстоянии, и в атаках. Византийская армия, таким образом, по вооружению и тактике была превосходна. Но по своему составу она оставляла желать много лучшего: византийская армия состояла преимущественно из наёмников. А это означало, что солдаты боролись не за свою родину, а ради военной добычи, для грабежа. Эти не имевшие отечества искатели приключений думали, что «война должна питать войну», поэтому их появление было бичом для той страны, через которую они проходили, безразлично — как друзья или как враги. Если ещё прибавить к этому, что империи постоянно не хватало денег для содержания огромных войск, что солдатам очень часто задерживали уплату жалованья, что снабжение войск провиантом было организовано из рук вон плохо, что в армии процветали хищения и воровство, — то станет понятным, почему византийская армия наёмников всегда отличалась страшной распущенностью и полным отсутствием военной дисциплины.
Велизарию, талантливому полководцу Юстиниана, нередко приходилось прибегать к различным уловкам и ухищрениям, чтобы удержать в повиновении своих солдат. С такой-то армией Велизарий начал войну с Вандальским государством в Африке. Но победа на этот раз далась ему быстро и легко. Объясняется это не столько храбростью византийских солдат и талантливостью Велизария, сколько плохим командованием у вандалов и смутами, которые в то время раздирали их государство. В 534 г. Африка стала провинцией Византии. Страна была разорена войной и грабежами византийских солдат, народ вандалов уничтожался безжалостно. «Сколько народа погибло в Африке, я не умею сказать, — пишет Прокопий, бывший свидетелем этой войны,— но думаю, что погибли мириады мириад».
После захвата Африки, взоры Юстиниана обратились на Италию, где в то время господствовали готы. В 536 г. Велизарии снова снарядил войска и направил свой путь на Апеннинский полуостров. Война с готами длилась девятнадцать лет; она стоила Византийской империи огромных сил и средств. Победа склонялась то в ту, то в другую сторону. Рим пять раз переходил из рук в руки. Готы решились даже предложить Велизарию корону, но тот не согласился. Наконец, в результате огромного напряжения сил, в 555 г. Италия была присоединена к Византии. Покорённая страна разорялась с такой же жестокостью, как и Африка. Готы были либо истреблены, либо вытеснены из Италии. Прежние рабовладельцы были восстановлены в своих правах. Население стонало от страшных налогов империи. Поэтому когда через тринадцать лет в Италию вторглись лангобарды, они без труда покорили себе эту византийскую провинцию. В руках империи остались лишь три города: Неаполь, Рим и Равенна.
Гораздо легче обошлось присоединение к Византии южной Испании, где господствовали в то время вестготы. И здесь, как и в Африке, завоевание было облегчено глубоким упадком вестготской Испании, которую раздирали в то время внутренние смуты и религиозные распри. После этой победы Восточная Римская империя стала господствовать почти на всём западном побережье Средиземного моря. Наконец, последней победой царствования Юстиниана был захват южного берега Крыма.
Гораздо хуже обстояли дела Византии на востоке и на севере. Постоянные набеги на Византию совершали персы с востока, гунны и славяне — с севера. Юстиниан ничего не мог с этим поделать силой своего оружия, и ему приходилось поэтому применять всё своё дипломатическое искусство и изворотливость, чтобы обезопасить себя от страшных врагов. Выработалось убеждение, что варваров нельзя покорить в их пустынях, как нельзя исчерпать моря. От персов Юстиниану удавалось откупаться большими денежными суммами, но против беспрестанной опасности славянских вторжений с севера не помогали и деньги.
Славяне начали совершать свои набеги на Византию задолго до Юстиниана; при нём они стали проникать далеко вглубь византийской империи. Многочисленные славянские племена захватывали земли на правом берегу Дуная и массами селились на них. Часть их, продвигаясь дальше, доходила до Эгейского моря и даже до сердца империи — Константинополя. Прокопий с нескрываемым страхом отмечает, что беспрерывные нападения славян принимали характер переселения целых племён и что империя чувствовала себя в смертельной опасности перед лицом этого врага.
Ещё император Анастасий начал воздвигать против славянских нашествий линию сильных укреплений на севере, так называемую «длинную стену», простиравшуюся от Мраморного до Чёрного моря. Юстиниан продолжил это начинание: он организовал обширное стратегическое строительство по Дунаю. Были восстановлены старые крепости и построены многочисленные новые опорные пункты. Прокопий насчитывает около 400 укреплений восстановленных и созданных Юстинианом в северных и западных частях империи. Ради них, утверждает Прокопий, Юстиниан не жалел ни жизни, ни средств подвластного ему населения. Однако этого было недостаточно. Не помогали и отборные византийские войска, которых выставлял император против воинственных славянских племён: они обычно терпели поражения. Так, в 534 г. был разгромлен со своим войском, а затем и убит в сражении крупнейший военачальник Хильвуд; в 551 г. наголову были разбиты лучшие части византийского войска, и славяне остались хозяевами Фракии и империи. Прокопий свидетельствует, что они остались здесь зимовать, как в собственной земле, не боясь никаких неприятельских войск. На следующий год славяне продвинулись к Адрианополю, оказавшись, таким образом, на расстоянии всего пяти дней пути от столицы. Против них была послана большая армия с лучшими полководцами: Константином Аратием и Назарием. Разгорелся страшный бой. Византийские войска вновь были разгромлены. Славяне двинулись далее на запад и вскоре оказались на расстоянии однодневного перехода от столицы. Юстиниан вынужден был идти на многие уступки: славянам уступали земли, предоставляли им почётные государственные должности, сажали их на границах империи в качестве защитников последней. Однако всё это не останавливало их проникновения в Византию; к середине VI в. славянская колонизация Византийской империи достигла значительных размеров.
Для борьбы с внешними врагами — со славянами, гуннами, аварами и многими другими племенами — Юстиниан употреблял не только оружие, но и разнообразные дипломатические приёмы. Его излюбленным средством была политика натравливания различных племён друг на друга, что ослабляло их во взаимной борьбе. Так, узнав однажды, что византийские дары, посланные вождю одного племени, были перехвачены другим, император поспешил отправить пострадавшему письмо. «Я послал мои подарки самому могущественному из ваших вождей, — писал Юстиниан, — предназначал я их тебе, почитая тебя самым могущественным; но другой насильно перехватил мои подарки, заявляя, что он первый между вами. Покажи ему, что ты выше всех, отними у него то, что он взял у тебя, отомсти ему. В противном случае будет ясно, что именно он — верховный вождь, и мы ему окажем наше благоволение, а ты потеряешь преимущества, которыми мы тебя пожаловали». Эта политика, известная под именем «divide et impera» («разделяй и властвуй»), которая вела своё начало ещё от древнего Рима, вместе с другими уступками Юстиниана помогала (хотя и не надолго) удерживать варваров от нападений.
Чтобы узнавать слабые места своих противников, Юстиниан нередко поручал византийским торговцам производить разведку в стане врагов. Проникая туда, куда не было подступа военным или чиновникам, купцы узнавали о силе и величине войска, о дворцовых интригах, о тайных и явных врагах правителя и подробно доносили обо всём византийскому императору.
Но наиболее действенным средством подчинения инородных племён и народов Юстиниан считал христианскую религию, которую его миссионеры стремились насадить повсюду, где ступала нога византийца. Принятие христианства означало вместе с тем признание власти византийского императора как помазанника божия и, следовательно, подчинение последнему. Неудивительно поэтому, что непокорённые народы ожесточённо сопротивлялись проповеди христианства. Однажды византийские миссионеры прибыли в г. Гир на Евфрате к арабскому эмиру Мундиру III, неукротимому врагу империи. Там они стали излагать эмиру христианское вероучение; но когда речь зашла о воскресении, к эмиру подошёл один из приближённых и шепнул ему что-то на ухо. Эмир тотчас принял скорбный вид: «Мне только что сообщили, — провозгласил он, — что архангел Михаил умер». — «Это совершенно невозможно», — возразили миссионеры-епископы. «Итак, если он не может умереть, как же вы мне рассказываете, будто божество страдало и умерло!» — воскликнул эмир; после этого он отказался продолжать беседу, и епископы должны были уехать ни с чем.
В завоёванных странах, так же как и во всех уголках своей обширной территории, Юстиниан открыто проводил политику крайней религиозной нетерпимости. В Византии в VI в. не существовало единой религии; напротив, в империи господствовали многочисленные, боровшиеся между собой верования; повсюду были распространены ереси, не умерло и язычество. Юстиниан объявил жестокую борьбу всем, кто не исповедовал православия. Его законы устраняли еретиков от всех общественных должностей (гражданских, военных, муниципальных), запрещали им заниматься адвокатурой и быть профессорами, отказывали им в праве наследства. Еретики подвергались ссылкам и даже казням.
Религиозная политика Юстиниана как внутри империи, так и вне её определялась не столько его личным благочестием, сколько тем, что под прикрытием религии император мог бороться со всеми, кто не подчинялся его власти. Единое государство, единая церковь, единый закон — такова была формула, в которую сводились правительственные идеи Юстиниана. Юстиниан считал себя высшим авторитетом во всех религиозных делах, учителем церкви и её господином. «Держись моего мнения, не то я тебя сошлю», — говорил он осмеливавшимся спорить с ним. Юстиниан очень любил всевозможные диспуты на религиозные темы и, конечно, всегда оставался в них победителем, так как в запасе у него постоянно были неоспоримые аргументы: тюрьма, ссылка или даже костёр.
Идея абсолютной власти монарха, теория императорского деспотизма нигде не была выражена более точно и полно, чем в кодексе Юстиниана. Именно здесь идея абсолютной власти имеет законченную юридическую формулировку. «Что угодно государю, то имеет силу закона», — гласит одна статья.
Юстиниан поручил комиссии юристов во главе с Трибонианом составить общий свод гражданского права (Corpus juris civilis), который состоял из четырёх частей. Прежде всего был составлен собственно кодекс Юстиниана, куда были собраны все императорские установления, начиная со II в. После этого Юстиниан поручил собрать воедино учения самых знаменитых юрисконсультов древнего Рима. Эта работа была издана в пятидесяти книгах, под названием «Дигесты» или «Пандекты».
Но «не все могли снести тяжесть такой мудрости», как выразился сам Юстиниан, и поэтому он поручил Трибониану составить учебник права, так называемые «Институции», созданные, как прибавил Юстиниан, чтобы «собрать мутные воды древних источников в прозрачное озеро». Наконец, указы, которые издавал. Юстиниан за все годы своего правления (они называются «новеллы»), были впоследствии присоединены к кодексу.
В своде законов, созданном по приказу Юстиниана, нашёл своё отражение прежде всего господствующий рабовладельческий строй, но в нём заметны также черты зарождавшихся феодальных отношений. Так, в качестве непреложной истины одна из статей закона утверждала, что «все люди делятся на свободных и рабов»; однако другая статья того же свода указывала, что рабов можно отпускать на волю в неограниченном количестве. Подобного закона прежде никогда не существовало. Его появление было вызвано тем, что византийские рабовладельцы VI в. начинали понимать, что рабский труд перестал себя оправдывать и что труд крестьянина, лично свободного, но сидящего на чужой земле и вынужденного за это обрабатывать эту землю не только для себя, но и для её владельца, — является более производительным и поэтому более выгодным. В связи с этим в кодексе Юстиниана появились специальные статьи, посвященные колонам — новой категории полузависимых земледельцев.
Юстиниан очень гордился проделанной работой. Он часто любил повторять, что дал всем возможность «с ничтожными издержками приобретать квинтэссенцию мудрости».
Таким образом, по воле Юстиниана была произведена гигантская работа по собиранию и систематизации законодательства, слагавшегося веками. То, что прежде представляло множество отдельных и разрозненных законов, стало теперь единым и стройным целым.
Кодекс Юстиниана служил не только юристам его эпохи. В течение всех последующих столетий к этому кодексу прибегали юристы всех стран, его изучали студенты, он и поныне изучается во всех высших юридических школах капиталических государств.
Но Юстиниан задумал эту внушительную работу не для того, чтобы внести свой вклад в науку. Юстиниан преследовал свои политические цели, которым должен был служить кодекс. Кодекс укрепил, как мы уже видели, авторитет императорской власти. Опираясь на кодекс, Юстиниан мог себя считать не только носителем верховной власти, но и единственным источником права и закона.
В борьбе с непокорными сенаторами-землевладельцами, в борьбе с их беззакониями и самоуправством император использовал оружие права, возводившего императорскую власть на недосягаемую высоту.
Кодекс имел и другое значение. В бурную эпоху великих потрясений, когда волнения угнетённых масс грозили существованию Византии и власти рабовладельцев и землевладельцев, надо было увековечить и раз навсегда узаконить бесправие рабов и подневольное положение колонов. Кодекс Юстиниана развивал во всех деталях сословное деление общества, утверждал господство одних и подчинение других и на языке закона сводил воедино всю систему насилия и угнетения, на которой покоилась эксплуатация рабов и колонов.
Самодержавный характер правления Юстиниана сказывался и в его административной политике. Реформы Юстиниана преследовали задачу усиления центральной власти, для чего было необходимо прекратить страшное воровство и хищения, которые процветали в империи. В Византии исстари существовал обычай, с которым постоянно, но безрезультатно боролись, — торговля общественными должностями. Самые высшие лица, не краснея, дорого продавали искателям должностей свою благосклонность и покровительство. Чтобы достать денег для покупки должности губернатора, делались разорительные займы, которые потом с лихвой покрывались непрерывными вымогательствами у подчинённого населения; притеснительное и требовательное финансовое управление, продажная юстиция, запятнанная хищениями и несправедливостью, — вот что помогало покрывать затраты на покупку должности. Чиновники грабили и брали взятки, сколько им было угодно; финансовые агенты набивали себе карманы, требуя от налогоплательщиков больше, чем следовало, и придумывали сотни предлогов, чтобы вымогать дополнительные поборы; служащие полиции, обязанные защищать подданных, обременяли последних ещё тяжелее; они были, по выражению Юстиниана, «большими грабителями, чем разбойники». Опустошая дома, отымая земли, они открыто заявляли, что закон существует не для них. Убийство, разбой, презрение к законам казались вполне естественными для всякого, кто был достаточно силен или богат, чтобы быть уверенным в своей безнаказанности. Эти бедствия разоряли города, превращали деревни в пустыни. Со всех сторон в столицу стекались жалобы на ужасные злоупотребления чиновников.
Юстиниан решил положить предел этим беззакониям. Чтобы охранить плательщиков от вымогательств чиновников, он издал закон, которым запрещалась продажа должностей. Но так как казне всегда не хватало денег, то в том же законе стояла такая фраза: «Должностные лица больше всего должны стараться увеличить доходы государственной казны и всячески заботиться о защите её интересов». Это оставляло лазейку для вымогательств. Более того, нужда в деньгах заставляла самого Юстиниана немедленно после издания закона начать снова торговлю должностями. Указ., таким образом, оставался лишь на бумаге.
Для централизации государственного аппарата и для удешевления его Юстиниан уменьшил количество провинций и губернаторов, соединив в руках последних гражданскую и военную власть. Далее Юстиниан пытался улучшить правосудие в провинциях, но и это не привело ни к каким результатам: лихоимство попрежнему процветало, законы исполнялись весьма плохо, юстиция оставалась попрежнему медленной, продажной. «Весы правосудия колебались по произволу и склонялись в ту сторону, куда влекла их большая часть золота», — пишет Прокопий Кесарийский.
Денег государству нехватало, несмотря на тяжкое обложение населения и на изворотливость государственных чиновников. Помимо огромных средств, которых требовали война, пышная придворная жизнь, раздачи городской бедноте, Юстиниан тратил колоссальные суммы на обширное строительство, которое он предпринимал для возвеличения империи и для укрепления её обороноспособности. Одним из постоянных предметов попечения Юстиниана была забота об охране границ империи. Поэтому все города вдоль границы были укреплены и связаны между собою непрерывной линией постов, прочно построенных, снабжённых водою и съестными припасами и занятых небольшими византийскими гарнизонами. В самых отдалённых захолустьях строились проезжие дороги; в пустынях копали колодцы; через горные реки перебрасывались мосты, в городах проводились водопроводы. Юстиниан отстроил заново более 150 городов. Но особенное внимание он уделял своей столице, украшая её богатыми зданиями, настоящими чудесами архитектуры.
Самым замечательным строением Константинополя был храм св. Софии, который считали чудом и славой царствования Юстиниана. Этот храм положил начало новому, так называемому византийскому стилю в искусстве. В храме св. Софии сочетаются элементы античного и восточного зодчества. Стройная внутренняя колоннада напоминает греческие храмы, а богатые украшения, изобилие золота и драгоценных камней являются вкладом восточной архитектуры. Веяние Востока сказалось и в том, что всё здание храма увенчано колоссальным куполом. В этом состояло невиданное доселе новшество. Установить купол и придать ему чистоту, изящество, смелость линий — это была трудная задача. Но архитекторы (Анфимий и Исидор) справились с ней блестяще. Внутри церковь поражает необыкновенным великолепием и богатством. Она вся разукрашена самыми лучшими сортами мрамора, серебром, золотом, слоновой костью и драгоценными камнями. Гигантские колонны из порфира или зелёного мрамора увенчаны тонким каменным кружевом капителей; пол и стены, выложенные разноцветными мраморами, напоминают, как говорит современник, ковёр или цветник, усыпанный пурпурными цветами. В верхних частях стен расположены громадные мозаики на яркозолотом или тёмноголубом фоне.
Эти мозаики — чудо византийского искусства. Чрезвычайно тонко и умело они передают величие и строгость изображаемых лиц, которые удивительно гармонируют со всей окружающей обстановкой. Благодаря сорока окнам, проделанным в основании купола и в толщине стен, св. София вся залита светом, который, играя и переливаясь на сверкающем убранстве, создаёт замечательные световые эффекты. Современники говорили про св. Софию, что кажется, будто это «удивительное и вместе с тем приводящее в трепет создание лежит не на камнях, а спущено на золотой цепи с высоты небес».
Прочность постройки св. Софии так велика, что, несмотря на несколько землетрясений, она сохранилась до настоящего времени, и поныне искусствоведы считают её одним из ценнейших исторических памятников мирового зодчества. Постройка этого храма стоила баснословных сумм: она обошлась государству в 361 миллион золотых рублей.
Откуда же государство доставало средства для покрытия своих огромных расходов? Основными налогоплательщиками были крестьяне и ремесленники. Хотя Юстиниан облагал податями и крупных землевладельцев, но основная тяжесть государственных повинностей ложилась на плечи трудящихся, особенно крестьян.
Самый ничтожный клочок земли, с которого крестьянин едва мог прокормить себя и свою семью, облагался налогом; крестьянин должен был нести натуральные повинности на содержание армии, платить налог хлебом — для прокормления столицы. Он должен был заготовлять и поставлять материал для казённых построек, ремонтировать мосты и дороги, безвозмездно содержать у себя государственных чиновников, если они останавливались в его доме. Но особенно тяжёлым было то, что государству принадлежала монополия хлебной торговли; оно устанавливало произвольные цены на хлеб. А так как крестьянам своего хлеба нехватало, то они вынуждены были платить за него огромные деньги. Один старик-крестьянин пришёл в Константинополь просить, чтобы его взяли в солдаты. Его с удивлением опросили, как он в таком возрасте справится с тяжёлой солдатской службой. Старик на это иронически ответил: «К старости я стал много сильнее, чем был прежде: раньше мне нужно было двух ослов, чтобы увезти хлеб, который я покупал за одну золотую монету, а теперь я его легко уношу в своих руках».
Чтобы выплатить всё, что требовало государство, крестьянин должен был обращаться за помощью к крупному землевладельцу — он брал у него взаймы рабочий скот, орудия для обработки земли, деньги. Но отдать долг или отработать его у крестьянина нехватало сил, и он должен был превращаться в «парика», т. е. в крепостного. Понятно поэтому, что византийское крестьянство было почти всегда обречено на безысходную нужду. Деревни нередко пустели, крестьяне бросали своё хозяйство и пополняли собою ряды люмпен-пролетариата. Процесс закрепощения и угнетения крестьянства шёл всё возрастая.
Мелкое городское население, так же как и крестьянство, страдало от тяжести государственных налогов. Юстиниан требовал, чтобы мелкие ремесленники и торговцы платили и подушный налог, и ряд косвенных налогов.
Империя Юстиниана, столь блестящая и пышная на первый взгляд, была очень слаба в действительности, так как подтачивалась изнутри смутами и разорением широких народных масс. Блестящий двор императора, походы и войны, величественные постройки и сооружения не могли скрыть неизлечимых недугов Византийского государства.
Всё такой же беспросветно тяжёлой оставалась судьба миллионов тружеников — рабов и колонов. Ухудшилось положение крестьян, разоряемых тяжкими налогами и терпевших притеснения от крупных землевладельцев, которые стремились закабалить свободного крестьянина и мелкого землевладельца.
Несмотря на жестокие удары, преследования и конфискации, крупная землевладельческая аристократия сохраняла своё господствующее положение, попрежнему проявляя своеволие, враждебность ко всякому закону и склонность к насилиям.
Усилилась церковь, и под покровительством императора выросло церковное и монастырское землевладение. Огромные пространства церковных земель не приносили государственной казне никаких доходов, и тем тяжелее становилось бремя налогов, ложившихся на плечи среднего люда — мелких землевладельцев, ремесленников, купцов.
А у черты границ росли вражеские силы; всё сильнее ощущала империя могучий напор славян на севере, персов на востоке. Опасной и ненадёжной силой становились в глазах византийских царедворцев народные массы, всё более росла боязнь новых внешних и внутренних потрясений и тревога за будущее.
Последние годы правления Юстиниана отмечены глубоким расстройством всех органов государственного правления. Состарившийся, утомлённый и ослабевший император видел, как рушились все его планы и начинания. Империя, которую он мечтал восстановить полностью и превратить в мощное централизованное государство, быстро распадалась на его глазах. Юстиниан умер в 565 г., в возрасте 81 года. Своим преемникам он оставил в наследие долгую и упорную борьбу за сохранение Византийской империи, расшатываемой изнутри острой классовой борьбой, ослабляемой извне сильнейшими врагами.








