Западные и южные славяне
Книга для чтения по истории Средних веков
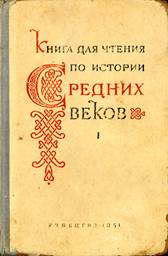
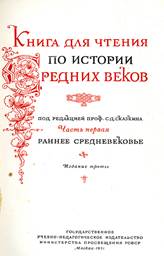
OCR: Andrey Borin, 2008
«Книга для чтения по истории средних веков» (часть I , издание третье) под редакцией члена-корреспондента АН СССР С. Д. Сказкина охватывает в основном раннее средневековье ( VI — XI вв.) и предназначена для учащихся VI — X классов средней школы.
Книга для чтения содержит 19 очерков, популярно излагающих политические события, быт и культуру раннего средневековья. Книга снабжена 60 рисунками. Данное пособие может служить как для самостоятельного чтения учащихся, так и для кружковых занятий.
ОТ РЕДАКТОРА ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
При составлении этой книги нашей задачей было дать учащимся живой и интересный материал для самостоятельного чтения и кружковых занятий по истории средних веков. Первый выпуск этой книги посвящен раннему периоду средневековья.
Большая часть статей данной книги написана аспирантами исторического факультета Московского государственного университета, подрастающим поколением молодых учёных, либо работавших, либо и сейчас продолжающих работать в средней школе. Один из редакторов этой книги, доцент А. Д. Эпштейн, руководитель исторического кружка Московского дома пионеров, обсуждал большую часть статей в кружке, и дети, принимавшие участие в этом обсуждении, дали ряд интересных рецензий, замечаний и пожеланий, для нас тем более важных, что они шли из круга наших будущих юных читателей. Мы, однако, не сделали из этих пожеланий того вывода, что книга для чтения по истории в целях наибольшей занимательности должна превратиться в ряд исторических повестей и рассказов, в которых фантазия автора законодательствует над материалом. В основе каждой статьи нашей лежит прежде всего исторический источник, задачей каждой статьи была прежде всего историческая правда, ибо только она одна воспитывает в учащихся историческое мировоззрение, лежащее в основе марксистско-ленинского понимания прошлого и настоящего.
В данную книгу вошли 15 очерков по истории средних веков. Некоторые из них по характеру изложения приближаются к исторической беллетристике (например «Суд во времена Салической правды» — Л. С. Чиколини), другие же — ближе к историческому учебнику (например очерк «Завоевания арабов» — Ю. А. Бэра).
При составлении «Книги для чтения» мы стремились возможно полнее изобразить культуру раннего средневековья («Арабская культура» — Ю. А. Бэра, «Алкуин и школа при Карле Великом» — А. А. Фортунатова, «Как обучались в средневековых университетах» — Б. М. Кублановой и др.).
К сожалению, сравнительно небольшой объём книги не позволил нам представить культуру раннего средневековья в более полном объёме.
Мы не касались также здесь сюжетов, имеющих отношение к истории СССР, так как имеется достаточное количество хрестоматий и книг для чтения, трактующих эту часть истории средних веков.
Значительное место мы отвели крестовым походам («Первый крестовый поход» — М. А. Зиновьева, «Крестоносцы в Византии» — А. Д. Эпштейн а, «Четвёртый крестовый поход и Венецианская республика» — А. Д. Эпштейна).
В дальнейшем выйдут вторая и третья «Книги для чтения по истории средних веков», охватывающие историю XI—XVII вв. включительно.
В редактировании книги участвовали, кроме меня, доцент, кандидат исторических наук А. Д. Эпштейн и кандидат педагогических наук М. А. Зиновьев.
Иллюстрации подобраны кандидатом исторических наук С. 3. Левиовой.
Проф. С. Д. Сказкин.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ
В соответствии с отзывом рецензентов в третье издание этой книги включены новые статьи. Текст статей заново просмотрен авторами.
Редактор член-корреспондент Академии наук СССР
С. Д. Сказкин.
ЗАПАДНЫЕ И ЮЖНЫЕ СЛАВЯНЕ
Славянские народы с древних времён жили в Европе. Самые ранние сведения о славянах, сообщаемые римскими писателями, относятся к первому веку н.э.
Историк VI столетия Иордан рассказывает: «К Дунаю прилегает Дакия, как венцом ограждённая горами, по левой стороне которых и от верховьев реки Вислы на неизмеримых пространствах обитает великий народ венедов. Хотя имя их и меняется теперь в зависимости от племени и места, — однако главные названия их — склавины и анты».
Иордан описывает обширные пространства, занимаемые славянами; он сообщает о существовании многочисленных племён, носивших самые различные названия. Не упоминая отдельных племенных названий, Иордан указывает. три главных наименования, под которыми известны были славянские народы: венеды, склавины и анты. Византийский историк VI века Прокопий повествует о том, что «Бесчисленные племена антов занимают дальнейшие края к северу от Понта (Чёрного моря) и Меотийского залива (Азовского моря)». Прокопий говорит, что прежде склавины и анты имели одно общее имя. Очевидно, три наименования свидетельствуют о постепенном размежевании славян, разделившихся на три ветви: славян западных, южных и восточных.
Данные древних авторов подтверждает «наука лопаты» — археология. Результаты раскопок устанавливают, что жилище антов представляло собой группу полуземлянок, связанных между собой подземными ходами. В подобном жилище размещалась большая семейная община. Каждый из взрослых сыновей главы общины занимал со своей семьёй одну из полуземлянок. При раскопках антских городищ найдены зёрна пшеницы, серпы и железные части плугов.
Эти восточные славяне анты были предками русских, белорусов и украинцев, О южных и восточных славянах, вошедших в соприкосновение с древней Византией, мы знаем раньше и больше всего от византийских писателей.
ВИЗАНТИЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ О ЮЖНЫХ СЛАВЯНАХ
Продвигаясь вдоль Дуная, славяне дошли до границ Византии и уже в VI в. стали её беспокойными и опасными соседями. Вскоре славянские набеги, всё учащаясь, стали представлять грозную опасность для Византийской империи.
Уже в 512 г. император Анастасий поспешил защитить свою столицу, построив «Длинную стену», которая серпообразной кривой тянулась от Чёрного моря до Мраморного. Эта стена опоясывала местность, прилегавшую к Константинополю, будучи расположенной на расстоянии одного дня пути от столицы.
При византийском императоре Юстиниане (527—565) на северном рубеже империи, вдоль Дуная, стали возводить крепости, которые должны были создать непроницаемый заслон, барьер, способный приостановить дальнейшее движение славян. Однако все попытки сдержать натиск славян оказались безуспешными.
Несколько раз южнославянские племена неудержимым потоком прорывались в глубь Балканского полуострова. Они прошли этот полуостров из конца в конец в 540, 551 и 559 гг.
Византийские авторы о жизни славян, об их быте и нравах рассказывали мало. Зато очень подробно они повествовали о военных событиях, о военном строе, о тех способах ведения войны, к которым обычно прибегали славяне.
У славян была своя военная тактика, свои приёмы ведения войны, отлично приспособленные к тем природным условиям, в которых жили славянские племена.
Об этой-то своеобразной военной тактике славянских племён рассказывает византийское руководство к изучению военного искусства, которое обычно приписывают императору Маврикию (582— 602), прозванному Стратегом. «Они любят схватываться с неприятелями в узких, труднопроходимых и утёсистых местах. Они умеют пользоваться засадами, неожиданными нападениями и ловушками, дневными и ночными, не затрудняясь в придумывании всевозможных уловок. Они превзойдут кого угодно в умении переправляться через реки и могут оставаться подолгу в воде. В случае неожиданного вторжения в их страну они погружаются в глубину воды, держа во рту длинные, нарочно для этого сделанные, полые внутри стволы тростника. Лёжа навзничь, в глубине, они выставляют эти стволы на поверхность воды и через них дышат, так что могут по нескольку часов оставаться в этом положении, не возбуждая никакого подозрения: неопытные, видя тростник, считают его растущим в воде. Но кто знает об этой уловке, может догадаться по виду и положению надрезанных стеблей и проткнуть им рот тростником или вытащить его из воды и этим лишить их возможности скрываться далее под водою. Вооружаются они двумя маленькими дротиками каждый, а некоторые и щитами, хорошо сделанными... Они употребляют также деревянные луки и маленькие стрелы, намазанные ядом, который действует очень сильно, если не принять противоядия и других средств, известных врачам, и если не перевязать раны, чтобы отрава не просочилась дальше и не заразила всего тела.
Не подчиняясь общей власти и находясь во взаимной вражде, они не умеют сражаться в строю и вблизи, не любят встречаться с неприятелем в открытом и ровном месте. Если же и случится отважиться им на рукопашный бой, они поднимают общий крик и понемногу продвигаются вперёд. Если неприятели начнут отступать перед их криком, они неудержимо устремляются на них. Если же нет, они поворачивают назад, нисколько не спеша изведать силу врагов в рукопашной схватке. Они предпочитают держаться лесов, приобретая там значительный перевес, так как умеют искусно держаться в теснинах. Очень часто, неся с собою добычу, они при малейшей тревоге бросают её и бегут в лес; когда же неприятели столпятся кругом добычи, они с тою же лёгкостью возвращаются и наносят им вред».
Тактика, ярко описанная византийским автором, сложилась сама собой в силу тех условий, в которых приходилось жить древним славянам. Используя леса, засады, неожиданные вылазки, умело применяя знание местности, изворотливость и смётку, славяне должны были создать ту самую тактику, которая во многих чертах напоминает нам тактику древних германцев и других народов, стоявших примерно на такой же ступени развития, что и древние славяне.
Однако автор военного руководства познакомил своих читателей с явно устаревшими данными, которым противоречат многочисленные факты, сообщаемые византийскими историками.
Историк VI в., современник императора Юстиниана — Прокопий Кесарийский, опровергает ошибочное представление, будто славяне избегают сражений в открытой равнине. Лишь мелкие славянские племена, располагавшие небольшими отрядами, были вынуждены уклоняться от столкновений с римскими войсками на просторе боевого поля. Для большого же славянского войска, создаваемого объединившимися племенами, пролагавшими путь к новым плодородным землям, лежавшим к югу от Дуная, подобные сражения оказывались возможными и желанными. Прокопий рассказывает, что во время войны Византии с остготами, славяне перешли Дунай и вторглись в Иллирию — Византийскую провинцию, расположенную в северо-западной части Балканского полуострова у Адриатического моря. Многочисленные укрепления, из которых были выведены византийские гарнизоны, беспрепятственно занимались славянами. Славянское войско было такой грозной силой, что правители Иллирии, собрав 15-тысячную армию, не решили приблизиться к славянам и вступить с ними в сражение; они ограничились тем, что только шли по следам славянского войска.
Одновременно через Дунай перешло в другом месте 3-тысячное славянское войско, разделившееся на два отряда. Римские силы подверглись неожиданному натиску этих двух отрядов и были обращены в бегство, несмотря на сравнительную малочисленность нападавших. Вскоре один из славянских отрядов вступил в бой с отборной фракийской конницей, предводимой императорским телохранителем Асбадом. Прокопий рассказывает, что славяне «без большого труда» обратили в бегство опытных византийских воинов, из которых многие сложили свои головы в битве. Начальник конницы Асбад был взят в плен и убит победителями. Равнины Фракии оказались во власти немногочисленных славянских отрядов. С нескрываемым изумлением повествует Прокопий о том, что славяне, не дерзавшие прежде приближаться к стенам укреплений, решились предпринять осаду многих крепостей, которые были взяты обоими победоносными отрядами. Обширная территория, простиравшаяся от Дуная до Мраморного и Эгейского моря, была на время захвачена двумя отрядами.
Немалый интерес представляет рассказ Прокопия о захвате славянами хорошо укреплённого приморского города Топор. Большая часть нападающих укрылась в засаде невдалеке от осаждённого города. Немногочисленный славянский отряд появился у ворот города и привлёк к себе внимание его защитников. Убедившись в малочисленности нападающих, защитники города предприняли вылазку и у стен своей крепости вступили в схватку с противником. Славянские воины отступали, всё более и более завлекая преследователей, постепенно удалявшихся от оставленных ими крепостных стен. Внезапно в тылу византийских воинов раздались возгласы славянских бойцов, появившихся из засады и отрезавших путь, ведущий к крепости. Растерявшиеся византийские воины, подвергшись натиску с двух сторон, были перебиты. Вслед за этим славянские воины устремились к крепости, стены которой теперь уже защищались жителями города.
Ни летевшие с высоты камни, ни лившаяся сверху кипящая смола и горячее масло не остановили нападающих. Пустив тучу стрел, они на время заставили горожан покинуть гребень стены и, воспользовавшись несколькими мгновениями испуга и растерянности, приставили к стенам заранее припасённые штурмовые лестницы, поднялись по ним на гребень крепостной стены и проникли в осаждённый город.
Рассказ Прокопия свидетельствует о боевом умении, находчивости, ратном искусстве славян, побеждающих врага в открытом поле, преодолевающих препятствия, готовых осаждать и брать приступом каменные твердыни. Выводы Прокопия находят подтверждение и в других византийских свидетельствах.
Византийские источники говорят об уменье славян легко и быстро сооружать мосты для переправы через реки. Преодолевая водную преграду, воины-славяне использовали наполненные воздухом мешки из бычьих и козьих шкур, с помощью которых они неожиданно для неприятеля перебирались через широкие реки.
Застигнутые врасплох нападением противника, славянские воины умели быстро создать укреплённый лагерь, сомкнув десятки повозок. Эти повозки превращались таким образом в круговую баррикаду. В её кольце располагались вооружённые луками воины, за спиною которых в центре укреплённого лагеря оставались безоружные.
Предпринимая в конце VI в. нападение на большой портовый город Фессалонику, славяне подвели к побережью множество лёгких и подвижных лодок-однодеревок. Назывались эти лодки однодеревками потому, что каждая лодка была выдолблена из ствола большого дерева.
Вторжения славян вглубь византийской территории не были простыми грабительскими набегами. Прокопий рассказывает, что пленные славяне открыто говорили о той цели, которую преследуют их вторжения. Этой целью являлся захват земли, пригодной для земледелия и поселений. Историк конца VI в. Иоанн Эфесский с горечью говорит о том, что славяне доходили до «внешней стены», ограждавшей земли, примыкавшие к Константинополю, завладевая многими тысячами голов скота... «И вот до нынешнего дня, — восклицает историк, — они спокойно живут в византийских провинциях, без заботы и страха... Владеют стадами коней и оружием, научившись военному делу лучше самих византийцев».
Цель, которую преследовали славянские племена, со временем оказалась достигнутой. Десятки славянских поселений появились не только в пределах Балканского полуострова, но и в Малой Азии. Новые славянские поселенцы оказались трудолюбивыми земледельцами. В их лице Византийская держава впоследствии нашла надёжную опору, и славяне-воины под знамёнами империи не раз с успехом защищали её границы в жестоких сечах с арабами и другими врагами Византийской империи.
Даже враждебно относившиеся к славянам византийские авторы были вынуждены воздать им должное. Они единодушно признавали отвагу и мужество славян, которые проявлялись не только на поле боя. Византийский писатель Феофилакт Симокатта рассказывает о поведении нескольких славянских пленников, у которых тщетно допытывались, к какому племени они принадлежат: «Но варвары, — пишет Феофилакт, — ожидая смерти, не обращали внимания на мучения, как будто эти страдания и удары бича относились к чужому телу».
Говоря о «грубом образе жизни» славян, Прокопий замечает, что славяне «по существу неплохие люди и совсем не злобные».
Славяне издревле занимались, наряду с охотой и скотоводством, и земледелием. В военном руководстве псевдо-Маврикия говорится, что «у них большое количество разнообразного скота и плодов земных, лежащих в кучах, в особенности проса и пшеницы».
Подобно древним германцам и древние славяне часто переселялись, меняя места своего обитания. Однако уже Тацит, писавший в конце I столетия, не считал славян кочевниками. В отличие от последних, указывает он, славяне не знают кибиток, а «строят дома». Так же, как и древние германцы, славяне в раннюю пору своего существования занимали под обработку землю и, собрав урожай, переходили на новые места, где снова сооружали свои хижины, возделывали поля, охотились и пасли свои стада.
В своём хозяйственном и политическом развитии славяне нисколько не отставали от других народов — кельтов и германцев. Готский историк Иордан рассказывает, что в конце IV столетия на берегах Чёрного моря у границ древнего Союза племён, руководимого остготами и их вождём Германарихом, сложилось древнейшее славянское государство, возглавленное общим правителем объединившихся славянских племён, их «царём» Божем, который, вместе с 70 племенными старейшинами, погиб в борьбе с остготами. Немногословный рассказ Иордана показывает, что самое древнее славянское государство сложилось ещё в IV в. и было создано не чужеземцами-завоевателями, а самими славянами.
У южных славян, вступивших в соприкосновение с Византийской державой, нескоро сложилось своё независимое государство. Созданию такого единого государства мешала не только разбросанность славянских поселений, раскинувшихся на обширных пространствах Балканского полуострова и Малой Азии. Немалую роль сыграла и политика византийских императоров. Они всячески противились объединению южнославянских племён, умело разжигали соперничество между их военными вождями и вызывали этим раздоры и столкновения славянских племён. Об этом открыто говорится в военном руководстве, приписываемом Маврикию: «Так как у славян множество царьков и они между собою несогласны, то не лишне некоторых из них, и особенно пограничных, привлечь на свою сторону убеждениями или подарками, а затем уже нападать на остальных. Иначе, вступив в борьбу сразу со всеми, можно вызвать среди них объединение или монархию».
Однако подкуп и коварство, вероломство и обман, чинимые византийскими императорами, лишь до поры до времени могли предотвратить объединение славянских племён и помешать созданию большого славянского государства. В VII столетии на берегах Нижнего Дуная складывается молодая Болгарская держава, которая вскоре становится могущественным соседом Византии.
До возникновения государства у каждого славянского племени было своё племенное войско, свои племенные старейшины и военные вожди. Жизнь племени в эту пору определялась волею общеплеменного вечевого собрания. Об этом, к сожалению, очень кратко говорит Прокопий: «Народ этот не управляется одним человеком, но исстари живёт в демократии. Поэтому обо всём, что для них полезно или вредно, они рассуждают сообща».
Свидетельство Прокопия говорит о роли народных (вечевых) собраний, на которых славяне-соплеменники решали все важнейшие дела своего племени.
Картина древнеславянского народного собрания, вероятно, напоминала ту картину, которую даёт Тацит, рисуя древнегерман-ское народное собрание.








