7.6. Гуманистические идей произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка, В.М. Гаршина.
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852-1912). «Воистину русским писателем» (А. М. Горький) выступает Д.Н.Мамин-Сибиряк и в литературе для детей, адресуя им рассказы, сказки, очерки. Как и Горький, Чехов, Короленко, Мамин-Сибиряк исследует тему обездоленности ребенка из бедной семьи, ребенка-сироты. И шире — тему лишения ребенка, казалось бы, бесспорного его права иметь детство — рассказы: «Кормилец» (1885), «В ученье» (1892), «Вертел» (1897), «В глуши» (1896), «Богач и Еремка» (1904) ), «Зимовье на Студеной» (1892), «Емеля-охотник» (1884) и др.
В первом из названных рассказов «Кормилец» двенадцатилетний мальчик, единственный кормилец семьи, гибнет, став жертвой тяжелых условий фабрично-заводского труда.
|
Трагична участь Прошки в рассказе «Вертел». Этот худенький, «похожий на галчонка» мальчик работает круглый год в шлифовальной мастерской, словно маленький каторжник. Вся его жизнь проходит в этой мастерской, тесной и темной, где в воздухе носится наждачная пыль, куда не попадает солнце. Заветная мечта Прошки — уйти туда, где «трава зеленая-зеленая, сосны шумят вершинами, из земли сочатся ключики, всякая птица поет по-своему». Он не знает ощущений природы, человеческого тепла, но воображение рисует желанные картины. Прошка подобен автоматизированному механизму. Он словно неотделим от колеса, стал его элементом. Прошка лишен даже возможности общения. Он постоянно голоден, «жил только от еды до еды, как маленький голодный зверек...» Равнодушие, инертность, рабское принятие бесправия, ужаса как объективной нормы — в этом истинная смерть еще при кажущейся (якобы) жизни... В конце концов Прошка заболевает от непосильной работы и умирает. Углубление сознания предрешенности подчеркивается и тем, что параллельно с существованием Прошки читатель наблюдает жизнь его ровесника, мальчика из богатой семьи.
Лишение детства — объективная предопределенность для крестьянских и городских детей, родившихся в бедности, — ведущий мотив и рассказа «В глуши», очень характерного для Мамина-Сибиряка.
Герои ряда рассказов — бедные крестьяне-рыбаки, охотники, обитатели зимовок, заброшенных в глухих местах, — в суровой природе Урала находят несравнимый источник душевной устойчивости. («Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной». Герои этих и других рассказов овеяны глубокой симпатией автора. Он поэтизирует их привлекательность: добродушие, трудолюбие, отзывчивость на чужие страдания. Елеска ухаживает за тяжело больным охотником-вогулом, оказавшимся в глухом лесу без всякой помощи. Сердечная доброта Емели проявляется и в случае на охоте: он не решился стрелять в маленького олененка, зная, с каким самоотвержением любая мать защищает свое дитя.
Люди, о которых пишет Мамин-Сибиряк, отличаются каждый своим особым пониманием природы, хотя все они чувствуют ее краски, голоса, запахи. Все внутренне как бы слиты с дыханием леса, реки, неба... Рассказ о любви старика Тараса («Приемыш») к спасенному лебедю подобен лирической песне. Тарас не просто знает все места вокруг своего жилья верст на пятьдесят. Он душой постиг «всякий обычай лесной птицы и лесного зверя». Он любуется птицей, счастлив в общении с природой, ценит ее открытость, непостижимое богатство ее красок, ее способность успокоить, насладить голодающую по ласке душу.
Близок к рассказу «Приемыш» интонационно и по замыслу рассказ «Богач и Еремка». Здесь как бы в роли выхоженного лебедя — зайчишка с переломленной лапкой: его не стал брать зубами охотничий умный пес Еремка; в него не смог выстрелить старый опытный охотник Богач, хотя жил он именно тем, что продавал заячьи шкурки. Победа истинного великодушия над всеми другими прагматическими расчетами — основная мысль рассказа, его пафос — в способности человека и собаки любить слабого, нуждающегося в защите...
Писатель передает природную предрасположенность человека к защите слабых. Это состояние души, эта особенность человеческого отношения к природе и ко всему окружающему в названных произведениях передается прежде всего через чувства и конкретные действия стариков и детей, продиктованные этими чувствами. Так подчеркивается природность, естественность человеческой предрасположенности: в детстве и старости человек открытое, естественнее в чувствах и мыслях, в действиях.
Природа в произведениях Мамина-Сибиряка — не фон для раскрытия чувств, душевных состояний, порывов человека. Природа — полноправный, полнокровный герой произведений, выразитель авторской позиции и эстетической, нравственной и социальной. Пейзаж, как и портрет героев, живописен, изменчив, краски в движении — переходы одного оттенка к другому гармоничны изменению душевного состояния. Вот картина дождливого летнего дня в лесу. Под ногами ковер из прошлогодней палой листвы. Деревья покрыты дождевыми каплями, которые сыплются при каждом движении. Но выглянуло солнце, и лес загорелся алмазными искрами: «Что-то праздничное и радостное кругом вас, и вы чувствуете себя на этом празднике желанным, дорогим гостем» («Приемыш»).
Язык произведений Мамина-Сибиряка — народный, живописный, меткий, образный, богат пословицами, поговорками. «Ищи ветра в поле!» — говорит Богач об убежавшем зайчике. «Вместе тесно, а врозь скучно», — замечает он, наблюдая поведение собаки, подружившейся с зайцем.
|
7.7. Сказки Гаршина, Мамина-Сибиряка для детей.
«Аленушкины сказки» (1894 — 1897) писались Маминым-Сибиряком для его маленькой дочери Елены. Девочку, родившуюся в 1891 году, ждала трудная судьба: мать умерла родами, отец был уже немолод, а ее серьезная болезнь мешала рассчитывать на благополучный удел. Отцу предстояло подготовить свою Аленушку к жизни, к ее суровым сторонам, а главное — научить ребенка любить эту жизнь. «Аленушкины сказки» полны оптимизма, светлой веры в добро.
Герои сказок — муха, козявочка, комар, заяц, игрушки, цветы — подчеркнуто малы, слабы, незаметны среди больших и сильных существ; но все действие сказок направлено к их победе. Слабые одерживают верх над сильными, незаметные обретают наконец свое место в жизни. Вместе с тем писатель тактично подмечает, что слабые существа нередко заражаются мелочным эгоизмом, желают, чтобы весь мир принадлежал им, и, не в состоянии достичь этого, обижаются, делаются несчастными. Подспудная мысль сказок сводится к тому, что невозможно переделать мир себе в угоду, но можно изменить себя и свое отношение к окружающему ради своего же блага.
Сказки Д.Н.Мамина-Сибиряка, подобно сказкам К.Д. Ушинского и Л.Н.Толстого, стилистически и по объекту анализа реалистичны. «Сказка про храброго зайца Длинные Уши — Косые Глаза — Короткий Хвост» (1894) и «Сказка про Комара Немировича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишку — Короткий Хвост» (1895), «Про Воробья Воробеича созданы в традициях народных сказок о животных.
Герои его произведений — обыкновенные звери, птицы, насекомые, которых ребенок, как правило, знает в жизни. В них нет ничего редкостного, исключительного. Медведь, зайчик, воробей, воронушка, комар, даже комнатная муха — живут в сказках своей, свойственной им жизнью. Отличительные приметы внешнего облика сказочных героев легко распознаются ребенком: у зайца «длинные уши, короткий хвост», у комара — «длинный нос», у воронушки — «черная головушка». Животные, птицы, насекомые — носители качеств, которые отличает в них и народная сказка: заяц труслив; медведь силен, но неуклюж; воробей прожорлив, нахален; комар назойлив.
Герои в них очеловечены, а характеры обрисованы как самобытные, «личностные», что отличает их от фольклорных героев — всегда обобщенно-типизированных. Так, Комар Комарович и заяц-хвастун выделяются среди других комаров и зайцев своей настоящей или напускной храбростью. Даже медведь и волк в конце концов уступают им, решая не связываться с необычным противником («И волк убежал. Мало ли в лесу других зайцев можно найти, а этот был какой-то бешеный»). Залогом победы слабых над сильными является не волшебство или чье-то заступничество, не хитрость или удача, а изменение привычной внутренней позиции.
Действие в сказках, сюжеты, как правило, строятся на веселых, забавных происшествиях. Например, столкновение хвастливого зайца с волком или комара — с медведем. Забавна сцена, в которой трубочист Яша пытается справедливо рассудить спор между Воробьем и Ершом. В то время как он произносит свою речь, его обворовывают.
Сказки познавательны. Очеловечение персонажей помогает живее и ярче представить читателю-ребенку характерные свойства животных, их жизнь. Знакомя с тем, как и в чем проявляется трусость зайца, сила и неуклюжесть медведя, его свирепость, как трудно приходится воробью в зимнюю пору, в какой суровой обстановке проводит свою жизнь воробей и как эта обстановка трагически складывается для «желтой птички-канарейки», писатель активизирует ассоциации, воображение ребенка, обогащая и мысль и чувство. Раскрывая законы, которыми управляется животный и растительный мир, Мамин-Сибиряк расширяет познавательные возможности литературной сказки и ее границы как научно-художественного жанра.
В сказках, в отличие от рассказов, пейзаж занимает незначительное место. Здесь видно влияние фольклорной традиции, не знающей развернутого пейзажа. Его зарисовки кратки, хотя и очень выразительны: «Солнце сделалось точно холоднее, а день короче. Начались дожди, подул холодный ветер» — вот и вся зарисовка поздней осени («Сказка про воронушку»). Исключение составляет поэтический сон Аленушки: «Солнышко светит, и песочек желтеет, и цветы улыбаются», окружая кроватку девочки пестрой гирляндой, и «ласково шепчет, склонившись над ней, зеленая березка» («Пора спать»).
Особый интерес представляет «Присказка» — яркий образец «Мамина слога», как называли современники стиль детских сказок писателя. «Баю-баю-баю... один глазок у Аленушки спит, другой — смотрит; одно ушко у Аленушки спит, другое — слушает. Спи, Аленушка, спи, красавица, а папа будет рассказывать сказки». Присказка своей напевностью близка народным колыбельным. Пожалуй, впервые так ясно было выражено отцовское чувство, не уступающее в нежности материнской любви.
|
Помимо «Аленушкиных сказок» Мамин-Сибиряк написал еще целый ряд сказок, многообразных по темам и стилю. Большая их часть посвящена жизни природы: «Серая Шейка» (1893), «Упрямый козел», «Зеленая война», «Лесная сказка», «Постойко», «Старый воробей», «Скверный день Василия Ивановича». Наиболее близка к фольклору «Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей — царевну Кутафью и царевну Горошину». При этом писатель никогда не стремился стилизовать свои сказки под народные. Основу всех сказок составляет собственная его позиция.
Трогательна история Серой Шейки — утки, оставшейся из-за болезни на зимовку. По законам природы гибель ее неизбежна, и даже сочувствующий ей заяц бессилен помочь. Полынья, ее единственное убежище, затягивается льдом, все ближе подбирается хищница лиса. Но мир подчинен не только законам природы. Вмешивается человек — и Серая Шейка спасена. Авторская позиция убеждает читателя в том, что даже на краю гибели надо верить и надеяться. Не стоит ждать чудес, но стоит ждать удачи. Особое место занимает сказка о царе Горохе, появившаяся впервые в журнале «Детский отдых» в 1897 году. Она отличается от остальных более сложным содержанием и развернутым приключенческим сюжетом. Сказка сатирична и юмористична. В образе царя Гороха высмеиваются чванливость, жадность, презрительное отношение правящих верхов к простым людям из народа. Правдивы некоторые черты старорусского быта. Например, царевна Кутафья находится в беспрекословном послушании родителям; она не смеет даже заикнуться о выборе суженого: «Не девичье это дело — женихов разбирать!»
Сказки Мамина-Сибиряка — характерный способ разговора взрослого с ребенком о жизненно важных вещах, которые невозможно объяснить на языке абстракций. Ребенку предлагается взглянуть на мир глазами божьей коровки, козявочки, мухи, собаки, воробья, утки, чтобы обрести истинно человеческое мировоззрение. Как и народные, эти сказки знакомят ребенка со сложными законами бытия, объясняют преимущества и недостатки той или иной жизненной позиции.
Сказки Мамина-Сибиряка — значительное явление в литературе конца XIX века. В них освоены и развиваются лучшие реалистические традиции народной и литературной сказки. В изображении природы, животного мира, в характере сказочной морали нет фальши. Сказки интересны детям и в наше время. Часть их вошла в учебные книги для чтения в начальной школе.
В.М.Гаршина (1855—1888) современники называли «Гамлетом наших дней», «центральной личностью» поколения 80-х годов — эпохи «безвременья и реакции». Писатель одним из первых начал применять в литературном творчестве приемы импрессионизма, заимствованные из современной ему живописи, с тем чтобы потрясти воображение и чувства читателя, разбудить его прирожденное сознание добра и красоты, помочь родиться честной мысли. В гаршинских рассказах и сказках складывался стиль. явившийся истоком прозы писателей рубежа XIX—XX веков, таких как Чехов, Бунин, Короленко, Куприн.
Высшим авторитетом в современной живописи был для писателя И.Е.Репин, в литературе — Л.Н.Толстой. Воображение было для Гаршина важным моментом реалистического видения действительности, при этом точность, конкретная подробность деталей отличают почти все его произведения. Творческие принципы Гаршина во многом отвечают требованиям, некогда предъявленным Белинским к детскому писателю.
Гаршин мечтал издать все свои сказки отдельной книгой с посвящением «великому учителю своему Гансу Христиану Андерсену». Многое в сказках напоминает истории Андерсена, его манеру преображать картины реальной жизни фантазией, обходясь без волшебных чудес. Детство и детская литература занимали Гаршина на протяжении всего десятилетия творческой жизни. Гаршин переводил для детей сказки европейских авторов, работал как редактор и критик детской литературы.
В круг чтения детей младшего и среднего школьного возраста вошли в основном сказки Гаршина. Среди них одна имеет подзаголовок «Для детей» — «Сказка о жабе и розе» (1884), другая была впервые опубликована в детском журнале «Родник» — «Лягушка-путешественница» (1887). Прочие сказки не предназначались автором для детей, хотя, по воле взрослых, появлялись в детских изданиях, в том числе в хрестоматиях: «Attalea princeps» (1880), «То, чего не было» (1882), «Сказание о гордом Агее» (1886). Гаршинские сказки по жанровым особенностям ближе к философским притчам, они дают пищу для размышлений.
«Сказка о жабе и розе» была написана под влиянием многих впечатлений — от смерти поэта С.Я.Надсона, домашнего концерта А. Г. Рубинштейна и присутствия на концерте одного неприятного старого чиновника. Произведение являет собой пример синтеза искусств на основе литературы: притча о жизни и смерти рассказана в сюжетах нескольких импрессионистских картин, поражающих своей отчетливой визуальностью, и в переплетении музыкальных мотивов. Это скорее поэма в прозе. Угроза безобразной смерти розы в пасти жабы, не знающей другого применения красоты, отменена ценой иной смерти: роза срезана прежде увядания для умирающего мальчика, чтобы утешить его в последний миг. Смысл жизни самого прекрасного существа — быть утешением для страждущего.
|
Сказка «Лягушка-путешественница» — классическое произведение в чтении детей, в том числе и старших дошкольников и младших школьников. Источником ее сюжета послужила древнеиндийская басня о черепахе и утках. Это единственная веселая сказка Гаршина, хотя и в ней комизм сочетается с драматизмом. Писатель нашел золотую середину между естественно-научным описанием жизни лягушек и уток и условным изображением их «характеров». Вот фрагмент естественно-научного описания.
Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток: когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют, или, лучше сказать, посвистывают. Фью-фью-фью-фью — раздается в воздухе, когда летит высоко над вами стадо таких уток, а их самих даже и не видно, так они высоко летят. Немного далее следует уже условное, «очеловечивающее», описание. И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть ее, но каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями: — Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные теплые болота! Какие там червяки! Хорошо на юге!
Такой прием незаметного «погружения» читателя из мира реального в мир сказочно-условный особенно любил Андерсен. Благодаря этому приему в историю лягушкиного полета можно поверить, принять ее за редкий курьез природы. В дальнейшем панорама показана глазами лягушки, вынужденной висеть в неудобной позе. Отнюдь не сказочные люди с земли дивятся тому, как утки несут лягушку. Эти и другие детали способствуют еще большей убедительности сказочного повествования. Так же зыбко колеблется мысль автора. Умна лягушка или глупа? Гениальна ли ее натура или заурядна? А как оценить характер и поведение уток? Сказка заканчивается хорошо или плохо? Что важнее — то, что лягушка спаслась при падении, или то, что погибла ее мечта о южных болотах? Ответы на эти и другие вопросы зависят от размышлений читателя, от его представлений о смысле существования.
7.8.Развитие тем природы, крестьянского быта, детства в стихах А.Блока, С.Есенина, Бальмонта.
А.А. Блок (1880-1921).— крупнейший поэт-символист младшего поколения. Главная тема его поэзии — Родина, древняя, современная и будущая, та, чей лик, подобно лику Незнакомки, скрыт «за темною вуалью». Детские стихи А.Блока посвящены в основном природе. Например, «Конец весны»:
Весна! Весна! Поют стрекозы.
Весна! Весна! Поют птенцы;
Уж в чистом поле там жнецы.
Кузнечики в траве стрекочут,
Как будто хочет
Пленить лягушечек в пруду!
В свою потеху,
Да не совсем-то к смеху!..
Талант Блока выходил далеко за рамки символистски-декадентской поэтики. Так было со многими его взрослыми произведениями, так произошло и с детскими. Победило другое — собственная «память детства» традиции устного народного творчества и русской поэзии Пушкина, Тютчева, Фета.
Для специальных сборников — «Круглый год» и «Сказки» — поэт сделал строгий отбор произведений. Сборник «Сказки» включает в себя следующие стихотворения: «Гамаюн, птица вещая» «Черная дева», «Сын и мать», «Сказка о пастухе и старушке», «Старушка и чертенята», «У моря», «В голубой далекой спаленке», «Сусальный ангел», «Три светлых царя», «Колыбельная песня», «Сны».
Для сборника «Круглый год» характерен подбор стихотворений по временам года: весна («Вербочки», «Ворона», «На лугу»), лето («Я стремлюсь к роскошной воле», «Дышит утро в окошко», «Полный месяц встал над лугом», «Блудящий огонь»), осень («Зайчик», «Учитель», «Осенняя радость»), зима («Снег да снег», «Ветхая избушка», «Рождество»).
Сравнивая эти сборники, легко можно убедиться, что первый включает произведения более сложные для детского восприятия и написанные Блоком не специально для детей, и отобранные для детского чтения. «Сказки» были адресованы среднему возрасту, а «Круглый год» — младшему.
|
Сборники «Сказки» и «Круглый год» — каждый по-своему воплотил тенденции, характерные для поэзии Блока, адресованной детям, с одной стороны, стремление развить в детях способность мечтать, творчески фантазировать, с другой — стремление воспитать в детях любовь к природе.
Пейзажи в «Круглом годе» сродни лучшим пейзажным мотивам раннего Блока, когда его волновало, что в летний день «за этой синей далью», когда осенью «и день прозрачно свеж, и воздух дивно чист», а «желтый лист кружится». Эту прозрачность и чистоту красок сохранил поэт для стихотворений, адресованных детям:
Леса вдали виднее,
Синее небеса,
Заметней и чернее
На пашне полоса
И детские звончее
Над лугом голоса.
Даже цветовые эпитеты повторяются (синяя даль — синие небеса), для них характерна яркость и сочность цветовой гаммы (синие и небеса—и черная полоса пашни), динамичность: небеса не просто синие, они весною становятся синее, а пашня тоже не просто черная, а чернее. Все как будто омыто обильным весенним дождем и освещено щедрым весенним солнцем.
Звонкие детские голоса ассоциируются с образом весны:
Чу, слышен голос звонкий,
Не это ли весна?
Детские голоса становятся «звончее», чей-то «звонкий» голос на мгновение персонифицируется поэтом как голос весны, но тут же дастся реалистический ключ к этой поэтической зарисовке:
Нет, это звонко, тонко
В ручье журчит волна...
«Звончее», «звонкий», «звонко» — сам ряд аллитераций создает неповторимую музыку весны.
Реалистический характер зарисовок «Круглого года», особенно в таких стихотворениях, как «Ворона», «Зайчик», «Учитель», «Ветхая избушка», «На лугу», может быть, в значительной степени определил долгую и активную жизнь их в детской аудитории, дошкольного и младшего школьного возраста. Каждое стихотворение сборника выражает лирическое состояние, наиболее характерное для данного времени года. Реалистически конкретные образы и детали складываются в живую, узнаваемую картину и косвенно передают нюансы настроения, как, например, в стихотворении «Ворона»:
Вот ворона на крыше покатой
Так с зимы и осталась лохматой...
А уж в воздухе — вешние звоны,
Даже дух занялся у вороны...
Вдруг запрыгала вбок глупым скоком,
Вниз на землю глядит она боком:
Что белеет под нежною травкой?
Вон желтеют под серою лавкой
Прошлогодние мокрые стружки...
Это всё у вороны — игрушки,
И уж так-то ворона довольна,
Что весна, и дышать ей привольно!..
Слово «весна» звучит лишь в последней строчке, но оно подготовлено множеством слов со звуком «в», рядом мелких деталей, увиденных сначала глазами человека, а потом вороны: весенняя земля пестрит белым, желтым, зеленым, удивляя отвыкший за зиму от пестроты взор. Ранняя весна — время контрастов, что подчеркнуто изображением «лохматой», еще «зимней» вороны и следов прошлогодней жизни.
Эти стихи давно стали хрестоматийными в лучшем смысле этого слова благодаря гуманистическому чувству, объединяющему зарисовки не только пейзажа, но и животного мира средней полосы России. Лохматая ворона, озябший зайчик, пискливые котята — все, кого Блок шутливо и беззлобно называл «твари», вызывают добрые чувства у маленьких читателей своей незащищенностью, детскостью. Эти «твари» понятны детям, за них хочется заступиться, с ними хочется поиграть.
Игровой момент — один из обязательных элементов в «Круглом годе»: дети активны в этом сборнике Блока, как, пожалуй, ни в одном цикле его произведений, в которых он обращается к теме детства. Здесь они звонкоголосые, веселые, не просто смешливые, а хохочущие:
|
Прочь от дома на снежный простор
На салазках они покатили.
Оглашается криками двор —
Великана из снега слепили!
В таких стихотворениях, как «На лугу», «Снег да снег», «Ветхая избушка», воплощается мечта Блока о будущем энергичном, активном, творческом поколении родной страны. Забота о растущем поколении пронизывает все стихотворения сборника «Круглый год».
К.Д.Бальмонт (1867— 1942) — один из самых читаемых и почитаемых поэтов Серебряного века, символист. В основе философии символизма лежит представление о неуловимо изменчивом мире реальности, который невозможно познать вне художественного творчества. Отношение Бальмонта к детским книгам было самое трепетное. Бальмонт написал более семи десятков стихотворений для детей, посвятив их своей четырехлетней дочери; они вошли в сборник «Фейные сказки» (1905).
«Фейные сказки» — это изящные стилизации детских песенок по мотивам скандинавского и южнославянского фольклора, в которых возродилась традиция детских стихов Жуковского. Легкомыслие сюжетов, отсутствие серьезных проблем отражено в названиях — «Наряды феи», «Прогулка феи», «Находка феи», «Забавы феи»... Жизнь крошечной феи протекает как череда радужно-изменчивых «ми-молетностей» (ключевое слово в поэзии Бальмонта). Зло не существует в фейном мире — есть только маленькие неприятности, оттеняющие общую безмятежность. От грозы фея улетает на спине стрекозы; уголек наказан гномом за то. что обжег ножку феи; вничью кончается война с муравейным королем; даже Серый Волк кротко служит фее и питается травкой. В сказочном мире царит та же идиллия, что и в раннем детстве. Поэт провозгласил фею своею Музой, а детский мир — миром своего вдохновения. Естественное право ребенка и поэта на радость, красоту и бессмертие осуществляется в фейной «тиховейной» сказке.
Бальмонта называли «Паганини русского стиха», восторгаясь виртуозной музыкальностью его речи. И в детских его стихах завораживает магия звуков, сладкоголосие речи. Слово и музыка рождают поэтический образ, как, например, в стихотворении «Золотая рыбка» из взрослого сборника «Только любовь» (1903). Золотая рыбка олицетворяет чудо музыки на сказочном празднике:
В замке был весёлый бал,
Музыканты пели.
Ветерок в саду качал
Лёгкие качели.
В замке, в сладостном бреду,
Пела, пела скрипка.
А в салу была в пруду
Золотая рыбка.
Хоть не видели её
Музыканты бала.
Но от рыбки, от неё
Музыка звучала...
Многие из «взрослых» стихов Бальмонта можно предлагать детям с самого раннего возраста, настолько они полны весенним, первозданным чувством, настолько близко граничат с музыкой, что доступность слов теряет свое значение.
С. Есенин. Писать стихи С.Есенин начал рано в 9 лет, но осознанное творчество приходится на 16 – 17 лет. В его ранних стихотворениях отразились поиски жизненной позиции и собственной творческой манеры. Порою он подражает песням, распространенным в мещанской и крестьянской среде с характерными для них мотивами любви, то счастливой, то неразделенной («Хороша была Танюша», «Под венком лесной ромашки», «Темна ноченька, не спится»).
Часто и плодотворно обращается Есенин к историческому прошлому своей Родины. В таких произведениях, как «Песнь о Евпатии Коловрате», «Ус», «Русь», поэт гораздо более самобытен, чем в первых лирических стихотворениях.
Основным мотивом раннего Есенина стала поэзия русской природы, отразившая его любовь к Родине. Именно в этот период написаны многие стихотворения, которые до сих пор известны детям и любимы ими. Примечательно, что первым напечатанным стихотворением Есенина была «Береза», появившаяся в детском журавле «Мирок» в 1914 г. С тех пор внимание поэта к стихотворениям для детей было постоянным. Детские стихи он печатал в журналах «Мирок», «Проталинка», «Доброе утро», «Задушевное слово», «Парус».
|
В 1914—1915 гг. Есенин подготовил для детей сборник стихотворений, который он назвал «Зарянка». Ему не удалось издать этот сборник, но сам выбор стихотворений характеризует требовательное отношение Есенина к этой области своего творчества. Поэтический талант его одушевляет все, что он видел и чувствовал в детстве. Он рассказывает маленьким читателям о том, как «Поет зима — аукает, мохнатый лес баюкает стозвоном сосняка», о зимней березе, у которой «на пушистых ветках снежною каймой распустились кисти белой бахромой», о душистой черемухе, которая «с весною расцвела и ветки золотистые, что кудри, завила».
Детям особенно близки стихи об играх и забавах их сверстников — крестьянских ребятишек:
В зимний вечер по задворкам
Разухабистой гурьбой
По сугробам, по пригоркам
Мы, идем, бредем домой.
Опостылеют салазки,
И садимся в два рядка
Слушать бабушкины сказки
Про Ивана-дурака.
И сидим мы, еле дышим,
Время к полночи идет,
Притворимся, что не слышим,
Если мама спать зовет.
В ранней поэзии Есенина для детей, может быть, ярче, чем во «взрослых» стихах того же периода, отразилась его любовь к родному краю («Топи да болота», «С добрым утром»), к русской природе («Береза», «Черемуха»), к деревенскому быту («Бабушкины сказки»),
В чтение современных детей вошли такие ранние стихотворения Есенина, как «Поет зима», «Пороша», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Черемуха». Первое из них («Поет зима — аукает...») было напечатано в 1914 г. в журнале «Мирок» подзаголовком «Воробышки». В его колыбельном ритме слышится то голос зимнего леса, то стук вьюги о ставни, то вой метели по двору. На фоне холодной и снежной зимы контрастно выписаны «детки сиротливые» — воробышки. Поэт сочувственно подчеркивает их беспомощность и незащищенность:
| Поет зима — аукает, Мохнатый лес баюкает Стозвоном сосняка. Кругом с тоской глубокою Плывут в страну далекую Седые облака. | А по двору метелица Ковром шелковым стелется, Но больно холодна. Воробушки игривые, Как дети сиротливые, Прижались у окна... |
К описанию зимы Есенин обращается и в стихотворении «Пороша», напечатанном в том же году и в том же журнале «Мирок». Зима в нем иная, манящая, волшебная:
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой,
Подвязалася сосна.
Здесь описание природы не со стороны, а изнутри, от поэта-наблюдателя, едущего по бесконечной, убегающей вдаль зимней дороге.
Еще более активно поэтическое восприятие природы в стихотворении «Нивы сжаты, рощи голы...», опубликованном в газете «Вечерние известия» в 1913 г.:
Ах, и сам я в чаще звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребенком
Запрягался в наши сани.
То наблюдатель, то путник, но всегда открытый впечатлениям окружающего мира, голосам птиц и зверей, шорохам леса, Есенин подмечает самое сокровенное в природе:
|
А рядом, у проталинки,
В траве, между корней,
Бежит, струится маленький
Серебряный ручей.
Эти строки о пробуждении весны, о поре медвяных рос и золотистых веток черемухи. Для каждого периода жизни природы (осени, зимы, весны и лета) Есенин находит особые поэтические краски и неповторимые интонации. Есенин стремился воспеть свою Родину и ее обновление во всей многозначности этого понятия. Проходят десятилетия, и все яснее становится, что его творчество — большое литературное явление не только в жизни России, но и в развитии мировой поэзии.
7.9.Серебряный век. Характеристика природы. Детские журналы на рубеже веков.
Эпоху между 1892 и 1917 годами принято называть Серебряным веком. Это сложный и насыщенный период в истории отечественной культуры. Никогда еще картина литературного мира не была столь пестрой. Множество значительных имен представляли разнообразные течения — реализм, символизм, акмеизм, футуризм, новокрестьянское течение и пр. Объединяло деятелей культуры предчувствие глобальных перемен в масштабах всей Земли. XX век воспринимался как начало новой эры, как детство нового человечества.
Детство стало одной из ведущих тем литературы. С учетом единогласного среди модернистов признания, что только детскому сознанию дано приблизиться к постижению истины, из волошинской формулы следует: человек этот — ребенок, и книга эта написана для ребенка. Есть закономерность в том, что на рубеже веков большинство писателей перешло от разработки традиционной темы детства к участию в создании литературы для детей, к критике детских изданий.
Реалисты М.Горький и неореалист Л.Андреев искали ответ на загадку будущего, исходя из социальных условий детства; они показывали, как «свинцовые мерзости» уходящей в прошлое жизни закаляют детский характер (повесть «Детство» М.Горького) или губят детскую душу недостижимостью мечты о лучшей жизни (рассказы «Ангелочек», «Петька на даче» Л.Андреева).
Темам народного страдания и нравственного самоопределения ребенка посвящали свои произведения и другие писатели реалистического направления: П. В. Засодимский, А. И. Свирский, А. С. Серафимович, А.И.Куприн.
Символисты видели в ребенке современного Сфинкса, т.е. существо-загадку, поскольку будущее угадывалось только интуитивно. Это отношение выражено в стихах А. Блока:
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, — плакал ребёнок
О том. что никто не придёт назад.
Акмеист О. Мандельштам провозгласил детское сознание желанной нормой человека Нового времени:
Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,
Всё большое далёко развеять,
Из глубокой печали восстать...
Футурист Маяковский саму революцию назвал «детской» («Ода Революции»), а впоследствии назовет СССР «страной-подростком».
Элитарную литературу создавали для детей писатели-модернисты, такие как К.Бальмонт, А.Блок, В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Городецкий, М.Моравская, О.Белявская, П.Соловьева-Allegro. Центром модернистской детской литературы стал журнал «Тропинка».
Искания модернистов значили очень многое для расцвета детской литературы в 20—30-х годах XX века, для ее обновления в 80—90-х годах. Благодаря опыту модернизма литература для детей стала быстрее и точнее реагировать на современную жизнь, началось освоение языка художественной публицистики. Литература для детей утратила деление по сословиям, обрела, наконец, подлинную демократичность. Писатели стали больше доверять маленьким читателям и писать для них произведения с глубоким подтекстом, сложные по художественному строению.
См. п. 7.5, 7.8.
|
8. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 20-30-е гг.
8.1. Детская литература 20-30-е гг. детские журналы 20-30 годов. Журнал Горького "Северное сияние". Периодика. Тематика. Дискуссия о детской литературе.
В 20-е годы началось утверждение новой нравственно-эстетической позиции детских писателей. Они старались быть не «над» ребенком, не в стороне от него, а рядом, в собеседовании, в содружестве. Соответственно изменялся и уровень изображения действительности: уходила камерность, замкнутость в детском мирке, перед ребенком раскрывались двери в большой мир. И как закономерность - появление нового героя – ребенка, обладающего чертами социальной активности.
Механическое перенесение опыта литературы для взрослых на литературу для детей привело к неудачам даже таких талантливых писателей, как К. Чуковский («Одолеем Бармалея»), С. Маршак («Сказка об умном мышонке»), А. Барто (сборник «Все учатся»).
Движение детской литературы в 20-30-е годы в целом повторяло линию движения взрослой литературы. Родоначальниками советской детской литературы называют М. Горького, К. Чуковского, С. Маршака. В детские издательства и журналы после революции приходит много ярких, талантливых людей, чье творчество предопределило развитие детской литературы вплоть до нашего времени. Среди них писатели и «взрослые», и исключительно «детские»: Горький, А.Толстой, Неверов, Пришвин, Паустовский, Григорьев, Гайдар, Житков, Пантелеев, Бианки, Ильин, Маяковский, Хармс, Введенский и другие.
Своими истоками новая литература для детей уходила в русскую и зарубежную классику, в устное народное творчество.Поэзия для детей развивалась главным образом в русле новейших поисков, в том числе авангардных течений. Обозначились два ответвления в поэзии: одно - развлекательно-игровое, обращенное к интеллекту и фантазии ребенка (К.Чуковский, «обэриуты»); другое - нравственно-дидактическое, близкое к сатире и публицистике (Маяковский, Барто, Михалков). С.Маршак стал признанным главой детской поэзии; в его творчестве представлены оба ответвления.
Новый подъем переживает традиционный для русской литературы жанр - автобиографическая повесть о детстве (А.Толстой, Гайдар, Пантелеев и другие).
Актуальными для детской литературы в целом были темы революции и Красной Армии, героики борьбы с врагами советской власти, темы интернационального единства, коллективного труда и т.п. Бурно развивалась и веселая детская книжка, несмотря на сильнейшее противостояние ревнителей «серьезного» воспитания.
Именно в 20-30-е годы произошло кардинальное обновление круга детского чтения. Отчасти сами собой, отчасти по приказам об изъятии исчезли из библиотек книги, проникнутые духом сентиментальности, послушания, религиозной и иной благостности.
Становление советской детской литературы проходило под бдительным партийным контролем Новая детская литература нуждалась в сильной поддержке со стороны государства и получила ее в невиданных до того масштабах. Но в то же время литература стала заложницей идеологии, что не могло не тормозить ее развития.
Значительную роль в становлении детской периодической печати после 1917 года, в очень трудное для страны время, сыграл основанный М. Горьким в 1919 году журнал «Северное сияние». Авторами в журнале были сам М. Горький, А.П.Чапыгин, В.Я.Шишков, И.Я.Воинов.
Много внимания журнал уделял воплощению в жизнь горьковской идеи воспитания в детях уважения к творческому труду. В публиковавшихся очерках и статьях, рассказах и стихах неизменно присутствовала мысль, что труд — начало всех начал, создатель духовной и материальной культуры, главный творец человеческой личности. Рассказы, сказки, научно-популярные очерки составляли содержание отдела «Клуб любознательных», тоже направленного на реализацию замысла воспитывать в детях уважение к всепобеждающей силе человеческого разума.
Как отмечают некоторые исследователи (И.Халтурин, Л.Колесова), журнал страдал декларативностью и нередко художественной примитивностью многих прозаических и особенно поэтических произведений. В нем почти невозможно было встретить индивидуальный, запоминающийся образ, не было системы в отборе материалов. И все же это был первооткрыватель новой тематики в детской литературе, причем на его страницах нашли воплощение и продолжение прогрессивные традиции русской детской литературы — стремление приобщить маленького читателя к реальной жизни, внушить ему веру в человека, его силы и возможности. Журнал просуществовал всего два года — из-за нехватки бумаги, и редакция его не смогла полностью реализовать свои замыслы.
|
В том же 1919 году возник и журнал «Красные зори». Хотя вышли всего два его номера, он интересен тем, что предпринял попытку установить тесную взаимосвязь с читателем. При этом журнале создавался детский творческий актив, организован был сад-клуб. Однако непреодолимые в тот период материальные трудности быстро положили конец интересным начинаниям. Подобная же участь постигала и многие другие то, и дело возникавшие детские журналы, искавшие новые формы и методы общения с читателем: «Юные товарищи», «Барабан», «Юные строители».
Альманах «Воробей» появился в Петрограде в 1923 году. Главной целью его организаторов было наметить направления, по которым должна была развиваться детская литература. Возникло это издание при Студии детской литературы Института дошкольного образования. Здесь собралась группа писателей, вскоре составившая основной костяк детской литературы советского периода: В.Бианки, Б.Житков, Е.Данько, Е.Шварц, С.Маршак. В попытках преодолеть разрыв с жизнью Маршак пришел к мысли создать детский журнал «Новый Робинзон». Начались напряженные поиски форм подачи материалов, поиски авторов, в том числе и «взрослых» литераторов. Первые большие успехи журналу принесла регулярно появлявшаяся на его страницах «Лесная газета», которую и набирали, и верстали по-газетному. Автором ее был Виталий Бианки, биолог по образованию.
И в других разделах журнала нередки были материалы, исполненные столь же трепетного отношения к предмету изображения, будь то художественная литература, обзор новых детских книг, рассказы о достижениях науки или повествование о путешествиях и географических открытиях. Их авторами выступали «бывалые люди», досконально знавшие то, о чем они рассказывали, и стремившиеся передать свою увлеченность детям. Здесь кроме В.Бианки начинали свою писательскую жизнь Б.Житков, М. Ильин и др. Авторами «Нового Робинзона» были и уже проявившие себя литераторы — К.Федин, Б.Лавренев, Б.Пастернак, В.Каверин. Как отмечает историк детской литературы И.Лупанова, этот журнал стал местом рождения новых писателей, новых жанров, новых журнальных форм подачи материалов детям.
Получившие широкую популярность у детского читателя журналы «Чиж» (1928—1935) и «Ёж» (1930—1941) выходили в Ленинграде в одной и той же редакции, во многом продолжавшей традиции «Нового Робинзона». «Чиж» предназначался малышам, а «Ёж» — детям постарше. Сотрудниками этих изданий и авторами были люди талантливые, яркие: С.Маршак, Н.Олейников, Е.Шварц, Б.Житков, Е.Чарушин, литераторы, входившие в группу ОБЭРИУ — Д.Хармс, А.Введенский, Ю.Владимиров, Н.Заболоцкий, ставшие великолепными мастерами детского стихосложения. Они делали веселые, наполненные юмором, пародийностью и мягкой сатирой журналы. Однако при этом редакция их очень ответственно относилась к вопросам детского воспитания и стремилась не только формировать у своих читателей высокие морально-нравственные установки, но и сделать их заинтересованными и деятельными участниками происходящих в стране событий. Такие задачи привели к тому, что в журналах появились произведения публицистического направления — соответственно возрасту читателей. В оригинальной и острой очерковой форме Н.Олейников, Б.Житков, М.Ильин старались рассказать детям о важных событиях, происходивших в стране.
На страницах «Ежа» печатались и произведения, которые можно отнести к жанру психологической детской прозы. Это, например, были рассказы Н.Заболоцкого, В.Каверина, Б.Житкова. Новые формы материалов заставляли редакцию искать и какие-то иные решения в их иллюстрировании и размешении на страницах журнала. Свое оригинальное слово здесь сумели сказать такие художники, как Н.Радлов, Н.Тырса, В.Лебедев, А. Пахомов. Можно сказать, что их деятельность художников-журналистов, обладавших обширной эрудицией и отличным знанием происходивших вокруг событий, не имела до этого аналогов в детской периодике.
Публицистика вначале была основным жанровым направлением московского детского журнала «Пионер». Он и задуман был как общественно-политическое издание для читателей пионерского возраста. С течением времени, однако, все большее место на его страницах начали занимать материалы общественно-художественного характера. Большую роль в этом сыграл его редактор Б. Ивантер, который сумел объединить вокруг журнала лучшие литературные силы страны. На страницах «Пионера» можно было встретить имена К.Чуковского, С.Маршака, Р.Фраермана, К.Паустовского, В.Каверина, Л.Пантелеева. Л.Кассиль опубликовал здесь свою широко известную повесть «Кондуит и Швамбрания». Тесно сотрудничал с журналом А. Гайдар. Он не только печатал на его страницах свои произведения («Пусть светит», «Голубая чашка», «Комендант снежной крепости», «Тимур и его команда»), но и активно переписывался и встречался с читателями.
|
Дискуссии о детской литературе. В 20-е годы детские книги выходили в детских редакциях крупнейшего государственного издательства (Госиздата), а также в ряде других государственных и частных издательств (тогда еще существовавших). Требовалось осмысление этой продукции, ее классификация, оценка. И в 1921 году появилось научное учреждение — Институт детского чтения. Здесь рассматривались насущные вопросы развития литературы для детей: традиции и новаторство, роль сказки, критерии оценки детской книги, ее язык, содержание, герои. В дискуссиях принимали участие как видные писатели (М.Горький, С.Маршак, К.Чуковский), так и ученые, педагоги, критики, издательские работники. Со статьями о детской литературе выступали даже государственные деятели — нарком просвещения с 1917 года А.В.Луначарский, член коллегии этого наркомата Н. К. Крупская и др.
Чрезвычайно остро стоял тогда вопрос об отношении к классическому литературному наследию. Спорили о том, должна ли советская литература опираться на традиции русской классики: одни стояли за современную, наполненную злободневным материалом детскую книгу, другие утверждали, что нельзя пренебрегать вечными нравственными ценностями.
М. Горький выступил в защиту классики. Еще в 1918 году начал работу по отбору произведений классической литературы для детских изданий. Писатель был убежден в особой ценности этих произведений для формирования личности ребенка в новых исторических условиях.
Жизненно важной для детской литературы была дискуссия о сказке, возникшая в начале 20-х годов и перешагнувшая за пределы десятилетия. Возражения против сказок сводились в основном к следующему. Сказка отвлекает ребенка от реальной жизни: она отражает идеологию буржуазного мира; заключает в себе мистицизм и религиозность. Сказочный антропоморфизм тормозит утверждение ребенка в его реальном опыте: ребенок не может создать устойчивые связи между собой и внешней средой, которые необходимы для его нормального развития.
Такой авторитетный деятель, как Н.К.Крупская, также выступала против сказки. Она предлагала создавать современные сказки — продуманные, работающие на воспитание «горячих борцов». И советовала для этого изучить жанры старой сказки, по-новому перестроить их, учитывая современную действительность, и влить в эти обновленные сказочные формы новое, коммунистическое содержание. В целом же жить и развиваться ребенок должен под влиянием литературы «реалистической до крайности». А. В.Луначарский не разделял взглядов Крупской. Он считал ошибкой отказ от фантастического мира сказки, переход к «стопроцентному реализму». Препятствовать тяготению ребенка к волшебству, к фантастике, тайне и вымыслу — значит, калечить его, мешать нормальному развитию личности, утверждал он. М.Горький, бывший неизменным сторонником сказки, полагал, что для человека увлекательна и поучительна «выдумка — изумительная способность нашей мысли заглядывать далеко вперед факта». Поэтому сказка благотворно воздействует на душевное и умственное созревание детей.
В 1929 году состоялась широкая дискуссия о детском чтении. Принявший в ней участие Луначарский гневно обрушился на тех критиков, которые травили детских писателей, опиравшихся на народную сказку. Только с учетом ее художественных средств можно создать истинно детское произведение, считал Луначарский.
По каким же критериям можно определить «истинность» детского произведения? Н. К. Крупская» высказала такие мысли: книга должна расширять понятия ребенка о социальных отношениях, в ней должны быть «выпукло и рельефно» изображены типы людей, их характеры и события, в которых они участвуют; представлено все это должно быть в «ярко выраженном драматическом движении».
Другие видели «знак качества» детской книги в оригинальности сюжета, в совершенстве художественной формы, богатстве и безупречности языка.
Педагоги предлагали оценивать детское произведение по его образовательно-воспитательному значению. Противники же такого подхода горячо протестовали против унылого дидактизма, превращающего художественные произведения в учебные пособия.
Отвечает та или иная книга интересам самих детей? Находится ли с ними в психологическом контакте? Такие вопросы также предлагалось ставить в основу оценки детской книжки. И это было немаловажно, так как «детский спрос» еще слабо учитывался тогда в конкретной практике.
В 1929—1931 годах дискуссии о детской литературе передвинулись в сторону ее содержания. Раздавались голоса, ратовавшие за создание детского приключенческого романа. Слышались и упреки писателям в том, что детское художественное произведение содержит мало сведений по различным отраслям знаний, не знакомит детей с промышленностью, с производством. Луначарский в докладе «Пути детской книги» делал упор на том, что сюжеты для детских книг следует брать из жизни современного ребенка, всесторонне отражать в них современную жизнь.
|
В 1928 году состоялась попытка создать журнал, в котором находили бы отражение непрекращающиеся споры о детской литературе и вырисовывалась общая картина издания детских книг в стране. Но такой журнал — «Книга детям» — просуществовал всего два года, очевидно, не справившись с поставленной задачей.
Однако детская литература продолжала плодотворно развиваться — прежде всего усилиями талантливых писателей, которых не могли сбить с толку никакие теоретические нелепости. В 30-е годы в связи с консолидацией писателей — в немалой степени благодаря усилиям А. М. Горького — поутихли страсти и вокруг детской литературы. А достижений у нее в 30-е годы было немало.
8.2. Горький A . M . анализ основных статей Горького, посвященных детской литературе. Его требования к советской детской литературе. Произведения Горького для детей: "Воробьишко", "Самовар", "Случай с Евсейкой", "Про Иванушку- дурачка", "Дед Архип и Лёнька", "Встряска". Произведения наиболее доступные детям дошкольного возраста. Сказка "Воробьишко".
Работа М.Горького (1868—1936) в области детской литературы поражает своей широтой, масштабностью. По замечанию Маршака «в литературном наследии Горького нет ни одной книги, целиком посвященной воспитанию... Однако едва ли найдется во всем мире еще один человек, который бы сделал для детей так много».
Статьи и выступления о детской литературе. Уже в первых своих газетных статьях (1895— 1896) М. Горький требовал обязательного изучения в школах лучших образцов современной литературы, воспитания художественного вкуса у детей. Мысли о воспитании не оставляли писателя до конца дней, хотя он и не считал себя педагогом. Он был убежден, что «детей должны воспитывать люди, которые по природе своей тяготеют к этому делу, требующему великой любви к ребятишкам, великого терпения и чуткой осторожности в обращении с ними».
Многое из сказанного тогда Горьким актуально и сегодня. Например, его мысли о воспитании, свободном от «указки государства», его протест против использования детей как «орудия, силою которого государство расширяет и укрепляет свою власть». Горький ратует за радостное детство и за воспитание такого человека, для которого жизнь и труд — наслаждение, а не жертва и подвиг; а общество «подобных ему — среда, где он совершенно свободен и с которой его связывают инстинкты, симпатии, сознание величия задач, поставленных обществом в науке, искусстве, труде». Воспитание такого человека Горький связывает с ростом культуры и выдвигает тезис: «Охрана детей — охрана культуры».
Основа культуры народа — его язык; поэтому, считал Горький, приобщение детей к народному языку — одна из важнейших задач воспитателя. У литературы здесь особая роль, ибо для нее язык — «первоэлемент... основное орудие ее и вместе с фактами, явлениями жизни — материал...».
В статье «Человек, уши которого заткнуты ватой» (1930) писатель говорил о природной склонности ребенка к игре, в которую непременно входит и словесная игра: «Он играет и словом и в слове, именно на игре словом ребенок учится тонкостям родного языка, усваивает музыку его и то, что филологически называют "духом языка". Дух языка сохраняется в стихии народной речи. Легче всего дети постигают «красоту, силу и точность» родного языка «на забавных прибаутках, поговорках, загадках».
В этой же статье Горький выступает и в защиту развлекательной детской литературы. Ребенок до десятилетнего возраста, заявляет писатель, требует забав, и требование его биологически законно. Он и мир познаёт через игру, поэтому детская книга должна учитывать потребность ребенка в увлекательном, захватывающем чтении.
«Я утверждаю: с ребенком нужно говорить забавно», — продолжает М. Горький развивать эту принципиальную для него мысль в другой статье 1930 года — «О безответственных людях и о детской книге наших дней». Статья была направлена против тех, кто считал, что забавлять ребенка с помощью искусства — означает не уважать его. Между тем, подчеркивал писатель, даже первоначальное представление о таких сложных понятиях и явлениях, как Солнечная система, планета Земля, ее страны, может быть преподано в играх, игрушках, веселых книжках. Даже о «тяжелых драмах прошлого можно и нужно рассказывать со смехом….».
|
Очень нужны юмористические персонажи, которые явились бы героями целых серий, продолжает Горький свои рассуждения в статье «Литературу — детям» (1933). Здесь дана целая программа образования и нравственного развития подрастающего поколения.
Подчеркивал, что книга должна говорить с маленьким читателем языком образов, должна быть художественной. «Дошкольникам нужны простые и в то же время отмеченные высоким художественным мастерством стихи, которые давали бы материал для игры, считалки, дразнилки». Необходимо издать и несколько сборников, составленных из лучших образцов фольклора.
Как известно, Горький много работал с начинающими писателями; некоторые из них под его влиянием обратились к детской литературе. Он советовал молодым авторам читать народные сказки (статья «О сказках»), ибо они развивают фантазию, заставляют начинающего литератора оценить значение выдумки для искусства, а главное, они способны «обогатить его скудный язык, его бедный лексикон». И детям, считал Горький, крайне нужно чтение сказок, как и произведений других фольклорных жанров..
Свои взгляды М. Горький стремился воплотить в жизнь. Он стал инициатором создания первого в мире детского издательства и участвовал в обсуждении его планов, как и планов детских театров. Он переписывался с молодыми писателями и даже с детьми, чтобы узнавать их запросы и вкусы. Он намечал темы детских книг, которые затем разрабатывались писателями и публицистами — популяризаторами науки. По его инициативе возник первый послереволюционный детский журнал — «Северное сияние».
Тема детства в произведениях М. Горького. Рассказы писателя для детей публиковались еще до революции. В 1913—1916 годах Горький работал над повестями «Детство» и «В людях», продолжившими традицию автобиографической прозы о детстве. В рассказах писателя дети часто оказываются несчастными, обиженными, порой даже гибнут, как, например, Ленька из рассказа «Дед Архип и Ленька» (1894). Пара нищих — мальчик и его дедушка — в своих странствиях по югу России встречаются то с людским сочувствием, то с равнодушием и злобой. «Ленька был маленький, хрупкий, в лохмотьях он казался корявым сучком, отломленным от деда — старого иссохшего дерева, принесенного и выброшенного сюда, на песок, на берег реки».
Горький наделяет своего героя добротой, способностью к сочувствию, честностью. Ленька, по натуре поэт и рыцарь, хочет заступиться за маленькую девочку, потерявшую платок (за такую потерю ее могут побить родители). Но дело в том, что платок подобрал его дед, который к тому же украл казацкий кинжал в серебре. Драматизм рассказа проявляется не столько во внешнем плане (казаки обыскивают нищих и выдворяют их из станицы), сколько в переживаниях Леньки. Его чистая детская душа не принимает поступков деда, хотя и совершённых ради него же. И вот уже смотрит он на дела новыми глазами, и лицо деда, еще недавно родное, становится для мальчика «страшно, жалко и, возбуждая в Леньке то, новое для него, чувство, заставляет его отодвигаться от деда подальше». Чувство собственного достоинства не покинуло его, несмотря на нищую жизнь и все связанные с ней унижения; оно настолько сильно, что толкает Леньку на жестокость: он говорит умирающему деду злые, обидные слова. И хотя, опомнившись, просит у него прощения, но кажется, что в финале смерть Леньки наступает и от раскаяния тоже. «Сначала решили похоронить его на погосте, потому что он еше ребенок, но, подумав, положили рядом с дедом, под той же осокорью. Насыпали холм земли и на нем поставили грубый каменный крест». Подробные описания душевного состояния ребенка, взволнованный тон рассказа, его жизненность привлекли внимание читателей. Резонанс был именно таким, какого и добивались революционно настроенные писатели той поры: читатели проникались сочувствием к обездоленным, возмущались обстоятельствами и законами жизни, которые допускают возможность такого существования ребенка.
«Скучную и нелегкую жизнь изживал он», — говорит писатель о Мишке, герое рассказа «Встряска» (1898). Подмастерье в иконописной мастерской, он делает множество самых разных дел и за малейшую промашку его бьют. Но вопреки тяжести быта мальчик тянется к красоте и совершенству. Увидев клоуна в цирке, он пытается передать свое восхищение всем окружающим — мастерам, кухарке. Оканчивается это плачевно: увлекшись подражанию клоуну, Мишка случайно смазывает краску на сырой еще иконе; его жестоко избивают. Когда он, со стоном схватившись за голову, упал к ногам мастера и услышал смех окружающих, то этот смех «резал Мишке душу» сильнее физической «встряски». Душевный взлет мальчика разбивается о людское непонимание, озлобленность и равнодушие, вызванные монотонностью, серой будничностью жизни. Избитый, он во сне видит себя в костюме клоуна: «Полный восхищения пред своей ловкостью, веселый и гордый, он прыгнул высоко в воздух и, сопровождаемый гулом одобрения, плавно полетел куда-то, полетел со сладким замиранием сердца...» Но жизнь жестока, и назавтра ему предстоит «снова проснуться на земле от пинка».
|
Свет, идущий от детства, уроки, которые дают дети взрослым, детская непосредственность, душевная щедрость, бессребреничество (хотя часто им самим приходится зарабатывать на жизнь) — вот чем наполнены рассказы М.Горького о детях.
Сказки. Горьковские «Сказки об Италии» (1906-1913) носят такое название условно: это рассказы о стране, в которой он провел долгие годы. Но есть у него и подлинные сказки. Первые из них предназначались для сборника «Голубая книжка» (1912), адресованного маленьким детям. Вошла в сборник сказка «Воробьишко», а другая — «Случай с Евсейкой» — оказалась для этого сборника слишком взрослой. Появилась она в том же году в приложении к газете «День». В этих сказках действуют чудесные, умеюшие разговаривать животные, без которых сказочный мир не мог бы существовать.
Воробьишко. Пудик летать еше не умел, но уже с любопытством выглядывал из гнезда: «Хотелось поскорее узнать, что такое Божий мир и годится ли он для него». Пудик очень любознателен, все-то ему хочется понять: отчего деревья качаются (пусть перестанут — тогда и ветра не будет); почему это люди бескрылые — им что, кошка крылья оборвала?.. Из-за непомерного любопытства Пудик и попадает в беду — вываливается из гнезда; а уж кошка «рыжая, зеленые глаза» тут как тут. Происходит сражение между мамой-воробьихой и рыжей разбойницей. Пудик от страха даже первый раз в жизни взлетел... Все кончилось благополучно, «если забыть о том, что мама осталась без хвоста».
В образе Пудика ясно проглядывает характер ребенка — непосредственного, непослушного, шаловливого. Мягкий юмор, неброские краски создают теплый и добрый мир этой сказки. Язык ясный, простой, понятный малышу. Речь персонажей-птичек основана на звукоподражании:
— Что, что? — спрашивала его воробьиха-мама.
Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал:
— Чересчур черна, чересчур!
Прилетал папаша, приносил букашек Пудику и хвастался:
— Чив ли я? Мама-воробьиха одобряла его:
— Чив, чив!
Характер героя в сказке «Случай с Евсейкой» посложнее, ибо герой и по возрасту старше Пудика. Подводный мир, где оказывается мальчик Евсейка, населен существами, которые находятся друг с другом в непростых отношениях. Маленькие рыбешки, например, дразнят большого рака — поют хором дразнилку:
Под камнями рак живёт,
Рыбий хвостик рак жует.
Рыбий хвостик очень сух.
Рак не знает вкуса мух.
В свои отношения подводные жители пытаются втянуть и Евсейку. Он же стойко сопротивляется: они — рыбы, а он — человек. Ему приходится хитрить, чтобы не обидеть кого-нибудь неловким словом и не навлечь на себя неприятностей. Реальная жизнь Евсейки переплетается с фантастикой. «Дуры, — мысленно обращается он к рыбам. — У меня по русскому языку в прошлом году две четвёрки было». К финалу действие сказки движется через цепь забавных ситуаций, остроумных диалогов. В конце концов оказывается, что все эти чудесные события Евсейке приснились, когда он, сидя с удочкой на берегу моря, заснул. Так Горький решил традиционную для литературной сказки проблему взаимодействия вымысла и реальности. В «Случае с Евсейкой» много легких, остроумных стихов, охотно запоминаемых детьми.
Еще больше их в сказке «Самовар», которую писатель включил в первую составленную и отредактированную им книгу для детей — «Елка» (1918). Этот сборник — часть большого плана писателя по созданию библиотеки детской литературы. Сборник был задуман книжкой веселой. «Побольше юмора, даже сатиры», — напутствовал Горький авторов. Чуковский вспоминал: «Сказка самого Горького "Самовар", помешенная в начале всей книги, есть именно сатира для детей, обличающая самохвальство и зазнайство. "Самовар" — проза в перемежку со стихами. Вначале он хотел назвать ее "О самоваре, который зазнался", но потом сказал: "Не хочу, чтобы вместо сказки была проповедь!" — и переделал заглавие».
Сказка много раз переиздавалась. В ней нашли свое отражение взгляды М.Горького на народную сказку как на неиссякаемый источник оптимизма и юмора, к которым необходимо приобщать и детей, а также его подход к литературной обработке фольклора.
|
8.3. Поэзия в детском чтении.
Поэзия о детстве и для детей в 20-е годы переживала пору невиданного обновления. Связано это было с расцветом «взрослой» поэзии, которая представляла собой своего рода экспериментальную лабораторию. Совершенно разные по направлению и творческой манере поэты видели перед собой общую цель — найти формулу искусства XX века. Поиски вели к истокам речи — языку детей, в том числе к речевой «зауми».
Развитие детской поэзии проходило под огромным влиянием футуристов, прежде всего В.Хлебникова и В.Маяковского, а также поэтов-«заумников», в частности Н.Заболоцкого(«Заумники» разрабатывали основы поэзии, которая должна воздействовать не смыслом слов, а их звучанием).
Начало «заумной поэзии» было положено А. Кручёных и В.Хлебниковым. Поэты-обэриуты развивали эти идеи. Футуристы и «заумники» способствовали возрождению традиций народной поэзии, сохранившей отголоски скоморошества, «языческой» игры со словом.
Для детей издавались книги таких «взрослых» поэтов, как О.Мандельштам («Примус», 1925; «Кухня», 1926), Б.Пастернак («Карусель», 1926; «Зверинец», 1929), а также стихи Н.Асеева и С. Кирсанова.
В золотой фонд детской поэзии вошли произведения Чуковского, Маяковского, Маршака, Барто. Михалкова, поэтов группы ОБЭРИУ. Маленькие читатели открыли мир поэзии разных народов в переводах Маршака и Чуковского. В наше время круг детского чтения пополнился стихами поэтов, считавшихся ранее сугубо взрослыми, недоступными для ребенка, — Ахматовой, Цветаевой, Хлебникова, Гумилева, Мандельштама, Пастернака.
Интересно, что маленькие дети, осваивающие речь, порой лучше воспринимают «сложного» поэта, чем взрослые. Так, им близки неологизмы Велимира Хлебникова: лебедиво, облакини, смеюнчики, смешики, снежимочка и пр. В его речевых импровизациях дети могут услышать больше взрослых, поскольку детский слух улавливает легчайшее соответствие между звуком и смыслом, между отдельным словом и цельной образной картиной. Стихотворения Хлебникова «Птичка в клетке», «Кому сказатеньки...», «Там, где жили свиристели», «Мудрость в силке», «Кузнечик», «Заклятие смехом» доставляют маленьким чистую радость.
Небольшой поэтический этюд Анны Ахматовой «Мурка, не ходи, там сыч...» — одно из первых в русской поэзии стихотворений, где передана интонация детской души, переживающей страх перед обычной вещью — подушкой с вышивкой.
Импрессионизм Осипа Мандельштама нередко оказывается схож с детским фантазийным мышлением, в мгновенной прихоти объединяющим вымысел и реальность:
Сусальным золотом горят
В лесах рождественские ёлки;
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.
Борис Пастернак утверждал, что младенчество — это колыбель поэзии, что ребенок непременно наделен музыкально-поэтическим даром:
Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, — а слова
Являются о третьем годе.
Речевые способности всякого маленького ребенка не уступают редкостному дарованию взрослого поэта, следовательно, детям можно и нужно предлагать широкий спектр стихотворений, т.е. учитывать равенство детской и взрослой гениальности.
8.4. Чуковский К.И. Краткие биографические сведения. Малые жанры. Воспитательное значение произведений. Весёлые сказки в стихах - основной жанр творчества Чуковского. Изучение психологии и словотворчества. Заповеди. От "2" до "5".
К.И.Чуковский (1882 — 1969) - один из основоположников детской литературы XX века, исследователь психологии детства «от двух до пяти». Был он, кроме того, блистательным критиком, переводчиком, литературоведом. «Я решил учиться у детей... я надумал "уйти в детвору", как некогда ходили в народ: я почти порвал с обществом взрослых и стал водиться лишь с трехлетними ребятами...», — писал Чуковский в дневнике.
|
Вопросами детской литературы Чуковский стал заниматься в 1907 году — как критик, заявивший о бездарности творений некоторых известных в те годы детских писательниц (Например, Чарская). В 1911 году появилась его книга «Матерям о детских журналах», в которой он резко критиковал журнал «Задушевное слово» — за незнание возрастных особенностей детей, за навязывание маленьким читателям штампованных ужасов, обмороков, истерик, злодейств, геройств. Критик противопоставил «Задушевному слову» журналы «Юная Россия», «Родник», «Семья и школа», «Юный читатель»: «Здесь любят и чтут ребенка, не лгут и не виляют перед ним, говоря с ним трезво и спокойно», — однако и здесь не знают, не понимают ребенка.
Как утверждал Чуковский, ребенок «создает свой мир, свою логику и свою астрономию, и кто хочет говорить с детьми, должен проникнуть туда и поселиться там». Взрослым, а особенно детским писателям и педагогам, надо бы не наклоняться к детям, а стать детьми: если «мы, как Гулливеры, хотим войти к лилипутам», то мы должны «сами сделаться ими».
Не считая, что детей необходимо воспитывать только на бессмыслицах, Чуковский был уверен, что «детская литература, из которой эти бессмыслицы выброшены, не отвечает многим плодотворным инстинктам 3- и 4-летних детей и лишает их полезнейшей умственной пищи». Вредно внушать детям через детскую книгу то, что не соответствует их возрасту или непонятно им: это отбивает у них желание читать вообще.
К.Чуковский доказывал, что любой ребенок обладает огромными творческими возможностями, даже гениальностью; ребенок — величайший труженик на ниве родного языка, который как ни в чем не бывало ориентируется в хаосе грамматических форм, чутко усваивает лексику, учится читать самостоятельно.
«Заповеди для детских поэтов» — глава в книге «От двух до пяти». Эту книгу Чуковский писал на протяжении шестидесяти с лишним лет. Создание ее началось с разговора о детской речи, а со временем книга превратилась в фундаментальный труд о самом ребенке, его психике, об освоении им окружающего мира, о его творческих способностях.
Глава «Заповеди для детских поэтов» — это обобщение и собственного опыта работы для детей, и работы коллег — Маршака, Михалкова, Барто, Хармса, Введенского и др., а также опора на образцы лучших детских книг — ершовского «Конька-горбунка», сказки Пушкина, басни Крылова.
К.Чуковский делает главный вывод: народная поэзия и словотворчество детей совершаются по одним законам. Детский писатель должен учиться у народа, который в течение «многих веков выработал в своих песнях и сказках идеальные методы художественного и педагогического подхода к ребенку». Второй учитель детских поэтов — сам ребенок. Прежде чем обращаться к нему со своими стихами, необходимо изучить его вкусы и потребности, выработать правильный метод воздействия на его психику.
Дети заимствуют у народа и страсть к перевертышам, к «лепым нелепицам». Поэт доказывал педагогическую ценность перевертышей, объяснял, что ребенок потому и смеется, что понимает истинное положение дел. Смех ребенка есть подтверждение успешного освоения мира. У ребенка жизненная потребность в смехе — значит, читая ему смешные стихи, взрослые удовлетворяют ее.
Огромное значение Чуковский придавал тому, чтобы в каждой строфе был материал для художника. Зрительный образ и звук должны составлять единое целое, из каждого двустишия должен получаться рисунок. Он назвал это качество «графичностью» и поставил первой заповедью для детского поэта.
Вторая заповедь гласит о наибыстрейшей смене образов. Детское зрение воспринимает не качества вещей, а их движение, их действия, поэтому сюжет стихов должен быть подвижен, разнообразен.
Третья заповедь: «...Эта словесная живопись должна быть в то же время лирична. Необходимо, чтобы в стихах была песня и пляска». Дети тешат себя «сладкими звуками» и упиваются стихами «как музыкой». Чуковский называл такие стихи детей «экикика-ми». Стихи для детей должны приближаться к сути этих экикик.
Крупные произведения не будут скучны детям, если они будут цепью лирических песен: каждая песня — со своим ритмом, со своей эмоциональной окраской. В этом заключается четвертая заповедь для детских поэтов: подвижность и переменчивость ритма.
Пятая заповедь: повышенная музыкальность поэтической речи. Чуковский приводит в пример детские экикики с их плавностью, текучестью звуков, не допускающие скопления согласных. Неразвитой гортани ребенка трудно произносить что-нибудь вроде «Пупс взбешен»: это с трудом произносит и взрослый.
|
Согласно шестой заповеди рифмы в стихах для детей должны быть поставлены на самом близком расстоянии друг от друга. Детям трудно воспринимать несмежные рифмы.
По седьмой заповеди рифмующиеся слова должны быть главными носителями смысла. Ведь именно эти слова привлекают к себе повышенное внимание ребенка.
«Каждая строка детских стихов должна жить своей собственной жизнью» — восьмая заповедь. «У ребенка мысль пульсирует заодно со стихами», и каждый стих в экикиках — самостоятельная фраза; число строк равняется числу предложений.
Особенности младшего возраста таковы, что детей волнует действие и в их речи преобладают глаголы. Эпитет — это уже результат опыта, созерцания, подробного ознакомления с вещью. Отсюда девятая заповедь детским поэтам: не загромождать текст прилагательными.
Десятая заповедь: преобладающим ритмом стихов для детей должен быть хорей — любимый ритм детей.
Стихи должны быть игровыми — это одиннадцатая заповедь. В фольклоре детей звуковые и словесные игры занимают заметное место, так же как и в народной поэзии.
К произведениям для детей нужен особый подход, но чисто литературные достоинства их должны оцениваться по тем же самым критериям, что и любое художественное произведение. «Поэзия для маленьких должна быть и для взрослых поэзией!» — это двенадцатая заповедь Чуковского.
Тринадцатая заповедь: «...В своих стихах мы должны не столько приспособляться к ребенку, сколько приспособлять его к себе, к своим "взрослым" ощущениям и мыслям». Чуковский назвал это стиховым воспитанием. То есть, говоря словами психологов и педагогов, необходимо учитывать зону ближайшего развития.
Заповеди Чуковского не являются непререкаемой догмой, о чем предупреждал сам их автор. Изучив, освоив их, детскому поэту следует начать нарушать их одну за другой.
Пожалуй, состояние счастья — главнейшая заповедь для детских писателей. Цель же сказочника — воспитать человечность.
Сказки и стихи Чуковского составляют целый комический эпос, нередко называемый «крокодилиадой» (по имени любимого персонажа автора). Произведения эти связаны между собой постоянными героями, дополняющими друг друга сюжетами, общей географией. Перекликаются ритмы, интонации. Особенностью «крокодилиады» является «корнеева строфа» — размер, разработанный поэтом и ставший его визитной карточкой:
Жил да был
Крокодил.
Он по улицам ходил.
Папиросы курил.
По-турецки говорил, —
Крокодил, Крокодил Крокодилович!
Сюжеты сказок и стихов Чуковского близки к детским играм — в прием гостей, в больницу, в войну, в путешествие, в путаницу, в слова и т. п. Лирическая тема большинства стихотворений — безмятежное счастье, «чудо, чудо, чудо, чудо / Расчудесное» (стихотворение «Чудо-дерево»), а сказки, напротив, повествуют о драмах и катастрофах.
Рождение сказочного мира Чуковского произошло в 1915 году, когда были сложены первые строфы поэмы «Крокодил». Опубликована она была в 1917 году в детском приложении к еженедельнику «Нива» под названием «Ваня и Крокодил», с огромным количеством рисунков. Публикация произвела настоящий переворот в детской поэзии. Однако после Октября «Крокодилу» и его автору пришлось тяжко. Н. К. Крупская, занимавшая крупные государственные должности, объявила эту сказку «вредной», поскольку «она навязывает ребенку политические и моральные взгляды весьма сомнительного свойства».
Однако ребенка захватывает открытое содержание сказки, он не ищет в ней политических намеков. Для детей «Крокодил» является первым в жизни «романом в стихах».Сказка была адресована детям и преследовала воспитательные цели, связанные с военным временем: направить детскую энергию патриотизма и героизма в подходящее безопасное русло.
Многие художественные приемы, найденные в «Крокодиле», были использованы в дальнейшем Чуковским и в других его сказках.
|
«Муха-Цокотуха», «Тараканище» и «Краденое солнце» образуют трилогию из жизни насекомых и зверей. Эти сказки имеют схожие конфликтные ситуации и расстановку героев, они и построены по единой схеме. «Муха-Цокотуха» (сказка впервые вышла в 1924 году под названием «Мухина свадьба») и «Тараканище» (1923) даже начинаются и заканчиваются одинаково — развернутыми картинами праздника. Чуковский не жалел ярких красок и громкой музыки, чтобы маленький читатель без вреда для себя мог из праздничного настроения окунуться в игровой кошмар, а затем быстро смыть с души страх и убедиться в счастливом устройстве мира.
В «Краденом солнце» (1936) праздник развернут только в финале. Почти сразу читатель сталкивается с драматическим противоречием. Пожирание грозит уже не отдельным героям (как в других сказках), а солнцу, т.е. жизни, ее радости. Крокодил, окончательно обрусевший среди сорок-белобок, журавлей, зайчиков, медвежат, белочек, ведет себя как эгоист, проглотив то, что принадлежит всем. С точки зрения детей, он жадина, он хуже всех. Чуковский отлично чувствует логику ребенка, понимающего, что любому маленькому герою не справиться с огромным (т.е. взрослым) крокодилом. На сильного жадину может быть одна управа — сильный добряк: и вот «дедушка» медведь сражается с обидчиком ради своих толстопятых медвежат и прочей детворы. Другое отличие «Краденого солнца» состоит в том, что это единственная сказка, в которой использованы мотивы народной мифологии: этот крокодил ничего общего не имеет с Крокодилом Крокодиловичем — он воплошает мифического пожирателя солнца, он — туча, похожая на крокодила.
В трилогии сказок использована единая система художественно-речевых средств: повторы, параллелизмы, постоянные эпитеты, уменьшительно-ласкательные формы и т.п.
«Мойдодыр» и «Федорино горе» могут считаться дилогией на тему гигиены.
Небольшой сказке «Мойдодыр» (1923) принадлежит едва ли не первенство по популярности среди малышей. С позиции взрослого назидательная мысль сказки просто мизерна: «Надо, надо умываться / По утрам и вечерам». Зато для ребенка эта мысль требует серьезных доводов, сама же по себе она абстрактна и сомнительна. Чуковский верно уловил первую психологическую реакцию ребенка на открытие всяких «надо» и «нельзя» — это удивление. Для того чтобы доказать простенькую истину, он использует мощный арсенал средств эмоционального воздействия. Весь мир приходит в движение, все предметы срываются с места и куда-то бегут, скачут, летят. Герою приходится измениться — и внешне, и внутренне. Возвращение дружбы и симпатии, организованный в тот же час праздник чистоты — справедливая награда герою за исправление.
«Федорино горе» (1926) также начинается с удивления перед небывальщиной: «Скачет сито по полям, / А корыто по лугам». Автор довольно долго держит читателя в напряженном изумлении. Только в третьей части появляется Федора, причитая и маня сбежавшую утварь обратно. Если в «Мойдодыре» неряха — ребенок, то в этой сказке — бабушка. Читатель, уже усвоивший урок «Мойдодыра», может понять недостатки других, в том числе и взрослых.
«Айболит» (под названием «Лимпопо» сказка вышла в 1935 году), «Айболит и воробей» (1955), «Бармалей» (1925) — еще одна стихотворная трилогия. Главный положительный персонаж всех этих сказок добрый доктор Айболит родом из книги английского прозаика Лофтинга (ее Чуковский пересказал еще в 1925 году). Чуковский «прописал» Айболита в русской детской поэзии, придумав ряд оригинальных сюжетов и найдя ему достойного противника — разбойника Бармалея.
«Чудо-дерево», «Путаница», «Телефон» (все — 1926 год) образуют свою триаду сказок, объединенную мотивами небылиц и путаниц. Их последовательное расположение следует за меняющимся отношением к небылице или путанице. В «Чудо-дереве» небыличное превращение сулит всем радость, особенно детям. В «Путанице» веселое непослушание зверей, рыб и птиц, вздумавших кричать чужими голосами, в конце концов грозит бедой: «А лисички / Взяли спички, / К морю синему пошли, / Море синее зажгли». Конечно, пожар на море бабочка потушила, а затем, как всегда, устроен праздник, на котором все поют по-своему. «Телефон» написан от лица взрослого, уставшего от «дребедени» звонков. Сказка разворачивается чередой почти сплошных диалогов. Телефонные собеседники — то ли дети, то ли взрослые — всякий раз ставят героя в тупик своими назойливыми просьбами, нелепыми вопросами. Маленькие читатели невольно становятся на сторону измученного героя, незаметно постигая тонкости хорошего воспитания.
Фольклорные перевертыши, небылицы представляют окружающий мир «наоборот», неправильно. Чуковский эти же приемы подчиняет другой задаче — нарисовать «правильный» детский мир, преображенный радостью: на березах вырастают розы, на осинах — апельсины, из облака сыплется виноград, вороны поют, как соловьи, по летней радуге можно скатиться на салазках и коньках («Радость»).
|
Стихотворения ближе к реальности, чем сказки, но это лишь усиливает эффект превращения обыденного в сказку («Головастики», «Закаляка»). Ребенок и сам — величайший поэт, сказочник, если способен испугаться им же выдуманной «Бяки-Закаля-ки Кусачей». Чуковский в своих стихах попытался слить лучшие русские и английские традиции народной детской поэзии («Бутерброд», «Ежики смеются», «Обжора», «Слониха читает», «Свинки», «Фе-дотка» и др.).
Переводы и переложения Чуковского составляют отдельную, не менее важную часть его работы для детей. Им пересказаны народная валлийская сказка «Джек, покоритель великанов» (1918), «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распе (1935) и «Робинзон Крузо» Д.Дефо (1935).
Среди пересказов — приключенческие новеллы Бевана, Джед-да, Стрэнга «Пойманный пират», «Золотая Аира», «Разбойники на Болотном острове», «Подвиг авиатора» (1924). Их меньшая известность связана с тем, что автор в них отошел было от жанра сказки и попытался обратиться к аудитории читателей непривычного для себя возраста — семи—девяти лет.
И в прозе писатель заботился о том, чтобы слова были легкими для детской артикуляции; большие, трудные слова он разделяет на слоги: «ко-ра-бле-кру-ше-ние», «ил-лю-ми-на-ция»; «учит» маленьких читателей звериному языку.Детская проза Чуковского почти целиком относится к приключенческой литературе.
На основании опыта — своего и чужого — Чуковский разработал теорию художественного перевода (книга «Высокое искусство», создававшаяся на протяжении 1919—1964 годов).
Широко известны его переводы для детей. В частности до сих пор в непревзойденном переводе Чуковского читают дети «Приключения Тома Сойера» Марка Твена (1935), сказки Р.Киплинга (начал переводить в 1909 году). Переводы песенок и стишков из английского детского фольклора производят впечатление подлинного звучания английской речи и передают своеобразный английский юмор («Храбрецы», «Скрюченная песня», «Барабек», «Котауси и Мау-си», «Курица», «Дженни» и др.).
8.5.С.Чёрный. "Детский остров" - стихи для детей.
Саша Черный (1880—1932) — псевдоним поэта и прозаика, переводчика Александра Михайловича Гликберга, одного из известнейших сатириков предреволюционного времени. Родился 1 (13) октября 1880 в Одессе в семье провизора - семье, можно сказать, зажиточной, но малокультурной. Счастливым детство Саши не назовешь. Мать, больную, истеричную женщину, дети раздражали. Отец, отличавшийся крутым нравом, не входя в разбирательство, их наказывал. В семье было 5 детей, двоих из которых звали Саша. Блондина называли «Белый», брюнета - «Черный». Отсюда и псевдоним.
Первое же опубликованное под этим никому не ведомым именем стихотворение «Чепуха» разошлось в списках по всей стране. Поэт сразу оказался желанным гостем в сатирических журналах, которых в 90-х годах, было очень много, а ведущим среди них был «Сатирикон». В своих сатирах он чаше всего обличал пошлость мещан и политиков. Стихи Саши Черного – и саркастические, и нежные, приобрели всероссийскую популярность, повлияли на развитие поэзии тех лет и, в частности, на творчество раннего Маяковского.
Постепенно эти темы уступили место далекой от них теме детства. Собственные детские годы нашли отражение в стихотворениях «Новая игра», «Приготовишка», «Несправедливость», в рассказе «Экономка» и других произведениях. Без пощады расправлялся он с авторами слащавых детских книжек («Дама сидела на ветке, / Пикала: / — Милые детки...» — из стихотворения «Сиропчик»).
В детской литературе имя Саши Черного стоит рядом с именами Чуковского и Маршака.
В 1911 году состоялся дебют писателя в детской литературе (стихотворение «Костер»). В 1912 году вышел его первый детский рассказ — «Красный камешек», а в 1913-м — книга «Тук-Тук» и «Живая азбука» в стихах, ставшая знаменитой. Постепенно творчество для детей делается главным его занятием. В детских стихах сатира уступает место лирике.
В 1914 г. он уходит на фронт. После Октябрьской революции (которую Саша Черный не принял, несмотря на предложение большевиков возглавить газету в Вильно) осенью 1918 г. он уехал в Прибалтику, а затем, в 1920 г. – в Германию. Некоторое время поэт живет в Италии, в семье Леонида Андреева, потом в Париже. В 1927 г. он вошел в группу эмигрантов, которая на паях приобрела земельный участок и основала русскую колонию в поселке Ла-Фавьер в Провансе. Здесь, на юге Франции, Саша Черный провел последние годы жизни.
|
В эмиграции он сотрудничает в газетах и журналах, устраивает литературные вечера, ездит по Франции и Бельгии, выступая со стихами перед русскими слушателями, выпускает книги.
Основная часть его творчества для детей приходится на годы эмиграции. Среди многих бед эмиграции поэт особо выделял проблему детей, которые могли совсем выйти из «круга бесценной русской Красоты». Для детей эмигрантов он составил двухтомную хрестоматию «Радуга. Русские поэты для детей» (Берлин, 1922). Самый большой из стихотворных сборников Саши Черного «Детский остров» (Данциг, 1921) был предназначен для семейного чтения. Героями его стихотворных и прозаических произведений были русские гении: Ломоносов, Крылов, Пушкин.
В состав сборника «Детский остров» входят стихи: Больная кукла, Гиена, Зверюшки, Костер, На вербе, На коньках, Осленок, Песенки, Поезд, Приставалка, и др.
|
| Приставалка - Отчего у мамочки На щеках две ямочки? - Отчего у кошки Вместо ручек ножки? - Отчего шоколадки Не растут на кроватке? - Отчего у няни Волоса в сметане? - Отчего у птичек Нет рукавичек? - Отчего лягушки Спят без подушки?.. - Оттого, что у моего сыночка Рот без замочка. <1912> | Два утенка Два утенка подцепили дождевого червяка, Растянули, как резинку, - трах! и стало два Куска... Желтый вправо, черный влево вверх тормашками Летит. А ворона смотрит с ветки и вороне говорит: "Невозможные манеры! посмотрите-ка, Софи... Воспитала мама-утка... фи, какая жадность! Фи!" Из окна вдруг тетя Даша корку выбросила В сад. Вмиг сцепились две вороны - только перышки Летят. А утята страшно рады... "посмотрите-ка, Софи... Кто воспитывал? барбоска? фи! и очень даже Фи!" 1921 |
Саша Черный выступал на детских утренниках, устраивал сирот в русские приюты. Будучи замкнутым, желчным и печальным среди взрослых, рядом с детьми он совершенно преображался. Жена вспоминала его любовь к игрушкам, способность «придумывать себе занятие, не имевшее, как игры, никакой цели, кроме забавы...».
Высоко ценили поэзию Саши Черного Горький и Чуковский. Последний называл его «мастером быстрого рисунка».
Тихонько-тихонько прижавшись друг к другу,
Грызём солёный миндаль.
Нам ветер играет ноябрьскую фугу,
Нас греет русская шаль.
С привычной остротой зрения подмечал он не безобразные и пошлые детали, а мелочи, создающие прелесть повседневной детской жизни. Много раз он стихами рисовал с натуры портреты детей и сюжеты из детского быта:
Покончила Катя со стиркой,
Сидит на полу растопыркой:
Что бы ещё предпринять?
К кошке залезть под кровать,
Забросить под печку заслонку?
Иль мишку подстричь под гребёнку?
Поэт не брал на себя роль воспитателя, предпочитая сам учиться у «человечков» непосредственности. В его стихах место поучения занимает открытое признание в любви. Все обаяние земного мира воплощено в детворе и зверье. С одинаковой симпатией художник рисует шаржи на детей и зверей, ставя их рядом. Пес Арапка у него по-детски молится и за тех, и за других вместе:
|
Милый Бог!
Хозяин людей и зверей!
Ты всех добрей!
Ты всё понимаешь,
Ты всех защищаешь...
Звери, как и дети, образуют отдельный «остров». На зверином острове все равны, каждый имеет право оставаться собой: муха — ходить по потолку, собаки и кошки — задирать друг друга, кот — ловить мышек, а крокодил — плакать и мечтать:
Эй, ты, мальчик-толстопуз,
Ближе стань немножко...
Дай кусочек откусить
От румяной ножки!
Детский и звериный острова расположены совсем рядом, но от них велико расстояние до цивилизованного «материка» взрослых. В образе лирического героя стихов или повествователя в прозаических произведениях сквозят черты и автора, и его маленького друга, и непременно — какого-нибудь обаятельного зверя:
С кошкой Мур на месяц глядя,
Мы взобрались на кровать:
Месяц — брат наш,
Ветер — дядя,
Вот так дядя!
Звёзды — сестры, небо — мать...
Волшебный вымысел был Саше Черному ни к чему. Он виртуозно импровизировал свои чудесные истории, находя их начала и концы в будничном хаосе жизни детей, зверей и взрослых. В творчестве его ощутим дух непосредственной реальности. По произведениям Саши Черного можно детально представить культуру детства первой трети XX века, когда «детский остров» казался взрослым чем-то вроде рая, счастливого убежища посреди моря политической и житейской суеты.
8.6. Маяковский В.В. Роль поэзии в становлении советской детской литературы. Идейно-эстетические принципы Маяковского для детей. Многообразие жанров. Своеобразие поэтической манеры. Воспитание любви к труду, описание трудового процесса в стихотворениях Маяковского.
В. В. Маяковский (1893 — 1930), один из крупнейших поэтов русского авангарда, отдал революции, ее «атакующему классу» весь запас своих творческих сил. Значительная часть творческого пути Маяковского была связана с течением кубофутуризма, для которого характерны отказ от всего предыдущего опыта поэзии, строительство новой культуры как основы будущей цивилизации. Кубофутуристы называли себя будетлянами, т.е. людьми будущего.
В поэзии авангарда есть много общего с детским сознанием, понимающим мир как свою собственность. Лирический герой Маяковского смотрит на огромный мир не снизу вверх, а сверху вниз, как некий всемирный великан. При этом мысль поэта сосредоточена на сегодняшней жизни, прокладывающей дорогу к светлому будущему; прошлое его почти не занимает. Метафоры, гиперболы, непривычные рифмы и прочие сильные средства выразительности нужны поэту для того, чтобы стягивать весь мир к человеку, убеждая его верить в свои беспредельные силы и в свое будущее.
Поэт обратился к творчеству для детей, рассматривая его как составную часть обшей программы строительства социализма и формирования социалистической культуры. В 1918 году поэт намеревался выпустить книжку «Для детков», составленную из стихотворений «Сказка о красной шапочке», «Военно-морская любовь» и «Тучкины штучки» (1917—1918). Лишь последнее из них можно признать «детским»:
Плыли по небу тучки.
Тучек — четыре штучки:
от первой до третьей — люди,
четвёртая была верблюдик.
|
«Тучкины штучки» — стихотворение-игра. В нем обычное детское фантазирование при взгляде на небо выражается при помощи характерных для стиля Маяковского приемов: неожиданные метафоры-сравнения (солнце — желтый жираф), нетрадиционные рифмы, обновляющие слово (шестая ли — растаяли), неологизмы, рождающие новый образ (в небосинем лоне). Один из ключевых в поэзии Маяковского образов-символов — небо — благодаря поэтической игре делается близким и понятным; это именно детское небо, просторное, полное света и движения.
Освоение детской темы Маяковский начал с жанра стихотворной сказки. В 1923 году он создал «Сказку о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий». Это сатирическая сказка-памфлет с нескрываемой агитационно-пропагандистской тенденцией. Жадность Пети и его родителей — самый ужасный порок, с позиций детской этики, поэтому лозунг «Люби бедняков, богатых круши!» оказывается по-детски справедливым.
Нельзя отказать «Сказке о Пете...» в художественном новаторстве. Поэт использовал в ней целый арсенал мощных метафор, ярких неологизмов, сложных рифм, разнообразных ритмических средств. Любой фрагмент отличается сложной техникой стиха, что свидетельствует не только о вдохновении, но и о большом труде автора.
Выбрав стихотворный размер детской считалки, поэт, вероятно, исходил из того, что эта форма подходит больше всего для легкого усвоения сложных понятий. Мастерство поэта сказывается в том, что веселый считалочный размер оказывается пригодным для выражения самых разнообразных мыслей и эмоций, например горькой обиды: «Омочив слезами садик, / сел щенок на битый задик...» Считалка может превратиться в скороговорку для того, чтобы ребенок, выговаривая ее, мог лучше запомнить трудное слово «пролетарий»: «Птицы с песней пролетали, / пели: "Сима — пролетарий!"»
В сказке множество гипербол, да и сюжет ее гиперболичен. Лопнувший буржуй Петя — это сюжетно реализованная гипербола «лопнуть от обжорства». Более детской по духу выглядит гипербола идеальных качеств отца Симы — кузнеца: «Папа — сильный, на заводе / с молотками дружбу водит. / Он в любую из минут / подымает пальцем пуд».
Маяковский «брал уроки» у тех поэтов, которые уже получили признание как новые детские сказочники-стихотворцы, — Чуковского (его «Крокодил» легко угадывается в «Сказке о Пете...»), Маршака (к примеру, стихотворение «Пожар»), равно как и они многому учились у Маяковского.
Язык сказки сочетает в себе публицистический, агитационный стиль и живой, разговорный, «шершавый», язык улицы со словечками вроде морда, лопал, невтерпеж.
Несмотря на собственные ошибки и внешние трудности. Маяковский продолжал целенаправленную работу по созданию такой поэзии, которая вводила бы детей в большой мир борьбы и труда, объясняла бы им азы социализма.
Книжка «Что такое хорошо и что такое плохо» (1925), пожалуй, самая удачная из всего написанного Маяковским для детей. Если в «Сказке о Пете...» он объяснял на наглядных примерах значения нерусских слов пролетарий, буржуй, то в этом стихотворении он вернулся на ту ступень, с которой следовало бы начать: хорошо и плохо — вот два главных отвлеченных понятия, необходимых для первичной социализации ребенка.
Принцип контраста, является стержнем композиции стихов и рисунков. Это произведение построено как цепь миниатюр; каждая из них в четырех строчках представляет отдельного персонажа, свое действие и свой очевидный вывод. Маяковский, незаурядный художник, задумал эту книжку именно как единство текста и картинок. Дидактические примеры подтверждаются соответствующими рисунками на сюжеты из жизни детей. «Хорошо» и «плохо» последовательно показываются с разных сторон, и в конце концов содержание этих понятий раскрывается достаточно глубоко и полно.
Лирический герой здесь — сам поэт; он ведет диалог с «крошкой-сыном» о том, что важно для них обоих.
Крошка сын
к отцу пришел,
и спросила кроха:
- Что такое
хорошо
и что такое
плохо?-
|
У меня
секретов нет,-
слушайте, детишки,-
папы этого
ответ
помещаю
в книжке…..
Лирическую основу стихотворения составляет отцовское чувство — редкое по тому времени явление в поэзии для детей. Мягкая ирония, сдержанная ласковость, негодование, гордость — целая гамма интонаций передает образ отца, доброго, сильного, справедливого. Воспитательный эффект в книжке достигнут оптимальным сочетанием художественных средств: контрастными образами, внятной речью, естественными интонациями. «Буду делать хорошо и не буду -плохо», — решает в заключение маленький собеседник поэта..
Форма книжки, в которой каждая страница или разворот содержит рисунок и самостоятельную подпись, оказалась для Маяковского наиболее выигрышной. Стихотворение «Что ни страница, — то слон, то львица» (1926) в первом издании начиналось так:
Открывай страницу-дверь —
в книжке
самый разный зверь...
Использован прием, известный еще по дидактической литературе XVIII века: чтение книги организовано как прогулка, сопровождающаяся приятной и полезной беседой. В данном случае поэт чаше комментирует внешний вид зверей, реже — их «классовые» черты. Портреты зверей выполнены по-разному: есть обычные зарисовки внешности (слоны, кенгуру), а есть и очеловеченные образы-карикатуры (лев, жирафы, обезьяна). Некоторые портреты животных даны только на картинке; поэт вместо описания играет словами:
Этот зверь зовется лама.
Лама дочь
и лама мама.
Маленький пеликан
и пеликан-великан.
Как живые в нашей книжке
слон,
слониха
и слонишки….
Или предлагает представить спрятавшегося зверя (при этом слегка пародируя «Евгения Онегина»):
Крокодил.
Гроза зверей.
Лучше не гневите.
Только он сидит в воде
И пока не виден.
Немногочисленные сравнения почерпнуты из детского лексикона (слоненок «ростом с папу нашего»). Того же происхождения неологизмы: жирафка, жирафенок, зверики. Вообще автор предпочел в этом стихотворении обойтись минимумом лексических средств.
«Эта книжечка моя про моря и про маяк» (1926) написана более сложно. Ее сюжет восходит к детскому воспоминанию Маяковского о семейной поездке через Батуми и Сухуми; мальчик подымался на маяк, бегал по пароходу. В стихотворении поэт восстановил яркость и силу тех давних впечатлений. Он рассказал маленьким читателям именно то, что интересно любому мальчишке. Маяковский развернул широкую картину, в которой, как на детском рисунке, уместились и бурные волны с пароходами, и капитан с биноклем, и маяк с винтовой лестницей и огромным фонарем, и рабочий, подливающий масло в лампу.
|
Разрезая носом воды,
ходят в море пароходы.
Дуют ветры яростные,
гонят лодки парусные….
Поэт словами рассказывает то, что ребенок рассказал бы рисуя. Картина-рассказ имеет свой сюжет, композицию. Когда наступает счастливая развязка («...все, кто плавал, — в тихой бухте»), читатель тут же оказывается среди тех, кто рассказывал-рисовал:
Нет ни волн,
ни вод,
ни грома, детям сухо,
дети дома.
Позднее добавилась и смешная подпись под стихотворением, что также характерно для детского рисунка. Поэт обыграл свою фамилию, полушутя призвав детей быть похожим на маяк и освещать дорогу (вспомним девиз Маяковского и Солнца: «Светить всегда, светить везде!..»):
Чтоб сказать про это вам,
этой книжечки слова и рисуночков наброски
сделал дядя Маяковский.
Огромную популярность у детей до сих пор сохраняет стихотворение «Кем быть?» (1928). В нем Маяковский снова использовал форму серии миниатюр, связанных общей темой, на этот раз — темой выбора профессии. В этом отношении «Кем быть?» являет собой исключение. «Все работы хороши, / выбирай / на вкус!» — звучит в финале, после того как энергично, с юмором, в деталях, красках и звуках рассказано о разных профессиях.
Стихотворение написано от имени ребенка, чье воображение не нуждается в пустых мечтах и сказках, находя богатую пишу в реальности.
У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?
Нужные работники -
столяры и плотники!...
Ребенок видит себя у верстака, за чертежной доской, на стройке. То он — детский доктор («Как живете, / как животик?»), то рабочий на паровозном заводе, то кондуктор трамвая, шофер, летчик, матрос («У меня на шапке лента, / на матроске / якоря. / Я проплавал это лето, / океаны покоря»). Поэт не просто рассказал о профессиях, но создал образ каждой из них — с помощью резких перемен ритма, неожиданных рифм, звуковой инструментовки. Некоторые строчки стали крылатыми. Это стихотворение имеет довольно широкий диапазон читательского возраста — от старшего дошкольного возраста до подросткового.
Стремление Маяковского заложить основы новой детской книги натыкалось на непонимание и враждебность литературных критиков и работников Наркомпроса; хотя поэт искренне желал, чтобы его стихи служили государственным интересам. Даже взявшая под защиту «Сказку о Пете...» критик А.К.Покровская считала, что «стихи Маяковского для детей явление больше литературное, чем педагогическое». И это несмотря на то, что в каждое стихотворение для детей поэт вкладывал максимум воспитательных «тенденций».
В одном из интервью Маяковский говорил: «Я стремлюсь внушить детям самые элементарные общественные понятия, делая это как можно осторожнее. <...> Скажем, я пишу рассказ об игрушечном коне. Тут я пользуюсь случаем, чтобы объяснить ребенку, сколько людей должно было работать, чтобы изготовить такого коня, — допустим: столяр, художник, обойщик. Таким путем ребенок знакомится с коллективным характером труда. Или описываю путешествие, в ходе которого ребенок не только знакомится с географией, но и узнает, что одни люди бедны, а другие — богаты, и т.д.». Речь в интервью шла о стихотворениях 1927 года «Конь-огонь» и «Прочти и катай в Париж и в Китай», появившихся в пионерской периодике.
Поэзия Маяковского дает пищу для читателей всех возрастов: от самых маленьких детей до взрослых.
|
8.7. Поэты группы "ОБЭРИУ". Творчество Д.Хармса, А. Веденского, Ю.Владимирова.
Ленинградская литературно-философская группа «Объединение реального искусства» вошла в историю авангарда под сокращенным названием ОБЭРИУ. Эта аббревиатура, по мнению авторов, должна восприниматься читателем как знак бессмыслицы и нелепицы.
В своем манифесте от 24 января 1928 года обэриуты заявили, что они «люди реальные и конкретные до мозга костей», что необходимо отказаться от обиходно-литературного понимания действительности ради «нового ощущения жизни и ее предметов»; они размежевались с поэтами-«за-умниками» и футуристами и поставили своей задачей создать «реализм необычайного». Исходной точкой провозглашалось детское видение мира: «Ребенок мудр, потому что он не знает условных, привнесенных в жизнь порядков, он первый сказал, что король гол, и тем самым открыл всем глаза». По идее обэриутов, искусство вовсе не отражает жизнь, оно само по себе, оно живет по своим законам. Их привлекало искусство неофициальное, близкое к традициям скоморохов, народного театра.
Отличие обэриутов состояло в том, что они отказались от поисков в сферах мистико-религиозных, этико-философских или идеолого-эстетических мыслей. Их молодые умы обратились к математике, геометрии, физике, логике, астрономии и естественным дисциплинам. Так, Хармс придумал совершенный, по его мнению, подарок — «деревянную палочку, на одном конце которой находится шарик, а на другом кубик». Такой предмет можно держать в руках, а если его положить, «то все равно куда». Подарок, идея которого навеяна геометрическими игрушками для годовалых младенцев, не имеет ничего общего с отражением реальности и вместе с тем несет радость, является результатом творческого озарения.
«Это единственное, чем я горжусь: вряд ли кто чувствует гармоничность в человеке, как я», — говорил Хармс, при этом он еретически «поверял алгеброй гармонию». Однако и алгебра его была ересью, потому что он не верил в науку, имеющую утилитарный практический характер. Что может сказать наука о человеке? —
Человек устроен из трёх частей,
Из трёх частей,
Из трёх частей.
Хэу ля ля.
Дрюм дрюм ту ту!
Из трёх частей человек.
(1931)
Арестованный Хармс на допросе 13 января 1932 года так пояснял следователю замысел стихотворения «Миллион» (1930): «В "Миллионе" тема пионерского движения подменена мною простой маршировкой, которая передана мною и в ритме самого стиха, с другой стороны, внимание детского читателя переключается на комбинации цифр»:
Раз, два, три, четыре, полтораста
и четырежды на четыре,
четыре, двести тысяч
сто четыре на четыре,
на четыре, и еще потом четыре!
Пересчитывать объекты — занятие нелепое, объекты от этого теряют «лица» (вместо живых лиц пионеров читателю начинают мерещиться безглазые нули). Заниматься же абсолютной, «чистой» математикой хорошо, так постигаются особенности каждого числа (например, четыре), а также разница между обычным количественным числом (4) и числом-понятием, означающим бесконечное множество, свойства порядка и хаоса.
В мартовском номере «Чиж» за 1941 год публикует стихотворение «Цирк Принтинпрам», в котором Хармс продолжает отстаивать право чисел, так сказать, на самоопределение: «невероятное представление» состоит из «удивительных номеров» (слово «номер» в данном случае имеет дополнительное значение числа). Клоуны, силачи, ученые ласточки и комары, тигры и бобры не просто актерствуют, но представляют математические игры:
Четыре тысячи петухов
И четыре тысячи индюков
Разом
|
Выскочат
Из четырёх сундуков.
Бесстрастно и педантично анализировали обэриуты реальные или ими же вымышленные «случаи». Может быть поэтому их творчество оценивалось читателем, воспитанным в консервативных традициях, как «жестокое» или находящееся вне этики.
Обэриуты по-своему решили весьма трудную в детской литературе проблему иронии (известно, что из всех видов комического дети позднее всего воспринимают именно иронию): в частности, Хармс позволил себе смеяться над нравственно-дидактическими штампами детской литературы, над педагогикой в картинках.
Он якобы «серьезно» воспроизвел модель нравоучительного детского рассказика: «Бабушка уронила иголку. Как отыскать ее в куче песка? Бабушка очень огорчилась. Но Маша уже бежала из дома с магнитом в руке. Она быстро провела магнитом раз-другой по песку. — Возьми свою иголку, бабушка! — сказала Маша» («Умная Маша и ее бабушка»). Папа с ружьем, бегущий за хорьком с ужасным намерением в стихотворении «О том, как папа застрелил мне хорька» (1929). Маша, исполненная ума и добродетели, бегущая с магнитом в руке, — оба героя в равной степени абсурдны сами по себе, несмотря на логичность их поступков. Да и сами истории рассказаны столь значительным тоном, что не могут не вызвать веселья. Хармс, обратившись к детской литературе, вероятно, почувствовал ее пародийную природу—в ничтожном поводе для написания значительного текста
Может быть, обэриуты и не нуждались в категориях Добра и Зла, чтобы создать свою модель мира и человека, однако и они, подобно тургеневскому нигилисту Базарову, пережили крах идей при столкновении с реальностью. Им суждено было исчезнуть (конечно, не без участия внешних сил, «органов») из поля внимания читателей на долгие десятилетия, как исчез загадочный персонаж стихотворения Хармса «Из дома вышел человек...».
Творчество Николая Заболоцкого не во всем совпадало с обэриутской концепцией поэзии. Поэт увлекался натурфилософскими идеями Лейбница, Тимирязева, Циолковского, народной астрономией, он верил в разум, свойственный всей живой и неживой природе. В его стихах звери и растения — уже не литературные олицетворения и аллегории, а мыслящие существа, поэтому можно по-детски сказать: «Корова мне кашу варила, /Дерево мне сказку читало», — можно увидеть «лицо коня» или как цветок машет «маленькой ручкой». Сама Вселенная разгадывает детскую загадку в «Песенке о времени»:
Лёгкий ток из чаши А
Тихо льётся в чашу Бе,
Вяжет девка кружева,
Пляшут звёзды на трубе.
(«Время», 1933)
Н.Заболоцкий — единственный среди обэриутов имел педагогическое образование (в 1928 году он окончил Ленинградский педагогический институт имени А.И.Герцена). Стихи поэта, написанные для детских изданий, показывают его понимание детской психологии, знакомство с педагогикой (например, он не чуждался дидактических сентенций — стихотворение «Сказка о кривом человечке»), но они слишком привязаны ко времени и потому звучали в полную силу только для детей той эпохи.
Поколению детей и подростков 60—80-х годов Заболоцкий больше был знаком по «взрослым» стихам («Некрасивая девочка», 1955; «Не позволяй душе лениться», 1958), по стихотворному переложению «Слова о полку Игореве» (1938, 1945), вошедшему в школьную программу, по «детским» переложениям романов Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1934) и Ш. де Костера «Тиль Уленшпигель», по обработанному для юношества переводу поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
Сегодня с уверенностью можно считать сбывшимся предсказание К.Чуковского, сделанное в письме к поэту от 5 июня 1957 года о том, что Заболоцкий «автор "Журавлей", "Лебедя", "Уступи мне, скворец, уголок", "Неудачника", "Актрисы", "Человеческих лиц", "Утра", "Лесного озера", "Слепого", "В кино", "Ходоков", "Некрасивой девочки", "Я не ищу гармонии в природе" — подлинно великий поэт, творчеством которого рано или поздно …. придется гордиться, как одним из величайших своих достижений»
К созданию своего стиля обэриуты шли от «реального» понимания таких феноменов, как движение, мышление, память, воображение, речь, зрение и слух. В каждом явлении они обнаруживали некий сдвиг, неточность, ускользание от «правильности», т.е. реальность открывалась обэриутам как царство абсурда.
|
В стихах Хармса крутится забавный абсурдный мир, где все наоборот:
кашу не ели,
а пили,
шли задом наперёд,
а непонятное нечто
«чирикало любезно,
но зато немного скучно,
и как будто бы назад».
Спутаны связи слов, разлажен механизм речи, сюжет трансформирован, мораль исчезла, — казалось бы, поэт глумится над самим Словом. Однако эстетическое значение стихов — в мощном напоре праздничного настроения, в карнавальной отмене условностей и попрании погибающего старого «нечто». Фольклорный детский перевертыш в исполнении обэриута выступает в качестве манифеста нового отношения к Слову и действительности.
Как представлялось обэриутам, «реальное искусство» дает свободу «текучим» словам и образам; нужно прекратить погоню за точным смыслом частностей ради точной передачи главного содержания. В их стихах часто звучат мотивы реки, кораблика, лодки, челнока, возникают образы рыб, матросов, рыбаков; эти иероглифы передают течение «реальной» жизни и «реальной» мысли. Например, в стихотворении А. Введенского «Река» (1940) текучее движение провозглашается единственно объективной данностью:
Пусть стужа зимняя крепка
И страшен вьюг полёт, —
Уйдёт широкая река
Под синий плотный лёд.
И, скрытая от глаз людских.
Закутанная в снег,
Ни на секунду, ни на миг
Не прекратит свой бег.
Юрий Владимиров продемонстрировал чудеса стихотворства в небольшом стихотворении «Барабан», употребив сорок пять однокоренных слов. Текст буквально громыхает барабанным громом. Цель виртуоза — передать текучесть звуков, образующих речь.
Стихи обэриутов, в особенности детские, представляют собой разные игры. В журналах «Чиж» и «Ёж» появлялись их рисунки, шарады, загадки, игра выплескивалась за пределы вербального мышления и требовала включения визуально-абстрактного мышления детей. Например, одна из игр заключается в том, что мир интуитивно «рассыпается» в подвижных нелепицах и логически «собирается» в неподвижное целое, и наоборот — как в детской игре «Замри! — Отомри!»:
| Добежали, добежали до скамейки у ворот пароход с автомобилем и советский самолёт, самолёт с автомобилем и почтовый пароход. | Петька прыгнул на скамейку, Васька прыгнул на скамейку, Мишка прыгнул на скамейку, на скамейку у ворот. — Я приехал! — крикнул Петька. — Стал на якорь! — крикнул Васька. — Сел на землю! — крикнул Мишка. И уселись отдохнуть. |
Воображение, казалось бы, искажает, сдвигает мир, обессмысливает его, но оно развивается по неким законам, и действие этих законов приводит мир к неожиданному «чистому» смыслу. Рассмотрим «работу» воображения на примере стихотворения Хармса «Врун» (1930).
Почему утверждение вруна, что «у папы моего было сорок сыновей», вызывает недоверие оппонентов? Чем двадцать или тридцать правдоподобнее сорока? Наседка не считает своих цыплят, но точно знает, все ли на месте, т.е. число воспринимается птицей или человеком не количественно, а качественно, при этом качественные различия определяются внелогическим путем, интуитивно. Так, между вымыслом и предполагаемой правдой ставится знак равенства.
Совершенной фигурой Хармс считал круг: своим образованием круг обязан воображению, рисующему кривую вокруг четырех радиусов — креста. Так возникает важнейший для Хармса иероглиф, связанный с понятиями чистоты и воды, — колесо. То самое золотое колесо, которое скоро будет вместо солнца. «Ну, тарелка, / Ну, лепешка, / Ну, еще туда-сюда, / А уж если колесо — / Это просто ерунда!» — сомневаются оппоненты, не замечая работы воображения, объединяющего солнце, колесо, тарелку, лепешку в тождественное множество.
|
Живая речь, в особенности поэтическая, издавна привычна к фантазиям и вымыслу. Так, собаки-пустолайки «научилися летать», а также нырять еще в 1856 году в стихотворении А. Н.Майкова «Сенокос», где использованы обычные метафоры:
Только жучка удалая
В рыхлом сене, как в волнах,
То взлетая, то ныряя.
Скачет, лая впопыхах.
А в 1928 году метафора была употреблена Н. Заболоцким в стихотворении «Игра в снежки»: «В снегу кипит большая драка. / Как легкий бог, летит собака».
Излюбленный их мотив— путаница (можно сравнить «Путаницу» Чуковского с «Ниночкиными покупками» и «Чудаками» Юрия Владимирова). Поводом для последнего стихотворения послужил розыгрыш, устроенный Хармсом. Перед его поездкой в Москву Владимиров дал ему две пятерки с просьбой купить крючки, леску и книги. Вернувшись, Хармс отдал деньги обратно, объяснив, что забыл, какая пятерка на что предназначалась. «Месть моя будет ужасна!» — рассмеялся Владимиров и вскоре написал одно из лучших своих стихотворений.
Обэриуты нашли новые способы диалога с читателем, «заимствованные» из детских правил общения: веселый подвох, розыгрыш, провокация. Особенно много таких примеров у Хармса (например, «Храбрый ёж», «Ты был в зоологическом саду?», «Приключения ежа», «Семь кошек», «Бульдог и таксик» и др.). В 20—30-х годах поэты нередко соревновались с маленькими детьми — сочинителями стихов. Однажды Александр Введенский прочитал свои стихи поэту-футуристу А. Кручёных, а тот в ответ — стихотворение пятилетней девочки; когда общество разошлось, Введенский сказал приятелю: «А ведь ее стихи были лучше...»
Чуковский, Маршак, Барто, Михалков стали мастерами детской поэзии во многом благодаря учебе у детей, обэриуты же пошли дальше всех, вовсе отвергнув классические жанры лирики, зато признав все жанры народной детской поэзии: считалки, загадки, небылицы, перевертыши, игровые припевки. Чаще других размеров использовался «детский» хорей с его акцентированными ударениями, сжатой пружиной ритма. Слова, синтаксические конструкции повторяются, варьируются, как в игре, восходящей к фольклорному обряду. Часто стихотворения обэриутов напоминают запись балаганного представления, комические диалоги нелепых персонажей. Слова будто случайно попадают в строку, неожиданно рифмуются. При этом привычный, стертый их смысл смывается и обнажаются нерастворимые ядра слов. В этой бессмыслице начинает устанавливаться новая логика, возникают неожиданные ассоциативные связи. Как, например, начало взрослого «Ответа богов» Введенского мало чем отличается от образцов детского стихотворчества:
жили были в Ангаре
три девицы на горе
звали первую светло
а вторую помело
третьей прозвище Татьяна
так как дочка капитана
жили были а потом
я из них построил дом
Приход поэтов группы ОБЭРИУ в детскую литературу не был случайным. Помимо житейской необходимости причина лежала в сближении их исканий с алогизмом детской жизни, которая вся — сдвиг и неточность. Самый значительный след в русской литературе для детей оставил Хармс, несмотря на его неоднократные признания, что детей он не любит — за нахальство. Особенное значение для истории русской детской литературы имеет то, что Хармс и Введенский являются мировыми основоположниками литературы абсурда. Данное обстоятельство доказывает, что детская литература может быть полигоном для самых смелых экспериментов, что она в иных случаях может опережать генеральное движение литературы для взрослых. Несмотря на короткую историю группы (строгие рамки - 1927-1930), обэриуты успели революционизировать язык современной поэзии, да так, что и на рубеже XIX—XX века их влияние наряду с влиянием Вел.Хлебникова невозможно не заметить. В эксцентрике, игре, интеллектуализме, в игнорировании этических и политических тем видим мы приметы «обэриутского стиля» стихотворной детской книги.
|
8.8. Маршак С.Я. Краткие биографические сведения. Идейно- тематическое и жанровое многообразие его произведений. Развитие горьковской мысли о романтизме и героизме свободного труда на благо людей. "Пожар", "Почта", "Вчера и сегодня". Тема любви к Родине, самоотверженности советских людей.("Рассказ о неизвестном герое", "Почта военная"). Тема счастливого детства. Воспитание любви к природе "Лесная книга", "Круглый год", "Разноцветная книга". Юмор и сатира. Сказки Маршака. Их связь с У.Н.Т.
С.Я.Маршак (1887—1964) оставил большое и разнообразное наследие: стихи для детей и взрослых, сказки для чтения и представления, сатирические эпиграммы, переводы, критическую и мемуарную прозу. При этом главным делом его жизни была детская литература. В 1927—1937 годах центрами притяжения для детских писателей были кружок исследовательницы детского фольклора О.И.Капицы, ленинградская редакция Детиздата, редакции детских журналов «Новый Робинзон», «Чиж» и «Еж». Постепенно сложился круг единомышленников — редакторов детских книг, среди них были В.А.Лебедев, Е.Л.Шварц, Т. Г. Габбе, А. И.Любарская, Л. К.Чуковская и др. Литератор И. А. Рахтанов назвал этот круг «академией Маршака». Маршак и другие редакторы Детиздата превыше всего ставили хороший вкус, умение отличать высокую литературу от псевдолитературы.
Для Маршака в детской книге не было мелочей. Чем младше возраст читателя, тем суровее были требования поэта-редактора к книге, которую он воспринимал целиком: содержание, язык, оформление, шрифты и формат, качество печати.
Драматургия была для Маршака первым этапом вхождения в детскую литературу. В начале 20-х годов для Краснодарского детского театра он вместе с поэтессой Е.И.Васильевой написал ряд пьес-сказок, среди них «Кошкин дом», «Сказка про козла», «Петрушка», «Горе-Злосчастие». Впоследствии все эти сказки были им доработаны. Первые пьесы выросли из фольклора и напоминают веселые, подвижные игры. Их сюжеты намеренно просты, но разработаны с изяществом и юмором. Образы элементарны и вместе с тем пластичны. Реплики и монологи персонажей немногословны, но выразительны. Начав с маленьких одноактных пьес, Маршак постепенно приходит к многоактным драматическим произведениям: «Двенадцать месяцев», «Горя бояться — счастья не видать», «Умные вещи». Пьесы его насыщены музыкой, песнями, танцами, словесными турнирами — всем тем, чем богат народный театр. «В сущности, в драматургии для детей была проделана та же работа, что и во всей детской литературе, — вспоминал С. Я. Маршак. — Мы боролись за освобождение детского театра (как и книги) от лжепедагогической назидательности и схематизма, стремились к созданию живых характеров, к тому, чтобы пьесы, при их простоте, были достаточно сложны и, при всей их забавности, выражали серьезные идеи, т.е. к большой драматургии для маленьких».
Поэзия для детей составляет главную часть творчества Маршака. Наиболее известные его стихотворения для самых маленьких были написаны между 1922 и 1930 годами. Это «Детки в клетке», сказки о глупом и умном мышонке, «Багаж», «Почта», «Пожар», «Вот какой рассеянный» и пр. Темы и сюжеты стихотворений даже для трех- и четырехлетних детей всегда остро современны, затрагивают не только мирок детской комнаты, как это бывало в дореволюционной поэзии, а весь большой мир, с его смешными, драматическими и героическими сторонами.
Все, что выходило из-под пера Маршака, полно разнообразного движения: идут, бегут, едут герои, вещи, постоянно совершаются какие-то происшествия, перемены. Остановка движения воспринимается как абсурд («Закричал он: / — Что за шутки? / Еду я вторые сутки, / А приехал я назад, / А приехал в Ленинград!»). Динамична каждая строфа, упруг ритм, отчетливо звучит каждое слово: «Мой / Веселый, / Звонкий / Мяч, / Ты куда / Помчался / Вскачь?»
Максимум внимания Маршак уделял композиции стихотворения; не теряя цельности, оно разбивается на ряд маленьких стихотворений, легких для запоминания, законченных в своей выразительности. Например: «По проволоке дама / Идет, / как телеграмма».
Особенно хороши у Маршака такие жанры, как стихотворный рассказ, анекдотическая история, цикл лирических миниатюр.
Классическими образцами стихотворных рассказов называют «Пожар», «Почту», «Почту военную», «Рассказ о неизвестном герое». Их отличают зримость деталей, достоверность образов, точные координаты действия. Все эти средства делают рассказ подобием взрослого документально-публицистического очерка:
|
Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне,
С цифрой 5 на медной бляшке,
В синей форменной фуражке?
Это он.
Это он,
Ленинградский почтальон.
Каждый поворот сюжета сопровождается изменением стихотворной формы — размера, ритма, меняется интонация рассказчика. Воображение читателя оказывается под властью изображаемых картин и событий, его эмоции следуют за быстрыми переходами действия. Звуковая инструментовка стихов в каждой главке обогащает повествование. Стихотворные рассказы Маршака можно ставить как детские оперы. Вот один из примеров слаженности всех элементов стиха:
Под пальмами Бразилии,
От зноя утомлён,
Бредёт седой Базилио,
Бразильский почтальон.
«Сказка о глупом мышонке», «Багаж», «Вот какой рассеянный» — эти и подобные сказки и истории имеют анекдотический сюжет. Они немногочисленны, но их значение особенно велико для тех лет, когда чистое веселье было сомнительным — с позиции критиков-педологов. И до сих пор эти стихотворения воспитывают в детях чувство юмора.
«Сказка о глупом мышонке» похожа на басню и вместе с тем на спародированную колыбельную. Она отлично передает тонкие нюансы смешного. Повторяется одна и та же ситуация — приглашение очередной няньки к капризному мышонку. Повторяется ситуация, но меняется голос няньки, меняются интонации просьб мышки-матери и отказов мышонка. Маршак прибегнул к сложному для малышей виду комического — иронии, требующей особой чувствительности к подтексту, к смыслу, заключенному «между строк». Маяковский любил цитировать: «Приходи к нам, тетя лошадь, / Нашу детку покачать».
Та же ирония пронизывает историю дамы, сдававшей в багаж «Диван, / Чемодан, / Саквояж, / Картину, / Корзину, / Картонку/И маленькую собачонку» («Багаж»). Уже само это перечисление настраивает читателя иронически по отношению к даме и к ее дорожной неприятности, хотя, казалось бы, в исходной ситуации нет явных нелепостей. Многократно повторенное, это перечисление звучит все более смешно — вплоть до последней строки, в которой и потерялась собачонка.
В стихотворении «Вот какой рассеянный» Маршак смеется над своим персонажем уже открыто, почти каждая строфа — новое подтверждение смешной рассеянности. Герой — человек взрослый, и оттого он еще более смешон. Отчасти Маршак шаржировал свои черты, отчасти — черты одного известного профессора, о рассеянности которого рассказывались многочисленные истории.
В циклах миниатюр «Детки в клетке», «Круглый год», «Разноцветная книга», «Веселое путешествие от А до Я» познавательная информация растворена в лирической стихии. Эти циклы — россыпь самых разных стихотворных форм, среди которых маленький читатель легко выберет строфу себе по вкусу.
Поэт избегал в стихах прилагательных, тщательно следил за тем, чтобы слова не сливались, звучали по отдельности, заставлял слово поспевать за темпом действия. Перекличка звуков в словах, считал он, должна помогать восприятию целого образа. Вспомним описание новогодней елки:
Чуть дрожат её иголки,
На ветвях огни зажглись,
Как по лесенке, по ёлке
Огоньки взбегают ввысь.
В цикле «Детки в клетке» важны даже не сами животные, а их восприятие лирическим героем, который как будто переходит от клетки к клетке. К юмору постоянно примешиваются печаль, сочувствие, ироническое сомнение.
Лирического героя поражает внешний вид слона, жирафа. Тигренок вдруг заставляет человека вспомнить о нраве дикого зверя («Эй, не стойте слишком близко — / Я тигренок, а не киска!»). Затем внешние впечатления дают толчок чувствам противоречивым, сложным. Противоречив вид зебр, чьи полоски напоминают об африканских травах и... о школьных тетрадках. Страусенок умеет сердиться и бить ногой, «мозолистой и твердой», но не умеет летать и петь — он смешон и печален. Грустит смешная обезьяна, вспоминая о родине. А вот белые медведи, кажется, всем довольны, — только им тесно, плавают они от стены к стене, задевая друг друга. Трудно понять, чего больше в совятах — обаяния или скуки:
|
Взгляни на маленьких совят —
Малютки рядышком сидят.
Когда не спят,
Они едят.
Когда едят,
Они не спят.
Пингвин, лебеденок, верблюд смешны всяк по-своему, а эскимосский пес вызывает сочувствие: «За что сижу я в клетке, / Я сам не знаю, детки». «Воинственный», «поджарый, тощий», «неутомимый», «неумолимый» — таков был динго в родных лесах, а в клетке он всего лишь «неугомонный»: «Верчусь волчком и мяса жду...» Стихотворение «Воробей» завершает цикл. Вольная городская птичка легко может залететь в любую клетку и пообедать с любым из зверей, даже с крокодилом. Воробей — самый счастливый герой цикла «Детки в клетке».
Особая заслуга Маршака — создание публицистической поэзии для детей. Множество его стихотворений и поэм посвящено темам труда и гражданского воспитания. Наиболее известны «Война с Днепром», «Книжка про книжки», «Детям нашего двора», «Школа на колесах», «Костер в снегу».
Первый политический памфлет для дошкольников — «Мистер- Твистер» (1933). Тема столкновения двух миров — социализма и капитализма — не была сама по себе новой в детской литературе, но под пером Маршака получила блестящее художественное решение. Удачно был выбран угол зрения на Страну Советов: ее видит самодовольный богатый иностранец. Кинематографически стремительное действие, отточенные реплики героев, веселая словесная и фа передают четкий ритм жизни в молодой стране.
Переводы Маршака хорошо известны и взрослым, и детям. Особенно часто он обращался к английской поэзии: переводил старинные народные баллады Англии и Шотландии, сонеты Шекспира и Гейне, стихи и поэмы Блейка, Бёрнса, Колриджа, Вордсворта, Китса, Киплинга, Лира, Милна. Знание языка оригиналов помогало ему глубже понимать русский язык, находить в нем новые поэтические возможности.
В переводах Маршака часто нет буквального совпадения с текстом источника, что не мешает смысловой точности перевода. Он владел особым мастерством создавать «портрет» языка оригинала. Благодаря Маршаку достоянием русских читателей стали многие произведения украинских, белорусских, литовских, армянских поэтов.
Маршак, знаток и ценитель народного творчества, составил сборник сказок разных народов; для чего он перевел стихами литовские, норвежские, монгольские, кавказские сказки, подобрал русские. Особой его любовью пользовались народные детские песенки: он переводил их с английского, чешского, латышского, литовского языков.
В переводах из английской детской поэзии Маршак следует тем же принципам, что и в собственных стихах для детей. Те же экономия и точность слова, те же поиски предельной простоты и ясности, то же пристрастие к энергичной строке, к волевой и бодрой интонации, та же музыкальная безошибочность — и одновременно смелость воображения, поэтический полет. Маршак сумел соединить своеобразную форму английского балладного стиха с живой разговорной естественностью русской речи:
По склону вверх король повёл
Полки своих стрелков.
По склону вниз король сошёл,
Но только без полков.
Маршак никогда не переводил букву — буквой и слово — словом. А всегда: юмор — юмором, красоту — красотой» — так оценивал Чуковский мастерство своего коллеги-переводчика.
В переводах Маршака стихи Редьярда Киплинга зазвучали для русского читателя в упругом, мужественном ритме, свойственном английскому поэту. В коротком стихотворении Киплинга, сопровождающем его сказку «Откуда взялись броненосцы», речь идет о плавании в Рио-де-Жанейро. Маршак «перевел» это стихотворение, расширив до четырех строф. В переводе будто звучит беспечная песенка портовых мальчишек, страстно мечтающих (нет, не о Рио!) об Амазонке, о Бразилии:
|
На далёкой Амазонке
Не бывал я никогда.
Только «Дон» и «Магдалина» —
Быстроходные суда, —
Только «Дон» и «Магдалина»
Ходят по морю туда.
В 1952 году Маршак представил русским детям итальянского писателя Джанни Родари, переведя циклы стихов «Книга городов», «Поезд стихов», «Чем пахнут ремесла» и др. Кроме того, для спектакля по сказке Родари «Приключения Чиполлино» Маршак написал песню Чиполлино и песню Старого Помидора.
Творчество С.Я.Маршака — поэта, драматурга, переводчика и редактора — до сих пор остается живой классикой детской литературы.
8.9. Михалков С.В. Краткие биографические сведения. Тематическое и жанровое многообразие, стихи о животных. Басни. Педагогическая ценность. Создание образа советского человека в тетралогии "Дядя Стёпа". Отражение внутреннего мира ребёнка в лирических стихах. Их значение в нравственном воспитании.
Поэт, баснописец, драматург и публицист, С.В. Михалков (род. 1913) известен и как общественный деятель.
Первое стихотворение поэта увидело свет в 1928 году, в одном из журналов Ростова-на-Дону. С 1933 года Михалков печатается в московской периодике. От довольно посредственных взрослых стихов Михалков постепенно перешел к стихам для детей. Поддержал его в этом направлении А. Фадеев.
С. Михалков, как и другие советские поэты, живо откликался на события времени, писал стихи о челюскинцах и папанинцах, о перелете Чкалова через Северный полюс, о пограничниках, о войне в Испании и Абиссинии, о зарубежных пионерах. В 1936 году в серии «Библиотека "Огонька"» увидела свет первая книжка стихов Михалкова. Вслед за нею стали выходить и другие, в которых все больше было детских стихов.
Народное начало в стихотворениях 30-х годов («А что у вас?», «Мы с приятелем...», «Песенка друзей», «Рисунок», «Фома» и др.) выражается в их песенности, афористической емкости фраз, в жизнеутверждающем пафосе. Например: «Мамы разные нужны, / Мамы всякие важны». Или:
Красота! Красота!
Мы везём с собой кота,
Чижика, собаку,
Петьку-забияку,
Обезьянку, попугая —
Вот компания какая!
Лирика, юмор и сатира, смешавшись, дали почти все оттенки «михалковской» интонации. Молодой детский поэт придерживался линии Маяковского, говоря с читателем языком живым и современным, без налета книжности, о предметах социально значимых. Михалков был в числе тех детских поэтов, кто активно формировал образ своего читателя — «советского ребенка», не довольствуясь простым отражением действительной жизни. Многие его стихотворения стали массовыми песнями, в которых выразилась эпоха с ее диктатом «мы», наивным оптимизмом и искренним патриотизмом. Это «Веселое звено», «Веселые путешественники», «Кто в дружбу верит горячо...», «Веселый турист», «Весенний марш», «Песня пионеров Советского Союза», «Сторонка родная», «Наша сила в деле правом...», «Партия — наш рулевой» и др.
В 1936 году была опубликована поэма «Дядя Степа» с иллюстрациями А. Каневского. Она принесла поэту всенародную славу. Отказавшись от сказочного чуда как непременного в «старой» детской литературе приема, Михалков использовал прием объективации чуда: дядя Степа живет по указанному адресу, действует в реальной Москве и совершает поступки, невозможные лишь для людей обычного роста. Древний фольклорный образ доброго великана обновлен идеями конкретно-социального, идеолого-воспитательного плана. Уже в иные времена Михалков вернется к своему герою в частях-продолжениях «Дядя Степа — милиционер» (1954), «Дядя Степа и Егор» (1968), «Дядя Степа — ветеран» (1981). Долгожительство дяди Степы в детской литературе объясняется тем, что настоящий герой воспринимается «членом семьи», по выражению А. Прокофьева, смена его ролей вторит движению реального времени.
|
В 1939 году в связи с публикацией колыбельной «Светлана» поэт получил свою первую награду (орден Ленина), послужившую ему охранной грамотой в пору репрессий. Почти всю Великую Отечественную войну Михалков служил корреспондентом газеты «Сталинский сокол», побывал почти на всех фронтах, писал очерки, заметки, стихи, юмористические рассказы, тексты к политическим карикатурам, листовки и прокламации.
К детям были обращены стихотворения «Братья», «Данила Кузьмич» и др. Создавалась частями поэма «Быль для детей», в которой дан поэтический обзор всех лет войны (работа над поэмой охватывает 1941 — 1953 годы). Бойцам были адресованы многие стихотворения о детях.
Один из заметных фактов газетной периодики 1942 года — сделанный Михалковым обзор детских писем, приходивших на фронт. После войны многие из «взрослых» произведений Михалкова оказались пригодны и для детей — поэма «Мать», стихотворения «Карта», «Детский ботинок», «Письмо домой», «Откуда ты?», «Ты победишь!», «Солдат». Творческое наследие военных лет вошло в сборники «Служу Советскому Союзу» (1947) и «Фронтовая муза» (1976).
В соавторстве с Габриэлем Аркадьевичем Урекляном, выступавшим в печати под псевдонимом Г.Эль-Регистан, С.Михалков написал текст Государственного гимна СССР (1943).
Широко известно басенное творчество Михалкова. Осваивать жанр басни поэт начал по совету А. Н. Толстого. Было это в 1944 году, когда широко отмечался юбилей Крылова. Первые басни «Заяц во хмелю», «Лиса и Бобер» Михалков послал Сталину, и вскоре они появились в «Правде» с рисунками Кукрыниксов. В его стихотворных и прозаических баснях отразился советский обыватель в разных своих типажах: власть имущие чины, их прихлебатели, бездари от науки и искусства, наивные простаки и пр. Аллегории зверей и птиц у Михалкова всегда имеют прямое отношение к социальным реалиям, к непосредственным впечатлениям («Вот пишешь про зверей, про птиц и насекомых, / А попадаешь всё в знакомых...» — «Соловей и Ворона»).
С. Михалков написал около двухсот басен, из которых несколько десятков имеют долгую жизнь и входят в круг детского чтения. Этическая идея в таких баснях преобладает над идеологией, а художественная форма отличается той мерой выверенности и свободы, что присуща басням Крылова. В 80-х годах поэт вернулся к этому жанру. Во взрослой периодике были опубликованы басни «Лекарь поневоле», «Пес, Конь и Заяц», «Кроты и люди», «Орел и Курица», «Корни», «Дуб и шелкопряд», «Лев на таможне» и др.
Как драматург С. В. Михалков сложился в 30 —40-х годах. Первая его пьеса — «Том Кенти» (1938) — была вольной инсценировкой «Принца и нищего» Марка Твена. Михалков изменил в романе нравственно-социальные акценты: его Принц не способен усвоить уроки добра из своих испытаний под именем Тома Кенти, зато сам Том Кенти, получив власть, стал лучше, умнее, благороднее; вместе с Майлсом Гентоном они отказываются от близости к трону и выбирают независимость. Эта пьеса и последовавшие за нею создали фундамент театрального репертуара, посвященного пионерии («Коньки», 1938; «Особое задание», 1945; «Красный галстук», 1946).
Пьеса-сказка «Веселое сновидение» (другое название — «Смех и слезы», 1946) — дань собственному детству: времени, когда в подмосковном поселке ребята поставили «Три апельсина» К.Гоцци, а советы им давал Станиславский, отдыхавший неподалеку. Забавное сочетание сказочной «старины» и современных деталей (герои носят часы, говорят по телефону), утверждение власти радости вместо власти уныния и страха, победа света над тьмою, правды над ложью — все это идейно-художественное построение, лишь отчасти напоминающее сказку Гоцци, пришлось по вкусу юному послевоенному зрителю.
Водевиль «Сомбреро» (1957) — история о «закулисных интригах» при распределении ролей в дачном детском спектакле о трех мушкетерах. Эта пьеса предшествует более поздней веселой комедии «Сон с продолжением» (1982). «Сомбреро» — самая популярная из детских пьес Михалкова.
Целый ряд публицистических пьес создан писателем в 60 — 70-е годы: «Забытый блиндаж» (1962), «Первая тройка, или Год 2001-й» (1970), «Дорогой мальчик» (1973), «Товарищи дети» (1980). Тематически они близки к пьесам 40—50-х годов, в особенности к идеям и мотивам пьесы «Я хочу домой» (1949) — о возвращении советских детей из плена.
Прозаическая сказка «Праздник непослушания» (1972) вобрала в себя то лучшее, что было наработано прежде: острую актуальность, развлекательный сюжет с серьезным нравственно-социальным подтекстом, яркую зрелищность эпизодов, стихию комического — юмор, иронию, сатиру.
|
В репертуар для дошкольников прочно вошла пьеса-сказка С.Михалкова «Зайка-Зазнайка» (1951). Одной из любимых книжек малышей стала сказка по мотивам английского оригинала «Три поросенка» (1936). Долгий успех этих произведений во многом связан с ясной этической идеей, свободной от идеологической нормативности.
Начиная с 1953 года и до конца 80-х годов Сергей Михалков написал много сатирических пьес для взрослых, в том числе по мотивам произведений Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Шукшина.
Но, С.Михалков всегда подчеркивал, что он в первую очередь детский поэт. В стихах для детей Михалков делал все больший акцент на поэтическую публицистику (стихотворения «Разговор с сыном», «Служу Советскому Союзу», «В Музее В.И.Ленина», «На родине В.И.Ленина», «Есть Америка такая...» и др.). Если в детской публицистике военных лет поэт прибегал к форме стихотворного очерка с множеством конкретных деталей (например, «Фашистская посылка», «Пионерская посылка»), то позже он отказался от таких проверенных, безотказно работающих в детской аудитории приемов. Без аллегорий или метафор, на едином для взрослого и ребенка языке он заявлял В 1936 году была опубликована поэма «Дядя Степа» с иллюстрациями А. Каневского. Она принесла поэту всенародную славу.. Например, в стихотворении «Будь готов»:
Да! Посмей назвать отсталой
Ту великую страну,
Что прошла через войну,
Столько бедствий испытала,
Покорила целину,
А теперь такою стала,
Что почти до звёзд достала
Перед рейсом на Луну!..
Образы страны, советских людей по-плакатному обобщены, монументальны. «Страна-подросток», некогда прославленная Маяковским, в стихах Михалкова окрепла, возмужала, стала мировой державой социализма. Мотивы молодой радости, путей-дорог, характерные для его поэзии 30-х годов, в 60 — 70-х годах сменились мотивами исторической славы, державной гордости.
Сергей Михалков известен и как переводчик классиков детской поэзии — болгарина А.Босева, еврея Л.Квитко, поляка Ю.Тувима. Есть у него переводы с украинского, чешского, французского. Выбирая близких себе по духу поэтов, он исходил из собственного впечатления от первоисточника, поэтому переводы производят впечатление оригинальных, михалковских произведений.
Тесно связан Михалков с отечественным кинематографом и телевидением. Начиная с 1938 года (с текста к мультфильму «В Африке жарко») по сценариям Михалкова было поставлено более тридцати мультфильмов, художественных и телевизионных фильмов, в том числе «Фронтовые подруги» (в соавторстве с М. Розенбергом, 1940), «У них есть Родина» (1949), «Комитет 19-ти» и «Вид на жительство» (в соавторстве с А. Шлепяновым, 1972).
С 1962 года начинает выходить сатирический киножурнал «Фитиль», идея которого принадлежит Михалкову; он же много лет был его главным редактором. Найденная им новая форма сатирической публицистики способна была оперативно воздействовать на бюрократический аппарат. Младший брат «Фитиля» — «Ералаш» (автор сценариев А.Хмелик) сделался одним из любимых зрелищ не только детей, но и взрослых.
«Русская литература XX века создавалась в Советской России и в лучших своих образцах перешагнула границы всех стран. Эту литературу создавали советские писатели», — подчеркивает Михалков в книге «Я был советским писателем».
8.10. Барто А.Л. Стихи для самых маленьких и о самых маленьких. Сатира и юмор. Гражданская тема.
А.Л.Барто (1906—1981) принадлежит к поколению поэтов, сформировавшихся под непосредственным влиянием Маяковского. У него училась молодая поэтесса искусству новых форм. Чтобы завоевать детскую аудиторию, ей нужно было найти свой поэтический язык, узнаваемый и не похожий ни на какой другой, найти темы, волнующие современных детей. Первые удачные стихотворения написаны в середине 20-х годов — это «Китайчонок Ван Ли», «Мишка-воришка», «Пионеры», «Братишка», «Первое мая». Они пользовались популярностью благодаря своей тематике, тесно связанной с новыми интересами детей, а также еще редкому в детской поэзии публицистическому пафосу.
|
Путь Барто в литературе заметно отклонялся от направления, которое пролагали ее старшие коллеги — Чуковский и Маршак. Поэтесса смело использовала сложные (составные, ассонансные) рифмы, которые Чуковский считал недопустимыми в детских стихах, свободно меняла размер в строфе. Воспитательную тенденцию она не столь тщательно скрывала в игре или выдумке, предпочитая прямо говорить даже с самым маленьким читателем на серьезные морально-этические темы. Бесспорна ее заслуга в разработке новой большой темы детской книги — общественное поведение ребенка.
Влияние Маяковского обнаруживается и в стремлении Барто к сатире и публицистике, близкой газетному фельетону. Примерами могут служить стихотворения «Девочка чумазая», «Девочка-ревушка» (1930, написаны совместно с ее мужем П.Н. Барто), а также пьеса-игра «Миллион почтальонов» (1934); в пьесе юные зрители в порядке самокритики сознавались в «пороках», а актеры тут же эти пороки иллюстрировали. Однако сатира всегда приглушается у Барто мягкой лирической интонацией; назвать эти и более поздние ее произведения чистой сатирой или публицистикой, пожалуй, нельзя.
Призвание Барто — писать для детей и от имени детей.
Чаще всего лирический герой Барто — конкретный ребенок. Девочки и мальчики, малыши и школьники — психологический портрет каждого прорисован с живой убедительностью. Реализм — вот главная черта в ее изображении детей и общества: причем это реализм не внешних деталей, а внутреннего наполнения образа.
Значительная часть стихотворений Барто — детские портреты, в которых живая индивидуальность обобщена до легко узнаваемого типа. Тип этот определен часто уже в названии: «Новичок», «Непоседа», «Младший брат», «Юный натуралист», «Болтунья», «Вовка — добрая душа». Множество стихотворений названо именами детей. В психологической характеристике ребенка подмечены и возрастные особенности, и «проблемные» черты. Обходясь без скучного морализаторства, только посмеиваясь в своих частушечно-куплетных стихах, поэтесса предлагала юному читателю взглянуть на себя со стороны и заняться самовоспитанием. Вместе с тем ее позиция отчетливо выражается афоризмами, например: «Есть такие люди — / Им всё подай на блюде» («Лялечка»).
Стихи А.Барто о малышах и для малышей приобрели всенародную и неугасающую популярность. Они имеют обычно форму лирической миниатюры — ту форму, которая была хорошо разработана русскими поэтами прошлого века, творившими для самых маленьких. Именно лирические миниатюры принесли Барто славу классика детской поэзии. Это цикл «Игрушки» (1936), стихотворения «Фонарик», «Машенька», «Машенька растет» и др.
Сюжеты их завершены в пределах всего нескольких строчек, и, несмотря на минимальный объем, в них есть герой и действие, завязка и развязка, конкретный факт и эмоционально-нравственное его обобщение:
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Всё равно его не брошу —
Потому что он хороший.
Секрет успеха «Игрушек» — в воспроизведении того образа игрушки, который складывается в сознании малыша, в выражении естественного нравственного чувства, что формируется не поучением взрослых, а общением с нею. Барто ввела в литературу для детей нового лирического героя — малыша, погруженного в свой собственный мир игры и мечты.
Речевая ткань ее стихотворений воспроизводит особенности лексики и синтаксиса детской речи. Ребенок оформляет свою мысль в короткое предложение, часто поражая взрослых афористической точностью высказываний. И Барто в каждой строке дает простое предложение; в нем редко встречаются отклонения от грамматических норм, совсем нет игры слов или использования слов в переносном значении. Такая речевая строгость как раз и передает характерную для малышей правильность речи:
Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шерстку гладко...
Позволяя себе сложные рифмы (на пол — лапу, плачет — мячик, козленок — зеленый), Барто твердо выдерживала заданный размер, добиваясь максимальной ритмичности и звучности. «Мишка», «Бычок», «Слон», «Самолет» и другие стихотворения из цикла «Игрушки» дети запоминают быстро и с большой охотой: это их собственная, не заимствованная из взрослой литературы лирическая поэзия.
|
Среди «малышовых» стихотворений Барто есть и такие, что посвящены важному моменту семейной, а значит, и детской жизни — рождению брата или сестры (цикл «Младший брат»). Поэтесса показывает, как это событие переворачивает жизнь старших детей, которые в свои пять-шесть лет уже готовы взять на себя ответственность и заботу о грудничке (стихотворения «Две сестры глядят на братца...», «Света думает», «Комары», «Гроза» и др.). Автору интересна психология ребенка, осознающего свою взрослость рядом с грудным братом или сестрой, интересны проблемы старших детей, возникающие при этом («Обида»).
Серьезность старших детей часто контрастирует с «маленькими комедиями», которые неизбежно происходят в такой семейной ситуации. Например, девочка Марина охраняет спящего в саду братца от комаров:
Она убила комара —
Забудет, как кусаться!..
Но раздался громкий рёв
Испуганного братца.
Есть и стихотворения, в которых раскрывается богатый внутренний мир ребенка-дошкольника. Мысли и чувства в возрасте «от двух до пяти» уже вполне сформированы, достаточно сложны, чтобы вызывать не только улыбку, но и уважение взрослых.
Усложняется и форма стихотворений, углубляется их подтекстовое содержание. Предложение уже не всегда помещается в одной строчке, поскольку более развернута мысль лирического героя — ребенка. Стихотворное повествование подчиняется более прихотливому ритму, соответствующему естественной интонации рассказывания; проявляется звуковой рисунок.
Приведем для примера строфы из «Сверчка» — стихотворения, входящего в «золотой фонд» наследия поэтессы:
Ищу под диваном —
Не вижу сверчка,
А он, как нарочно.
Трещит с потолка.
То близко сверчок,
То далёко сверчок.
То вдруг застрекочет,
То снова молчок.
В предвоенные годы Барто создавала поэтический образ советского детства. Счастье, здоровье, внутренняя сила, дух интернационализма и антифашизма — таковы общие черты этого образа. В книжках «Дом переехал» (1938), «Сверчок» (1940), «Веревочка» (1941) развиваются мотивы мирного веселья, труда и отдыха. Герои стихов — мальчики и девочки, чувствующие себя хозяевами все хорошеющей страны.
Стихотворение «Веревочка» можно назвать небольшой поэмой о Москве весны 1941 года. Характер главной героини, девочки Лиды, под стать «шумной, веселой, весенней» столице. Лида учится скакать через скакалку, и ее задорный энтузиазм, энергия передают состояние всего города, в котором кипит жизнь, движение, слышится галдеж грачей и грохот грузовиков.
В годы Великой Отечественной войны герой Агнии Барто повзрослел, стал строже; в центре внимания поэтессы теперь — становление молодого поколения. Это относится к циклу стихов «Уральцы бьются здорово», к сборнику «Подростки» (1943), к поэме «Никита» (1945). Есть различия в стихах военных и послевоенных лет, которые легко проследить, сравнив два стихотворения, посвященных Зое Космодемьянской, — «Партизанке Тане» (1942) и «У памятника Зое» (1957): первое — отвечает всем требованиям газетной публицистики, второе — гораздо более эмоционально, проникнуто личной скорбью. Да и все послевоенное творчество Барто более лирично; в интонациях — скрытая горечь, чувство тревоги за детей.
В поэме о детском доме «Звенигород» (1947) зазвучала новая тема, характерная для творчества следующих десятилетий, — тема защиты детства от бед взрослого мира.
|
В стихах 50 —60-х годов сатира нередко уступает место мягкому юмору. Это такие стихи, как «Я с ней дружу», «О премии, о Димке и о весеннем снимке», «У меня веснушки», «Андрей не верит людям». В целом поэтический мир Барто усложняется, расширяется диапазон переживаний ее героев, психологические коллизии дополняются этическими. Лирическая зарисовка — теперь один из ведущих жанров ее творчества.
А. Барто начала освоение «целины» — поэзии для подростков, возраста, который прежде считался «непоэтичным». В 70-х годах выходят ее сборники «За цветами в зимний лес», «Думай, думай...», «Подростки, подростки...». Можно сказать, что Барто отразила в своих стихах весь школьный мир, увидела его глазами самих детей и заставила по-иному взглянуть на него взрослых (сборники предвоенных и послевоенных лет «Все учатся», «Из пестрых страниц», «У нас под крылом»).
Переводы А. Барто отличаются своеобразностью подхода к оригиналам. Она собирала стихи детей из разных стран и переводила их на русский язык таким образом, чтобы подчеркнуть не особенности иного языка и национального сознания, как это делали Маршак и Чуковский, а особенности детского поэтического чувства. «Промытые» при переводе детские стихи становились фактом настоящей литературы, сохраняя при этом свежесть неумелого детского стихотворения.
Сборник Барто «Переводы с детского», вышедший в 1976 году, наглядно подтвердил самостоятельность и богатство духовной жизни детей разных народов, интернациональную общность их взглядов и интересов. Иллюстрациями к сборнику послужили рисунки советских детей. Так было достигнуто единство замысла всей книги.
«Записки детского поэта» (1976) подводят итоги размышлений и богатого опыта поэтессы, педагога, общественного деятеля Агнии Барто. Наряду с книгой Чуковского «От двух до пяти» записки Барто составляют особый фонд знаний о детях и детской литературе.
Агния Барто в своем творчестве запечатлела целую эпоху в истории культуры детства, само же ее творчество является достоянием детства нынешнего.
|
9 .РАЗВИТИЕ ЖАНРА ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ /Олеша Ю.К., Толстой А.Н., Катаев В.П/.
Ю.К.Олеша (1899—1960) в 20-х годах был известен по всей стране как один из лучших фельетонистов популярной газеты «Гудок». Он и роман для детей «Три толстяка» написал в тесной комнатке редакции на рулоне бумаги; было это в 1924 году. Четыре года спустя книга «Три толстяка», оформленная М.Добужинским, вышла в свет и сразу оказалась в центре внимания детей и взрослых.
Особенность жанра «Трех толстяков» в том, что это роман для детей, написанный как большой фельетон. В целом произведение является выдающимся памятником литературного авангарда 20-х годов. Каждая глава представляет читателю законченный сюжет и все новых и новых героев; так в старинном волшебном фонаре, предшественнике кино, сменяются занимательные картинки. Внимание читателя постоянно переключается: с героического эпизода — на комический, с праздничного — на драматический. Действие разветвляется; изображается не только то, что имеет прямое отношение к основному конфликту между «толстяками» и «чудаками», но и посторонние как будто эпизоды, например история тетушки Ганимед и мышки, история продавца воздушных шаров.
Используются символы и метафоры: фонарь Звезда (метафора Солнца), розы, плахи, цепи (символы жертв революции), железное сердце (метафора тирании) и др. Герои кажутся то сошедшими с агитплакатов - из-за гипербол и гротеска в портретах (Просперо, три толстяка), то с нежных акварелей (дети Суок, Тутти), то со страниц итальянских или французских комедий (Гаспар Арнери, Тибул).
Текст произведения состоит из фрагментов, написанных в разных стилях — кубизме (описание площади Звезды напоминает городские пейзажи художников 20-х годов), импрессионизме (ночная набережная), реализме (площадь после разгрома восставших).
Мало кто мог соперничать с Ю. Олешей в искусстве создавать метафоры, находить необычные и точные сравнения. Его роман-сказку можно назвать энциклопедией (или учебником) метафор. Глаз попугая похож на лимонное зерно; девочка в платье куклы похожа на корзинку с цветами; гимнаст в ярком трико, балансирующий на канате, издали похож на осу; кошка шлепнулась, «как сырое тесто»; в чашке плавали розы — «как лебеди»... Такое видение мира предваряло появившуюся позже рисованную мультипликацию.
Тема революции неожиданно воплощена у Олеши в сюжете празднично-циркового представления. Шуты и герои, чудаки и романтики подхвачены бурными событиями. Однако революция — это не только праздник восставшего народа, но и великая драма (доктор Гаспар Арнери видит кровь, убитых). И все-таки для Олеши революция сродни искусству, сказке, цирку, поскольку она совершенно преображает мир, делает обычных людей героями. Недаром он подчеркивает: у Просперо, вождя восставших, рыжие волосы, т.е. он - «рыжий» клоун, главный персонаж в цирке.
Многие приемы писатель заимствовал из немого кинематографа, и главный из них — монтаж: два разных эпизода, соединенных встык, образуют зрительную метафору. Например, наследник Тутти так закричал, что в дальней деревне отозвались гуси. В кинофильме (немом!) этот момент был бы склеен из двух фрагментов: лицо Тутти и поднявшие голову, встрепенувшиеся гуси. Это и есть кинометафора. Другой кинематографический прием — монтаж нескольких планов. Например, побег Тибула как будто снят с разных точек: Тибул видит сверху площадь и людей, а люди снизу наблюдают за ним, идущим «на страшной высоте» по канату.
В сущности, «Три толстяка» — это произведение об искусстве нового века, которое не имеет ничего общего со старым искусством механизмов (школа танцев Раздватриса, кукла, точь-в-точь похожая на девочку, железное сердце живого мальчика, фонарь Звезда). Новое искусство живо и служит людям (маленькая актриса играет роль куклы). Новое искусство рождается фантазией и мечтой, поэтому в нем есть легкость, праздничность, это искусство похоже на цветные воздушные шары (вот зачем нужен «лишний» герой — продавец воздушных шаров).
Олеша менее всего хотел бы разрушить старый мир «до основанья» — он предлагал увидеть его по-новому, детскими глазами, и найти в нем красоту будущего.
А.Н.Толстой в эмиграции написал свое лучшее, по отзывам многих критиков, произведение — повесть «Детство Никиты» (1920). Главному герою он дал имя сына, а детство изобразил собственное.
Писатель серьезно интересовался литературой для детей, хотел видеть в ней большую литературу. Он утверждал: «Книга должна развивать у ребенка мечту... здоровую творческую фантазию, давать ребенку знания, воспитывать у него эмоции добра... Детская книга должна быть доброй, учить благородству и чувству чести».
|
Эти принципы и лежат в основе его знаменитой сказки «Золотой ключик, или Приключения деревянной куклы» (1935). История «Золотого ключика...» началась в 1923 году, когда Толстой отредактировал перевод сказки итальянского писателя Карло Коллоди «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы». В 1935 году, вернувшись из эмиграции, он вынужден был из-за тяжелой болезни прервать работу над романом «Хождение по мукам» и для душевного отдыха обратился к сюжету о Пиноккио. В итоге «роман для детей и взрослых» (по определению Толстого) и сегодня остается одной из любимых книг читателей.
Сказка Толстого отличается от назидательной сказки Коллоди прежде всего своим стилем, в частности ироничным отношением ко всякому нравоучению. Пиноккио в награду за то, что стал наконец «хорошим», превращается из деревянной куклы в живого мальчика; Буратино же хорош и так, и поучения Сверчка или Мальвины — совсем не то, что ему нужно. Он, конечно, деревянный и потому не очень разумный; зато он живой и способен быстро расти умом. В конце концов оказывается, что он вовсе не глуп, напротив, сообразителен и быстр в решениях и поступках. Писатель переименовал героя: Пиноккио превратился в Буратино. Это, по мнению папы Карло, счастливое имя; те, кто носит его, умеют жить весело и беспечно. Талант так жить при отсутствии всего, что обычно составляет фундамент благополучия — образованного ума, приличного воспитания, богатства и положения в обществе, — выделяет деревянного человечка из всех остальных героев сказки.
В сказке действует большое количество героев, совершается множество событий. В сущности, изображается целая эпоха в истории кукольно-бутафорского Тарабарского королевства.
В начале века модными типажами были: поэт — трагический шут (Пьеро), изнеженная женщина-кукла (Мальвина), эстетствующий аристократ (Артемон). В образах трех этих кукол нарисованы пародии, и хотя, разумеется, маленький читатель не знаком с историей русского символизма, он чувствует, что эти герои смешны иначе, чем Буратино. Кроме того, Мальвина похожа на Лилю, героиню «Детства Никиты», что придает ей теплоту и обаяние.
И положительные, и отрицательные герои сказки обрисованы как яркие личности, их характеры четко выписаны. Заметим, что автор выводит своих «негодяев» парами: рядом с Карабасом Бара-басом появляется Дуремар, неразлучны лиса Алиса и кот Базилио.
Герои изначально условны, как куклы; вместе с тем их действия сопровождаются изменчивой мимикой, жестами, передающими их психологическую жизнь. Иными словами, оставаясь куклами, они чувствуют, размышляют и действуют, как настоящие люди. Буратино может почувствовать, как от волнения похолодел кончик носа или как бегут мурашки по его (деревянному!) телу. Мальвина бросается в слезах на кукольную кружевную постель, как экзальтированная барышня.
Герои-куклы изображены в развитии, как если бы они были живые дети. В последних главах Пьеро становится смелее и начинает говорить «грубым голосом», Мальвина строит реальные планы — работать в театре продавщицей билетов и мороженого, а может быть, и актрисой («Если вы найдете у меня талант...»). У Буратино в первый день от роду мысли были «маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые», но в конце концов приключения и опасности закалили его: «Сам принес воды, сам набрал веток и сосновых шишек, сам развел у входа в пещеру костер, такой шумный, что закачались ветви на высокой сосне... Сам сварил какао на воде». Явно повзрослев в финале сказки, он тем не менее остается прежним озорным мальчишкой на театре, в котором будет играть самого себя.
Сюжет развивается стремительно, как в кинокартине: каждый абзац — готовая картина-кадр. Пейзажи и интерьеры изображены как декорации. На их неподвижном фоне все движется, идет, бежит. Однако в этой кутерьме всегда ясно, кому из героев читатель должен сочувствовать, а кого считать противником. Добро и зло четко разведены, при этом и отрицательные герои вызывают симпатию; поэтому непримиримый конфликт между героями развивается легко и весело.
Широко используется в сказке комизм положений — самая доступная для детей форма комического. Например, очень смешно зрелище, когда свирепый Карабас Барабас, засунув бороду в карман, чихает без остановки, отчего на кухне все дребезжит и качается, а Буратино, подвешенный на гвоздь, начинает «подвывать жалобным тоненьким голоском»: «Бедный я, несчастный, никому-то меня не жалко». Использует Толстой и другие формы комизма, прежде всего речевой комизм (умненький-благоразумненький, деревянненький), наиболее ярко проявляющийся в диалогах.
Во второй половине 30-х годов А.Н.Толстой возвращается к русским сказкам, замыслив огромный труд — пятитомный «Свод русского фольклора». Он успел выпустить только первый том (1940) — 51 сказку, а за год до смерти добавил к ним еще шесть. Этот том составляют почти целиком сказки о животных. Такие сказки, как «Репка», «Колобок», «Теремок», «Петушок — золотой гребешок», «Пузырь, соломинка и лапоть», читатели с детства помнят едва ли не наизусть, настолько точно поставлены в них слова, выверены композиция и диалоги.
|
Из многочисленных вариантов народной сказки он выбирал наиболее интересный, коренной, и обогащал его из других вариантов яркими языковыми оборотами и сюжетными подробностями». В итоге такой обработки сказка сохраняла «свежесть и непосредственность народного рассказа» и являлась читателю во всем блеске художественного мастерства.
Народный стиль передается главным образом синтаксисом фразы. Диалектные или архаичные слова Толстой заменял синонимами из современного языка. Сокращениям подверглись повторы, умерена «цветистость», присущая народным сказкам. Толстой держался ближе к основе сюжета, усиливал действие, добавлял глаголов, убирая все, что опутывает и тормозит действие.
Сотни переизданий сказок в обработке А.Н.Толстого доказывают, что путь, им избранный, был верен.
В.П.Катаев (1897— 1986), прозаик реалистического направления, не раз обращался к литературе для детей. Дошкольникам адресованы вышедшие в 1925 году книжки-картинки «Радио-жираф», «Бабочки», веселая сказка «Приключение спичек», небольшая повесть «Приключения паровоза». Необычайный успех у подростков имела повесть «Белеет парус одинокий» (1936): в ней соединены реальность революционных событий и мальчишеская романтика приключений.
В круге чтения младших детей до сих пор остаются сказки Катаева «Цветик-семицветик» (1940), «Дудочка и кувшинчик» (1940), «Пень» (1945), «Жемчужина» (1945), «Голубок» (1949). Эти сказки дидактичны; назидание выражается в них через иносказание, близкое к аллегории. Волшебное чудо используется Катаевым как художественный прием, позволяющий раскрыть назидательную идею. Сказочный вымысел помогает иносказательно и тактично объяснить маленькому читателю его возможные недостатки и показать верный пример отношения к окружающему миру.
Уроки правильного самоопределения человека в жизни следуют один за другим. Первый урок очень прост: нельзя получить все сразу и без труда. Девочке Жене лень собирать по одной ягодке в кувшинчик, к тому же она хочет иметь и волшебную дудочку, предложенную в обмен на кувшинчик стариком-боровиком. Можно менять то кувшинчик на дудочку, то дудочку на кувшинчик, но нельзя иметь и то и другое. В итоге Женя, поняв свою ошибку, принимается за дело — собирает ягоды как все, нагибаясь и заглядывая под каждый листок («Дудочка и кувшинчик»).
В «Цветике-семицветике» — урок посложнее. Та же девочка Женя по дороге из булочной неожиданно получает волшебный цветок. В фольклорных сказках герой в таких случаях имеет возможность исполнить свои самые заветные желания. Такая же возможность предоставляется Жене. Но она растрачивает почти все лепестки волшебного цветка попусту. Лишь последний лепесток отрывает она ради счастья другого человека, исполняя, таким образом, настоящее свое заветное желание — помочь человеку в беде. Такова важная «подсказка» писателя детям: помнить самую большую свою мечту и не размениваться на пустяки.
Сказки В. Катаева «Пень» и «Жемчужина» близки к сатире. Их уроки сводятся к тому, что надо правильно оценивать себя и свое место в мире. Пень возомнил себя царем, а между тем вокруг него растут прекрасные деревья. Рыбка Каролинка гордится тем, что у нее под плавником растет жемчужина, — на поверку же оказывается, что это просто бородавка. И пока пень и рыбка кичатся своей мнимой особенностью, их жизнь проходит без пользы и смысла.
В целом сказки Катаева соответствуют принципу детской литературы, согласно которому наставление оказывается действенным, когда облечено в форму художественного вымысла.
|
10.ХУДОЖЕСТВЕННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
10.1. Пришвин М.М. Рассказы Пришвина, доступные детям дошкольного возраста: "Ребята и утята", "Золотой луг", "Ёж", "Изобретатель", "Лисичкин хлеб".
М.М.Пришвин (1873—1954) был одним из певцов природы, завещавших детям любить ее, познавать ее тайны, не стремясь что-то в ней ломать и переделывать.
Первый рассказ писателя — «Сашок» — был напечатан в детском журнале «Родник» (1906. — № 11 — 12), когда автору исполнилось уже 33 года. В этом рассказе возникают темы, которым Пришвин будет привержен всю свою творческую жизнь: единство неповторимо прекрасной и таинственной природы и взаимозависимость природы и человека. А широкую известность принесла ему книга очерков «В краю непуганых птиц» (1906), в которой отразились впечатления от поездки по северу России в составе этнографической экспедиции. За эту книгу Пришвин был награжден серебряной медалью Русского географического общества и стал его действительным членом. Тогда же писатель ощутил свое призвание — быть выразителем «души природы»; в природе он видел вечный источник радости и творческих сил человека.
Особенности личности и таланта Пришвина — оптимизм, вера в человеческие возможности, в добрые начала, естественно заложенные в каждом, поэтичность восприятия мира. Все это способствовало тому, чтобы начать писать для детей.
Хрестоматийным детским рассказом стала, например, завершающая глава его книги о художественном творчестве «Журавлиная родина» (1929) — «Ребята и утята». Сюжет этой главы несложен: маленькая дикая утка переводит через дорогу утят, а видевшие это ребята «закидывают их шапками», чтобы поймать. И столь же прост вывод — обращение рассказчика к читателям: берегите птиц, населяющих лес и воды, дайте им совершить святое дело — вырастить своих детей! Писатель наполняет рассказ атмосферой радости бытия. Дети, отпустив утят, сами становятся добрее и чище.
Пришвин считал, что отделять детскую литературу от взрослой непреодолимой преградой не следует. Пришвин признавался, что больше всего боится «подыгрывания детям, скидки на возраст». Он вкладывал в произведения для них полную меру знаний об окружающей жизни и природе, при этом стремясь к увлекательности и поэтичности изображения. Не отрицая возрастных особенностей литературы для маленьких читателей, писатель обращался прежде всего к ребенку, сохранившемуся в душе каждого взрослого. Вероятно, поэтому его произведения захватывают чувства и детей, и взрослых.
Писатель находил особую интонацию, манеру общения с детьми разного возраста. Для маленьких читателей он считал главным условием «простоту». Но простота бывает разная, говорил Пришвин. Есть внешняя простота примитива, а есть простота, возникающая как результат полного владения материалом и любви к своему читателю.
Детские рассказы Пришвин создавал на протяжении всей своей творческой жизни. Впоследствии они были объединены в несколько циклов: «Золотой луг», «Лисичкин хлеб», «Дедушкин валенок».
Детские его рассказы направлены на то, чтобы раскрыть чудеса обычной жизни, показать необыкновенное в обыкновенном. Крошечная его зарисовка «Быстрик» состоит всего из нескольких фраз: «Вот полянка, где между двумя ручьями я недавно белые грибы собирал. Теперь она вся белая: каждый пень накрыт белой скатертью, и даже красная рябина морозом напудрена. Большой и спокойный ручей замерз, а маленький быстрик все еще бьется». Вот и весь рассказ, но, сколько в нем философии и красоты! Так и видишь белизну снега на земле и на пнях и контрастный красный цвет рябины, хоть и припудренной изморозью. И какая чудесная сила видится в этом быстрике, который все еще бьется, сопротивляясь морозным оковам.
Пришвинская миниатюра может состоять всего из одной строчки: «Удалось услышать, как мышь под снегом грызла орешек». А вот миниатюра из двух предложений: «Думал, случайный ветерок шевельнул старым листом, а это вылетела первая бабочка. Думал, в глазах это порябило, а это показался первый цветок». Одно мгновение тишины и внимания — и услышишь по хрусту корешка, как даже под снегом идет своя жизнь. Или увидишь «явление» первой бабочки, первого цветка. Благодаря таким миниатюркам читатель иными глазами посмотрит на то, мимо чего раньше проходил не замечая, да еще и захочет узнать о природе что-то новое, свое.
Писатель верил в исцеляющую, обогащающую тайную силу природы и стремился приобщить к ней своего маленького читателя. В тех рассказах, где действуют и дети, это стремление выражено более открыто, так как там затрагивается моральная проблематика, поведение детей в мире природы.
|
Крошечный рассказ «Лисичкин хлеб» дал название книге, вышедшей в 1939 году. Героиня рассказа Зиночка вовлечена автором в своеобразную игру: узнав от него о том, чем питаются лесные обитатели, она вдруг заметила в корзинке кусок хлеба и «так и обомлела»:
— Откуда же это в лесу взялся хлеб?
— Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста...
— Заячья...
— А хлеб Лисичкин. Отведай. Осторожно попробовала и начала есть.
— Хороший Лисичкин хлеб.
Даже самый маленький читатель может самостоятельно извлечь из такого рассказа заложенный в него смысл. Зиночка, вероятнее всего, не стала бы есть «просто хлеб» да еще похваливать, не будь он «лисичкин». Автор позволяет себе лишь тень иронии, к своим маленьким героям он относится бережно и нежно.
Подлинной человечностью проникнут рассказ о выращенном человеком журавле («Журка»), о спасенном лягушонке-путешественнике («Лягушонок»), о хромой утке («Хромка»), о прирученном еже и тетереве («Еж», «Терентий»).
Звери и птицы у Пришвина «кукуют», «гудят», «свистят», «шипят», «орут», «пищат»; каждый из них по-своему движется. Даже деревья и растения в пришвинских описаниях становятся живыми: одуванчики, как дети, засыпают по вечерам и просыпаются по утрам («Золотой луг»); точно богатырь, выбивается из-под листов гриб («Силач»); шепчет лес («Шепот в лесу»).
Говоря о животном мире, писатель особо выделяет материнство. Не раз расскажет Пришвин, как рискует собой мать, защищая детенышей от собаки («Ярик»), от орла («Орлиное гнездо») и от других неприятелей («Ребята и утята», «Пиковая дама»). С улыбкой поведает художник о том, как звери-родители заботятся о своем потомстве, учат его («Курица на столбах», «Борец и Плакса», «Первая стойка»). Художника радуют в животных такие прекрасные качества, как ум, сообразительность («Синий лапоть», «Нерль», «Изобретатель»).
Восхищением перед красотой природы и человека, ее друга и хозяина, проникнуты все произведения писателя. Обращаясь к юному читателю, художник утверждает, что мир полон чудес и «это… чудеса не как в сказке о живой воде и мертвой, а настоящие… они совершаются везде и всюду и во всякую минуту нашей жизни, но только часто мы, имея глаза, их не видим, имея уши — не слышим». Пришвин видит и слышит эти чудеса и раскрывает их перед ребенком. Для него нет растений вообще, а есть белые грибы, кровавая ягодка костяника, голубая черника, красная брусника, кукушкины слезки, валерьянка, петров крест, заячья капуста. Для него нет животных и птиц вообще, а есть скопа, трясогузка, журавль, ворона, цапля, овсянка, землеройка, гусь, пчела, шмель, лисица, гадюка. И это только в двух рассказах — «Лисичкин хлеб» и «Гости».
Если же взять и другие, то, пожалуй, не найдется ни одного зверя или растения средней полосы России, которые бы не были упомянуты Пришвиным. Автор не ограничивается одним упоминанием, а наделяет своих «героев» голосами и привычками, которые надолго ложатся в память: «Скопа прилетела, рыбный хищник,— нос крючком, глаза зоркие, светло-желтые,— высматривала себе добычу сверху, останавливалась в воздухе для этого и пряла крыльями».
Пришвин считал, что величайшее достижение человеческих усилий — ребенок, воспитанный в сознании взаимосвязи с великим целым — природой, в убеждении, что он всегда должен быть на ее стороне, защищать и оберегать ее
10.2. Житков Б. C . Две жизни Житкова. Значение его произведений. Опыт создания энциклопедия для детей "Что я видел". Рассказы о детях "Пудя", "Как я ловил человечков". Рассказы о героизме, о труде "Обвал", "Красный командир", "На льдине" и др. из сборника "Помощь идёт".
Б.С.Житков (1882—1938) опубликовал свои первые рассказы для детей в 1924 году. К этому времени у него за плечами был большой жизненный путь, полный упорного и увлекательного труда по освоению многих наук и профессий. Он то преподавал детям химию и математику, то, изучив летное дело, принимал в Англии авиамоторы для русских самолетов, то строил корабли, а затем плавал на них штурманом. Этот богатый жизненный опыт и дал Житкову материал для творчества.
После публикации первых своих рассказов он полностью погружается в литературную деятельность — становится автором и редактором детских книг, сотрудником журналов «Воробей», «Чиж» и «Пионер», драматургом Театра юного зрителя. Более ста произведений для детей создал Житков за 15 лет.
|
Передавая маленьким читателям поистине энциклопедические знания и делясь жизненным опытом, писатель наполнял свои произведения высоким нравственным содержанием. Его рассказы посвящены человеческой храбрости, мужеству, доброте, передают романтическую увлеченность делом.
Много внимания уделял Житков научно-познавательной литературе для детей. Он написал немало книг и очерков по истории науки и техники. В журнале «Воробей» писатель вел отделы «Как люди работают», «Бродячий фотограф», «Мастеровой». Эти публикации вошли в состав первых его познавательных книг: «Сквозь дым и пламя» (1926), «Кино в коробке» (1927), «Телеграмма» (1927). Из них дети узнали о том, как трудятся люди разных профессий, как самому смастерить ту или иную вещь. Житков рассказывал, что такое телеграф, радио, электричество...
Большинство своих познавательных книг писатель создавал для детей младшего возраста. Его все больше захватывала идея написать произведение энциклопедического характера для совсем маленьких читателей — от трех до шести лет. В результате в 1939 году, посмертно, появилась знаменитая книга «Что я видел? Рассказы о вещах» («Почемучка»), на которой выросло не одно поколение детей. Тонкий знаток детской психологии, Житков решил, что для усвоения и запоминания различных сведений лучше всего вести рассказ от лица сверстника читателя. Четырехлетний Алеша, названный «Почемучкой», не просто повествует о чем-то, а еще и сообщает свои впечатления о вещах и событиях. Благодаря этому огромный познавательный материал не подавляет малыша, а возбуждает его любопытство: ведь рассказывает сверстник. «Его чувства, причины, их породившие, ближе всего, понятнее будут маленькому читателю», — был уверен автор.
Чтобы рассказать о вещах незнакомых, Алеше приходится объяснять увиденное при помощи уже освоенных им понятий. Так в «Почемучке» осуществляется известный дидактический принцип «от простого к сложному». «Лошадки везли печку на колесах. У ней труба тоненькая. И дядя военный сказал, что это кухня едет»; «Якорь очень большой и железный. И он сделан из больших крючков» — так даются первые «научные» сведения. И не только знания о вещах получает малыш из этой книги, но и уроки общения с людьми. Кроме Алеши здесь действуют такие персонажи, как дядя военный, мама, бабушка, друзья. Каждый из них индивидуален, у каждого свои действия, и главный герой постепенно начинает понимать, что именно ему нужно воспитывать в себе.
Житков создал для детей младшего возраста еще несколько десятков новелл, собранных в книги «Что бывало» (1939) и «Рассказы о животных» (1935). В первом из этих сборников писатель преследует ту же цель, что и в произведениях о морских приключениях: он испытывает нравственность и мужество своих героев перед лицом опасности. Сюжеты тут разворачиваются более лаконично: в них одно событие, одна жизненная ситуация. Внимание маленького читателя удерживается внезапным, неожиданным поворотом сюжета.
Вот, к примеру, рассказ «Метель»: «Мы с отцом на полу сидели. Отец чинил кадушку, а я держал. Клепки рассыпались, отец ругал меня, чертыхался: досадно ему, а у меня рук не хватает. Вдруг входит учительница Марья Петровна — свезти ее в Ульяновку: пять верст, дорога хорошая, катаная, — дело на Святки было». Далее мальчик, герой произведения, везет учительницу и ее сынишку, и лишь благодаря смекалке и самообладанию героя все они не погибли в снежной круговерти. Напряжение создается описаниями борьбы со стихией, причем передано это через рассказ мальчика, через его впечатления и переживания.
Житков вообще часто поручал в своих произведениях повествование детям. Этот прием помогает писателю показать, как воображение ребенка начинает работать, разбуженное эстетическим переживанием. Мальчик Боря восхищен пароходиком, стоящим на полке: «Я такого никогда не видел. Он был совсем настоящий, только маленький... И блестел перед рулем винт, как медная розочка. На носу два якоря. Ах, какие замечательные! Если бы хоть один у меня такой был!». Мечтательный герой населяет суденышко крохотными человечками и в страстном желании их увидеть, в конце концов, ломает игрушку. Он горько плачет, потому что у него доброе сердце, и он не хотел огорчать бабушку, для которой пароходик дорог как память («Как я ловил человечков»).
Вопрос о мужестве, о самой его природе особенно занимал Житкова. В 1937-м он пишет статью под названием «Храбрость». В ней писатель опирается на примеры из собственной жизни, и достоверность рассказанного придает особую убедительность выводу: именно трусость — источник всяческой подлости. А храбрый человек — не тот, кто совершает смелый поступок из тщеславия или боясь прослыть трусом, а тот, кто знает, ради чего он идет на подвиг, преодолевая естественный страх.
|
Уже в первом своем рассказе «Шквал» (1924, другое название — «На воде») писатель рисует мужественного человека, спасшего экипаж парусника. Матросу Ковалеву с трудом удается выбраться из-под перевернувшегося судна на поверхность и наконец вздохнуть полной грудью. Однако он совершает обратный мучительный путь, чтобы спасти оставшихся. Недаром девочке Насте он кажется «самым главным» на борту: со свойственной детям проницательностью она отмечает незаурядного по нравственным достоинствам человека. Рассказ этот открывает книгу Житкова «Морские истории» (1925). В каждом его произведении — пример человеческой смелости, преодоления страха, бескорыстной помощи, благородного поступка.
Храбрость — пробный камень для героев Житкова. Экстремальные обстоятельства проявляют в человеке скрытые качества его натуры. Так, неудачливый тореро, когда-то испугавшийся быка и теперь работающий угольщиком на корабле, беспаспортный бродяга, достойно ведет себя во время крушения и готов вздуть капитана, виновника этой беды. Он решил для себя: «Я теперь всю жизнь ничего не смею пугаться» («Погибель»).
В каждом создаваемом им персонаже Житков неизменно подчеркивает наличие или отсутствие доброты. Для него это качество не менее важно, чем храбрость. Даже при изображении животного писатель находит в его поведении черты, свидетельствующие о проявлениях доброты, мужества, самопожертвования в человеческом понимании. Помогает ему в этом доскональное знание жизни и повадок животных. «Братья наши меньшие» за заботу о них платят человеку преданностью, привязанностью («Про волка», «Про слона», «Беспризорная кошка»). Иногда самопожертвование животного кажется даже осознанным, например, в рассказе «Как слон спас хозяина от тигра».
Исследователи творчества Житкова отмечают близость его рассказов о животных к произведениям о них Льва Толстого: здесь то же уважение к живому существу, реализм и доброта.
10.3. Бианки В.В. Многообразие жанров в его творчестве. Традиции устного народного творчества и классической русской литературы в произведениях писателя "Кто чем поёт?", "Теремок", "Лесные домишки", "Чей нос лучше", "Сова", "Хвосты". Своеобразие писательской манеры в рассказах "Первая охота", "Приключения муравьишки". Воспитание наблюдательности и бережного отношения к природе.
В 2004 году исполнилось 110 лет со дня рождения замечательного детского писателя Виталия Валентиновича Бианки. В. В. Бианки (1894—1959), войдя в детскую литературу в 1924 году как автор журнала «Воробей», создал для маленьких читателей множество произведений о природе. Их герои — животные, птицы, растения. Он автор более трехсот произведений о жизни мира животных.
Его добрые гуманные рассказы и сказки воспитывали миллионы детей. Не одно поколение ребят они научили доброте и любви к братьям нашим меньшим, научили заботе и милосердию к тем из них, кто попал в беду.
Он был лучшим русским писателем анималистом советского периода. "Переводчики с бессловесного" - так называл он себя и своих соратников, писателей о жизни животных. Переводить на язык человеческий и птичий щебет, и всякую другую звериную многоголосицу он научился с детства, когда совершенно естественно, как только ребенок может, окунулся в необъятный мир природы и никогда уже не нашел выхода из этого удивительно заповедного мира животных.
Став детским писателем, он каждое свое произведение стремился сделать толчком к постижению таинственного и манящего мира природы. Пробудить любознательность ребенка и доставить ему эстетическую радость — такие задачи он ставил перед собой.
Первая сказка В. Бианки — «Путешествие красноголового воробья» (1923). Затем последовали «Лесные домишки». «Чьи это ноги?», «Кто чем поет?», «Чей нос лучше?», «Первая охота» и множество других произведений (более трехсот). Сам он называл те из них, что относились к художественно-познавательному жанру, — «сказки-несказки».
Бианки высоко ценил народные сказки за сжатость и простоту. Их стиль он и взял как модель для своих произведений, намереваясь дать детям знания о мире. На страницах его сказок оживают увиденные натуралистом лесные обитатели во всей неповторимости их облика и повадок.
Первый опубликованный детский рассказ Бианки – Чей нос лучше? (1923).Герои рассказа птицы Тонконос, Крестонос, Дубонос и др. напоминали сказочных героев, повествовательная манера Бианки была полна точных наблюдений и юмора. В рассказе «Чей клюв лучше» разные птицы убеждали друг друга в преимуществах своего клюва, пока неожиданно появившийся ястреб не прервал этот спор весьма прозаическим образом, скушав несчастного мухолова — зачинателя спора. Этот рассказ помогает детям понять какие клювы бывают у тех или иных птиц и для чего они предназначены.
|
Драматично разворачиваются события в сказке «Как Муравьишка домой спешил» (1936). Произошла весьма неприятная история: любопытный Муравьишка забрался на высокое дерево, а сухой листок обломился, и ветер отнес Муравьишку далеко от родного дома; между тем скоро «сядет солнце, муравьи все ходы и выходы закроют — и спать. А кто опоздал, тот хоть на улице ночуй». Бедный Муравьишка к тому же при падении ноги себе зашиб, так что сам до дому не добежит. Вот и приходится ему обращаться за помощью к Пауку, Жужелице, Землемеру, Кузнечику, Водомеру. И маленькие читатели узнают, как передвигаются эти насекомые по земле и по воде. Это не только урок занимательной энтомологии, но и урок доброты: ведь Муравьишке никто из маленьких обитателей леса не отказывает в помощи.
В сказке Бианки В.В. «Мышонок Пик» маленького, беспомощного мышонка, попавшего в кораблекрушение, всюду подстерегают опасности: то налетит разбойница-сова, то козы съедят запасы, заготовленные на зиму. Но он не унывает, а как настоящий Робинзон смело осваивает остров.
Рассказ «Плавунчик» об удивительной птичке — плавунчике. Птички эти из куликов и живут больше по болотам, по берегам рек и озер. Но они не плавают, не ныряют, а только бегают у воды по берегу и кланяются клювом до земли: так они достают себе еду в тине, в иле, под камешками или в траве.
В рассказе «Синичкин календарь» молоденькая синичка Зинька наблюдает за природой, заводит дружбу со многими зверями, освобождает в марте куропаток из снежной тюрьмы, пытается в июле кормить чужих птенчиков, спасти девочку от медведя, беспокоится в холодном ноябре о друге Зензивере. Перед маленьким читателем откроются повадки животных и птиц в разное время года.
В основе всех лесных сказок, рассказов и повестей Бианки лежат его собственные научные наблюдения над жизнью леса и его обитателей. Создавая их, он стремился и ребят приучить к самостоятельным наблюдениям над родной природой. Нельзя не полюбить милых мохнатых и пернатых героев Бианки, когда он рассказывает об их повадках, о ловкости, хитрости, умении спасаться и прятаться.
Герои Бианки — это не только животные, птицы и насекомые, но и их друзья — ребята. В сказках и рассказах Бианки часто появляются дети, приручающие животных, например, Сергейка из рассказа «Кузя двухвостый», которому «очень хотелось поймать какую‑нибудь птичку, особенно кузю – большую белощёкую синицу. Уж очень они – кузи – весёлые, бойкие, смелые». Писатель много усилий тратил на то, чтобы пробудить в маленьких читателях чувство сопричастности к миру природы, к миру животных. Как и у Пришвина и Житкова, человек у него не покоритель природы, а ее неотъемлемая часть. Вред, причиняемый природе, неизбежно скажется на существовании всего живого на Земле, не уставал напоминать писатель.
Тридцать пять лет Бианки писал о лесе. Это слово часто звучало в названиях его книг: «Лесные домишки», «Лесные разведчики». А самой знаменитой книгой стала «Лесная газета». Другой подобной просто не было.
В «Лесных домишках» (1923) рассказано о жилье разных птиц. Главный персонаж — юная ласточка Береговушка. Заблудившись в незнакомом лесу, она ищет пристанище на ночь — в жилище Зуйка, Витютня, Иволги — и чуть не попадает в зубы белки. Береговушка находит свой дом, а дети в конце рассказа узнают, как устроено ласточкино гнездо на речном обрыве: «В обрыве — дырки, дырки, дырки. Это всё ласточкины норки. В одну из них юркнула Береговушка. Юркнула и побежала по длинному-длинному, узкому-узкому коридору. Добежала до его конца и впорхнула в просторную круглую комнату. Тут уже давно ждала ее мама. Сладко спалось в ту ночь усталой маленькой Береговушке на мягкой теплой постельке из травинок, конского волоса и перьев...». Сюжет в сказке о Береговушке разворачивается стремительно, события драматичны, приключения увлекательны, а в результате ребенок усваивает новые сведения о природе, испытывая к тому же целую гамму чувств: удивление перед многообразием природы, жалость к заблудившейся птичке, страх за ее жизнь.
В жизни животных и растений событий не меньше, чем у нас — людей. Каждый день в лесу масса происшествий. Кто-то строит дом, у кого-то свадьба. Обо всех этих новостях рассказывает «Лесная газета», из которой можно узнать:
— Что делали рыбы зимой?
|
— Какая птица кричит как кошка?
— Дышит ли цыпленок в яйце?
Переведенная на многие языки, «Лесная газета» входит в мировой фонд детской литературы. По существу, входит в него и все творчество Виталия Бианки.
Знакомство читателя с основными биологическими закономерностями и взаимосвязями происходит в «Лесной газете» в форме увлекательной игры. Обыгрывается форма газеты — периодичность выпуска ее номеров: первый номер — «Месяц пробуждений», четвертый — «Месяц гнезд», восьмой — «Месяц полных кладовых» и т. п. В расположении материала имитируются газетные отделы: статьи — корреспонденции — письма читателей. Броские заголовки, веселые объявления, стихи и шутки задают тон всей «Лесной газете», отнюдь не умаляя главного ее направления — «быть самоучителем любви к родной природе».
Переведенная на многие языки, «Лесная газета» входит в золотой фонд мировой детской литературы. По существу, входит в него и все творчество Виталия Бианки.
10.4. Чарушин Е.И. Е.И.Чарушин - писатель и художник. Анализ рассказов о животных "Волчишко", "Медвежата", Что за зверь". Сборник рассказов "Большие и маленькие". Сказочные мотивы в творчестве Чарушина: "Теремок", "Про сороку". Рассказы в центре которых находится ребёнок дошкольного возраста /сборник "Никита и его друзья"/. Автобиографические рассказы "Как Женя научился говорить букву "р"", "Хитрая мама".
Е.И.Чарушин (1901 —1965) писатель и художник. Детство его прошло в обстановке, благоприятной для развития творческих наклонностей. Отец, главный архитектор Вятской губернии, передал сыну свою любовь к изобразительному искусству и незаурядную трудоспособность. Отец много разъезжал, нередко брал с собой сынишку, и первые уроки наблюдательности были получены Чарушиным в этих путешествиях по лесному краю. «И восход солнца, и туманы утренние, и как лес просыпается, как птицы запевают, как колеса хрустят по белому мху, как полозья свистят на морозе — все это я с детства полюбил и пережил», — вспоминал много позднее Е.И.Чарушин.
После окончания ленинградской Академии художеств (бывшей Императорской) Чарушин сблизился с кружком писателей при Библиотеке детской литературы, и ему предложили иллюстрировать повесть В. Бианки «Мурзук». А в 1930 году вышел небольшой рассказ «Шур», написанный уже самим Чарушиным. Затем стали одна за одной выходить его книжки, которые он сам и иллюстрировал: «Волчишко и другие», «Облава», «Джунгли — птичий рай», «Мохнатые ребята»...
Уже первые произведения определили место Е. Чарушина в детской литературе: блестящий рассказчик-анималист с острым зрением художника, умеющий передать словом и рисунком повадки животных, которых он любит и необыкновенно тонко понимает, чувствует. «Мне... даже как-то странно видеть, что некоторые люди вовсе не понимают животное», — писал он.
У Чарушина звери не говорят, но он умеет показать их настроение. Внутреннее их состояние передается через поведение, причем поведение естественное, свойственное этому зверю. Искусство словесной живописи подчинено у Чарушина восприятию малыша. Дети младшего возраста лучше всего воспринимают простую по конструкции фразу, главная роль в которой отведена глаголу. Вот такими фразами создана, например, динамичная картина игры лисят в рассказе «Путешественники»: «Лисята постукивают по краю лапами, блюдце гремит, звенит, подпрыгивает. А лисята знай гонят его по всему полу — туда-сюда, взад-вперед. Звон стоит, как в посудной лавке».
С течением времени Чарушин стал усложнять фразу, отказываясь от такого скопления глаголов. «И тут совсем как в сказке получилось: появился, прямо встал передо мной, вот тут рядом, у моей ноги, лесной петушок. Осанка горделивая, сам в валенках: у него мохнатые ноги; вместо гребня — черный хохолок. Хвост свой развел веером, и каждое перышко у него расписное, в пятнышках, в полосках». У такого описания уже другая цель: не столько увлечь читателя действием, сколько приучить к наблюдательности, к детальному восприятию. В данном случае он описывает лесного рябчика.
В произведениях Чарушина, особенно для самых маленьких, много звукоподражаний. Сверчок, как настает ночь, начинает «тир-ликать»: «Тирли. Тирли. Тирли, тюрли. Лири, лири, тирлити». Ворона каркает: «Кар-р-р! Кар-р-р! Кар-р-р!» Маленький воробушек прыгает по дороге: «Чилик-чилик! Чилик-чилик! Чилик-чи-лик!» Котенка прозвали Тюпой, потому что он, «когда очень удивится или увидит непонятное... двигает губами и "тюпает": тюп-тюп-тюп-тюп...».
|
Евгений Чарушин чаше всего изображает детенышей животных, видимо, полагая, что такие герои наиболее близки душе малыша. Он и сам любил маленьких зверят, «трогательных в своей беспомощности и интересных потому, что в них угадывается уже взрослый зверь». Подчеркивая детскость их поведения, писатель закрепляет в сознании своего читателя бережное, покровительственное отношение к «братьям нашим меньшим».
Животные и птицы, живущие в зоопарке, — это для Чарушина отдельная и важная тема. Да и где еще может ребенок столь подробно рассмотреть дикое животное, как не в зоопарке? Резвятся в одной клетке медвежата из разных выводков — перепачкались в молочной каше так, что и масти их не различишь. Трогательны оленята, одетые в желтые шкурки с белыми пятнышками. Описание жизни зверей часто бывает окрашено мягким юмором. «Утром все звери играют. Ягуар шар деревянный катает в клетке. Гималайский медведь-губач стоит на голове. Днем, при народе, он за конфетку стоит, а сейчас сам забавляется. Слон боком сторожа к стене придавил, метлу отнял и съел... Танцуют журавли-красавки».
Животные на воле, в естественной среде обитания, изображены Чарушиным как в рассказах, так и на иллюстрациях. В 1930 году вышла его книжка-картинка «Птенцы»; затем в 1935 и 1938 годах появились книжечки «Животные жарких стран», «Удивительные звери», «Звери жарких и холодных стран». В этих книжках еще не было рассказов: под изображениями животных просто помешались объяснительные подписи. В изданной в 1942— 1944 годах энциклопедии в трех частях «Моя первая зоология» подписи были уже расширены до коротких рассказов, хотя в большинстве своем бессюжетных; главным здесь для Чарушина было представить неведомое ребенку животное во всей полноте его признаков. Органичностью текстов и рисунков отличается его удивительная по лаконизму, содержательности и простоте книжка-картинка «Кто как живет?» (1959).
Рассказы Чарушина о диких животных, увиденных глазами то охотника, то ученого-натуралиста, но неизменно талантливого писателя и доброго человека, передают детям любовь и восхищение, какими полон он сам — наблюдатель живой, бесконечно разнообразной природы.
В рассказе «Медведь-рыбак» он пишет о разных способах добывания рыбы птицами, лисой, медведем. Все это — на фоне рыбного изобилия Камчатского края. Полна юмора сцена охоты за рыбой медведя. Вот он сидит по горло в воде, лапами рыбу подцепляет и кладет под себя, а она, пока он следующую ловит, из-под него уплывает: «Тут медведь так обиделся... заревел во всю мочь, прямо как паровоз. Поднялся на дыбы, лапами бьет по воде, воду сбивает в пену...»
Юмор, доброта, даже нежность всегда присутствуют в чарушинских изображениях зверей. Вот зайчиха учит зайчонка замирать, становиться незаметным. Вот бельчиха обучает бельчонка прыгать с ветки на ветку... Ребенок из таких рассказов и иллюстраций не только узнает о повадках животных — в его душе рождается отзвук, появляется ощущение родственности человека с миром природы: ведь и человеческое дитя так же наставляет его мать.
Дети в рассказах Чарушина — тоже исследователи природы, а часто и ее ученики. Пытливая Катя хочет понять, что за зверь такой приходит к ней на крыльцо: и от котлетки, и от косточки отказывается («Что за зверь?»). В рассказе «Хитрая мама» мальчик подкладывает в воронье гнездо куриные яйца и высчитывает по дням, когда из них вылупятся цыплятки.
А Женю, не умевшего говорить «р», научила этому ворона, когда он стал подражать ее карканью"Как Женя научился говорить букву "р".
Герой рассказа «Джунгли — птичий рай» соорудил в старой теплице обиталище для своих многочисленных питомцев. Сюжетной завязкой здесь служит подарок, полученный мальчиком в день рождения, — пара попугайчиков. Между этим событием и финальным драматическим эпизодом (отложенные попугаихой яйца разбились о переносицу слишком любопытного друга) читатель узнает о многом: и что едят птицы той или иной породы, и на чем они предпочитают сидеть, и как устраивают гнездо в неволе. В этом рассказе есть отзвуки воспоминаний писателя о своем детстве, поэтому быт и интересы героев типичны для той среды, в которой вырос сам Чарушин.
С детства природа обогащала Е.И.Чарушина впечатлениями, которые он, став художником-писателем, облекал в точные и яркие образы. С равным искусством владел он словом, карандашом и кистью.
Последней книгой Чарушина стали «Детки в клетке» С.Я.Маршака. А в 1965 году ему посмертно была присуждена золотая медаль на международной выставке детской книги в Лейпциге.
|
11. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 40-50 ГГ.
11.1. Развитие темы детства в детской литературе 40-50-х /В.А.Осеева "Синие листья"/.
События Великой Отечественной войны и послевоенное восстановление страны определили весь строй жизни и всю культуру этого времени. Еще перед войной, в начале 1941 года, в стране проходили дискуссии о «военном и трудовом воспитании детей». Больше всего упреков услышали писатели, склонные к «романтике», т.е. к темам любви, дружбы, к «абстрактному» чувству прекрасного. Но между тем самыми важными объявлялись темы, связанные с романтикой идейной — военными подвигами, самозабвенным трудом, жертвой во имя коллектива. Трудовое воспитание окончательно было признано наиглавнейшим средством нравственного формирования человека.
Когда грянула война, детская литература использовала весь свой творческий и педагогический потенциал на то, чтобы рассказывать о самоотверженности защитников Отечества и работе в тылу детей, заменявших ушедших на фронт взрослых. Позже появились и произведения о непосредственном участии детей в войне.
Несмотря на тяжелейшее положение в стране, детские книги и периодические издания продолжали выходить. Особенно активно развивалась публицистика (очерки, фельетоны, агитационные стихи).
В начале войны С.Михалков написал стихотворную книжку «Быль для детей», в которой, объясняя малышам смысл и цели войны, создал величественный образ воюющего за правое дело народа. Позже, в 1942 году, появились стихи Михалкова о «Десятилетнем человеке», где осиротевший мальчик, преодолевая жестокие лишения, пробирается к своим — «по Солнцу прямо на восток». С. Маршак вернулся к своему старому герою — почтальону: на войне действуют тысячи почтальонов, «полковых и батальонных» («Почта военная»).
Многие поэты создавали в своих стихах образы детей, лишенных войной детства, страдающих, погибающих от голода и обстрелов. Эти детские образы становились символами самой жизни, уничтожаемой войной. Анна Ахматова в стихах 1942 года «Памяти Вали» обращается к детям блокадного Ленинграда:
Щели в саду вырыты.
Не горят огни.
Питерские сироты,
Детоньки мои!
Под землёй не дышится,
Боль сверлит висок.
Сквозь бомбёжку слышится
Детский голосок.
Образ ребенка-мстителя часто появляется в стихах и прозе поздних военных лет. В стихотворении З.Александровой «Партизан» (1944) мальчик, подобранный партизанами, остается в их отряде, чтобы отомстить за мать.
В 1944 году выходит повесть В. Катаева «Сын полка». Писатель показывал, что дети не беспомощны на войне, что подросток способен не только выстоять в страшных, нечеловеческих условиях, но и оказаться помощником взрослых. Катаев подчеркивает решающую роль в детской судьбе добрых и разумных людей.
Подросток — труженик тыла появился в годы войны прежде всего в поэзии. Это «мужичок с ноготок» Данила Кузьмич у С. Михалкова, это ученики ремесленных училищ на уральских оборонных заводах в цикле стихов А. Барто. В прозе такой образ впервые был создан Л.Пантелеевым.
В 1944 году вышла повесть Л.Кассиля «Дорогие мои мальчишки». Писатель подчеркивал контраст между физической «невеликостью» своего героя Капки Бутырёва и его душевными качествами.
Участие детей в восстановлении хозяйства, разрушенного войной, находит отражение в творчестве многих детских писателей. Труд, семья и школа становятся в послевоенный период ведущими темами.
Создаются художественные произведения о реальных юных участниках войны — о молодогвардейцах Краснодона («Молодая гвардия» А.Фадеева, 1947), о Володе Дубинине («Улица младшего сына» Л.Кассиля и М.Поляновского, 1949), о Гуле Королевой («Четвертая высота» Е.Ильиной, 1946), об Александре Матросове («Александр Матросов» П.Журбы, 1950) и др.
|
В детскую литературу в 40—50-е годы вошли с первыми своими произведениями М. Прилежаева, Ф. Вигдорова, Н. Носов, писавшие о школе; И.Ликстанов, сосредоточивший внимание на теме труда; Ю. Сотник с превосходными, полными юмора рассказами; Н. Дубов и А. Алексин с их стремлением к психологической достоверности и проникновению в глубины взаимоотношений детей и взрослых.
Писатели, чьи имена уже были широко известны, представили на суд юного читателя новые произведения: В.Осеева — «Васёк Трубачёв и его товарищи», А. Мусатов — «Стожары», Н. Кальма — «Дети горчичного рая», И.Карнаухова — «Повесть о дружных», В.Каверин — последнюю часть романа «Два капитана», Р.Фраерман — «Дальнее плавание», Е. Шварц — пьесу-сказку «Два клёна».
Для дошкольников в послевоенные годы были написаны рассказы В. Осеевой «Волшебное слово» и Н. Носова «Огурцы»; издано несколько книг писателя-натуралиста Н. Сладкова: «Десять стреляных гильз», «Серебряный хвост», «Джейранчик». В это же время в поэзии для детей зазвучали имена Я. Акима, В. Берестова, Е. Благининой, Б.Заходера, Н. Кончаловской.
Итак, в 40-е годы и в первое послевоенное десятилетие появилось немало значительных произведений детской литературы. Наметилось новое решение традиционных тем, возникли новые типы литературных героев.
В. А. Осеева (1902—1969) продолжала в своей прозе реалистическое направление, связанное в детской литературе с именами Л.Н.Толстого, К.Д.Ушинского. Художественное произведение было для нее прежде всего средством воспитания, и стержнем произведения — важный нравственно-этический вопрос.
В довоенных рассказах — «Бабка», «Рыжий кот», «Выходной день Вольки» — внимание автора сосредоточено на художественном исследовании нравственной нормы и отступлений от нее. Главным героем здесь выступает ребенок, совершивший этическую ошибку. Уроки прозрения даются ценой мучительного переживания, и эта цена одна для детей и взрослых.
Рассказы Валентины Осеевой 40-х годов, адресованные детям дошкольного и младшего школьного возраста, также посвящены теме нравственно-этического становления. Сосредоточившись на психологии, на нравственных коллизиях, писательница избежала необходимости платить дань идеологии. Она освоила трудный жанр — короткий рассказ с прямой воспитательной целью, пригодный для обучения чтению и дающий пищу для детских размышлений: «Волшебное слово», «На катке», «Три товарища», «Печенье», «Синие листья», «Сыновья» и др.
Тщательный отбор речевых средств, оставляющий впечатление живой интонации, умелое построение, точность в выборе конфликта — все это обеспечило рассказам постоянное место в хрестоматиях для дошкольников и младших школьников.
Сюжеты рассказов взяты из повседневной жизни мальчиков и девочек, постоянно осмысляющих нравственную сторону своих и чужих поступков. Герои и читатели учатся понимать законы нормальной жизни среди людей. Так, известный цикл «Волшебное слово» дает свод моральных правил, прямо сформулированных или вытекающих из общего хода повествования. Названия рассказов тоже порой служат ориентирами в представлениях о добре и зле, ставят конкретный этический вопрос: «Хорошее», «Плохо», «Кто хозяин?», «Долг». Достойные качества и недостатки героев — это не условные детские добродетели и грехи (неряшливость, непослушание и т.п.), а вполне серьезные, «взрослые» качества: доброта, честность, чуткость — или эгоизм, подлость, равнодушие, грубость.
Хрестоматийным стал рассказ «Волшебное слово». Чтобы убедить маленького читателя в пользе слова пожалуйста, писательница ввела в рассказ элементы сказки: совет мальчику дает загадочный старичок, немного похожий на волшебника; одно и то же действие повторяется троекратно (сестра, бабушка и старший брат в ответ на «пожалуйста» тотчас откликаются на просьбы мальчика). Рассказ выстроен композиционно так, что маленькому читателю непременно хочется продлить его, самому испытав силу «волшебного слова».
Рассказы В. Осеевой о детях военной поры — «Андрейка», «Отцовская куртка», «Татьяна Петровна», «Кочерыжка» — относятся к числу лучших произведений о войне в детской литературе. Они отличаются реалистическим изображением народных характеров и атмосферы того времени, особой теплотой повествовательного тона. Межличностные коллизии отходят на второй план, на первом же — Великое противостояние, война и мир, война и дети.
Кроме рассказов В.Осеева писала стихи и сказки, адресованные дошкольникам и младшим школьникам, с той же идейно-художественной направленностью. Они напоминают «Аленушкины сказки» Д. Мамина-Сибиряка с их нравоучительными аллегориями.
|
Крупная повествовательная форма не сразу была освоена писательницей. Широкое признание получила трилогия В.Осеевой «Васек Трубачев и его товарищи» (1947, 1951, 1952). До сих пор пользуется популярностью среди девочек среднего школьного возраста и ее автобиографическая дилогия — повести «Динка» (1954— 1956) и «Динка прощается с детством» (1969).
Рассказ "Синие листья" В.А. Осеева Рассказ для детей про дружбу
У Кати было два зелёных карандаша. А у Лены ни одного. Вот и просит Лена Катю:
- Дай мне зелёный карандаш. А Катя и говорит:
- Спрошу у мамы.
Приходят на другой день обе девочки в школу. Спрашивает Лена:
- Позволила мама?
А Катя вздохнула и говорит:
- Мама-то позволила, а брата я не спросила.
- Ну что ж, спроси ещё у брата, - говорит Лена.
Приходит Катя на другой день.
- Ну что, позволил брат? - спрашивает Лена.
- Брат-то позволил, да я боюсь, сломаешь ты карандаш.
- Я осторожненько, - говорит Лена. - Смотри, - говорит Катя, - не чини, не нажимай крепко, в рот не бери. Да не рисуй много.
- Мне, - говорит Лена, - только листочки на деревьях нарисовать надо да травку зелёную.
- Это много, - говорит Катя, а сама брови хмурит. И лицо недовольное сделала.
Посмотрела на неё Лена и отошла. Не взяла карандаш. Удивилась Катя, побежала за ней:
- Ну, что ж ты? Бери!
- Не надо, - отвечает Лена. На уроке учитель спрашивает:
- Отчего у тебя, Леночка, листья на деревьях синие?
- Карандаша зелёного нет.
- А почему же ты у своей подружки не взяла?
Молчит Лена. А Катя покраснела как рак и говорит:
- Я ей давала, а она не берёт.
Посмотрел учитель на обеих:
- Надо так давать, чтобы можно было взять.
11.2. Воронкова Л.Ф. Её книги о детстве: "Солнечный денёк", Снег идёт", "Золотые ключики", "Подружки идут в школу". Картины природы: труда, быта, людей.
Л.Ф. Воронкова (1906—1976). Есть в творчестве Л.Ф. Воронковой одна очень важная черта: в самых обыденных ситуациях передается ощущение полета, устремленность к мечте, поиск чего-то фантастического. Порою это только намечается тончайшими, едва уловимыми штрихами; порою создает ясный, звонкий рефрен: «Гуси-лебеди, бросьте, бросьте мне по перышку». В основе такого эстетического восприятия лежат ранние воспоминания детства, собранные в автобиографической довести «Детство на окраине».
Мотив гусей-лебедей пройдет сквозь все творчество Л.Ф. Воронковой, повторяясь, варьируясь. И любовь к природе, ко всему живому на земле объединит, сроднит такие непохожие книги писательницы, как «Солнечный денек» и «Волшебный берег», «Федя и Данилка» и «Девочка из города».
В 30-е годы появляются такие произведения Л. Воронковой для детей, как «Маша-растеряша» — веселая радиопьеска, высмеивающая лень и несобранность, неряшливость, и «Шурка» — книжка рассказов о жизни деревенских ребят.
Во время Великой Отечественной войны Любовь Федоровна пишет очень много: «Лесная избушка», «Лихие дни», «Девочка из города».
|
Повесть «Девочка из города» по-настоящему зрелое произведение. Писательница нашла в нем верное решение темы детства в трудные годы войны. Девочку Валентинку, отец которой на фронте, а мать и братишка убиты, приютили колхозники села Нечаева. В повести психологически глубоко прослеживается процесс вживания девочки в новую семью. Она перенесла много недетского горя, ей помнится все, что связано с гибелью родных. И в то же время Валентинке так хочется быть участницей беззаботных игр детей новой семьи, что даже румянец проступает на щеках, когда она, видит куклы Таиски. С этими куклами, растрепанными, раздетыми, исцарапанными, она заводит разговор, в котором переплетаются детская вера в «правдошность» игры и незабытые испытания эвакуации:
«— Где вы были?—спросила Валентинка. — Почему вы такие растрепанные? Почему вы голые?
— Это мы от немцев бежали, — отвечали куклы. — Мы все бежали, бежали — по снегу, через лес...».
Воронкова находит убедительные слова, сюжетные детали, ситуации, которые помогают читателю понять, как происходит в душе девочки оттаивание, как трудно ей произнести впервые дорогое слово «мама», обратившись к женщине, которая взяла ее в семью. Горе от потери родной матери еще не выплакано, сердце не сразу отогрелось, и каждый раз, когда нужно обратиться к Дарье, Валентинка никак не называет ее, просто попросит что-нибудь, и все. И в то же время мучается девочка, сознавая, что наносит тяжкую обиду пригревшей ее Дарье, понимая, что эта женщина ее «в дочки взяла» и нужно называть ее мамой. Но долго еще застревает родное слово в горле — только весной по-настоящему отходит сердце девочки. Она принесла Дарье подснежники, «подошла и протянула ей горсточку свежих голубых цветов, еще блестящих, еще пахнущих лесом: «Это я тебе принесла... мама!»
Повесть «Девочка из города» — этапное произведение Воронковой. Написанная в годы Великой Отечественной войны, она оказала влияние на послевоенное творчество писательницы, помогла найти верный путь к читателям младшего школьного возраста.
Вообще для Воронковой характерно обращение к ребятам разного возраста. Она талантливо пишет для дошкольников («Неделька», «Синее облачко»), для средних и старших школьников («Алтайская повесть», «Старшая сестра», «Личное счастье»). Но, пожалуй, самые теплые, задушевные произведения обращены к ребятам младшего школьного возраста, такие, как «Подружки идут в школу», «Командир звездочки», «Гуси-лебеди», «Федя и Данилка», «Волшебный берег».
Еще до войны были задуманы приключения двух девочек-подружек Тани и Аленки. После войны замысел осуществился в большом цикле книг: «Солнечный денек», «Снег идет», «Золотые ключики», «Подружки идут в школу». «Командир звездочки».
В этих книгах отразились основные особенности мастерства Воронковой, характеризующие ее обращение к младшим школьникам: богатство и разнообразие эмоций ребенка передается простыми, обычными, но единственно верными словами; сюжет произведений кажется, на первый взгляд, безыскусственным, но глубоко передает сложную правду жизни.
В стиле писательницы, в выборе эпитетов, сравнений, метафор ощущается тот особый светлый колорит, которым окрашено для нее детство. В описании одного-единственного «солнечного денька» из жизни шестилетней Тани преобладают яркие, светлые, чистые тона. Писательница любовно повторяет и варьирует их: «Таня спала под светлым ситцевым пологом», «Таня посмотрела на синее небо, на зеленые березы», «У Тани теплые светлые завитки на макушке».
Детство предстает перед читателем не омраченным ничем, радостным, словно омытым весенним, добрым дождем. Природа одушевлена, олицетворена; повествование ведется на грани реального восприятия и волшебного оживления всего, что окружает девочку: «Пушистые пахучие цветы кивали Тане из-под кустов. На светлых полянах из травы поглядывали на Таню красные ягоды... Тонкие лиловые колокольчики покачивались перед ней... Малиновая липкая дрема легонько цеплялась за платье».
От повести к повести Л. Воронкова бережно следит за повзрослением Тани и Аленки, участием их в жизни взрослых, но не забывает и тех неповторимых примет детства, которые долго еще будут сопровождать двух подруг. Пять маленьких повестей о Тане и Аленке составляют своеобразный цикл. Но каждая из повестей в отдельности не теряет своей композиционной самобытности, сохраняет художественную целостность, имеет самостоятельные интересные находки в исследовании детской психологии. Так, первая — «Солнечный денек» — вся посвящена описанию одного дня в жизни девочек-дошкольниц. Для них день, наполненный разными событиями, тянется очень долго. И это психологически достоверно, оправдано возрастом детей. А в последней повести — «Командир звездочки» — охвачен почти целый школьный год. Тут и начало учебы, и 7 Ноября, когда подруги становятся октябрятами, и Новый год с шумной елкой, и первые школьные каникулы. И это тоже естественно, ребята-первоклассники во многом иначе воспринимают окружающее, впитывают в себя больше впечатлений и смена их происходит активнее.
|
В произведениях Л.Ф. Воронковой очень часто изображаются примеры дружбы очень непохожих по характерам ребят. В небольшой повести «Федя и Данилка» два мальчика по-разному воспринимают все вокруг. Живут ребята в Крыму, в колхозе, окруженном горами с острыми зубчатыми вершинами. Данилке кажется, что самый высокий и острый зубец похож на человека, который сидит, склонив голову, и о чем-то думает. А Федя говорит, что это просто торчат голые камни. И так во всем. Писательница настойчиво, тщательно подчеркивает несхожесть мальчиков: Данилка любит приносить с гор цветы, а Федя — нет. Зато он любит лошадей, а Данилка боится их.
И даже в отношении к морю, близкому и родному для обоих, проявляется разница в поведении и характерах ребят. Федя заплывает далеко, а Данилка плещется у берега и рассматривает дно, разглядывает, что там растет, кто живет в водорослях.
Казалось бы, ничто не объединяет мечтательного Данилку и здравомыслящего, храброго Федю.
Но Воронкова подмечает зарождение дружбы, находит ее корни, которые кроются в самоотверженности мальчишек, в стремлении к подвигу для людей. Оба они мечтают стать летчиками, лететь на помощь людям, спасать виноградники. Вот она — точка соприкосновения различных характеров, основа первой мальчишеской дружбы.
Писательница показывает жизнь ребят не облегченно: бывают у них ссоры, непонимание друг друга, взаимные обиды. Но все это оказывается неважным, мелким, когда наступает пора расставания, когда Федя переезжает вместе с родителями далеко, в Орел. Приходит к обоим друзьям осознание горечи разлуки, впервые поднимают они нелегкую ношу жизненных потерь.
Особое место среди произведений Л.Ф. Воронковой, адресованных младшим школьникам, занимает повесть «Волшебный берег». В ней дается широкий простор сказочному началу, активно вторгающемуся в реальную жизнь.
Двое ребят, Леня и Алешка, стерегут от выдры утиное стадо, которое взрослые выращивают на озере. Сюжет, казалось бы, совсем прозаичный, но повествование переносится писательницей в условный, фантастический план. Природа сказочно антропомор-физирована. Деревья, кусты, камыш разговаривают с Леней, когда он пробирается к озеру. «Камыши легли на берег, загородили дорогу. Кусты протянули друг к другу ветки, словно за руки взялись.
А деревья раскинули кроны, и стало на острове совсем темно.
— Почему вы не пропускаете меня?— спросил Леня.
— Ты будешь разводить костер, — зашелестели кусты, — ты сделаешь пожар! Мальчишки всегда делают пожары!
— Вовсе нет!—сказал Леня.—У меня даже и спичек-то нету».
Л. Воронкова во многом удачно осваивает в этой повести традиции народной сказки: ею внимательно продуманы рефрены вопросов к Лене, ритмика фраз, особенности метафоризации.
Интересной находкой оказывается образ Пугала, которое мечтает стать деревом и чувствует, как болит, оживая, сердцевина, как соки движутся по коре. Сказочный и реальный планы связаны встречей ребят с Ардывом, в котором они только в конце повести узнают Выдру.
|
12. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 60-80 гг. ПОЭЗИЯ В ДЕТСКОМ ЧТЕНИИ.
Время, наступившее после смерти Сталина (1953), точнее, после XX съезда КПСС (1956), на котором Хрущев развенчал «культ личности», и по начало 60-х годов получило название «оттепели». Первые мотивы оттепели, связанные с ожиданием мирного времени, появились в детских стихах В. М. Инбер, написанных в конце войны; они восходят к тютчевскому мотиву оттепели. За стихотворением Инбер «Оттепель» (1945) последовало стихотворение Заболоцкого с тем же названием, опубликованное во взрослом «толстом» журнале. В 1956г стихотворение «Радость» Чуковского.
За недолгие годы рубежа первых послевоенных десятилетий успело сформироваться поколение людей, мыслящих гораздо более свободно, чем их отцы. Они стали создавать свою культуру, отчасти принятую властями, а отчасти не принятую, неофициальную. В литературе эти два потока — официальный и неофициальный — тесно взаимодействовали, так что в выходивших в свет произведениях вдумчивый читатель улавливал в подтексте то, о чем в неопубликованных, отвергаемых произведениях говорилось впрямую.
Государство, как и прежде, проявляло заинтересованность в детской литературе. Большое внимание уделялось научной работе по изучению социальной и возрастной психологии читателей. Настала пора формирования отдельной отрасли литературоведения — исследования детской литературы.
В печати активно выступали критики с анализом текущего литературного процесса. В педагогической прессе регулярно публиковались статьи о детских писателях. Появлялись новинки детской литературы. Ежегодным праздником стала Неделя детской и юношеской книги. Часто проводились творческие конкурсы среди детских писателей.
Литературный процесс в 60 —80-е годы шел в целом очень активно, сопровождался дискуссиями и творческими поисками.
Ра зумеется, невиданно возросшее количество детских писателей — еще не показатель качества литературы, но пристальное внимание к их работе критиков, педагогов, родителей, а также юных читателей способствовало поддержанию планки качества на должной высоте.
Продолжали работать мастера со сложившимся в 20—30-е годы творческим «я» — С. Михалков, А. Барто, Е. Благинина, В. Катаев, Л.Пантелеев, В.Осеева, Н.Носов и др. Своим творчеством они обеспечивали преемственную связь с традициями реалистической детской литературы.
Возрождению книги для маленьких много способствовал приход в детские издательства бывших фронтовиков — Б.Заходера, Я.Акима, Д.Самойлова, Р. Погодина и др. Это поколение писателей отличалось не только смелым высказыванием правды, но и особенно бережным отношением к детству и к народной культуре; они имели «взгляд на вещи просветленный» (одно из качеств детского писателя, по Белинскому). Их произведения проникнуты верой в жизнь и радостью
В конце 50-х годов заявили о себе писатели, которых относят к поколению «шестидесятников». В области литературы для дошкольников и младших школьников многое сделали такие «шестидесятники», как В.Берестов, И.Токмакова, Р.Сеф, Г.Сапгир, И.Мазнин, Ю. Мориц, Э.Успенский, Ю. Коваль, В. Голявкин, В.Драгунский, Г. Цыферов. Для этого поколения характерны раскованность, граничившая с озорством, любовь к художественной игре (отсюда — обращение к традициям Серебряного века, к русскому авангарду 20 — 30-х годов, к западноевропейскому модернизму).
Человек и история, человек и общество, человек и природа — так можно обозначить три узловые проблемы в литературе 60 — 80-х годов.
60—80-е годы — период противоречий между административно-идеологическим управлением культурой и свободно складывающимся литературным процессом. Подспудное накопление этих противоречий привело к завершению очередной литературной эпохи. Это был период создания целой империи детской книги — исключительного по мощности, многообразию и сложности феномена культуры детства.
12.1. И.П. Токмакова. Творческий путь. Стихи для детей. Сказки-повести.
Ирина Петровна Токмакова (род. в 1929) принадлежит к тому поколению поэтов, которое пришло в детскую литературу в 50-е годы. Она избрала один из труднейших участков — литературу для дошкольников.
Писать она пыталась рано, еще в школьные годы; первые стихи были одобрены поэтом В. Лебедевым-Кумачом. Началом своей творческой биографии поэтесса считает 1958 г., когда в журнале «Мурзилка» был напечатан первый стихотворный перевод шведских народных песенок для детей.
|
Первый отдельный сборник Токмаковой «Водят пчелы хоровод» появился в I960 г. Это был пересказ народных песенок, сделанный весело, с задорными и лукавыми интонациями.
В 1962 г. выходит из печати сборник «Крошка Вилли-Винки» с пересказами народных шотландских песенок, выполненных в лучших традициях поэтических переводов, утвержденных в детской советской литературе еще в 20—30-е годы К. Чуковским и С. Маршаком. Образ гнома Вилли-Винки, сказочного, но шаловливого и веселого, как ребенок, удался поэтессе так, как будто он всецело 5ыл создан ее творческой фантазией.
Тогда же, в 1962 г. был издан первый сборник оригинальных стихотворений И. Токмаковой — «Деревья». В нем — девять стихотворных зарисовок о яблоньке, березе, соснах, елях, пихте, осинке, иве, дубе, рябине. Даются не просто описания деревьев, наиболее распространенных на значительной территории нашей страны. Каждое дерево как бы включено в сферу жизни ребенка. С яблонькой хочется подружиться («Я надела платьице с белою каймой. Маленькая яблонька, подружись со мной»). Осинку нужно согреть («Дайте осинке пальто и ботинки, надо согреться бедной осинке»). У дуба можно поучиться выносливости («Кто сказал, что дубу страшно простудиться? Ведь до поздней осени он стоит зеленый. Значит, дуб выносливый, значит, закаленный»). Метафоры и сравнения просты, непосредственны, лаконичны: ива плачет, как маленькая девочка, которую дернули за косичку; ели-бабушки слушают, молчат, смотрят на «внучат» — маленькие елочки; березa, если бы ей дали расческу, заплетала бы по утрам косичку. Таким образом, метафоры перерастают в олицетворения, близкие и понятные детям.
За книгой «Деревья» последовали сборники «Звенелки», «Где спит рыбка», «Зернышко», «Вечерняя сказка», «Поехали», «Котята», «Кукареку», «Весело и грустно». С. Маршак, оценивая первые творческие шаги поэтессы, отмечал, что в ее стихах есть непосредственное чувство, фантазия и словесная игра; стройность и законченность формы.
В 1967 г. вышел сборник «Карусель», в котором было опубликовано основное из написанного Токмаковой за десять лет. И. Токмакова становится признанным мастером поэзии для дошкольников.
Одним из любимых жанров И. Токмаковой является литературная сказка. «Вечерняя сказка», «Кукареку», «Букваринск», «Котята» стали добрым вкладом поэтессы в воспитание детской души.
«Вечерняя сказка» (1965) вобрала в себя, с одной стороны, традиции литературных сказок, а с другой — фольклорные: в ней угадываются элементы колыбельных песен и волшебных сказок.
Активная роль принадлежит рассказчику. Функцию зачина выполняют строки:
Я целый день бродил в лесу,
Смотрю — уж вечер на носу.
На небе солнца больше нет,
Остался только красный след
Примолкли ели.
Дуб уснул.
Во мгле орешник потонул.
Затихла сонная сосна.
И наступила тишина:
И клест молчит, и дрозд молчит,
И дятел больше не стучит.
Эти строки создают определенное настроение, способствующее восприятию сказочной ситуации. Здесь нет еще открыто выраженных сказочных образов, но все соседствует с ними, все — на границе между метафорой, олицетворением и антропоморфизацией: ели притихли, дуб уснул, сосна сонно притихла. Ребенок как будто переносится в сказочный лес, который должен ожить и заговорить. И он оживает: ухнула и заговорила сова:
— Уху! Уходит время зря,
Потухла на небе заря.
Давай утащим крикуна,
Пока не вылезла луна.
Ей ответила вторая. Разговор сов служит завязкой сказочной ситуации. Рассказчик узнает, что совы собираются украсть и превратить в совенка мальчика Женю, который не спит по ночам и, капризничая, кричит:
|
— Не гасите огня,
Не просите меня,
Все равно
Не усну,
Всю постель
Переверну,
Не желаю,
Не могу,
Лучше к совам
Убегу...
Мальчик этот — сосед рассказчика. Ему пять с половиной лет, он сам умеет есть кашу, рисовать линкор, дрессировать злых собак. Единственный недостаток этого «странного мальчика» — тот, что он «все ночи напролет кричит, буянит и ревет».
Рассказчик, являющийся и героем сказки, хочет спасти Женю — опередить сов. Совы — антагонисты героя в сказке. Но есть и друзья, волшебные помощники. Это дятел, мышь, крот, светлячки, которые все вместе помогают рассказчику найти дорогу в темном лесу и прибежать домой раньше сов. Сказочное испытание завершается благополучно, развязка проста: как только Женя узнал, что совы хотят его заколдовать, он сразу замолчал и с тех пор «как только скажут: «Спать пора», он засыпает до утра». Концовка: «А совы по ночам не спят, капризных стерегут ребят» — не выводит из сказочной ситуации, сохраняя ее как назидание капризным детям, аналогичное тому, что встречается в колыбельных песнях, наподобие «придет серенький волчок, он ухватит за бочок и утащит во лесок».
Итак, в «Вечерней сказке» есть эволюция сказочного фольклора и развитие традиций литературной, авторской сказки. pa ее, как можно убедиться, восходит к композиции народных сказок (зачин, мотив путешествия героя, свой и чужой, антагонистический мир, сказочное испытание, концовка). В то же время в сказке четко проявляется авторская индивидуальность. Прежде всего она выражается в ритме стиха, в его подвижности, изменчивости в зависимости от ситуационных поворотов и характеристики персонажей. То это ритм колыбельной песни (в зачине, например), то наполненный аллитерациями прерывистый ритм (в диалоге сов), то протяжный ритм плача (трижды повторенный монолог мальчика). Необычно дан и образ героя. Это одновременно и герой, и рассказчик, поэтому нет его характеристики со стороны, чужими глазами. Ребенок сам приходит к выводу о том, что это добрый, отзывчивый человек. Трансформирован и мотив путешествия: герой бродит по лесу, не имея определенной цели,— она появляется позже, когда совы раскрывают ему свой замысел.
В 1980 г. был опубликован сборник «Летний ливень», в который вошли лучшие произведения Токмаковой, созданные за двадцать лет работы. Книга состоит из нескольких разделов. В одном — стихотворения из сборников «Деревья», «Зернышко», «Где спит рыбка», «Весело и грустно», «Разговоры»; в другом — стихотворные сказки («Вечерняя сказка», «Кукареку», «Сказка о Сазанчике», «Котята»); в третьем — прозаические повести «Ростик и Кеша», «Аля, Кляксич и буква «А».
Несправедливость взрослых по отношению к ребенку — очень серьезный конфликт, который разрабатывается поэтессой в таких стихотворениях, как «Это ничья кошка», «Я ненавижу Тарасова», «Как пятница долго тянется», «Я могу и в углу постоять». Но и здесь поэзия Токмаковой не утрачивает присущей ей мажорности. Только характер мажорности меняется.
Раньше она была наивным приятием всех новых впечатлений: «Маленькая яблонька, подружись со мной!»; «Рыбка, рыбка, где ты спишь?»; «По мосточку пойдем, в гости к солнышку придем». Теперь это активное проявление маленьким человеком своей позиции: «Но он же совсем взрослый — не мог он неправду сказать!»; Я ненавижу Тарасова. Пусть он домой уходит!»; «Я не брал эту запонку красную, ну зачем говорите напрасно вы!». Стихи Токмаковой полны внутреннего движения, даже когда они, как в приведенных примерах, представляют собой монологи лирического героя.
Поэзия Токмаковой была диалогична, как отмечала критика, уже в раннем периоде: вопросы и ответы, загадки и отгадки — характерная особенность ее мастерства:
Кто сказал, что дубу страшно простудиться?
Ведь до поздней осени он стоит зеленый...
В зрелых стихах поэтессы диалогичность становится полемической, меняется ее наполняемость:
Это ничья кошка,
Имени нет у нее.
У выбитого окошка
Какое ей тут житье.
|
Холодно ей и сыро.
У кошки лапа болит.
А взять ее в квартиру
Соседка мне не велит.
В каждой строке полемика с бездушием: боль за «ничью» кошку, протест против тех, кто обижает слабых. Поэзия Токмаковой — гуманистическая поэзия, она пробуждает активную доброту, развивается в русле тех нравственных идей, которые были присущи и устному творчеству народа, и классической литературе.
Проза составляет своеобразный раздел творчества Токмаковой. Повести «Сосны шумят», «Ростики Кеша», сказочная повесть «Аля, Кляксич и буква «А», поэтические очерки «Далеко — Нигерия» и «Синие горы, золотые равнины» прочно привлекли внимание детей.
Творческое дарование Ирины Токмаковой многогранно и тем важнее то, что основной адресат ее книг — ребенок дошкольного возраста. Это придает целеустремленность и глубину ее поэтическому поиску, продолжающемуся более четверти века.
13. ТЕМА ЮМОРА И САТИРЫ.
13.1. Н.Н.Носов. Серьёзное и весёлое в рассказах Носова. Особенности творческой манеры в решении нравственно- этических вопросов.
Н.Н. Носов (1908—1976) начинал писать в конце 30-х годов, но настоящее признание получил после Великой Отечественной войны. До 1951 г. Н. Носов занимался режиссерской работой, связанной с постановкой мультипликационных и учебных фильмов, а в годы войны — военно-технических.
Долгое содружество режиссера Н. Носова с детьми наложило отпечаток на его творчество. Уже первые произведения писателя, появившиеся незадолго до войны, были адресованы детям. Первый рассказ — «Затейники» — был напечатан в 1938 г. в журнале «Мурзилка».
В послевоенные годы один за другим выходят сборники его рассказов: «Тук-тук-тук» (1945), «Ступеньки» (1946), «Веселые рассказы» (1947) и повести: «Веселая семейка» (1949), «Дневник Коли Синицына» (1950) «Витя Малеев в школе и дома» (1952) и др. Книги писателя получили широкое распространение в нашей странен за рубежом; когда в 1957 г. были опубликованы сведения о произведениях, наиболее часто переводившихся на иностранные языки, оказалось, что имя Н. Н. Носова занимает одно из первых мест.
Рассказы для детей дошкольного и младшего школьного возраста, остросюжетные, динамичные, насыщенные неожиданными комическими ситуациями, положили начало творческой деятельности Н. Носова. Герои их — фантазеры, непоседливые и неуемные выдумщики, которым часто достается за их затеи.
Во многих рассказах («Мишкина каша», «Тук-тук-тук», «Телефон», «Огородники» и др.) сквозным оказывается один персонаж — Мишка Козлов, объединивший их в цикл «Мы с Мишкой». В то же время каждый из рассказов самобытен.
Рассказы насыщены лиризмом и юмором; повествование как правило, ведется от первого лица. Чаще всего это друг Мишки, который не может противиться задорному упорству своего товарища. Мишка удивительно активен, он постоянно в действии: «насыпал в кастрюлю крупы», «схватил ложку и стал кашу обратно в кастрюлю запихивать», «взял кружку, полез в ведро», «выхватил сковородку из печки» («Мишкина каша»).
Весь сюжет рассказа о том, как Мишка и Коля, оставшись одни на даче, варили кашу, насыщен юмористическими положениями, смена которых держит читателя в постоянном веселом напряжении. Мишка — фантазер и искатель; он не просто выпутывается из затруднительных обстоятельств, а увлеченно и энергично борется с ними. Юмористические ситуации помогают Носову показать логику мышления и поведения героя. «Действительная причина смешного заключена не во внешних обстоятельствах, а коренится в самих людях, в человеческих характерах» ,— писал Носов.
Художественно достоверно у писателя проникновение в психологию ребенка. Его произведения отражают основные особенности детского восприятия. Совсем не обязательными оказываются развернутые характеристики, прямые и косвенные, для того чтобы зримо возник образ того или иного персонажа. Лаконичный, выразительный диалог, комическая ситуация помогают автору обрисовать характеры ребят. В рассказе «Огородники», например, два друга, чтобы получить в поощрение флажок, всю ночь копали, как им казалось, свой участок огорода. Утром, когда все ребята из лагеря принялись за работу, Мишка с Колей прогуливаются по соседним участкам, посмеиваясь над товарищами. Вдруг они обнаружили, что один участок остался без хозяев:
|
«— А это чей участок? Совсем мало вскопано, и хозяев нет. Наверно, дрыхнут еще!
Я посмотрел:
— Номер 12. Да это ведь наш участок».
Рассказы Н. Носова всегда включают воспитательное начало. Есть оно в рассказе об огурцах, украденных на колхозном огороде («Огурцы»), и о том, как Федя Рыбкин «разучился смеяться на уроках» («Клякса»), и о дурной привычке учить уроки, включив радио («Федина задача»). Но даже самые «моралистические рассказы» писателя интересны и близки детям, потому что помогают им понять взаимоотношения между людьми.
Герои произведений Носова активно стремятся к познанию окружающего: то они обыскали весь двор, облазили все сараи и чердаки («Шурик у дедушки»), то целый день трудились, строили снежную горку» («На горке»), то решили сделать каток, «рьяно взялись за дело» («Наш каток»), «Мальчики Носова несут в себе все черты советского человека: его принципиальность, взволнованность, одухотворенность, вечное стремление к новаторству, привычку изобретать, отсутствие умственной лени»,— писал Валентин Катаев в предисловии к собранию сочинений Николая Носова. Глубокое понимание запросов читателя-ребенка отмечает повесть Н. Носова «Веселая семейка», написанную в 1949 г., издававшуюся для дошкольников и младших школьников.
Писатель рассказывает о необходимости взаимопомощи, о доверии и уважении ребят друг к другу, об их стремлении к новому, неизведанному. Воспитательный элемент его повестей оказывается в органичном сочетании с юмористическим видением событий. Это единство делает многие проблемы доходчивее и привлекательнее для юных читателей. Юмористическое начало никогда не бывает чужеродным у писателя, оно пронизывает всю ткань произведения.
Н. Носов успешно разрабатывал различные прозаические жанры. Неизменной любовью ребят — дошкольников и младших школьников — пользуются его сказки: «Бобик в гостях у Барбоса», «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне». Последние три сказки объединены общими героями и представляют собой роман-трилогию.
Первая часть — «Приключения Незнайки и его друзей» — напечатана в 1954 г. Сюжет ее основан на фантастических приключениях коротышек, живущих в Цветочном городе. «Приключения Незнайки» по жанру роман-сказка. Носову удалось, не разрушив признаков, присущих и роману и сказке, создать произведение приключенческое и юмористическое. Действие в «Приключениях Незнайки» постоянно развивается на грани событий реальных и фантастических.
Автор поясняет, что коротышками его героев называют потому, что они очень маленькие — это еще не выходит за пределы реального, но следующая же фраза уточняет, что каждый был ростом с небольшой огурец. Так на реальность накладывается новый, фантастический мотив. В восприятии ребенка возникают образы сказочных мальчиков и девочек, которые были настолько малы, что грибы и орехи распиливали пилой на части и перетаскивали домой по кусочкам.
Композиционно роман-сказка Носова разделен на 30 небольших глав, почти каждая из которых содержит какое-либо завершенное событие и в то же время связана с предыдущими. То это рассказ о том, как Незнайка был музыкантом, художником, сочинял стихи, катался на газированном автомобиле; то это события, происходящие с Винтиком и Шпунтиком в городе Змеевке; то путешествие коротышек на воздушном шаре. Как во всяком романе, в «Приключениях Незнайки» есть авторские отступления, они различны по тематике и представляют собой непринужденный разговор автора с читателями.
Характеры коротышек четко индивидуализированы: это «самый известный малыш» Незнайка, «самый главный малыш-коротыш» Знайка, охотник Пулька, художник Тюбик, доктор Пилюлькин. Сахарин Сахаринович Сиропчик и др. Незнайка, главный герой,— хвастунишка и невежда; он постоянно попадает в комические положения из-за своей беспечности и самоуверенности. То придумает «для рифмы», что «Торопышка был голодный, проглотил утюг холодный»; то бахвалится, будто он самый главный коротышка и выдумал воздушный шар. Незнайка — фантазер, чем-то напоминающий Мишку Козлова из цикла рассказов Носова «Мы с Мишкой». Он тоже вызывает симпатию у читателей, потому что в основе его шалостей лежит стремление к хорошему, доброму.
В веселой, эмоциональной форме преподносится дошкольникам обширный познавательный материал из различных областей науки, техники и искусства, решаются морально-этические вопросы. «За всеми веселыми приключениями ненавязчиво присутствует мысль о несовместимости бахвальства, зазнайства с подлинными человеческими отношениями между людьми, даже если это самые маленькие дети. Книга учит уважать знание, труд, товарищество, скромность. Книга художественна, и потому урок, который стремится преподать автор, безусловно, дойдет до детворы»,— писал в рецензии на сказку Ю. Олеша.
|
В 1958 г. была закончена вторая часть трилогии — «Незнайка в Солнечном городе». Носов нашел здесь новые повороты сюжета. Вернувшись после путешествия на воздушном шаре, коротышки строят фонтан, тростниковый водопровод и мост через Огурцовую реку. Незнайка решил исправиться, стать вежливым, начать учиться, но вскоре ему все надоедает. Автор по этому поводу с шутливой иронией замечает: «Это часто случается в стране коротышек. Иной коротышка наобещает с три короба, наговорит, что сделает и это, и то, даже горы свернет и вверх ногами перевернет, на самом же деле поработает несколько дней в полную силу, а потом снова понемножку начинает отлынивать».
Дидактический материал органически сочетается в этой сказке с познавательным и фантастическим. Незнайка совершает бескорыстные поступки, получает волшебную палочку и попадает в чудесный Солнечный город будущего. Сюжет насыщен сказочными превращениями, приключениями, комическими ситуациями, в которых оказываются Незнайка, Кнопочка и Пачкуля Пестренький.
Заключительная часть трилогии — «Незнайка на Луне» — вышла отдельным изданием в 1965 г. В центре ее — события, которые произойти через два с половиной года после возвращения трех друзей из Солнечного города. За это время изменился облик Цветочного города. Коротышки ввели у себя многое из того, чем был знаменит Солнечный город. Построены новые дома, в том числе два вертящихся здания; на улицах появились спиралеходы, труболеты, авиагидромотоколяски. Знайка придумал ракету, в которой коротышки собираются полететь на Луну. Когда все было готово к путешествию, Незнайка и Пончик спрятались в пищевом отсеке и нечаянно запустили ракету. Так начались новые приключения Незнайки в лунных городах Давилоне, Лос-Паганосе, Брехенвилеи на Дурацком острове.
Познавательное и научно-фантастическое в этой части трилогии тесно переплетается с сатирическим. Гротескные образы Скуперфильда, Спрутса, госпожи Миноги, господина Гадкинза разоблачают заправил буржуазного мира. Грустные приключения двух путешественников в лунном мире помогли Незнайке понять многое. Он оценил могущество дружбы и взаимопомощи, пережив с бедными коротышками-лунатиками метаморфозы на Дурацком острове. Он познал новое, неведомое, «огромное-преогромное» чувство любви к родной земле.
Творчество Н. Носова имеет большое значение в детской литературе. Очень важными особенностями его юмористического таланта были способность откликнуться на актуальные проблемы воспитания и умение в эмоциональной, занимательной форме решать важные морально-этические проблемы.
|
14. ПРИРОДОВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.
Детская художественно-познавательная литература в 60—80-х годах поднимается на новую высоту, что связано с гуманизацией общественного сознания. Изменяются научные представления о природе, технике, космосе. Идеи ученых подхватываются популяризаторами науки.
Авторы книг для малышей, выходивших в этот период, стремились дать читателям представление о единстве мира, внушить им мысль об ответственности человека за сохранение общего дома — прекрасной планеты Земля. К таким авторам относятся Н. Сладков, С.Сахарнов, Г.Снегирев, Ю.Дмитриев. Ю.Дмитриеву была присуждена «Международная Европейская премия» за пятитомный труд «Соседи по планете», а его книга «Человек и животные» приобрела большую популярность у детей.
Чувство вины перед живыми существами — «соседями по планете» — пронизывает произведения писателей, которые хотят сформировать у детей сердечное отношение к природе. Примерами могут служить повесть Г. Троепольского «Белый Бим Черное Ухо», рассказы Э.Шима, С. Романовского.
Мотив вины особенно явственно звучит у С. Романовского. Писатель считает природу важнейшей частью духовного мира человека, и каждое исчезнувшее живое существо — невозвратимая потеря. Убежденность Романовского в безошибочности законов, по которым живет природа, побуждает его именно на отношениях с ней ставить общественно и нравственно важные проблемы. Даже беглое впечатление, полученное от общения с природой, приводит его к мысли о совести, красоте, счастье, о смысле жизни (рассказы «Град», «Белый конь», «Синяя птица», «Озеро Емельяна Пугачева»).
Взаимопониманию человека и животных, возможности дружбы между ними посвящены книги Н.Дуровой, как и ее инсценировки для театра зверей, которым она руководит.
Николай Иванович Сладкое (1920—1996), живя в Ленинграде, еще в юном возрасте встретился с Виталием Бианки. которого считал своим учителем. Сладков стремится воспитывать в читателях чувство «доброго старшего брата всего живого». Он предлагает пристально вглядываться в жизнь животных и птиц. Необычайно широк диапазон познавательного материала в его книге коротких рассказов «С севера на юг» (1987): от полярных жителей — белых песцов и медведей, моржей и северных птиц — к горным орлам, барсам, дикобразам. Человек в книге присутствует опосредованно — он не действует в рассказах, но он добрый и заинтересованный повествователь.
Писатель был уверен, что природа способна сделать человека счастливым, и ему было непонятно, как может человек сам разрушать источник своего счастья, непонятна «такая любовь к природе, когда объясняются в своей любви к ней с ружьем в руках». И писатель стал «смелым фотоохотником», как назвал он одну из своих книг (1963): рассказы его сопровождались им же сделанными фотографиями. Фоторужье Н. Сладков использовал и при создании книг «Под шапкой-невидимкой» (1968), «Земля солнечного огня» (1971). «Силуэты на облаках» (1972), «Земля над облаками» (1972), «Дети радуги» (1981).
В книгах Сладкова нет громких деклараций о любви ко всему живому, но авторская позиция настолько ясна, что читатель невольно поддается ее благородному воздействию. Писатель был убежден, что «природоведческая литература, познавательная и художественная, должна выработать новую, экологическую нравственность», и подчинял этой главной задаче все свои книги, от ранней — «Серебряный хвост» (1953) — до более поздних «Свист диких крыльев» (1977) или «Азбука леса» (1985). Для выражения неповторимой красоты природы он использовал самые разные художественные формы. Сказка и притча, лаконичный рассказ, иногда похожий на зарисовку с натуры, воспоминания, публицистика — все это окрашено неповторимой писательской манерой, где метафоричность слита со строго реалистическим письмом.
Святослав Владимирович Сахарнов (род. 1923) учителем своим, как и Сладков, считает Виталия Бианки. Писателя огорчает неосведомленность нынешних городских детей в экологических проблемах, скудость их представлений о родной земле: «Природа, которая окружает их, — телевизионного происхождения; про Амазонку они знают больше, чем про Волгу».
В литературу Сахарнов вступил уже сложившимся человеком — с опытом штурмана дальнего плавания и природоведа. Морские путешествия, погружения в водолазном скафандре, прекрасное знание мореходного дела — все это дало ему огромный материал для повестей и рассказов. Капитальный труд писателя — «По морям вокруг земли. Детская морская энциклопедия» (1972) — получил четыре международные премии и был переведен на несколько языков (как и некоторые другие книги писателя).
|
Сказки, созданные Сахарновым, можно разделить по темам на познавательно-биологические («Морские сказки»), воспитательные («Гак и Буртик в стране бездельников», «Леопард в скворечнике») и обработки сказок народов мира («Сказки из дорожного чемодана», индийское «Сказание о Раме, Сите и летающей обезьяне Ханумане»).
Одну из ранних книг Сахарнова — индийское «Путешествие на "Тригле"» (1955) — составили рассказы-миниатюры со сквозным действием и постоянными героями: это художник, от лица которого ведется повествование, и ученый и водолаз Марлен. Герои выражают мысли и чувства, владевшие самим автором в увлекательной морской экспедиции по следам «доисторических зверей».
Изящные миниатюры составили и книгу для малышей «В мире дельфина и осьминога» (1987). Вот одна из них — «Актиния»:
Стоит на морском дне живой столбик. Ниточки-щупальца распустил, шевелит ими, добычу приманивает. Вот рачишка плывет... — Ага, попался!
Сахарнов старается в каждую свою книжку вместить как можно больше знаний, наблюдений и навыков. Где только ни побывает читатель его книг, чего только ни узнает! В подводном мире, где рыбы похожи на причудливые цветы, а цветы оказываются хищниками; в мангровых зарослях и в холодных краях; на «одиноких островах в океане», где сохранился «удивительный, ни на что не похожий мир. Здесь животные годами не видят людей, птицы собираются огромными колониями, а морские звери тысячами выходят на каменистые или песчаные пляжи». Точность описаний сочетается с эмоциональностью. Восхищение увиденным и жажда новых впечатлений пронизывают каждую строчку произведений Сахарнова, определяя своеобразие его писательского почерка.
Леопард и черепаха рассуждают в сказке Сахарнова о смысле жизни. Это не кажется странным: животные — герои книги «Леопард в скворечнике» (1991) многоопытны и умны. Черепаха, оказывается, сто пять лет преподавала в школе, а леопард был раньше моряком. В сочиненную историю о них вливаются традиционные сказочные сюжеты, например появляется запечатанная бутылка, в которую заключен джинн, «тощий человечек со смуглым лицом, с козлиной бородкой, в халате и в чалме». Степень очеловечивания черепахи и леопарда максимальна — примерно та же, что в образах Винни-Пуха или Чебурашки. Дети дошкольного возраста, читая сказку, получают уроки уважения друг к другу, готовности помочь в трудную минуту и просто вежливости.
Книги Геннадия Яковлевича Снегирева (1933 — 2004) исполнены удивления и восхищения увиденным в многочисленных путешествияхи выражает надежду, что его читателю, когда он вырастет, захочется всюду побывать и все увидеть своими глазами.
Как итоги путешествий автора появились его книги «Обитаемый остров» (1955), «Бобровая хатка» (1958), «Пинагор», «Качурка», «Лампадидус» (все три — I960 год), «В разных краях» (1981).
Герой произведений Снегирева — защитник природы от неразумных действий людей, не ощущающих тесной взаимосвязи всего живого на Земле. Отношения с природой должны строиться на знании ее законов — тогда возможна и взаимная польза. Так происходит в рассказе «Верблюжья варежка», из которого маленький читатель может извлечь урок добра и ответственности перед другим живым существом: мальчик отрезал кусок хлеба, посолил и отнес верблюду — «это за то, что он дал мне шерсти»; при этом шерсти он настриг «с каждого горба понемножку, чтоб верблюд не замерз».
Многие рассказы Снегирева звучат как поэтические сказки, образность которых построена на философских размышлениях о жизни. «Ворон возвращается ни с чем: он очень стар. Он сидит на скале и греет больное крыло. Ворон отморозил его лет сто, а может, и двести назад. Кругом весна, и он совсем один» («Ворон»). Порою в рассказах возникают романтические картины: «ветерки летают над степью и видят, как распускаются по ночам маки»; верблюды танцуют «танец весны», радуясь, «что прошла зима, греет солнце и они живы».
Верность изображения людей и зверей, как, например, в книжке «Медвежата с Камчатки», подкрепляется у Снегирева емким, точным слогом, энергичным и чистым языком, понятным детям. Все, кто писал о творчестве Снегирева, неизменно отмечали близость его стиля к стилю детских рассказов Л.Толстого: те же неспешное течение повествования, сдержанность и лаконизм, благородство и человечность.
|
15. ЗАРУБЕЖНЫЕ ДЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ.
Современным детям и подросткам доступен самый широкий круг переводной литературы. Своеобразная культура, особенности национального характера народов, социальные реалии и типы творческого подхода к жизни, преобразующего реальность в неповторимые художественные картины — все это может открыть для себя ребенок, читающий книгу, переведенную с иного языка. Рамки и границы действительности расширяются, мир предстает более разнообразным, богатым, загадочным и влекущим.
Должное место в детском чтении отведено легендам и мифам различных времен и народов. Особенно большое значение имеет древнегреческий, олимпийский мифологический цикл. Для детей младшего и среднего школьного возраста немало занимательного и поучительного заключают легенды о подвигах Геракла, Аргонавтах. Более старших привлекают остротой конфликтных положений, противоборством противоречивых характеров и титанических страстей пересказы «Иллиады» и «Одиссеи». В легендах и мифах Древней Греции юные читатели впервые встречаются с системой символических образов, ставших нарицательными имен героев, которые вошли в постоянно используемый фонд мировой культуры. Без предварительного знакомства с «первоисточниками» античной образности в дальнейшем могут оказаться трудными для восприятия многие произведения русской и зарубежной литературы, аппелирующие к бессмертным краскам и образам древнегреческого искусства.
Английской и англоязычной американской литературе в детском и юношеском чтении принадлежит важнейшее место. В переводах и пересказах русским детям доступны произведения британского фольклора, песни, баллады, сказки. Богатейшая библиотека английской художественной литературы для детей существует и в многочисленных качественных переводах на русский язык. Книги и герои Д. Дефо, Д. Свифта, В. Скотта, Р.Л. Стивенсона, Ч. Диккенса, А. Конан-Дойла, Л. Кэролла, А.А. Милна, О. Уайльда и многих других с раннего детства сопровождают наших детей наряду с национальными литературными произведениями.
Даниэль Дефо (ок. 1660—1731). Имя Дефо стало известно всему миру благодаря герою его произведения Робинзону Крузо. Дефо по праву считается одним из создателей английского реалистического романа. Рассказанная им история благодаря этому вызвала в свое время многочисленные подражания. Название его произведения очень длинно и причудливо. К российским детям роман обычно приходит в адаптированном виде под сокращенным названием. Особенно известен «Робинзон Крузо» в пересказе К.И. Чуковского. Этот роман без сомнения является одним из любимых произведений для многочисленных поколений юных читателей. Непередаваемый аромат дальних странствий, романтика приключений, открытий, созидательного труда, настойчивое отстаивание своего человеческого лица среди превратностей судьбы — основания воспитательной и художественной силы книги, все это продолжает привлекать к герою Дефо новых и новых читателей.
Джонатан Свифт (1667—1745) не рассчитывал на читателя-ребенка, создавая свой сатирический роман «Путешествия в различные отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, вначале хирурга, а потом капитана нескольких кораблей». Адресат его книг — простой народ Англии, с юмором, издевкой сарказмом воспринимающий грязные политические интриги, спесивость аристократов, бесплодность далеких от жизни наукообразных споров. В детское чтение в видоизмененном, адаптированном виде вошли две первые истории, рассказывающие о приключениях Гулливера в стране лилипутов и стране великанов. В детских изданиях путешествий Гулливера основной интерес сосредоточивается на приключенческой стороне сюжета, необычности ситуаций, в которых оказывается герой. Если Дефо способен покорить юное воображение необычностью жизнеподобного, то прелесть книги Свифта в умении самое причудливое сделать поводом к размышлениям о непреходящих нравственных ценностях, на которых зиждется мир.
Среди многочисленных англоязычных произведений истори-ко-приключенческого жанра особое место принадлежит романам Вальтера Скотта (1771 — 1832). Особенно популярным у нас был в свое время роман «Айвенго», рассказывающий историю доблестного рыцаря славного короля Ричарда Львиное Сердце.
Экзотическим странам и народам посвящены и написанные несколько позже, вошедшие в детское чтение произведения англичанина Томаса Майн Рида (1818—1883), объездившего всю Европу и Америку, ведшего полную приключений и испытаний жизнь странника, и его старшего современника, первого великого романиста США Джеймса Фенимора Купера (1789—1851). С американскими реалиями связаны сюжеты романов Майн Рида «Всадник без головы», наиболее популярного среди детей среднего школьного возраста его произведения, Купера «Следопыт, или на берегах Онтарио», одного из многочисленных произведений писателя, рассказывающих о колонизации и покорении европейцами Северной Америки. Любимые герои Купера и Майн Рида смелы, откровенны, исповедуют культ благородной и спокойной силы. Их жизнь полна неожиданностей, многочисленные враги не прекращают интриг, козней, все новые и новые опасности и испытания ожидают персонажей вслед за только что преодоленными. Увлекательность сюжета, загадочность конфликтов, непредсказуемость развязок поддерживают интерес на всем протяжении чтения, являются верным залогом успеха у читателя-подростка.
|
Среди приключенческих книг английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона (1850—1894), лучшая— роман «Остров сокровищ». Его главный и по сути дела единственный положительный герой — подросток Джим. Именно его взгляд на мир, где бушуют страсти, борются амбиции, смеются над людьми судьба и обстоятельства, позволяет возродить уходящую из слишком прагматичного мира романтику.
Романтико-приключенческая линия в развитии английской и англоязычной американской литературы на ином историческом этапе преобразилась в глубоко своеобразном творчестве Р. Киплинга, рассказавшего детям об экзотическом и прекрасном мире индийских джунглей, Д. Лондона, познакомившего с золотоискателями, путешественниками, авантюристами разъедаемого противоречиями мира рубежа XIX—XX вв.
С реалистическим изображением обычной жизни, где тоже кипят страсти, люди должны делать выбор и далеко не всегда добро легко находит пути к людским сердцам знакомит Г. Бичер-Стоу в романе «Хижина дяди Тома». Эта книга в жизненно достоверных картинах открывала своим согражданам весь ужас существования негров-рабов.
Значительная часть творчества Сэмюэля Ленгхорна Клеменса, известного под псевдонимом Марк Твен (1835—1910) отличается изначальной ориентацией на детское восприятие. Сам писатель называл «Приключения Тома Сойера» гимном детству. Собственно приключенческий мотив в произведении Твена представлен вполне реалистично, и приключения Тома, Гекльберри Финна не выходят за рамки вполне возможного в тех условиях, в которых они жили. Подлинное достоинство произведения Твена в том, что он смог наполнить конфликты нравственно-психологическим содержанием, достоверно показать бытовые реалии, социальные типы своего времени. И все это окрашено восприятием живого, неплохо разбирающегося в побуждениях и страстях людей мальчишки, искреннего фантазера, поэта и забияки, умеющего дружить, любить, бороться. Жизнерадостность Тома и его друзей всегда сохраняет надежду, дарит радость, утверждает свет. Последующие произведения «детского цикла» М. Твена, «Принц и нищий», «Приключения Гекльберри Финна», становятся все более совершенными и сложными в сюжетно-композиционном и стилистическом отношении.
Вполне освоились среди русских детей смешной медвежонок Винни Пух, его хозяин, мальчик Кристофер Робин и все, все, все герои книги американского писателя Алана Александра Милна (1882—1956). Его произведение было переведено на русский язык Б. Заходером в 1960 г. и с тех пор прочно утвердилось в ряду книг, наиболее любимых дошкольниками и младшими школьниками.
Странный, как бы деформированный мир создает в своих сказках Льюис Кэрролл (псевдоним Чарлза Латуиджа Доджсона, 1832—1898). Он не был профессиональным писателем и свои истории об «Алисе в стране чудес», «Алисе в Зазеркалье» сочинял первоначально в устной форме для конкретных детей. Профессор математики по профессии, Кэрролл и в литературе как бы стремится доказать абстрактность многого в мире, относительность великого и малого, подчеркнуть соседство ужасного и смешного.
В последние годы наибольшее внимание издателей в нашей стране привлекла трилогия Джона Рональда Руэла Толкиена (1892—1973) «Властелин колец» («Хранители», «Две твердыни», «Возвращение Государя»). Он по-своему пытался продолжить традицию Кэрролла. Этому способствовали и занятия математической лингвистикой, и рождение героев в непосредственном общении с детьми. Написанную достаточно давно и уже подзабытую было книгу Толкиена вспомнили и оживили еще и потому, что приобрел огромную коммерческую популярность жанр так называемой «фэнтези», сюжеты Толкиена стали основой соответствующих ярких, изощренных в техническом отношении видовых фильмов, апеллирующих к еще менее сложным, хотя и бурно проявляющимся человеческим эмоциям, чем литературный первоисточник.
|
Французская детская литература широко представлена в переводах на русский язык.
И начинается это знакомство для большинства наших маленьких читателей со сказок Шарля Перро (1628-1703).
Им написаны сказки «Спящая красавица», «Золушка», «Синяя борода», «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик». Трудолюбие, великодушие, находчивость представителей простого народа Перро пытался утвердить в качестве ценностей своего круга. Поэтизация этих качеств делает его сказки важными и для современного ребенка.
Прочно сохраняют место в детском чтении книги Жюля Верна (1828—1905). Успех его романа «Пять недель на воздушном шаре» (1863г.) превзошел все ожидания. И поэтому на смену воздушной фантазии приходит геологическая — «Путешествие к центру земли» (1864), вслед за ней издается роман «Путешествие и приключения капитана Гаттераса» (1864—1865), «С земли на Луну» (1865). По завершении романа «Дети капитана Гранта» писатель объединил ранее написанные и все последующие произведения общей серией под названием «Необыкновенные путешествия». Главное достоинство его книг связано с созданными характерами людей, стремящихся познать все тайны земли, преодолеть зло, социальные болезни. Этот аспект становится особенно важным для писателя со времени создания знаменитого романа «Двадцать тысяч лье под водой». Образ капитана Немо изначально задумывался как характер бунтаря, протестанта, борца с несправедливостью, тиранией и угнетением. Из других романов, вошедших в «Необыкновенные путешествия» и пользующихся популярностью по сей день, нужно отметить «Вокруг света за 80 дней» (1872), «Таинственный остров» (1874). Новым для своего времени было в произведениях Верна и утверждение мысли об абсолютном равенстве людей перед судом нравственности. Только это отличает в его произведениях людей различных национальностей, социального статуса: они являют собой лучшие или же худшие стороны единого человечества.
Среди французских художников XX в., писавших о детях и для детей, наиболее известен у нас Антуан-Мари-Роже де Сент-Экзю-пери (1900—1944), автор сказки «Маленький принц». По жанру это философская сказка. Главный ее герой — житель планеты-астероида, неожиданно появившийся перед летчиком, потерпевшим аварию в песках Сахары. Летчик называет его Маленьким принцем. Сказка восхищает все новые и новые поколения читателей. Многие фразы из нее стали афоризмами.
Немецкая детская литература связана для юных читателей нашей страны прежде всего с именами великих сказочников: братьев Гримм, Гофмана, Гауфа.
Якоб (1785—1863) и Вильгельм (1786—1859) Гримм жили в эпоху зарождения и расцвета романтизма, как важного направления мировой культуры рубежа XVIII—XIX веков. Большая часть сказочных сюжетов была собрана братьями Гримм, профессорами-филологами, в ходе их многочисленных экспедиций по сельской Германии, записана со слов сказителей, крестьян, горожан. В обработанном братьями Гримм виде они стали важной частью детского чтения во многих странах мира. Это сказки «Храбрый портняжка», «Горшок каши», «Бабушка Метелица», «Братец и сестрица», «Умная Эльза». Простота, прозрачность сюжетного действия и глубина морально-этического содержания, пожалуй, — главные отличительные особенности сказок Гримм. Их «Бременские музыканты» продолжают свое путешествие по временам и странам.
Находился под влиянием романтизма и Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776—1822). Разлад мечты и реальности — не только примета романтического мироощущения, они характеризовали и душевное состояние самого Гофмана, который вел скучную жизнь чиновника, а мечтал о путешествиях и свободном служении красоте, фантазии. Эти противоречия отразили и его сказочные повести: «Песочный человек», «Щелкунчик», «Чужое дитя», «Золотой горшок», «Крошка Цахес по прозванию Циннобер». В детском чтении наиболее прочно закрепился «Щелкунчик». Это одна из наиболее жизнеутверждающих и веселых сказок Гофмана, хотя и героям этой Рождественской истории приходится пройти через длительный ряд нелегких испытаний, прежде чем они обретают счастье.
Вильгельм Гауф (1802—1827) попытался на основе сказочных традиций различных народов создать совершенно особый тип литературной сказки, фантастико-аллегорических новелл, объединенных в циклы. Его сказки: «Маленький Мук», «Халиф Аист», «Карлик Нос». Сказка «Карлик Нос» для детей младшего возраста интересна загадочно-фантастической историей превращений мальчика Якоба в белку, уродливого горбуна, возвращением в нормальный человеческий облик. Затрагивает чувства ребенка и налет жутковатой «кровавой» романтики, связанной с деяниями злой волшебницы.
Лучшая сказка третьего тома — «Холодное сердце» — иллюстрирует все то значительное, чем обогатил жанр этот рано умерший писатель. Бытовое повествование органично совмещается с волшебным элементом. Герой проходит сложной дорогой нравственного поиска, потерь и обретений. Классически простая и традиционная идея сказки заключается в утверждении добра, справедливости, великодушия, воплощенных в образе Стеклянного Человечка в противовес жестокости, корыстолюбию, бессердечию Михеля-Великана и его подручных.
|
Оригинальная роль в массиве переведенной на русский язык детской литературы различных народов принадлежит итальянским писателям.
Герой романа Раффаэлло Джованьоли (1883—1915) «Спартак» приносит с собой дух героики. Будучи профессиональным историком, писатель сумел создать запоминающиеся портреты реальных исторических лиц — Суллы, Юлия Цезаря, Цицерона, Красса, в произведении пластично реконструируется завораживающая людей нашего времени атмосфера жизни Древнего Рима.
Велики заслуги перед маленькими читателями нашей страны итальянского писателя Коллоди (Карло Лоренцини, 1826—1890). Ведь это его книга «Приключения Пиноккио» вдохновила А. Толстого на создание сказочной повести «Золотой ключик, или приключения Буратино».
Несколько интересных детских писателей вышли из Североевропейских стран, Скандинавии, где сложилась оригинальная традиция творчества для детей и о детях.
Прежде всего, конечно, следует назвать великого датского сказочника Ганса Христиана Андерсена (1805—1875). Он, как никто другой, сумел по-своему воплотить в творчестве фольклорно-пушкинский принцип — «сказка ложь — да в ней намек, добрым молодцам урок». Нравственно-философское и социально-дидактическое начала в его сказках прорастают сквозь абсолютно доступные детям сюжеты и конфликты.
Сказки Андерсена сохраняют очарование для людей, и когда они расстаются с детством. Привлекают они ненавязчивой, народного истока мудростью, многогранностью воплощенных эмоций. Почти никогда дело у Андерсена не сводится к воплощению единственного всепоглощающего чувства. Его сказочные произведения окрашены в тона жизни, где радость, печаль, лирическая грусть, смех разных оттенков, от веселого до саркастичного, разочарование, надежда сменяют друг друга, соседствуют, передавая горько-сладкий вкус подлинного бытия.
Симпатии писателя всегда на стороне людей простых, с благородным сердцем и чистыми порывами. Таким предстает в сказках и рассказчик. Он не спешит проявлять эмоции, не торопится с оценками, но за внешне спокойным повествованием ощущается неколебимая твердость нравственных принципов, от которых ни любимых героев, ни повествователя ничто не сможет заставить отказаться.
Некоторые его сказки содержали косвенные оценки конкретных противоречий эпохи («Принцесса на горошине», «Новое платье короля», «Свинопас»). Но со временем их актуально-политическое значение сошло на нет, однако морально-этический потенциал отнюдь не стал меньше: «Позолота вся сотрется — свиная кожа остается». Героями его сказок становятся не только «ожившие» игрушки («Стойкий оловянный солдатик», «Пастушка и трубочист»), очеловеченные животные («Гадкий утенок», «Дюймовочка»), растения («Ромашка», «Ель»), но и самые обычные предметы обихода: штопальная игла, бутылочный осколок, воротничок, старый уличный фонарь, капля воды, спички, старый дом. Отстояв право на жизнь и любовь в нешуточных испытаниях, любимые герои сказочника оказываются особенно счастливы («Снежная королева», «Дюймовочка», «Дикие лебеди»).
Оригинальные причины побудили Сельму Оттилию Лагерлёф (1858—1940) на создание книги «Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции». Она получила заказ на книгу для детей о Швеции, но неожиданно у нее сложился сказочный сюжет, возникли характеры, интересные и без связи с историко-этнографическим, страноведческим аспектом книги.
Увлекательные художественные миры и запоминающиеся характеры создали также Туве Янсон в книгах о жизни в Долине Троллей, Астрид Линдгрен в сказочной повести «Пеппи Длинный чулок», в трилогии о Малыше и Карлсоне, который живет на крыше.
|
16. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИСАТЕЛИ.
16.1. Литературные сказки Ш.Перро. Богатство картин. Юмор.
Литературная сказка — целое направление в художественной литературе. За долгие годы своего становления и развития этот жанр стал универсальным жанром, охватывающим все явления окружающей жизни и природы, достижения науки и техники.
Подобно тому как народная сказка, постоянно изменяясь, впитывала в себя черты новой реальности, литературная сказка всегда была и есть неразрывно связана с социально-историческими событиями и литературно-эстетическими направлениями. Литературная сказка выросла не на пустом месте. Фундаментом ей послужила сказка народная, ставшая известной благодаря записям ученых-фольклористов.
Первым на поприще литературной сказки выступил французский писатель Ш. Перро.
Огромная заслуга Перро в том, что он выбрал из массы народных сказок несколько историй и придал им тон, климат, воспроизвел стиль своего времени. В конце XVII в., в период господства классицизма, когда сказка почиталась "низким жанром", он издал сборник "Сказки моей матушки Гусыни" (1697 г.). Благодаря Перро читающая публика узнала Спящую красавицу, Кота в сапогах, Красную Шапочку, Мальчика-с-пальчик, Ослиную шкуру и других чудесных героев. Из восьми сказок, включенных в сборник, семь было явно народных с ярко выраженным национальным колоритом. Тем не менее, они являлись уже прообразом сказки литературной.
Шарля Перро сейчас мы называем сказочником, а вообще при жизни Перро был маститым поэтом своего времени, академиком Французской академии, автором знаменитых научных трудов. Но всемирную известность и признание потомков принесли ему не его толстые серьезные книги, а прекрасные сказки «Золушка», «Кот в сапогах», «Синяя Борода».
В основе сказок Перро – известные фольклорные сюжет, которые он изложил с присущим ему талантом и юмором, опустив некоторые детали и добавив новые, «облагородив» язык. Больше всего эти сказки подходили детям. И именно Перро можно считать родоначальником детской мировой литературы и литературной педагогики.
Первыми его сказками в стихах были «Гризельда», «Потешные желания» и «Ослиная кожа» (1694), которые позже вошли в сборник «Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями» (1697). Не решившись выступить открыто, как создатель произведений «низкого» жанра, он подписал первое издание именем своего сына — Перро д'Арманкур — и от его имени обратился с посвящением к юной племяннице Людовика XIV Елизавете-Шарлотте Орлеанской. Автор "Сказок матушки Гусыни" пересказал их так занимательно и остроумно, что это понравилось даже утонченным придворным короля Людовика XIV.
Многие поучения в сказках вытекают из «программы воспитания» девочек — будущих придворных дам, а также мальчиков — будущих кавалеров двора. Ориентируясь на бродячие сюжеты французского фольклора, Перро придавал им аристократическую галантность и буржуазный практицизм. Самым важным элементом для него была мораль, поэтому он завершал каждую сказку стихотворным нравоучением. Прозаическая часть может быть адресована детям, нравоучение — только взрослым.
Несмотря на длинное, пышное и скучноватое название книга оказалась очень интересной. И вскоре вслед за принцессой многие-многие дети и взрослые узнали удивительные и поучительные истории о трудолюбивой Золушке и о хитроумном Коте в сапогах, о находчивом Мальчике с пальчик и о жестокосердном человеке по прозвищу Синяя Борода, о несчастной принцессе, уколовшейся веретеном и заснувшей на целых сто лет. В России особенно известны семь сказок из этого сборника: "Красная Шапочка", "Кот в сапогах", "Золушка", "Мальчик с пальчик", "Ослиная шкура", "Спящая красавица", "Синяя борода".
О сказках Ш. Перро так писал И.С. Тургенев: «Они веселы, занимательны, непринужденны, не обременены ни излишней моралью, ни авторскою претензиею; в них еще чувствуется веяние народной поэзии, их некогда создавшей; в них есть именно та смесь непонятно-чудесного и обыденно-простого, возвышенного и забавного, которая составляет отличительный признак настоящего сказочного вымысла».
Синяя Борода— персонаж сказки Ш. Перро «Синяя Борода» (1697), владелец домов в городе и деревне, больших богатств. Прозвище получил по синей бороде, уродовавшей его. Его жены бесследно исчезали. Он женится на одной из двух дочерей знатной дамы, своей соседки. Уезжая надолго в деревню по делам, Синяя Борода дает жене ключи от всех комнат, запрещая открывать лишь одну из них (в которой висели на стенах тела убитых им прежних жен). Вернувшись, он по следам крови на ключе от этой комнаты понял, что жена туда заходила, и объявил ей приговор за ослушание: смерть. В последнюю минуту ее спасают братья — драгун и мушкетер, пронзив Синюю Бороду шпагами. Далее следуют две стихотворных «Морали», в первой осуждается женское любопытство, во второй утверждается, что подобные мужья встречаются лишь в сказках: «Мужей свирепых нет на свете ныне: / Запретов нет таких в помине. / Муж нынешний, хоть с ревностью знаком, / Юлит вокруг жены влюбленным петушком, / А борода его будь даже пегой масти, / Никак не разберешь — она-то в чьей же власти?».
|
В основе, пожалуй, самой известной сказки Перро «Красная шапочка» лежит фольклорный сюжет, который ранее литературной обработке не подвергался. Фольклор знает три варианта сказки. В одном из вариантов девочка спасается бегством. Вариантом со счастливым финалом (приходят охотники, убивают волка и извлекают из его брюха бабушку и внучку) воспользовались братья Гримм. Перро заканчивает историю тем, что «злой волк бросился на Красную Шапочку и съел ее».
Так же связаны с фольклором и оригинальны, поставлены на службу задачам века, преследуют цель ввести в круг чтения аристократических салонов Парижа народные истории и другие сказки Перро: «Господин Кот, или Кот в сапогах», «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Мальчик с пальчик».
Писатель стремился соотнести каждый сюжет с определенной добродетелью: терпеливостью, трудолюбием, смышленостью, что в целом составило свод этических норм, близкий к народной этике. Но самая ценная добродетель, по Шарлю Перро, — это хорошие манеры: именно они открывают двери во все дворцы, во все сердца. Сандрильона (Золушка), Кот в сапогах, Рикке с хохолком и другие его герои побеждают благодаря учтивости, грации и подходящей к случаю одежде. Кот без сапог — всего лишь кот, а в сапогах — приятный собеседник и ловкий помощник, за свои услуги хозяину заслуживший покой и довольство.
«Кот в сапогах» Ш. Перро — это сказка о том, как кот — плут и пройдоха — сделал своего хозяина, бедного деревенского парня, богачом и вельможей, зятем самого короля. А началось всё довольно заурядно. Кот хитростью изловил кролика и поднёс его королю: «Вот, государь, кролик из садка господина маркиза де Карабаса». Ум и находчивость, бойкость и практичность при всех обстоятельствах — хорошие черты. Основная мысль этой сказки: благородство и трудолюбие — путь к счастью. Шарль Перро, один из создателей литературной сказки во Франции, продолжает в своём творчестве традиции народных сказок, где ум берёт верх в борьбе против несправедливости. В народных сказках обездоленные герои обязательно становятся счастливыми. Такова и судьба сына мельника из «Кота в сапогах».
Ставшая мировым литературным мифом, сказка «Золушка» отличается от народной ее основы и выделяется среди прочих сказок Перро ярко выраженным светским характером. Рассказ значительно причесан, изящество изложения обращает на себя внимание. Отец Золушки — «дворянин»; дочери ее мачехи — «благородные девицы»; в комнатах у них паркетные полы, самые модные кровати и зеркала; дамы заняты выбором нарядов и причесок. Описание того, как волшебница-крестная наряжает Золушку и дает ей карету и слуг, опирается на фольклорный материал, но дано значительно подробнее и «утонченней».
Сказка «Спящая красавица» (точный перевод — «Красавица в спящем лесу») впервые воплотила основные черты нового типа сказки. Сказка основана на фольклорном сюжете, известном у многих народов Европы, написана прозой, к ней присоединено стихотворное нравоучение.
Традиционные сказочные элементы соединяются у Перро с реалиями современной жизни. Так, в «Спящей красавице» царственная бездетная пара ездит лечиться на воды и дает различные обеты, а пробудивший принцессу юноша «поостерегся ей сказать, что платье у нее — как у его бабушки...».
Трудолюбие, великодушие, находчивость представителей простого народа Перро пытался утвердить в качестве ценностей своего круга. Поэтизация этих качеств делает его сказки важными и для современного ребенка.
В России сказки Перро появились в 1768 году под названием «Сказки о волшебницах с нравоучениями». В 1866 году под редакцией И.С.Тургенева выходит новое издание сказок, уже без нравоучений. В таком виде, с некоторыми сокращениями и адаптацией, сборник стал выходить для юного читателя и в дальнейшем.
|
16.2. Сказки Братьев Гримм. Богатство содержания, увлекательность сюжета, юмор.
Братья Гримм, Якоб (1785—1863) и Вильгельм (1786—1859), известны как основоположники германистики — науки об истории, культуре и языке Германии. Их многолетними трудами составлен фундаментальный «Немецкий словарь» (последний том — 1861), написана «История немецкого языка» (1848). Всемирную славу не только в ученом мире, но и среди детей принесли братьям Гримм «Детские и семейные сказки» (1812 — 1815), собранные и обработанные ими. Два тома содержат двести сказок — так называемый «сказочный канон».
Якоб и Вильгельм Гримм жили в эпоху зарождения и расцвета романтизма, как важного направления мировой культуры рубежа XVIII—XIX веков. Одним из его проявлений было стремление лучше узнать собственный народ, возрождение интереса к фольклору, народному языку, культуре. Большая часть сказочных сюжетов была собрана братьями Гримм, профессорами-филологами, в ходе их многочисленных экспедиций по сельской Германии, записана со слов сказителей, крестьян, горожан. При этом Якоб, более академичный и педантично-строгий собиратель, настаивал на доскональном сохранении устного текста, а Вильгельм, более склонный к поэзии, предлагал подвергать записи художественной обработке. В итоге их споров родился особый стиль литературной обработки устной народной сказки, который называют гриммовским. Гриммовский стиль стал первым примером для сказочников следующих поколений. Сохранив особенности языка, композиции, общего эмоционально-идейного содержания, братья Гримм передали свойства немецких фольклорных сказок, вместе с тем сообщили им черты художественной литературы, пересказав по-своему.
В обработанном братьями Гримм виде они стали важной частью детского чтения во многих странах мира.
Сказки, написанные для малышей: «Бабушка вьюга», «Белоснежка и семь гномов», «Беляночка и Розочка», «Бременские музыканты», «Горшок каши», «Золотой гусь», «Король дроздобород», «Мальчик-с-пальчик», «Семеро храбрецов»; «Умная Эльза», «Удалой портняжка».
Сказки братьев Гримм имеют некоторые общие композиционные и стилистические приметы, которые не позволяют спутать их с какими-либо иными. Сказочники достаточно редко используют традиционные зачины («жили-были...», «в некотором царстве, в некотором государстве...») и дидактические, морализаторские концовки. Герои их бытовых сказок чаще всего простые люди — крестьяне, мастеровые, ремесленники, солдаты. Они оказываются в ситуациях, которые легко можно представить. Граница между сказкой и жизнью легко преодолевается читателем, и он способен сам сделать выводы, руководствуясь здравым смыслом и чувством. В сказках о животных и волшебных сказках действуют те же народные правила нравственной оценки героев. Доброта, трудолюбие, ум, сметливость, храбрость, самоотверженность оказываются основаниями для преодоления невзгод, несправедливости, злобы в сказках «Храбрый портняжка», «Золушка», «Горшок каши», «Бабушка Метелица», «Братец и сестрица», «Умная Эльза». Пословицы, поговорки, присказки используются братьями Гримм с большим тактом, органически входят в речь героев, делая повествование увлекательнее, ярче, но не перегружая его. Простота, прозрачность сюжетного действия и глубина морально-этического содержания, пожалуй, — главные отличительные особенности сказок Гримм. Их «Бременские музыканты» продолжают свое путешествие по временам и странам.
В немецких вариантах таких сказок, как «Волк и семеро козлят», «Золушка», «Красная Шапочка», «Мальчик-с-пальчик», читатель найдет немало общего с русскими, болгарскими, французскими сказочными сюжетами.
Сборник братьев Гримм послужил богатым источником сюжетов для писателей-сказочников. На русский язык сказки стали переводить в середине 1820-х годов сначала с французского перевода, а затем уже с оригинала.
16.3. Сказки Г.Х. Андерсена. Демократизм и гуманизм, лиризм и поэтичность, богатство фантазии.
Творчество Ханса Кристиана Андерсена одно из самых значительных явлений в истории датской и мировой литературы XIХ века. Автор многочисленных произведений в различных жанрах, он достиг вершины в своих сказках, ибо необычайно велики гуманистическое, идейное и эстетическое значение этих сказок, раскрывающих мир больших и чистых человеческих чувств, глубоких и благородных мыслей.
|
Сказки Андерсена - одно из значительнейших явлений мировой литературы XIX века. Они занимают важное место в истории национальной культуры Дании, так как писатель вложил в них глубокий конкретно-исторический смысл. В его произведениях дана широкая критика датского общества 20—70-х годов XIX века.
Сказки Андерсена дороги и понятны людям разных возрастов, разных эпох, разных стран. Они способствуют формированию детского сознания, воспитывают в духе демократизма. Глубокое философское содержание видят в них взрослые.
Необыкновенная, увлекательная фабула соединяется в сказках Андерсена с высокими нравственными идеалами, простодушная наивность переплетается с глубокой жизненной мудростью, реальная действительность - с вдохновенным поэтическим вымыслом, благодушный юмор - с тончайшей иронией и сарказмом. Удивительное смешение забавного и серьезного, смешного и печального, обыденного и чудесного составляет особенность стиля Андерсена. Его сказки, подлинно демократические по всему строю мыслей и чувств, проникнуты верой писателя-гуманиста в грядущее торжество социальной справедливости, в победу доброго, истинно человеческого начала над силами зла.
Жизнь Андерсена проходила в странствиях. Страной, явившейся в глазах путешественника земным воплощением Эдема, стала Италия. Действие многих его сказок и историй разворачивается в Италии или переносится туда («Дюймовочка», «Русалочка» и др.). Будучи в Германии, беседовал он с Якобом Гриммом. Сказки братьев Гримм повлияли на его творчество: следы влияния особенно отчетливы в сказках «Большой Клаус и Маленький Клаус», «Огниво», «Голубой огонь». Жанр сказки стал для Андерсена универсальной формой эстетического постижения действительности. Именно он ввел сказку в систему «высоких» жанров.
Основная часть наследия Андерсена — его сказки и истории (сборники: «Сказки, рассказанные детям», 1835—1842; «Новые сказки», 1843—1848; «Истории», 1852—1855; «Новые сказки и истории», 1858—1872), сделавшие его имя всемирно известным.
«Сказки, рассказанные детям» (1835—1842) основаны на переосмыслении народных мотивов («Огниво», «Дикие лебеди», «Свинопас» и др.), а «Истории, рассказанные детям» (1852) — на переосмыслении истории и современной действительности. При этом даже арабские, греческие, испанские и иные сюжеты обретали у Андерсена колорит датской народной жизни.
Пользуясь народными датскими сюжетами и создавая новые оригинальные сказки, Андерсен внес глубоко актуальное содержание в свои произведения, отразил в них сложные противоречия современной ему действительности («Маленький Клаус и Большой Клаус», «Принцесса на горошине», «Новое платье короля» (любимая сказка Льва Толстого), «Калоши счастья» и др.).
В ранних сказках Андерсен особенно близок фольклорным источникам. «В первом выпуске,- писал он в автобиографии,- находились сказки, слышанные мною в детстве; я же только записал их». Но в действительности дело не ограничилось простой записью. Писатель преобразовал каждый сюжет, подчиняя его своей собственной художественной манере. С первых же строк в произведении развертывается стремительное действие и перед глазами читателя возникает живой образ героя. Андерсен сознательно подчеркивал в народных сказочных сюжетах социальный подтекст, еще более усиливал присущий народному творчеству оптимизм. Когда лихой солдат из сказки «Огниво» одолел злого короля и его советников, «весь народ закричал: «Служивый, будь нашим королем и женись на прекрасной принцессе!»
Маленький Клаус благодаря природному уму и находчивости решительно расправляется со своим мучителем - жадным и завистливым богачом Большим Клаусом, и в тоне автора чувствуется удовлетворение («Маленький Клаус и Большой Клаус»).
Необыкновенная сила самоотверженной любви Элизы к своим братьям помогает ей выдержать все испытания и одержать победу над злыми чарами. При этом среди врагов доброй девушки мы видим не только сказочную королеву-колдунью, но и обыкновенного католического епископа («Дикие лебеди»).
Творческий расцвет Андерсена, сделавший его королем сказочников, пришелся на конец тридцатых и сороковые годы. Появляются такие шедевры, как "Стойкий оловянный солдатик" (1838), "Соловей", "Гадкий утенок" (обе - 1843), "Снежная королева" (1844), "Девочка со спичками" (1845), "Тень" (1847), "Мать" (1848) и другие.
Иногда сказки превращаются в целые повести, в которых фольклорная основа сочетается со свободным вымыслом. В «Снежной королеве», как и в других сказках, высокая нравственная идея вытекает из самого сюжета. В сердце маленького Кая попадает осколок дьявольского зеркала. «Отражаясь в нем, все великое и доброе казалось ничтожным и скверным, все злое и худое выглядело еще злее, и недостатки каждой вещи тотчас бросались в глаза». Но Герда не может оставить друга в беде. Чтобы освободить его от колдовства, она выдерживает немыслимые испытания, обходит босиком полсвета. И когда мальчик и девочка вернулись из холодной Лапландии в родной дом, они почувствовали себя совсем взрослыми.
|
Размышления о собственной необыкновенной судьбе определили характер многих героев Андерсена — маленьких, беззащитных в огромном мире, средь закоулков которого так легко затеряться. Стойкий оловянный солдатик, Дюймовочка, Герда, Трубочист, Ромашка — эти и другие герои воплощают авторский идеал мужества и веры в добро.
Всемирно известная сказка «Стойкий оловянный солдатик» - печальная история беззаветной любви одноногого оловянного солдатика к картонной танцовщице полна глубокого гуманистического смысла. Награда Стойкому оловянному солдатику — возможность взглянуть на прелестную танцовщицу и сгореть то ли от огня печки, то ли от любви; гибель обоих воспринимается не как трагедия, а как торжество любви. Эта сказка звучит как гимн человеческому достоинству и самоотверженности. Игрушки ведут себя, как люди, они наделяются разумом и чувствами.
Своеобразие замечательных сказок Андерсена заключается в том, что он, с одной стороны, необычайно очеловечил, приблизил к жизни самые фантастические персонажи своих произведений («Дюймовочка», «Русалочка»). С другой стороны, он придал фантастичность обыкновенным, реальным предметам и явлениям. Люди, игрушки, предметы домашнего обихода и т. д. становятся героями его произведений, переживают невиданные волшебные приключения («Бронзовый кабан», «Штопальная игла», «Воротничок» и т. д.).
Неувядаемую прелесть придают сказкам андерсеновский юмор и живой разговорный язык. Необычайно велика в них и роль рассказчика. Сказочник выработал свою манеру повествования — непосредственно-наивную, мягко-ироничную. Его рассказчик умеет любоваться всем тем, что нравится детям, оставаясь при этом взрослым. Рассказчик является носителем этического идеала Андерсена, выразителем его кредо, образцом его положительного героя. Он раскрывает бедственное положение народа и осуждает его поработителей, он обличает пороки светского общества.
Андерсен становился европейской знаменитостью: его сказки сдали экзамен на вечность в столице мировой культуры – Париже. С тех пор Андерсен стал называть свои сборники "Новые сказки", подчеркивая, что они адресованы не только детям, но и взрослым. Ведь именно взрослые оценили философскую сатиру "Нового платья короля" и "Тени", антиобывательский пафос "Дюймовочки", поднятые проблемы искусства в "Соловье".Действительно, сказки Андерсена многожанровы. Так, "Штопальная игла", "Жених и невеста", "Воротничок", "Свинья-копилка", "Истинная правда" близки к басне; "Старый дом", "Девочка со спичками" по сути новеллы; "Новое платье короля", "Снежная королева" - философские притчи.
Андерсен не берет на себя миссию морализатора, хотя его сказки и истории в высшей степени поучительны. Они развивают в читателе неизменную любовь к жизни, мудрость по отношению ко злу, формируют то гармоничное состояние духа, которое и является залогом счастья. Философия жизни выражается в словах сказочника: «Нет на свете такого человека, которому бы хоть раз в жизни не улыбнулось счастье. Только до поры до времени счастье это скрывается там, где его меньше всего ожидают найти».
В России сказки Андерсена появились в середине 40-х годов 19в. благодаря профессору Петербургского университета П. А. Плетневу, опубликовавшему первые переводы. Это были сказки «Лист», «Бронзовый кабан», «Роза с могилы Гомера», «Союз дружбы». И вот уже более столетия они наводят на размышления не только детей, но и взрослых. Их герои, сюжеты, положения подарили нам афоризмы и поговорки, метафоры и аллегории, темы и философские обобщения... Голый король ("А король-то голый!"), гадкий утенок, ставший прекрасным лебедем, принцесса на горошине, бедный Кай, верная Герда, бессердечная Снежная королева, стойкий оловянный солдатик, нежная Дюймовочка... - в нашей культуре они стали устойчивыми образами, которые можно встретить в самых разных текстах: художественных, публицистических, критических, научно-популярных. Андерсену, как никому в мире, удалось в сказке выразить целую философию жизни, оттого его книги сопровождают нас от колыбели до мудрых седин.
|
16.4. Р.Киплинг. Сказки "Просто так".
Творчество Киплинга — одно из самых ярких явлений неоромантического направления в английской литературе. В его произведениях показан суровый быт и экзотика колоний. Он развеял расхожий миф о волшебном, роскошном Востоке и создал свою сказку — о Востоке суровом, жестоком по отношению к слабым; он рассказал европейцам о могучей природе, требующей от каждого существа напряжения всех физических и духовных сил.
В течение восемнадцати лет Киплинг писал сказки, новеллы, баллады для своих детей и племянников. Мировую известность получили два его цикла: двухтомная «Книга джунглей» (1894—1895) и сборник «Просто так» (1902). Произведения Киплинга зовут маленьких читателей к размышлениям и самовоспитанию. До сих пор английские мальчики заучивают наизусть его стихотворение «Если...» — заповедь мужества.
В названии «Книги джунглей» отразилось стремление автора создать жанр, близкий древнейшим памятникам литературы. Философская идея двух «Книг джунглей» сводится к утверждению, что жизнь дикой природы и человека подчиняется общему закону — борьбе за жизнь. Великий Закон джунглей определяет Добро и Зло, Любовь и Ненависть, Веру и Неверие. Сама природа, а не человек, является творцом нравственных заповедей (именно поэтому в произведениях Киплинга нет и намека на христианскую мораль). Главные слова в джунглях: «Мы с тобой одной крови...».
Единственная правда, существующая для писателя, — живая жизнь, не скованная условностями и ложью цивилизации. Природа имеет в глазах писателя уже то преимущество, что она бессмертна, тогда как даже прекраснейшие человеческие творения рано или поздно обращаются в прах (на развалинах некогда роскошного города резвятся обезьяны и ползают змеи). Только огонь и оружие могут сделать Маугли сильнее всех в джунглях.
Двухтомная «Книга джунглей» представляет собой цикл новелл, перемежающихся стихотворными вставками. Не все новеллы повествуют о Маугли, часть из них имеет самостоятельные сюжеты, например новелла-сказка «Рикки-Тикки-Тави».
Своих многочисленных героев Киплинг поселил в дебрях Центральной Индии. Авторский вымысел опирается на множество достоверных научных фактов, изучению которых писатель посвятил много времени. Реализм изображения природы согласуется с ее романтической идеализацией.
Другая «детская» книга писателя, получившая широкую известность, — сборник коротких сказок, названный им «Просто так» (можно перевести и «Просто сказки», «Простые истории»): "Откуда у Кита такая глотка", "Отчего у Верблюда горб", "Откуда у Носорога шкура", "Откуда взялись Броненосцы", "Слонёнок, «Как леопард получил свои пятна», «Кошка, которая гуляла сама по себе» и др.
Киплинга увлекало народное искусство Индии, и в его сказках органично сочетаются литературное мастерство «белого» писателя и мощная выразительность индийского фольклора. В этих сказках есть нечто от древних легенд — от тех сказаний, в которые верили и взрослые на заре человечества. Основные герои — животные, со своими характерами, причудами, слабостями и достоинствами; они похожи не на людей, а на самих себя — еще не прирученных, не расписанных по классам и видам.
«В самые первые годы, давно-давно, вся земля была новенькая, только что сделанная» {здесь и далее перевод К. Чуковского). В первозданном мире звери, как и люди, делают первые шаги, от которых всегда будет зависеть их дальнейшая жизнь. Правила поведения только-только устанавливаются; добро и зло, разум и глупость только определяют свои полюса, а звери и люди уже живут на свете. Каждое живое существо вынуждено находить собственное место в не устроенном пока мире, искать свой образ жизни и свою этику. Например, Лошадь, Собака, Кошка, Женщина и Мужчина имеют разные представления о добре. Мудрость человека состоит в том, чтобы «договориться» на веки вечные со зверями.
В ходе повествования автор не раз обращается к ребенку («Раз как-то жил, мой бесценный, в море Кит, который поедал рыб»), чтобы сложно заплетенная нить сюжета не была утеряна. В действии всегда много неожиданного — такого, что разгадывается лишь в финале. Герои демонстрируют чудеса находчивости и изобретательности, выбираясь из сложных ситуаций. Маленькому читателю как будто предлагается подумать, что еще можно было бы предпринять, чтобы избежать дурных последствий. Слоненок из-за своего любопытства навсегда остался с длинным носом. У Носорога шкура оказалась в складках — из-за того, что он съел пирог человека. За маленькой оплошностью или виной — непоправимое большое следствие. Впрочем, оно не портит жизнь в дальнейшем, если не унывать.
|
Каждый зверь и человек существуют в сказках в единственном числе (ведь они еще не представители видов), поэтому их поведение объясняется особенностями личности каждого. А иерархия зверей и людей выстраивается согласно их сообразительности и уму.
Сказочник повествует о древних временах с юмором. Нет-нет да и появляются на его первобытной земле детали современности. Так, глава первобытной семьи делает замечание дочке: «Сколько раз я тебе говорил, что нельзя говорить простонародным языком! "Ужасть" — нехорошее слово...» Сами сюжеты остроумно-поучительны.
Представить мир иным, чем его знаешь, — уже одно это требует от читателя яркого воображения и свободы мысли. Верблюд без горба. Носорог с гладкой шкурой, застегнутой на три пуговицы, Слоненок с коротким носом, Леопард без пятен на шкуре, Черепаха в панцире на шнурках.
Сказочная земля Киплинга подобна детской игре своей живой подвижностью. Киплинг был талантливым рисовальщиком, и самые лучшие иллюстрации к собственным сказкам нарисовал он сам.
Творчество Редьярда Киплинга пользовалось особенно большой популярностью в России в начале XX века. Его ценили И. Бунин, М.Горький, А.Луначарский и др. В начале 20-х годов сказки и стихи Р.Киплинга были переведены К. Чуковским и С. Маршаком. Эти переводы и составляют большую часть его произведений, издаваемых у нас для детей.
16.5. Ю. Тувим. Стихи для детей.
Юлиа́н Туви́м (польск. Julian Tuwim); 13 сентября 1894, Лодзь, Царство Польское — 27 декабря 1953, Закопане, ПНР) — один из величайших польских поэтов, прозаик.
Родился в польской еврейской семье в городе Лодзь. Окончил там школу и в 1916—1918 годах изучал юриспруденцию и философию в Варшавском университете.
Дебютировал в 1913 году стихотворением «Просьба», опубликованным в «Варшавском курьере» (Kurierze Warszawskim). На Тувима сильно повлияли такие поэты как У. Уитмен и А. Рембо. В его поэзии часто использовался разговорный, повседневный язык. Оптимизм, отраженный в его ранних стихах, постепенно заменился горьким и опустошенным мировоззрением. Его поэма Bal w Operze («Бал в опере»), сатирически изображающая польское правительство, была запрещена цензурой.
Был одним из основателей экспериментальной литературной группы Скамандр в 1919 году. С 1924 года Тувим вёл еженедельную колонку в газете «Литературные новости» (Wiadomości Literackie).
В предвоенные 1930-е годы в стихах Тувима прозвучала резкая критика фашизма. Проведя в эмиграции 1939—1945 годы, он продолжал выступать против фашизма.
Перевёл на польский язык разнообразные произведения русской и советской литературы («Слово о полку Игореве»; «Горе от ума» А. С. Грибоедова; поэзию А. С. Пушкина, В. В. Маяковского, Б. Л. Пастернака). Русским читателям он более всего известен стихотворениями для детей в переводах С. Маршака и С. Михалкова и словотворческой фантазией «Зелень» в переводе Л. Мартынова.
«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», «Азбука», «Словечки-калечки», «Птичий двор», «Речка», «Про Янека», «Птичье радио», «Овощи», «Где очки» - стихи Ю. Тувина в переводе С.Михалкова.
Так в « Азбуке» очень весело рассказывается о буквах, что позволяет детям быстрее их запомнить.
| Что случилось? Что случилось? С печки азбука свалилась! Больно вывихнула ножку Прописная буква М, Г ударилась немножко, Ж рассыпалась совсем! Потеряла буква Ю Перекладинку свою! Очутившись на полу, Поломала хвостик У. | Ф, бедняжку, так раздуло - Не прочесть ее никак! Букву P перевернуло - Превратило в мягкий знак! Буква С совсем сомкнулась - Превратилась в букву О. Буква А, когда очнулась, Не узнала никого! |
|
А в стихотворении «Овощи» дети узнают о том, какие бывают овощи, что все они важны и только вместе они могут сделать овощной суп вкусным:
| Хозяйка однажды с базара пришла, Хозяйка с базара домой принесла: Картошку, Капусту, Морковку, Горох, Петрушку и свеклу. Ох!.. Хозяйка тем временем ножик взяла И ножиком этим крошить начала: Картошку, Капусту, Морковку, Горох, Петрушку и свеклу. Ох!.. | Вот овощи спор завели на столе - Кто лучше, вкусней и нужней на земле: Картошка? Капуста? Морковка? Горох? Петрушка иль свекла? Ох!.. Накрытые крышкою, в душном горшке Кипели, кипели в крутом кипятке: Картошка, Капуста, Морковка, Горох, Петрушка и свекла. Ох!.. И суп овощной оказался не плох! |
|
17.ИЛЛЮСТРАТОРЫ ДЕТСКОЙ КНИГИ. Значение иллюстрации в детской книге. Развитие на разных этапах. Художники иллюстраторы.
Во все времена дети одинаково любят книжки с картинками, и чем больше в них интересных картинок, тем ярче становятся их фантазии, тем лучше они понимают смысл еще непонятных вещей, с неимоверной скоростью «впитывая» всё то новое, что видят глаза и слышат уши.
Основным средством эстетического развития ребенка является детская иллюстрированная книга - синтез литературных текстов и иллюстрации. Иллюстрированная книга - особый мир, в котором художественная иллюстрация и литературный текст функционируют в едином комплексе, помогают юному читателю воспринять книгу как многоплановое произведение искусства. Художественная иллюстрация - важнейший элемент книги для детей, во многом определяющий ее художественную ценность, характер эмоционального воздействия, возможности использования ее в процессе эстетического воспитания читателей.
Слово «иллюстрация» происходит от латинского «illustratia» и означает «освещение, наглядное изображение». Иллюстрация дополняет, поясняет и «освещает» текст с помощью наглядных примеров. С другой стороны, иллюстрация – это область изобразительного искусства, в которой художник-иллюстратор выступает и как интерпретатор литературного произведения, и как создатель нового произведения искусства, искусства книжной графики. Такая иллюстрация и может быть названа художественной.
Иллюстрация, прежде всего, произведение изобразительного искусства, а затем литературы. Задача иллюстратора в наиболее общем выражении состоит в том, чтобы передать идейное и образно-эстетическое содержание одного вида искусства (литературы) средствами и приемами другого (графики). Велика роль книжной иллюстрации и в раскрытии идейно-художественного своеобразия литературного произведения, понимания литературного текста. Поскольку художник-иллюстратор в детской книге выступает как творец и соавтор писателя, он не просто отражает в своих рисунках мир литературного произведения, но и дает трактовку, зрительную интерпретацию, свое понимание событий и образов.
Интересным средством раскрытия литературного произведения, которым пользуется художник-иллюстратор, является художественный вымысел. Суть художественного вымысла - в изменении, усилении, развитии, через несуществующие в литературном произведении детали, его идейного смысла; раскрепощении воображения, фантазии маленького читателя, его творческих способностей.
Задачу отражения главной идеи литературного произведения, но в наиболее общем виде, часто решает иллюстрация-фронтиспис, расположенная в самом начале книги, против титульного листа. В русле этой идеи, как бы вынесенной иллюстрацией за скобки повествования, и осуществляется все дальнейшее восприятие книги читателем.
В тесной связи с раскрытием идейного смысла литературного произведения находится характеристика образов героев - задача, которую решает художник-иллюстратор практически в каждой книге. К средствам образной характеристики относятся: графическое изображение героя, передача психологического состояния героя через мимику, позу, жест, а также с помощью пейзажа, интерьера и даже цвета. Все эти художественные характеристики направлены на раскрытие идейно-образного содержания литературного произведения, в их понимании - большой резерв воспитания творческого читателя, эстетического развития детей.
Таким образом, книжная иллюстрация как особый вид изобразительного искусства оказывает громадное влияние на формирование чувственного восприятия мира, развивает в ребенке эстетическую восприимчивость, выражающуюся, прежде всего, в стремлении к красоте во всех ее проявлениях. Иллюстрация в книге - это первая встреча детей с миром изобразительного искусства. Дополняя и углубляя содержание книги, пробуждая в ребенке те чувства и эмоции, которые вызывает в нас истинно художественное произведение, и, наконец, обогащая и развивая его зрительное восприятие, книжная иллюстрация выполняет эстетическую функцию.
Художественно исполненная иллюстрация воздействует на ребенка, прежде всего, эстетически, дает ему познание жизни и познание искусства, т.е. она помогает ребенку в познании мира, освоении нравственных ценностей, эстетических идеалов, углубляет восприятие литературного произведения.
Иллюстрированная книга служит для ребенка стимулом освоения первых навыков чтения, а затем и для их совершенствования. Благодаря высокопрофессиональной иллюстрации, учитывающей особенности детского восприятия, возникает интерес к книге и чтению. С иллюстрации начинается процесс выбора ребенком книги для чтения. Иллюстрация способствует пониманию ребенком литературного текста, формирует представление о его теме, идее, персонажах, содержит в себе оценку событий и героев литературного действия.
|
Иллюстрация помогает детям войти в литературный мир, почувствовать его, познакомиться и подружиться с населяющими его персонажами, полюбить их. Так как жизненный опыт ребенка невелик ему сложнее воссоздать в своем воображении то, о чем повествует писатель. Ему необходимо увидеть, поверить. Здесь в книгу вступает художник.
Поэтому в мире детства особая роль отведена художнику, создающему иллюстрации для книг, ведь на нем лежит огромная ответственность не только за то, чтобы созданные им образы соответствовали содержанию, но и за то, чтобы картинки понравились и полюбились юным читателям, так как именно они здесь настоящие критики, пусть даже самые маленькие среди них еще не умеют читать.
Уже в XV веке взрослые знали о том, что дети любят рассматривать картинки, поэтому стали издавать Библии и буквари с иллюстрациями, ведь ради того, чтобы понять то, что нарисовано на картинке, ребенок готов был прочитать любой, пусть даже самый скучный, текст.
Первой иллюстрированной детской книгой в России был «Букварь» Кариона Истомина, изданный в 1692 и 1694 гг. в сопровождении гравюр на меди, выполненных художником-гравером Леонтием Буниным очень четко и наглядно.
С начала XVII в. почти до начала XX в. большое значение при воспитании детей и обучении их чтению имели русские народные картинки, так называемые «потешные листы» или лубки. В конце XVIII в. появляются учебники с гравированными иллюстрациями познавательного характера. Позже в свет выходят прижизненные издания сочинений А.С. Пушкина, Жуковского, Крылова, иллюстрированные гравюрами по рисункам известнейшего графика и живописца И.А. Иванова. Для них характерно изящество и простота образов, чистота рисунка. В XIX в. историю книжки-картинки продолжают «Азбуки»: «Подарок русским детям на память об Отечественной войне 1812 г.» с акварелями М.И. Теребенева, «Увеселительная азбука» К.А.Зеленцова и др. Со второй половины XIX в. выпуском иллюстрированных книг для детей занимаются крупные издательские и типографские предприятия, что позволяло снизить цену книг и печатать их большими тиражами. В конце XIX в. к иллюстрированию детской книги обращаются выдающиеся художники-живописцы И.Е. Репин, В.М. Васнецов, В.И. Суриков, В.А. Серов, М.В. Нестеров. Но участие этих мастеров в оформлении детских изданий не было постоянным, художники опирались на традиции не книжного, а станкового искусства, то есть рисунка, не предназначенного специально для книги. Качество этих изданий тоже оставляло желать лучшего: на серой бумаге с плохой печатью терялась прелесть авторской работы.
Во второй половине XIX в. в русском искусстве обозначалась тяга к жанрам, до того считавшимися второстепенными. В живописи это было прежде всего освоение различных видов внестанкового творчества. Просветительские задачи приводят В.М. Васнецова, Е.Д. Поленеву к книжной иллюстрации. Оба этих художника целенаправленно стремились создать русский национальный стиль, основанный на народных и древнерусских традициях, трансформировать народно-бытовое окружение в современных художественных формах.
«Былинно-сказочное направление» творчества В.М. Васнецова (1848—1926) начало складываться до его участия в кружке. Но Абрамцево сыграло в эволюции Васнецова-иллюстратора решающую роль. Он разработал собственный декоративный плоскостной стиль графики на основе лубка и древнерусской книжной миниатюры.
Елена Дмитриевна Поленова, считавшая себя ученицей Васнецова, создавала иллюстрации к русским народным сказкам. Она регулярно совершала поездки по деревням Московской, Ярославской, Костромской, Владимирской губерний, где собирала подлинники народного творчества, утварь, народные костюмы, записывала сказки. Иллюстрируя для детей тексты русских сказок «Сынко Филипко» (1886), «Война грибов», «Зверь» (1880) художница объединила две близкие ей области народного искусства: прикладное творчество и фольклор. Она стремилась передать тот поэтический взгляд на мир, который свойствен всем творениям народа. Праздничное, приподнятое чувство, одушевлявшее Е. Поленову, придающее ее иллюстрациям нарядность, и некоторая сказочная таинственность создавали особое настроение у маленького зрителя и читателя. Опыт Васнецова и Поленовой открыл путь для дальнейших поисков приемов художественного переосмысления форм древнерусского и народного искусства.
|
Произведения художника С.В. Малютина (1859—1937), работавшего в селе Талашкино над созданием предметов быта (мебели, домашней утвари), первыми приблизились к графическим образцам, которые соединили простоту, даже наивность с живостью ритма, упрощенных линий и форм рисунка, напоминающих лубок. Художник выпустил в свет книжку-картинку «Ай-ду-ду!» (1899), а также оформил «Сказку о царе Салтане», поэму «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина и другие книги.
В конце XIX— начале XX вв. в возникшее общество «Мир искусства» вошли великолепные русские художники-графики: А.Н. Бенуа, Г.И. Нарбут, И.Я. Билилин, Д.Я. Митрохин. Утонченный вкус иллюстраций, нарядность и роскошь внешнего оформления, прекрасная бумага, отличная полиграфия — все это делало их книги изысканными «вещами», доступными немногим. Среди их созданий «Азбука в картинках» А.Н. Бенуа (1870—1960), вышедшая в 1904 г. Книга достаточно сложна по материалу, но он подан живо, увлекательно. Иллюстрации Г.И. Нарбута к басням И.А. Крылова, к книге «Игрушки» отличает монохромность, тонко отточенное черное силуэтное изображение на белом поле листа, заключенное в строгую рамку классического стиля.
Больше всего занимался оформлением сказок Б.И. Билибин (1876—1942). Его произведения декоративны, орнаментальны, многоцветны. Их отличает четкий линейный контур, выполнявшийся пером. Они напоминают удивительно красивый ковер, что как будто создает излишнюю дробность изображения и затрудняет восприятие. Между тем работы Билибина являются действительно иллюстрациями, то есть не могут существовать в отрыве от книги, как станковые произведения. Они очень сказочны, с изобилием красивых виньеток, буквиц, с рисованным шрифтом. Это как бы вводит читателя в атмосферу нарядных былин и преданий. В оформлении художника были изданы народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Белая уточка», «Марья Морев-на», «Василиса Прекрасная», «Перышко Финиста Ясна-Сокола», былины о Добрыне Никитиче и Илье Муромце, а также «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о Золотом петушке» А.С. Пушкина.
В 20-е годы детская книга претерпевает изменения, начинает приобретать черты жанра: книга как некое художественно концентрированное отображение новых общественных явлений. В 1924 году был создан детский отдел Ленинградского отделения Государственного издательства, художественную редакцию которого возглавил прекрасный художник-график В.В. Лебедев. В этой творческой лаборатории, названной впоследствии лебедевской школой графики, работали художники Н.А. Тырса, Н.Ф. Лапшин, В.М. Конашевич, А.Ф. Пахомов, В.И. Курдов, Е.И. Чарушин, Ю.А. Васнецов. Они опирались не только на свою творческую интерпретацию литературных образов, но и стремились учесть психологию детского возраста, ставя себя на место ребенка, припоминая собственные детские впечатления.
В.В Лебедев 40 лет сотрудничал с С.Я. Маршаком. Маршак считал его полноправным автором созданных ими вместе книг. Например, книгу «Цирк» изначально задумал и нарисовал Лебедев, а затем Маршак сочинил к ней стихи. Зрительные образы, нарисованные Лебедевым сливаются в одно целое с литературными персонажами. Его рисунки лаконичны, ярки, выразительны, но не лишены познавательности, которую он считал одним из главных качеств иллюстрации в детской книге. Он работал над такими книгами С.Я. Маршака, как «Вчера и сегодня», «Багаж», «Мистер Твистер»,
Конашевич В.М. много лет сотрудничал с К.И. Чуковским. Им оформлены книги «Краденое солнце», «Муха-цокотуха» и др. Он проиллюстрировал многие книги классиков русской литературы: «Конек-горбунок» Ершова, сказки А.С. Пушкина, книги И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого.
Ю.А. Васнецов иллюстрировал и оформлял книги В. Бианки, С. Маршака, К. Чуковского, русские народные сказки и др. Книги, оформленные Ю. А. Васнецовым, легко узнаются. Иллюстрации в них имеют первостепенное значение, текст подчиняется им.
Книжки-картинки Ю. Васнецова знакомят ребенка с жизнью через искусство (Л.Толстой "Три медведя", П. Ершов "Конек-горбунок", С. Маршак "Теремок" и др.). Лучшие работы художника - иллюстрации к сборникам "Ладушки" и "Радуга-дуга". Ю. Васнецова по праву называют художником русской сказки. Одной из основных особенностей его художественного метода является неразрывная органическая связь с народным искусством. Его персонажи (зверюшки, дети, куклы – это игрушки с ярмарки, разодетые в нарядные платья, сапожки, кафтанчики; игрушечные кони запряжены в расписные тележки. Но они не скопированные в точности народные игрушки. Они ближе к реальному облику изображаемого. Художник стремится к стилизации – преломлению образов народного творчества в воображении.
|
Произведениям Конашевича, Билибина, Васнецова присуща важная особенность детской иллюстрации – декоративность (от латинского слова «украшаю»). В формировании детской книги декоративность стала важным качеством.
Иллюстрации В.М. Конашевича, А.Ф. Пахомова, Е.И. Чарушина, А. Фаворского и др. вошли в золотой фонд русского искусства.
Развитие иллюстрации не шло по прямой. Были сдвиги и отклонения. Расцвет красивой книжки 20-х годов сменяется полосой упадка искусства детской книги.
В 1930-50-е годы введение станковых приемов привело к утрате специфических признаков детской книги. Замедлилось развитие жанра книжки-картинки. В конце 50-х годов детская книга приобретает те же черты жанра, что и в 20-х годах. Молодые художники М. Митурич, Н.Устинов и др. усваивали традиции старых мастеров.
В 60-е годы ведется разработка книжки – игрушки, специальной игровой книги. А.Елисеев, М. Скобелев сделали такие книжки в 1964-65гг.: «Вот какой рассеянный» С.Маршака, «Что ни станица, То слон, то львица» В. Маяковского. Подрезки на страницах, картонные диски, окошечки делали процесс чтения более интересным.
В наше время с возникновением компьютерного дизайна значительно расширились возможности художников. Но, к сожалению, можно видеть много злоупотреблений этим изобразительным приемом. Выпускается много книг однообразно пестрых, тяжелых для детского восприятия и несмотря на хорошее качество полиграфии не выдерживают критики с точки зрения художественного вкуса, педагогико-воспитательных задач, познавательных и эстетитческих задач, которые призвана решать хорошая книга.
Литература
1. Арзамасцева И.Н. Детская литература: Учебник для студ. высш.пед. заведений / И.Н. Арзамасцева, С.А. Никорлаева.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2005.- 576с.
2. Бодрова Ю.В. Русские пословицы и поговорки и их английские аналоги.- М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007.- 159с.
3. Детская литература: Учебник/ Е.Е. Зубарева, В.К. Сигов, В.А. Скрипкина и др.; Под ред. Е.Е. Зубаревой.- М.: Высш. шк., 2004.- 551с.
4. Лагутина Т.В. Народные скороговорки, прибаутки, частушки, пословицы и загадки.- М.: Рипол Классик, 2010.- 256с.
5. Розе Т. В. Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка для детей.- М.: Олма Медиа Групп, 2009.- 209с.
6. Русская литература для детей. Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. Под редакцией Т.Д.Полозовой.-2-е издание, исправленное.- Москва: Асайет А, 1998.-453с.
7. Хрестоматия детской литературы. И.П. Токмакова.- М.: Просвещение, 1998.-462с.
1
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА С ПРАКТИКУМОМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
ПРОГРАММА ПОВТОРЕНИЯ К ЗАЧЕТУ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД!
1. А.Л. Барто. Наизусть стих о детях (по выбору студентов), "Игрушки".
ИГРУШКИ. А. Барто
| Мишка Уронили мишку на пол, Оторвали мишке лапу. Все равно его не брошу — Потому что он хороший. | Бычок Идет бычок, качается, Вздыхает на ходу: — Ох, доска кончается. Сейчас я упаду! |
| Лошадка Я люблю свою лошадку, Причешу ей шерстку гладко, Гребешком приглажу хвостик И верхом поеду в гости. | Мячик Наша Таня громко плачет: Уронила в речку мячик. — Тише, Танечка, не плачь: Не утонет в речке мяч. |
| Зайка Зайку бросила хозяйка,— Под дождем остался зайка. Со скамейки слезть не мог, Весь до ниточки промок. | Слон Спать пора! Уснул бычок, Лег в коробку на бочок. Сонный мишка лег в кровать, Только слон не хочет спать. Головой кивает слон, Он слонихе шлет поклон. |
| Грузовик Нет, напрасно мы решили Прокатить кота в машине: Кот кататься не привык — Опрокинул грузовик. | Козленок У меня живет козленок, Я сама его пасу. Я козленка в сад зеленый Рано утром отнесу. Он заблудится в саду — Я в траве его найду. |
| Кораблик Матросская шапка, Веревка в руке, Тяну я кораблик По быстрой реке, И скачут лягушки За мной по пятам И просят меня: — Прокати, капитан! | Флажок Горит на солнышке Флажок, Как будто я Огонь зажег. |
2
2. Исполнение рассказа К.Д.Ушинского "Васька", "Бишка".
РАССКАЗ «ВАСЬКА»
«Котичек-коток – серенький хвосток. Ласков Вася да хитер, лапки бархатные, коготок остер. У Васютки – ушки чутки, усы длинны, шубка шелковая. Ласкается кот, выгибается, хвостиком виляет, глазки закрывает, песенку поет, а попалась мышка – не прогневайся! Глазки-то большие, лапки-то стальные, зубки-то кривые, когти выпускные».
БИШКА
- А ну-ка, Бишка, прочти, что в книжке написано!
Понюхала собачка книжку, да и прочь пошла.
- Не мое, - говорит, дело книги читать, я дом стерегу, по ночам не сплю, воров да волков пугаю, на охоту хожу, зайку слежу, уточек ищу, поноску тащу – будет с меня и этого.
3
3. Исполнение сказки К.И.Чуковского "Мойдодыр", "Федорино горе" (отрывок наизусть).
МОЙДОДЫР
| 1. Одеяло Убежало, Улетела простыня, И подушка, Как лягушка, Ускакала от меня. Я за свечку, Свечка - в печку! Я за книжку, Та - бежать И вприпрыжку Под кровать! Я хочу напиться чаю, К самовару подбегаю, Но пузатый от меня Убежал, как от огня. Боже, боже, Что случилось? Отчего же Всё кругом Завертелось, Закружилось И помчалось колесом? Утюги за сапогами, Сапоги за пирогами, Пироги за утюгами, Кочерга за кушаком - Всё вертится, И кружится, И несётся кувырком. Вдруг из маминой из спальни, Кривоногий и хромой, Выбегает умывальник И качает головой: | 2. "Ах ты, гадкий, ах ты, грязный, Неумытый поросёнок! Ты чернее трубочиста, Полюбуйся на себя: У тебя на шее вакса, У тебя под носом клякса, У тебя такие руки, Что сбежали даже брюки, Даже брюки, даже брюки Убежали от тебя. Рано утром на рассвете Умываются мышата, И котята, и утята, И жучки, и паучки. Ты один не умывался И грязнулею остался, И сбежали от грязнули И чулки и башмаки. Я - Великий Умывальник, Знаменитый Мойдодыр, Умывальников Начальник И мочалок Командир! Если топну я ногою, Позову моих солдат, В эту комнату толпою Умывальники влетят, И залают, и завоют, И ногами застучат, И тебе головомойку, Неумытому, дадут - Прямо в Мойку, Прямо в Мойку С головою окунут!" Он ударил в медный таз И вскричал: "Кара-барас!" И сейчас же щетки, щетки Затрещали, как трещотки, И давай меня тереть, Приговаривать: |
| 4 | |
| 3. "Моем, моем трубочиста Чисто, чисто, чисто, чисто! Будет, будет трубочист Чист, чист, чист, чист!" Тут и мыло подскочило И вцепилось в волоса, И юлило, и мылило, И кусало, как оса. А от бешеной мочалки Я помчался, как от палки, А она за мной, за мной По Садовой, по Сенной. Я к Таврическому саду, Перепрыгнул чрез ограду, А она за мною мчится И кусает, как волчица. Вдруг навстречу мой хороший, Мой любимый Крокодил. Он с Тотошей и Кокошей По аллее проходил И мочалку, словно галку, Словно галку, проглотил. А потом как зарычит На меня, Как ногами застучит На меня: "Уходи-ка ты домой, Говорит, Да лицо своё умой, Говорит, А не то как налечу, Говорит, Растопчу и проглочу!" Говорит. Как пустился я по улице бежать, Прибежал я к умывальнику опять. Мылом, мылом Мылом, мылом Умывался без конца, Смыл и ваксу И чернила С неумытого лица. | 4. И сейчас же брюки, брюки Так и прыгнули мне в руки. А за ними пирожок: "Ну-ка, съешь меня, дружок!" А за ним и бутерброд: Подскочил - и прямо в рот! Вот и книжка воротилась, Воротилася тетрадь, И грамматика пустилась С арифметикой плясать. Тут Великий Умывальник, Знаменитый Мойдодыр, Умывальников Начальник И мочалок Командир, Подбежал ко мне, танцуя, И, целуя, говорил: "Вот теперь тебя люблю я, Вот теперь тебя хвалю я! Наконец-то ты, грязнуля, Мойдодыру угодил!" Надо, надо умываться По утрам и вечерам, А нечистым Трубочистам - Стыд и срам! Стыд и срам! Да здравствует мыло душистое, И полотенце пушистое, И зубной порошок, И густой гребешок! Давайте же мыться, плескаться, Купаться, нырять, кувыркаться В ушате, в корыте, в лохани, В реке, в ручейке, в океане, - И в ванне, и в бане, Всегда и везде - Вечная слава воде! |
5
ФЕДОРИНО ГОРЕ
| 1 Скачет сито по полям, А корыто по лугам. За лопатою метла Вдоль по улице пошла. Топоры-то, топоры Так и сыплются с горы. Испугалася коза, Растопырила глаза: "Что такое? Почему? Ничего я не пойму". 2 Но, как чёрная железная нога, Побежала, поскакала кочерга. И помчалися по улице ножи: "Эй, держи, держи, держи, держи, держи!" И кастрюля на бегу Закричала утюгу: "Я бегу, бегу, бегу, Удержаться не могу!" Вот и чайник за кофейником бежит, Тараторит, тараторит, дребезжит... Утюги бегут покрякивают, Через лужи, через лужи перескакивают. А за ними блюдца, блюдца - Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля! Вдоль по улице несутся - Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля! На стаканы - дзынь!- натыкаются, И стаканы - дзынь!- разбиваются. И бежит, бренчит, стучит сковорода: "Вы куда? куда? куда? куда? куда?" А за нею вилки, Рюмки да бутылки, Чашки да ложки Скачут по дорожке. | Из окошка вывалился стол И пошёл, пошёл, пошёл, пошёл, пошёл... А на нём, а на нём, Как на лошади верхом, Самоварище сидит И товарищам кричит: "Уходите, бегите, спасайтеся!" И в железную трубу: "Бу-бу-бу! Бу-бу-бу!" 3 А за ними вдоль забора Скачет бабушка Федора: "Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Воротитеся домой!" Но ответило корыто: "На Федору я сердито!" И сказала кочерга: "Я Федоре не слуга!" А фарфоровые блюдца Над Федорою смеются: "Никогда мы, никогда Не воротимся сюда!" Тут Федорины коты Расфуфырили хвосты, Побежали во всю прыть. Чтоб посуду воротить: "Эй вы, глупые тарелки, Что вы скачете, как белки? Вам ли бегать за воротами С воробьями желторотыми? Вы в канаву упадёте, Вы утонете в болоте. Не ходите, погодите, Воротитеся домой!" Но тарелки вьются-вьются, А Федоре не даются: "Лучше в поле пропадём, А к Федоре не пойдём!" |
| 6 | |
| 4 Мимо курица бежала И посуду увидала: "Куд-куда! Куд-куда! Вы откуда и куда?!" И ответила посуда: "Было нам у бабы худо, Не любила нас она, Била, била нас она, Запылила, закоптила, Загубила нас она!" "Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! Жить вам было нелегко!" "Да,- промолвил медный таз,- Погляди-ка ты на нас: Мы поломаны, побиты, Мы помоями облиты. Загляни-ка ты в кадушку - И увидишь там лягушку. Загляни-ка ты в ушат - Тараканы там кишат, Оттого-то мы от бабы Убежали, как от жабы, И гуляем по полям, По болотам, по лугам, А к неряхе-замарахе Не воротимся!" 5 И они побежали лесочком, Поскакали по пням и по кочкам. А бедная баба одна, И плачет, и плачет она. Села бы баба за стол, Да стол за ворота ушёл. Сварила бы баба щи, Да кастрюлю поди поищи! И чашки ушли, и стаканы, Остались одни тараканы. Ой, горе Федоре, Горе! | 6 А посуда вперёд и вперёд По полям, по болотам идёт. И чайник шепнул утюгу: "Я дальше идти не могу". И заплакали блюдца: "Не лучше ль вернуться?" И зарыдало корыто: "Увы, я разбито, разбито!" Но блюдо сказало: "Гляди, Кто это там позади?" И видят: за ними из тёмного бора Идёт-ковыляет Федора. Но чудо случилося с ней: Стала Федора добрей. Тихо за ними идёт И тихую песню поёт: "Ой вы, бедные сиротки мои, Утюги и сковородки мои! Вы подите-ка, немытые, домой, Я водою вас умою ключевой. Я почищу вас песочком, Окачу вас кипяточком, И вы будете опять, Словно солнышко, сиять, А поганых тараканов я повыведу, Прусаков и пауков я повымету!" И сказала скалка: "Мне Федору жалко". И сказала чашка: "Ах, она бедняжка!" И сказали блюдца: "Надо бы вернуться!" И сказали утюги: "Мы Федоре не враги!" |
| 7 | |
| 7 Долго, долго целовала И ласкала их она, Поливала, умывала. Полоскала их она. "Уж не буду, уж не буду Я посуду обижать. Буду, буду я посуду И любить и уважать!" Засмеялися кастрюли, Самовару подмигнули: "Ну, Федора, так и быть, Рады мы тебя простить!" Полетели, Зазвенели Да к Федоре прямо в печь! Стали жарить, стали печь,- Будут, будут у Федоры и блины и пироги! А метла-то, а метла - весела - Заплясала, заиграла, замела, Ни пылинки у Федоры не оставила. И обрадовались блюдца: Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля! И танцуют и смеются - Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля! А на белой табуреточке Да на вышитой салфеточке Самовар стоит, Словно жар горит, И пыхтит, и на бабу поглядывает: "Я Федорушку прощаю, Сладким чаем угощаю. Кушай, кушай, Федора Егоровна!" |
8
4. Выразительное исполнение русской народной сказки "Лиса, заяц и петух".
"ЛИСА, ЗАЯЦ И ПЕТУХ"
Сказка в обработке А. Афанасьева. Рисунки Ю. Васнецова и К. Кузнецова.
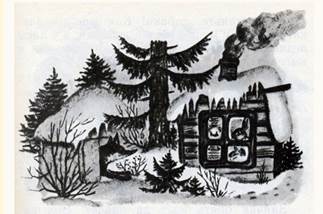
Жили-были лиса да заяц. У лисицы была избёнка ледяная, а у зайчика лубяная; пришла весна красна — у лисицы избёнка растаяла, а у зайчика стоит по-старому. Лиса попросилась у зайчика погреться да зайчика-то и выгнала. Идёт дорогой зайчик да плачет, а ему навстречу собаки:
— Тяф, тяф, тяф! Про что, зайчик, плачешь?
А зайчик говорит:
— Отстаньте, собаки! Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы ледяная; попросилась она ко мне да меня и выгнала.
— Не плачь, зайчик! — говорят собаки.— Мы её выгоним.
— Нет, не выгоните!
— Нет, выгоним!
Подошли к избёнке.
— Тяф, тяф, тяф! Поди, лиса, вон!
А она им с печи:
— Как выскочу, как выпрыгну — пойдут клочки по заулочкам! Собаки испугались и ушли.
Зайчик опять идёт да плачет. Ему навстречу медведь:
— О чём, зайчик, плачешь?
А зайчик говорит:
— Отстань, медведь! Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы ледяная; попросилась она ко мне да меня и выгнала.
— Не плачь, зайчик! — говорит медведь.— Я выгоню её.
— Нет, не выгонишь! Собаки гнали — не выгнали, и ты не выгонишь...
— Нет, выгоню!
Пошли гнать:
— Поди, лиса, вон!
А она с печи:
— Как выскочу, как выпрыгну — пойдут клочки по заулочкам!
Медведь испугался и ушёл.
Идёт опять зайчик да плачет, а ему навстречу бык:
— Про что, зайчик, плачешь?
— Отстань, бык! Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы ледяная; попросилась она ко мне да меня и выгнала.
— Пойдём, я её выгоню.
— Нет, бык, не выгонишь! Собаки гнали— не выгнали, медведь гнал — не выгнал, и ты не выгонишь!
— Нет, выгоню!
9
Подошли к избёнке.
— Поди, лиса, вон!
А она с печи:
— Как выскочу, как выпрыгну — пойдут клочки по заулочкам! Бык испугался и ушёл. Идёт опять зайчик да плачет, а ему навстречу петух с косой:
— Кукареку! О чём, зайчик, плачешь?
— Отстань, петух! Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы ледяная; попросилась она ко мне да меня и выгнала.

— Пойдём, я выгоню.
— Нет, не выгонишь! Собаки гнали — не выгнали, медведь гнал — не выгнал, бык гнал— не выгнал, и ты не выгонишь.
— Нет, выгоню!
Подошли к избёнке:
— Кукареку! Несу косу на плечи, хочу лису посечи! Поди, лиса, вон!
А она услыхала, испугалась, говорит:
— Одеваюсь...
Петух опять:
— Кукареку! Несу косу на плечи, хочу лису посечи! Поди, лиса, вон!
А она говорит:
— Шубу надеваю.
Петух в третий раз:
— Кукареку! Несу косу на плечи, хочу лису посечи! Поди, лиса, вон!
А она говорит:
— Шубу надеваю.
Петух в четвёртый раз:
— Кукареку! Несу косу на плечи, хочу лису посечи! Поди, лиса, вон!
Лисица выбежала; он её зарубил косой-то и стал с зайчиком жить да поживать да добра наживать. Вот тебе сказка, а мне кринка масла.

10
5. Рассказывание сказки "Красная шапочка".
КРАСНАЯ ШАПОЧКА. Шарль Перро.
Жила-была в одной деревне маленькая девочка, такая хорошенькая, что лучше ее и на свете не было. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше.
Ко дню рождения подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду ходила в своей новой, нарядной красной шапочке. Соседи так про нее и говорили:
— Вот Красная Шапочка идет!
Как-то раз испекла мама пирожок и сказала дочке:
— Сходи-ка ты, Красная Шапочка, к бабушке, снеси ей этот пирожок и горшочек масла да узнай, здорова ли она.
Собралась Красная Шапочка и пошла к бабушке в другую деревню.
Идет она лесом, а навстречу ей — серый Волк. Очень захотелось ему съесть Красную Шапочку, да только он не посмел — где-то близко стучали топорами дровосеки.
Облизнулся Волк и спрашивает девочку:
— Куда ты идешь, Красная Шапочка?
А Красная Шапочка еще не знала, как это опасно — останавливаться в лесу и разговаривать с волками. Поздоровалась она с Волком и говорит:
— Иду к бабушке и несу ей вот этот пирожок и горшочек масла.
— А далеко ли живет твоя бабушка? — спрашивает Волк.
— Довольно далеко, — отвечает Красная Шапочка.
— Вон в той деревне, за мельницей, в первом домике с краю.
— Ладно, — говорит Волк, — я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет.
Сказал это Волк и побежал, что было духу по самой короткой дорожке.
А Красная Шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она не торопясь, по пути то и дело останавливалась, рвала цветы и собирала в букеты.
Не успела она еще и до мельницы дойти, а Волк уже прискакал к бабушкиному домику и стучится в дверь: тук-тук!
— Кто там? — спрашивает бабушка.
— Это я, внучка ваша, Красная Шапочка, — отвечает Волк тоненьким голоском. — Я к вам в гости пришла, пирожок принесла и горшочек масла.
А бабушка была в это время больна и лежала в постели. Она подумала, что это и в самом деле Красная Шапочка, и крикнула:
— Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется!
Волк дернул за веревочку — дверь и открылась.
Бросился Волк на бабушку и разом проглотил ее. Он был очень голоден, потому что три дня ничего не ел.
Потом закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать Красную Шапочку.
Скоро она пришла и постучалась: тук-тук!
— Кто там? — спрашивает Волк.
А голос у него грубый, хриплый.
11
Красная Шапочка испугалась было, но потом подумала, что бабушка охрипла от простуды и оттого у нее такой голос.
— Это я, внучка ваша, — говорит Красная Шапочка. — Принесла вам пирожок и горшочек масла.
Волк откашлялся и сказал потоньше:
— Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется.
Красная Шапочка дернула за веревочку — дверь и открылась.
Вошла девочка в домик, а Волк спрятался под одеяло и говорит:
— Положи-ка, внучка, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной. Ты верно очень устала.
Красная Шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает:
— Бабушка, почему у вас такие большие руки?
— Это чтобы покрепче обнять тебя, дитя мое.
— Бабушка, почему у вас такие большие глаза?
— Чтобы лучше видеть, дитя мое.
— Бабушка, почему у вас такие большие зубы?
— А это чтоб скорее съесть тебя, дитя мое!
Не успела Красная Шапочка и охнуть, как злой Волк бросился на нее и проглотил с башмачками и красной шапочкой.
Но, по счастью, в это самое время проходили мимо домика дровосеки с топорами на плечах.
Услышали они шум, вбежали в домик и убили Волка. А потом распороли ему брюхо, и оттуда вышла Красная Шапочка, а за ней и бабушка — обе целые и невредимые.
6. Исполнение юмористических рассказов для детей. Н.Носов "Живая шляпа" (выразительное чтение).
ЖИВАЯ ШЛЯПА. Николай Носов
Шляпа лежала на комоде, котенок Васька сидел на полу возле комода, а Вовка и Вадик сидели за столом и раскрашивали картинки. Вдруг позади них что-то плюхнулось - упало на пол. Они обернулись и увидели на полу возле комода шляпу.
Вовка подошел к комоду, нагнулся, хотел поднять шляпу - и вдруг как закричит:
- Ай-ай-ай! - и бегом в сторону.
- Чего ты? - спрашивает Вадик.
- Она жи-жи-живая!
- Кто живая?
- Шля-шля-шля-па.
- Что ты! Разве шляпы бывают живые?
- По-посмотри сам!
Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к нему. Он как закричит:
- Ай! - и прыг на диван. Вовка за ним.
Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на нее и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану.
12
- Ай! Ой! - закричали ребята.
Соскочили с дивана - и бегом из комнаты. Прибежали на кухню и дверь за собой закрыли.
- Я у-у-хо-хо-жу! - говорит Вовка.
- Куда?
- Пойду к себе домой.
- Почему?
- Шляпы бо-боюсь! Я первый раз вижу, чтоб шляпа по комнате ходила.
- А может быть, ее кто-нибудь за веревочку дергает?
- Ну, пойди посмотри.
- Пойдем вместе. Я возьму клюшку. Если она к нам полезет, я ее клюшкой тресну.
- Постой, я тоже клюшку возьму.
- Да у нас другой клюшки нет.
- Ну, я возьму лыжную палку.
Они взяли клюшку и лыжную палку, приоткрыли дверь и заглянули в комнату.
- Где же она? - спрашивает Вадик.
- Вон там, возле стола.
- Сейчас я ее как тресну клюшкой! - говорит Вадик. - Пусть только подлезет ближе, бродяга такая!
Но шляпа лежала возле стола и не двигалась.
- Ага, испугалась! - обрадовались ребята. - Боится лезть к нам.
- Сейчас я ее спугну, - сказал Вадик.
Он стал стучать по полу клюшкой и кричать:
- Эй ты, шляпа!
Но шляпа не двигалась.
- Давай наберем картошки и будем в нее картошкой стрелять, - предложил Вовка.
Они вернулись на кухню, набрали из корзины картошки и стали швырять ее в шляпу" Швыряли, швыряли, наконец Вадик попал. Шляпа как подскочит кверху!
- Мяу! - закричало что-то. Глядь, из-под шляпы высунулся серый хвост, потом лапа, а потом и сам котенок выскочил.
- Васька! - обрадовались ребята.
- Наверно, он сидел на полу, а шляпа на него с комода упала, - догадался Вовка.
Вадик схватил Ваську и давай его обнимать!
- Васька, миленький, как же ты под шляпу попал?
Но Васька ничего не ответил, Он только фыркал и жмурился от света.
13
7. С.Я.Маршак "Сказка о глупом мышонке" (наизусть).
СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ
| 1. Пела ночью мышка в норке: - Спи, мышонок, замолчи! Дам тебе я хлебной корки И огарочек свечи. Отвечает ей мышонок: - Голосок твой слишком тонок. Лучше, мама, не пищи, Ты мне няньку поищи! Побежала мышка-мать, Стала утку в няньки звать: - Приходи к нам, тетя утка, Hашу детку покачать. Стала петь мышонку утка: - Га-га-га, усни, малютка! После дождика в саду Червяка тебе найду. Глупый маленький мышонок Отвечает ей спросонок: - Hет, твой голос нехорош. Слишком громко ты поешь! Побежала мышка-мать, Стала жабу в няньки звать: - Приходи к нам, тетя жаба, Hашу детку покачать. Стала жаба важно квакать: - Ква-ква-ква, не надо плакать! Спи, мышонок, до утра, Дам тебе я комара. Глупый маленький мышонок Отвечает ей спросонок: - Hет, твой голос нехорош. Очень скучно ты поешь! Побежала мышка-мать, Тетю лошадь в няньки звать: - Приходи к нам, тетя лошадь, Hашу детку покачать. | 2. - И-го-го! - поет лошадка.- Спи, мышонок, сладко-сладко, Повернись на правый бок, Дам овса тебе мешок! Глупый маленький мышонок Отвечает ей спросонок: - Hет, твой голос нехорош. Очень страшно ты поешь! Побежала мышка-мать, Стала свинку в няньки звать: - Приходи к нам, тетя свинка, Hашу детку покачать. Стала свинка хрипло хрюкать, Hепослушного баюкать: - Баю-баюшки, хрю-хрю. Успокойся, говорю. Глупый маленький мышонок Отвечает ей спросонок: - Hет, твой голос нехорош. Очень грубо ты поешь! Стала думать мышка-мать: Надо курицу позвать. - Приходи к нам, тетя клуша, Нашу детку покачать. Закудахтала наседка: - Куд-куда! Не бойся, детка! Забирайся под крыло: Там и тихо, и тепло. Глупый маленький мышонок Отвечает ей спросонок: - Нет, твой голос не хорош. Этак вовсе не уснешь! Побежала мышка-мать, Стала щуку в няньки звать: - Приходи к нам, тетя щука, Hашу детку покачать. |
| 14 | |
| 3. Стала петь мышонку щука - Hе услышал он ни звука: Разевает щука рот, А не слышно, что поет... Глупый маленький мышонок Отвечает ей спросонок: - Hет, твой голос нехорош. Слишком тихо ты поешь! Побежала мышка-мать, Стала кошку в няньки звать: - Приходи к нам, тетя кошка, Hашу детку покачать. | Стала петь мышонку кошка: - Мяу-мяу, спи, мой крошка! Мяу-мяу, ляжем спать, Мяу-мяу, на кровать. Глупый маленький мышонок Отвечает ей спросонок: - Голосок твой так хорош - Очень сладко ты поешь! Прибежала мышка-мать, Поглядела на кровать, Ищет глупого мышонка, А мышонка не видать... |
8. Исполнение познавательных рассказов для детей В.Бианки "Купание медвежат (близко к тексту)
КУПАНИЕ МЕДВЕЖАТ. Рассказ Бианки
Наш знакомый охотник шёл берегом лесной реки и вдруг услышал громкий треск сучьев. Он испугался и влез на дерево.
Из чащи вышли на берег большая бурая медведица и с ней два весёлых медвежонка. Медведица схватила одного медвежонка зубами за шиворот и давай окунать в речку.
Медвежонок визжал и барахтался, но мать не выпускала его, пока хорошенько не выполоскала в воде.
Другой медвежонок испугался холодной ванны и пустился удирать в лес.
Мать догнала его, надавала шлепков, а потом - в воду, как первого.
Очутившись снова на земле, оба медвежонка остались очень довольны купанием: день был знойный, и им было очень жарко в густых лохматых шубках. Вода хорошо освежила их. После купания медведи опять скрылись в лесу, а охотник слез с дерева и пошёл домой.
15
9. Наизусть одно из стихотворений современных детских поэтов (по выбору).
| СПИ, СЫНИШКА, СЛАДКО, СЛАДКО. Владимир Стречин Спи, сынишка, сладко, сладко. Спит в углу твоя лошадка, Спит игрушечный народ, Наш сосед спит, полиглот. Спит корыто, куча шишек, Спит верёвочки конец... "Папа, нет таких игрушек!" - "Спи, Андрюшка, наконец!" | ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ. Леонид Чернаков Как я счастлив! Как я рад! У меня родился брат! Он пока ещё грудной, Но уже такой родной! Ни умыться, ни одеться Не умеет он пока. Надо брату оглядеться, Приспособиться слегка. Не прошла ещё неделя, Как родили малыша, Но в его молочном теле Улыбается душа. Мы уже друг друга любим, Прижимаемся щекой. Человек родился, люди! Это праздник-то какой?! |
10. Рассказывание русской народной сказки "Колобок".
КОЛОБОК
Сказка в обработке К. Ушинского. Рисунки К. Кузнецова и Ю. Васнецова.
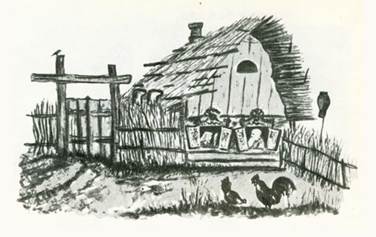
Жил-был старик со старухой. Вот и просит старик:
— Испеки мне, старая, колобок.
— Да из чего испечь-то? Муки нет.
— Эх, старуха, по амбару помети, по сусекам поскреби — вот и наберётся.
Старушка так и сделала: намела, наскребла горсти две муки, замесила тесто на сметане, скатала колобок, изжарила в масле и положила на окно простынуть.
Надоело колобку лежать, он и покатился с окна на завалинку, с завалинки — на травку, с травки на дорожку и покатился по дорожке.
16
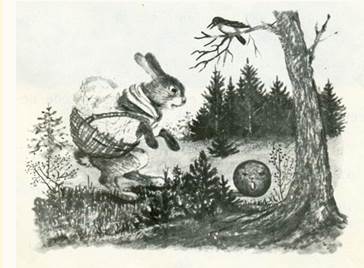
Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц:
— Колобок, колобок, я тебя съем!
— Нет, не ешь меня, косой, а лучше послушай, какую я тебе песенку спою.
Заяц уши поднял, а колобок запел:
— Я колобок, колобок,
По амбару метён,
По сусечкам скребён,
На сметане мешён,
В печку сажён,
На окошке стужён.
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
От тебя, зайца, не хитро уйти.
И покатился колобок дальше — только его заяц и видел.
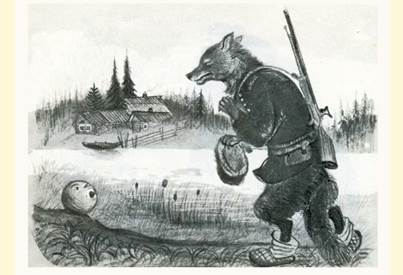
Катится колобок по тропинке в лесу, а навстречу ему серый волк:
— Колобок, колобок, я тебя съем!
— Не ешь меня, серый волк: я тебе песенку спою.
— И колобок запел:
— Я колобок, колобок,
По амбару метён,
По сусечкам скребён,
На сметане мешён,
В печку сажён,
На окошке стужён.
17
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
Я от зайца ушёл,
А от тебя, волка, не хитро уйти.
И покатился колобок дальше — только его волк и видел.

Катится колобок по лесу, а навстречу ему медведь идёт, хворост ломает, кусты к земле гнёт.
— Колобок, колобок, я тебя съем!
— Ну где тебе, косолапому, съесть меня! Послушай лучше моей песенки.
Колобок запел, а Миша и уши развесил.
— Я колобок, колобок,
По амбару метён,
По сусечкам скребён,
На сметане мешён,
В печку сажён,
На окошке стужён.
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
Я от зайца ушёл,
Я от волка ушёл,
От тебя, медведь, полгоря уйти.
И покатился колобок — медведь только вслед ему посмотрел.

Катится колобок, а навстречу ему лиса:
— Здравствуй, колобок! Какой же ты пригоженький, румяненький!
Колобок рад, что его похвалили, и запел свою песенку, а лиса слушает да всё ближе подкрадывается.
— Я колобок, колобок, По амбару метён, По сусечкам скребён, На сметане мешён, В печку сажён, На окошке стужён. Я от дедушки ушёл, Я от бабушки ушёл, Я от зайца ушёл, Я от волка ушёл, От медведя ушёл, От тебя, лиса, не хитро уйти.
— Славная песенка! — сказала лиса. — Да то беда, голубчик, что я стара стала — плохо слышу. Сядь ко мне на мордочку да пропой ещё разочек.
18
Колобок обрадовался, что его песенку похвалили, прыгнул лисе на морду и запел:
— Я колобок, колобок...
А лиса его — гам! — и съела.
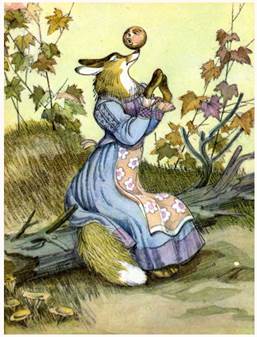
11.Исполнение наизусть стихотворения Н.А.Некрасова "Однажды в студёную зимнюю пору".
ОДНАЖДЫ, В СТУДЕНУЮ ЗИМНЮЮ ПОРУ... (Из поэмы "Крестьянские дети"). Автор: Николай Некрасов
| Однажды, в студеную зимнюю пору Я из лесу вышел; был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору Лошадка, везущая хворосту воз. И шествуя важно, в спокойствии чинном, Лошадку ведет под уздцы мужичок В больших сапогах, в полушубке овчинном, В больших рукавицах... а сам с ноготок! "Здорово парнище!"- "Ступай себе мимо!" -"Уж больно ты грозен, как я погляжу! Откуда дровишки?"- "Из лесу, вестимо; Отец, слышишь, рубит, а я отвожу". (В лесу раздавался топор дровосека.) "А что, у отца-то большая семья?" -"Семья-то большая, да два человека Всего мужиков-то: отец мой да я..." -"Так вот оно что! А как звать тебя?" - "Власом". | -"А кой тебе годик?"- "Шестой миновал... Ну, мертвая!"- крикнул малюточка басом, Рванул под уздцы и быстрей зашагал. На эту картину так солнце светило, Ребенок был так уморительно мал, Как будто всё это картонное было, Как будто бы в детский театр я попал! Но мальчик был мальчик живой, настоящий, И дровни, и хворост, и пегонький конь, И снег, до окошек деревни лежащий, И зимнего солнца холодный огонь - Всё, всё настоящее русское было, С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы, Что русской душе так мучительно мило, Что русские мысли вселяет в умы, Те честные мысли, которым нет воли, Которым нет смерти - дави не дави, В которых так много и злобы и боли, В которых так много любви! |
19
12.Рассказывание сказки "Заюшкина избушка.
ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА. Русская народная сказка
Жили-были лиса да заяц. У лисы избушка ледяная, а у зайца - лубяная. Вот лиса и дразнит зайца: - У меня избушка светлая, а у тебя темная! У меня светлая, а у тебя темная!
Пришло лето, у лисы избушка растаяла. Лиса и просится к зайцу:
- Пусти меня заюшка, хоть на дворик к себе!
- Нет, лиска, не пущу: зачем дразнилась?
Стала лиса пуще упрашивать. Заяц и пустил ее к себе на двор.
На другой день лиса опять просится:
- Пусти меня, заюшка, на крылечко.
- Нет, не пущу: зачем дразнилась?
Упрашивала, упрашивала лиса, согласился заяц и пустил лису на крылечко.
На третий день лиса опять просит:
- Пусти меня, заюшка, в избушку.
- Нет, не пущу: зачем дразнилась?
Просилась, просилась лиса, пустил ее заяц в избушку.
Сидит лиса на лавке, а зайчик - на печи.
На четвертый день лиса опять просит:
- Заинька, заинька, пусти меня на печку к себе!
- Нет, не пущу: зачем дразнилась?
Просила, просила лиса, да и выпросила - пустил ее заяц и на печку.
Прошел день, другой - стала лиса зайца из избушки гнать:
- Ступай вон, косой! Не хочу с тобой жить!
Так и выгнала.
Сидит заяц и плачет, горюет, лапками слезы утирает. Бегут мимо собаки:
- Тяф, тяф, тяф! О чем, заинька, плачешь?
- Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла весна. избушка у лисы растаяла. Попросилась она ко мне, да меня же и выгнала.
- Не плачь, зайчик, - говорят собаки. - мы ее выгоним.
- Нет, не выгоните!
- Нет, выгоним!
Пошли к избушке.
- Тяф, тяф, тяф! Пойди, лиса, вон!
А она им с печи:
- Как выскочу, как выпрыгну - пойдут клочки по закоулочкам!
Испугались собаки и убежали.
Опять сидит зайчик и плачет. Идет мимо волк:
- О чем, заинька, плачешь?
- Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла весна. избушка у лисы растаяла. Попросилась она ко мне, да меня же и выгнала.
20
- Не плачь, зайчик, - говорит волк, - я ее выгоню.
- Нет, не выгонишь! Собаки гнали - не выгнали, и ты не выгонишь.
- Нет, выгоню!
Пошел волк к избе и завыл страшным голосом:
- Уыыы... Уыыы... Ступай, лиса, вон!
А она с печи:
- Как выскочу, как выпрыгну - пойдут клочки по закоулочкам!
Испугался волк и убежал.
Вот заинька опять сидит и плачет. Идет старый медведь:
- О чем ты, заинька, плачешь?
- Как же мне, медведушко, не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла весна. избушка у лисы растаяла. Попросилась она ко мне, да меня же и выгнала.
- Не плачь, зайчик, - говорит медведь, - я ее выгоню.
- Нет, не выгонишь! Собаки гнали, гнали - не выгнали, серый волк гнал, гнал - не выгнал. И ты не выгонишь.
- Нет, выгоню!
Пошел медведь к избушке и зарычал:
- Рррр... ррр... Ступай, лиса, вон!
А она с печи:
- Как выскочу, как выпрыгну - пойдут клочки по закоулочкам!
Испугался медведь и ушел.
Опять сидит заяц и плачет. Идет петух, несет косу.
- Ку-ка-ре-ку! Заинька, о чем ты плачешь?
- Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла весна. избушка у лисы растаяла. Попросилась она ко мне, да меня же и выгнала.
- Не горюй, заинька, я тебе лису выгоню.
- Нет, не выгонишь! Собаки гнали - не выгнали, серый волк гнал, гнал - не выгнал, старый медведь гнал, гнал - не выгнал. И ты не выгонишь.
Пошел петух к избушке:
- Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косу на плечах: хочу лису посечи, пошла лиса с печи!
Услыхала лиса, испугалась и говорит:
- Одеваюсь...
Петух опять:
- Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косуна плечах: хочу лису посечи, пошла лиса с печи!
А лиса говорит:
- Шубу надеваю...
Петух в третий раз:
- Ку-ка-ре-ку! Иду на ногах, в красных сапогах, несу косуна плечах: хочу лису посечи, пошла лиса с печи!
Испугалась лиса, соскочила с печи - да бежать. А заюшка с петухом стали жить да поживать.
21
13.Чтение наизусть отрывка из романа А.С.Пушкина "Евгений Онегин" (о природе) или отрывков из сказок "Зима! Крестьянин торжествуя!".
ЗИМА! КРЕСТЬЯНИН ТОРЖЕСТВУЯ. А.С. Пушкин
Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.
Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно...
14.Чтение наизусть отрывка из поэмы "Руслан и Людмила" А.С.Пушкина ("У Лукоморья дуб зелёный").
У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ ЗЕЛЁНЫЙ
Из поэмы "Руслан и Людмила" А.С. Пушкин
| У лукоморья дуб зелёный; Златая цепь на дубе том: И днём и ночью кот учёный Всё ходит по цепи кругом; Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит. Там чудеса: там леший бродит, Русалка на ветвях сидит; Там на неведомых дорожках Следы невиданных зверей; Избушка там на курьих ножках Стоит без окон, без дверей; Там лес и дол видений полны; Там о заре прихлынут волны На брег песчаный и пустой, И тридцать витязей прекрасных Чредой из вод выходят ясных, И с ними дядька их морской; | Там королевич мимоходом Пленяет грозного царя; Там в облаках перед народом Через леса, через моря Колдун несёт богатыря; В темнице там царевна тужит, А бурый волк ей верно служит; Там ступа с Бабою Ягой Идёт, бредёт сама собой, Там царь Кащей над златом чахнет; Там русский дух... там Русью пахнет! И там я был, и мёд я пил; У моря видел дуб зелёный; Под ним сидел, и кот учёный Свои мне сказки говорил. |
22
15.И.А.Крылов "Ворона и лисица". Чтение басни наизусть.
ВОРОНА И ЛИСИЦА. Иван Крылов
| Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, И в сердце льстец всегда отыщет уголок. ___ Вороне где-то бог послал кусочек сыру; На ель Ворона взгромоздясь, Позавтракать было совсем уж собралась, Да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду Лиса близехонько бежала; Вдруг сырный дух Лису остановил: Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил. | Плутовка к дереву на цыпочках подходит; Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит И говорит так сладко, чуть дыша: "Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки! Рассказывать, так, право, сказки! Какие перушки! какой носок! И, верно, ангельский быть должен голосок! Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, сестрица, При красоте такой и петь ты мастерица,- Ведь ты б у нас была царь-птица!" Вещуньина с похвал вскружилась голова, От радости в зобу дыханье сперло,- И на приветливы Лисицыны слова Ворона каркнула во все воронье горло: Сыр выпал - с ним была плутовка такова. |
16.М.Пришвин "Золотой луг" (близко к тексту).
ЗОЛОТОЙ ЛУГ. Михаил Пришвин
У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава. Бывало, идем куда-нибудь на свой промысел - он впереди, я в пяту.
“Сережа!” - позову я его деловито. Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком прямо в лицо. За это он начинает меня подкарауливать и тоже, как зазеваешься, фукнет. И так мы эти неинтересные цветы срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать открытие.
Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: “Очень красиво! Луг - золотой”. Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. Когда же я возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошел, отыскал, одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как все равно если бы у вас пальцы со стороны ладони были желтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы желтое. Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг становился опять золотым.
С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали.
23
17.В.Маяковский "что такое хорошо и что такое плохо?" (наизусть).
ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?
Владимир Маяковский
| 1. Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: - Что такое хорошо и что такое плохо?- У меня секретов нет,- слушайте, детишки,- папы этого ответ помещаю в книжке. - Если ветер крыши рвет, если град загрохал,- каждый знает - это вот для прогулок плохо. Дождь покапал и прошел. Солнце в целом свете. Это - очень хорошо и большим и детям. Если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице,- ясно, это плохо очень для ребячьей кожицы. | 2. Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо. Если бьет дрянной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже вставить в книжку. Этот вот кричит: - Не трожь тех, кто меньше ростом!- Этот мальчик так хорош, загляденье просто! Если ты порвал подряд книжицу и мячик, октябрята говорят: плоховатый мальчик. Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, про такого пишут тут: он хороший мальчик. |
| 24 | |
| 3. От вороны карапуз убежал, заохав. Мальчик этот просто трус. Это очень плохо. Этот, хоть и сам с вершок, спорит с грозной птицей. Храбрый мальчик, хорошо, в жизни пригодится. Этот в грязь полез и рад. что грязна рубаха. Про такого говорят: он плохой, неряха. | 4. Этот чистит валенки, моет сам галоши. Он хотя и маленький, но вполне хороший. Помни это каждый сын. Знай любой ребенок: вырастет из сына cвин, если сын - свиненок, Мальчик радостный пошел, и решила кроха: "Буду делать хорошо, и не буду - плохо". |
18.Исполнение рассказов Л.Н.Толстого из "Азбуки", басня.
ЛГУН (Басня) Л.Н. Толстой
Мальчик стерег овец и, будто увидав волка, стал звать: «Помогите, волк! волк!» Мужики прибежали и видят: неправда. Как сделал он так и два и три раза, случилось — и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать: «Сюда, сюда скорей, волк!» Мужики подумали, что опять по-всегдашнему обманывает,— не послушали его. Волк видит, бояться нечего: на просторе перерезал все стадо.
МУРАВЕЙ И ГОЛУБКА (Басня)
Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Волна захлестнула его и чуть не потопила. Голубка несла ветку; она увидела — муравей тонет, и бросила ему ветку в ручей. Муравей сел на ветку и спасся. Потом охотник расставил сеть на голубку и хотел захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу; охотник охнул и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела.
25
СТРЕКОЗА И МУРАВЬИ (Басня)
Осенью у муравьев подмокла пшеница: они ее сушили. Голодная стрекоза попросила у них корму. Муравьи сказали: “Что ж ты летом не собрала корму?” Она сказала: “Недосуг было: песни пела”. Они засмеялись и говорят: “Если летом играла, зимой пляши”.
КАК ТЕТУШКА РАССКАЗЫВАЛА О ТОМ, КАК ОНА ВЫУЧИЛАСЬ ШИТЬ (Рассказ)
Когда мне было шесть лет, я просила мать дать мне шить. Она сказала: “Ты еще мала, ты только пальцы наколешь”; а я все приставала. Мать достала из сундука красный лоскут и дала мне; потом вдела в иголку красную нитку и показала мне, как держать. Я стала шить, но не могла делать ровных стежков; один стежок выходил большой, а другой попадал на самый край и прорывался насквозь. Потом я уколола палец и хотела не заплакать, да мать спросила меня: “Что ты?” — я не удержалась и заплакала. Тогда мать велела мне идти играть.
Когда я легла спать, мне все мерещились стежки: я все думала о том, как бы мне скорее выучиться шить, и мне казалось так трудно, что я никогда не выучусь. А теперь я выросла большая и не помню, как выучилась шить; и когда я учу шить свою девочку, удивляюсь, как она не может держать иголку.
19.В.А.Осеева. Наизусть 1 рассказ по выбору.
ЧТО ЛЕГЧЕ? Валентина Осеева.
Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. Не заметили, как день прошёл. Идут домой — боятся:
— Попадёт нам дома!
Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать?
— Я скажу, — говорит первый, — будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и не будет браниться.
— Я скажу, — говорит второй, — что дедушку встретил. Обрадуется мать и не будет бранить меня.
— А я правду скажу, — говорит третий. — Правду всегда легче сказать, потому что она правда и придумывать ничего не надо.
Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про волка— глядь, лесной сторож идёт.
— Нет, — говорит, — в этих местах волков.
Рассердился отец. За первую вину рассердился, а за ложь — вдвое.
Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут — в гости идёт.
Узнала мать правду. За первую вину рассердилась, а за ложь — вдвое.
А третий мальчик как пришёл, так с порога во всём повинился. Поворчала на него тётка да и простила.
26
В ОДНОМ ДОМЕ. Валентина Осеева.
Жили-были в одном доме мальчик Ваня, девочка Таня, пёс Барбос, утка Устинья и цыплёнок Боська.
Вот однажды вышли они все во двор и уселись на скамейку: мальчик Ваня, девочка Таня, пёс Барбос, утка Устинья и цыплёнок Боська.
Посмотрел Ваня направо, посмотрел налево, задрал голову кверху. Скучно! Взял да и дёрнул за косичку Таню.
Рассердилась Таня, хотела дать Ване сдачи, да видит — мальчик большой и сильный.
Ударила она ногой Барбоса. Завизжал Барбос, обиделся, оскалил зубы. Хотел укусить её, да Таня — хозяйка, трогать её нельзя.
Цапнул Барбос утку Устинью за хвост. Всполошилась утка, пригладила свои перышки. Хотела цыплёнка Боську клювом ударить, да раздумала.
Вот и спрашивает её Барбос:
— Что же ты, утка Устинья, Боську не бьёшь? Он слабее тебя.
— Я не такая глупая, как ты, — отвечает Барбосу утка.
— Есть глупее меня, — говорит пёс и на Таню показывает. Услыхала Таня.
— И глупее меня есть, — говорит она и на Ваню смотрит. Оглянулся Ваня, а сзади него никого нет.
ТРИ ТОВАРИЩА. Валентина Осеева.
Витя потерял завтрак. На большой перемене все ребята завтракали, а Витя стоял в сторонке.
— Почему ты не ешь? — спросил его Коля.
— Завтрак потерял...
— Плохо, — сказал Коля, откусывая большой кусок белого хлеба. — До обеда далеко ещё!
— А ты где его потерял? — спросил Миша.
— Не знаю... — тихо сказал Витя и отвернулся.
— Ты, наверное, в кармане нёс, а надо в сумку класть, — сказал Миша.
А Володя ничего не спросил. Он подошёл к Вите, разломил пополам кусок хлеба с маслом и протянул товарищу:
— Бери, ешь!
27
20.Рассказывание русской волшебной народной сказки (по выбору).
ХАВРОШЕЧКА. В обработке А.Н. Толстого.
Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые своего брата не стыдятся.
К таким-то и попала Крошечка-Хаврошечка. Осталась она сиротой, взяли ее эти люди, выкормили и над работой заморили: она и ткет, она и прядет, она и прибирает, она и за все отвечает.
А были у ее хозяйки три дочери. Старшая звалась Одноглазка, средняя — Двуглазка, а меньшая — Триглазка.
Дочери только и знали, что у ворот сидеть, на улицу глядеть, а Крошечка-Хаврошечка на них работала: их и обшивала, для них пряла и ткала — и слова доброго никогда не слыхала.
Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в поле, обнимет свою рябую коровку, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать.
— Коровушка-матушка! Меня бьют-журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтрашнему дню мне велено пять пудов напрясть, наткать, побелить и в трубы покатать.
А коровушка ей в ответ:
— Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь — все будет сработано.
Так и сбывалось. Влезет Хаврошечка коровушке в одно ушко, вылезет из другого — все готово: и наткано, и побелено, и в трубы покатано.
Отнесет она холсты к хозяйке. Та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а Крошечке-Хаврошечке еще больше работы задаст.
Хаврошечка опять придет к коровушке, обнимет ее, погладит, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет, принесет хозяйке.
Вот хозяйка позвала свою дочь Одноглазку и говорит ей:
— Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает: и ткет, и прядет, и в трубы катает?
Пошла Одноглазка с Хаврошечкой в лес, пошла с нею в поле, да забыла матушкино приказание, распеклась на солнышке, разлеглась на травушке. А Хаврошечка приговаривает:
— Спи, глазок, спи глазок!
Глазок у Одноглазки и заснул. Пока Одноглазка спала, коровушка все наткала, и побелила, и в трубы скатала.
Так ничего хозяйка не дозналась и послала вторую дочь — Двуглазку:
— Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает.
Двуглазка пошла с Хаврошечкой, забыла матушкино приказание, на солнышке распеклась, на травушке разлеглась. А Хаврошечка баюкает:
— Спи, глазок, спи, другой!
Двуглазка глаза и смежила. Коровушка наткала, побелила, в трубы накатала, а Двуглазка все спала.
Старуха рассердилась и на третий день послала третью дочь — Триглазку, а сироте еще больше работы задала.
Триглазка попрыгала, попрыгала, на солнышке разморилась и на травушку упала.
Хаврошечка поет:
— Спи, глазок, спи, другой!
А о третьем глазке и забыла.
Два глаза у Триглазки заснули, а третий глядит и все видит: как Хаврошечка корове в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала.
Триглазка вернулась домой и матери все рассказала.
Старуха обрадовалась, на другой же день пришла к мужу:
— Режь рябую корову!
Старик и так и сяк:
— Что ты, старуха, в уме ли! Корова молодая, хорошая!
— Режь, да и только!
28
Делать нечего. Стал точить старик ножик. Хаврошечка про это спознала, в поле побежала, обняла рябую коровушку и говорит:
— Коровушка-матушка! Тебя резать хотят.
А коровушка ей отвечает:
— А ты, красная девица, моего мяса не ешь, а косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их схорони и никогда меня не забывай: каждое утро косточки водою поливай.
Старик зарезал коровушку. Хаврошечка все сделала, что коровушка ей завещала: голодом голодала, мяса ее в рот не брала, косточки ее зарыла и каждый день в саду поливала.
И выросла из них яблонька, да какая! Яблочки на ней висят наливные, листья шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Кто ни едет мимо — останавливается, кто проходит близко — заглядывается.
Много ли времени прошло, мало ли, — Одноглазка, Двуглазка и Триглазка гуляли раз по саду. На ту пору ехал мимо сильный человек — богатый, кудреватый, молодой. Увидел в саду наливные яблочки, стал затрагивать девушек:
— Девицы-красавицы, которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж пойдет.
Три сестры и бросились одна перед другой к яблоне.
А яблочки-то висели низко, под руками были, а тут поднялись высоко, далеко над головами.
Сестры хотели их сбить — листья глаза засыпают, хотели сорвать — сучки косы расплетают. Как ни бились, ни метались — руки изодрали, а достать не могли.
Подошла Хаврошечка — веточки к ней приклонились и яблочки к ней опустились. Угостила она того сильного человека, и он на ней женился. И стала она в добре поживать, лиха не знать.
ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК. В обработке А.Н. Толстого.
Жил-был царь Берендей, у него было три сына, младшего звали Иваном.
И был у царя сад великолепный; росла в том саду яблоня с золотыми яблоками.
Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко стало свой сад. Посылает он туда караулы. Никакие караулы не могут уследить похитника.
Царь перестал и пить и есть, затосковал. Сыновья отца утешают:
— Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить.
Старший сын говорит:
— Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитника.
Отправился старший сын. Сколько ни ходил с вечеру, никого не уследил, припал на мягкую траву и уснул.
Утром царь его спрашивает:
— Ну-ка, не обрадуешь ли меня: не видал ли ты похитника?
— Нет, родимый батюшка, всю ночь не спал, глаз не смыкал, а никого не видал.
На другую ночь пошел средний сын караулить и тоже проспал всю ночь, а наутро сказал, что не видал похитника.
Наступило время младшего брата идти стеречь. Пошел Иван-царевич стеречь отцов сад и даже присесть боится, не то что прилечь. Как его сон задолит, он росой с травы умоется, сон и прочь с глаз.
Половина ночи прошла, ему и чудится: в саду свет. Светлее и светлее. Весь сад осветило. Он видит — на яблоню села Жар-птица и клюет золотые яблоки.
Иван-царевич тихонько подполз к яблоне и поймал птицу за хвост. Жар-птица встрепенулась и улетела, осталось у него в руке одно перо от ее хвоста.
Наутро приходит Иван-царевич к отцу.
— Ну что, дорогой мой Ваня, не видал ли ты похитника?
— Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил, кто наш сад разоряет. Вот от похитника память вам принес. Это, батюшка, Жар-птица.
Царь взял это перо и с той поры стал пить, и есть, и печали не знать. Вот в одно прекрасное время ему и раздумалось об этой об Жар-птице.
29
Позвал он сыновей и говорит им:
— Дорогие мои дети, оседлали бы вы добрых коней, поездили бы по белу свету, места познавали, не напали бы где на Жар-птицу.
Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней и отправились в путь-дорогу: старший в одну сторону, средний в другую, а Иван-царевич в третью сторону.
Ехал Иван-царевич долго ли, коротко ли. День был летний. Приустал Иван-царевич, слез с коня, спутал его, а сам свалился спать.
Много ли, мало ли времени прошло, пробудился Иван-царевич, видит — коня нет. Пошел его искать, ходил, ходил и нашел своего коня — одни кости обглоданные.
Запечалился Иван-царевич: куда без коня идти в такую даль?
«Ну что же, — думает, — взялся — делать нечего».
И пошел пеший.
Шел, шел, устал до смерточки.
Сел на мягкую траву и пригорюнился, сидит.
Откуда ни возьмись, бежит к нему серый волк:
— Что, Иван-царевич, сидишь пригорюнился, голову повесил?
— Как же мне не печалиться, серый волк? Остался я без доброго коня.
— Это я, Иван-царевич, твоего коня съел... Жалко мне тебя! Расскажи, зачем в даль поехал, куда путь держишь?
— Послал меня батюшка поездить по белу свету, найти Жар-птицу.
— Фу, фу, тебе на своем добром коне в три года не доехать до Жар-птицы. Я один знаю, где она живет. Так и быть — коня твоего съел, буду тебе служить верой-правдой. Садись на меня да держись крепче.
Сел Иван-царевич на него верхом, серый волк и поскакал — синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до высокой крепости. Серый волк и говорит:
— Слушай меня, Иван-царевич, запоминай: полезай через стену, не бойся — час удачный, все сторожа спят. Увидишь в тереме окошко, на окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит Жар-птица. Ты птицу возьми, за пазуху положи, да смотри клетки не трогай!
Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем — на окошке стоит золотая клетка, в клетке сидит Жар-птица. Он птицу взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку. Сердце его и разгорелось: «Ах, какая — золотая, драгоценная! Как такую не взять!» И забыл, что волк ему наказывал. Только дотронулся до клетки, пошел по крепости звук: трубы затрубили, барабаны забили, сторожа пробудились, схватили Ивана-царевича и повели его к царю Афрону.
Царь Афрон разгневался и спрашивает:
— Чей ты, откуда?
— Я царя Берендея сын, Иван-царевич.
— Ай, срам какой! Царский сын да пошел воровать.
— А что же, когда ваша птица летала, наш сад разоряла?
— А ты бы пришел ко мне, по совести попросил, я бы ее так отдал, из уважения к твоему родителю, царю Берендею. А теперь по всем городам пущу нехорошую славу про вас... Ну да ладно, сослужишь мне службу, я тебя прощу. В таком-то царстве у царя Кусмана есть конь златогривый. Приведи его ко мне, тогда отдам тебе Жар-птицу с клеткой.
Загорюнился Иван-царевич, идет к серому волку. А волк ему:
— Я же тебе говорил, не шевели клетку! Почему не слушал мой наказ?
— Ну, прости же ты меня, прости, серый волк.
— То-то, прости... Ладно, садись на меня. Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Долго ли, добегают они до той крепости, где стоит конь златогривый.
— Полезай, Иван-царевич, через стену, сторожа спят, иди на конюшню, бери коня, да смотри уздечку не трогай!
Иван-царевич перелез в крепость, там все сторожа спят, зашел на конюшню, поймал коня златогривого, да позарился на уздечку — она золотом, дорогими камнями убрана; в ней златогривому коню только гулять.
30
Иван-царевич дотронулся до уздечки, пошел звук по всей крепости: трубы затрубили, барабаны забили, сторожа проснулись, схватили Ивана-царевича и повели к царю Кусману.
— Чей ты, откуда?
— Я Иван-царевич.
— Эка, за какие глупости взялся — коня воровать! На это простой мужик не согласится. Ну ладно, прощу тебя, Иван-царевич, если сослужишь мне службу. У царя Далмата есть дочь Елена Прекрасная. Похить ее, привези ко мне, подарю тебе златогривого коня с уздечкой.
Еще пуще пригорюнился Иван-царевич, пошел к серому волку.
— Говорил я тебе, Иван-царевич, не трогай уздечку! Не послушал ты моего наказа.
— Ну, прости же меня, прости, серый волк.
— То-то, прости... Да уж ладно, садись мне на спину.
Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Добегают они до царя Далмата. У него в крепости в саду гуляет Елена Прекрасная с мамушками, нянюшками. Серый волк говорит:
— В этот раз я тебя не пущу, сам пойду. А ты ступай обратно путем-дорогой, я тебя скоро нагоню.
Иван - царевич пошел обратно путем-дорогой, а серый волк перемахнул через стену — да в сад. Засел за куст и глядит: Елена Прекрасная вышла со своими мамушками, нянюшками. Гуляла, гуляла и только приотстала от мамушек и нянюшек, серый волк ухватил Елену Прекрасную, перекинул через спину — и наутек.
Иван-царевич идет путем-дорогой, вдруг настигает его серый волк, на нем сидит Елена Прекрасная. Обрадовался Иван-царевич, а серый волк ему:
— Садись на меня скорей, как бы за нами погони не было.
Помчался серый волк с Иваном-царевичем, с Еленой Прекрасной обратной дорогой — синие леса мимо глаз пропускает, реки, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до царя Кусмана. Серый волк спрашивает:
— Что, Иван-царевич, приумолк, пригорюнился?
— Да как же мне, серый волк, не печалиться? Как расстанусь с такой красотой? Как Елену Прекрасную на коня буду менять?
Серый волк отвечает:
— Не разлучу я тебя с такой красотой — спрячем ее где-нибудь, а я обернусь Еленой Прекрасной, ты и веди меня к царю.
Тут они Елену Прекрасную спрятали в лесной избушке. Серый волк перевернулся через голову и сделался точь-в-точь Еленой Прекрасной. Повел его Иван-царевич к царю Кусману. Царь обрадовался, стал его благодарить:
— Спасибо тебе, Иван-царевич, что достал мне невесту. Получай златогривого коня с уздечкой.
Иван-царевич сел на этого коня и поехал за Еленой Прекрасной. Взял ее, посадил на коня, и едут они путем-дорогой.
А царь Кусман устроил свадьбу, пировал весь день до вечера, а как надо было спать ложиться, повел он Елену Прекрасную в спальню, да только лег с ней на кровать, глядит — волчья морда вместо молодой жены! Царь со страху свалился с кровати, а волк удрал прочь.
Нагоняет серый волк Ивана-царевича и спрашивает:
— О чем задумался, Иван-царевич?
— Как же мне не думать? Жалко расставаться с таким сокровищем — конем златогривым, менять его на Жар-птицу.
— Не печалься, я тебе помогу.
Вот доезжают они до царя Афрона. Волк и говорит:
— Этого коня и Елену Прекрасную ты спрячь, а я обернусь конем златогривым, ты меня и веди к царю Афрону.
Спрятали они Елену Прекрасную и златогривого коня в лесу. Серый волк перекинулся через спину, обернулся златогривым конем. Иван-царевич повел его к царю Афрону.
Царь обрадовался и отдал ему Жар-птицу с золотой клеткой.
Иван-царевич вернулся пеший в лес, посадил Елену Прекрасную на златогривого коня, взял золотую клетку с Жар-птицей и поехал путем-дорогой в родную сторону.
А царь Афрон велел подвести к себе дареного коня и только хотел сесть на него — конь обернулся серым волком. Царь со страху где стоял, там и упал, а серый волк пустился наутек и скоро догнал Ивана-царевича.
31
— Теперь прощай, мне дальше идти нельзя.
Иван-царевич слез с коня и три раза поклонился до земли, с уважением отблагодарил серого волка. А тот говорит:
— Не навек прощайся со мной, я еще тебе пригожусь.
Иван-царевич думает: «Куда же ты еще пригодишься? Все желанья мои исполнены». Сел на златогривого коня, и опять поехали они с Еленой Прекрасной, с Жар-птицей. Доехал он до своих краев, вздумалось ему пополдневать. Было у него с собой немного хлебушка. Ну, они поели, ключевой воды попили и легли отдыхать.
Только Иван-царевич заснул, наезжают на него его братья. Ездили они по другим землям, искали Жар-птицу, вернулись с пустыми руками. Наехали и видят — у Ивана-царевича все добыто. Вот они и сговорились:
— Давай убьем брата, добыча вся будет наша.
Решились и убили Ивана-царевича. Сели на златогривого коня, взяли Жар-птицу, посадили на коня Елену Прекрасную и устрашили ее:
— Дома не сказывай ничего!
Лежит Иван-царевич мертвый, над ним уже вороны летают. Откуда ни возьмись, прибежал серый волк и схватил ворона с вороненком.
— Ты лети-ка, ворон, за живой и мертвой водой. Принесешь мне живой и мертвой воды, тогда отпущу твоего вороненка.
Ворон, делать нечего, полетел, а волк держит его вороненка. Долго ли ворон летал, коротко ли, принес он живой и мертвой воды. Серый волк спрыснул мертвой водой раны Ивану-царевичу, раны зажили; спрыснул его живой водой — Иван-царевич ожил.
— Ох, крепко же я спал!..
— Крепко ты спал, — говорит серый волк. — Кабы не я, совсем бы не проснулся. Родные братья тебя убили и всю добычу твою увезли. Садись на меня скорей!
Поскакали они в погоню и настигли обоих братьев. Тут их серый волк растерзал и клочки по полю разметал.
Иван-царевич поклонился серому волку и простился с ним навечно.
Вернулся Иван-царевич домой на коне златогривом, привез отцу своему Жар-птицу, а себе — невесту, Елену Прекрасную.
Царь Берендей обрадовался, стал сына спрашивать. Стал Иван-царевич рассказывать, как помог ему серый волк достать добычу, да как братья убили его, сонного, да как серый волк их растерзал.
Погоревал царь Берендей и скоро утешился. А Иван-царевич женился на Елене Прекрасной, и стали они жить-поживать да горя не знать.
21.Рассказывание сказки "Колобок".
КОЛОБОК. Русская народная сказка. Сказку обработал Толстой А.Н.
Жили-были старик со старухой.
Вот и говорит старик старухе:
— Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не наскребешь ли муки на колобок.
Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки горсти две.
Замесила муку на сметане, состряпала колобок, изжарила в масле и на окошко студить положила.
Колобок полежал, полежал, взял да и покатился — с окна на лавку, с лавки на пол, пó полу к двери, прыг через порог — да в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше.
Катится Колобок по дороге, навстречу ему Заяц:
— Колобок, Колобок, я тебя съем!
— Не ешь меня, Заяц, я тебе песенку спою:
32
Я Колобок, Колобок,
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
От тебя, зайца, подавно уйду!
И покатился по дороге — только Заяц его и видел!
Катится Колобок, навстречу ему Волк:
— Колобок, Колобок, я тебя съем!
— Не ешь меня, Серый Волк, я тебе песенку спою:
Я Колобок, Колобок,
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
Я от зайца ушел,
От тебя, волк, подавно уйду!
И покатился по дороге — только Волк его и видел!
Катится Колобок, навстречу ему Медведь:
— Колобок, Колобок, я тебя съем!
— Где тебе, косолапому, съесть меня!
Я Колобок, Колобок,
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
Я от зайца ушел,
Я от волка ушел,
От тебя, медведь, подавно уйду!
И опять покатился — только Медведь его и видел!
Катится Колобок, навстречу ему Лиса:
— Колобок, Колобок, куда катишься?
— Качусь по дорожке.
— Колобок, Колобок, спой мне песенку!
Колобок и запел:
Я Колобок, Колобок,
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон.
33
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
Я от зайца ушел,
Я от волка ушел,
От медведя ушел,
От тебя, лисы, нехитро уйти!
А Лиса говорит:
— Ах, песенка хороша, да слышу я плохо. Колобок, Колобок, сядь ко мне на носок да спой еще разок, погромче.
Колобок вскочил Лисе на нос и запел погромче ту же песенку.
А Лиса опять ему:
— Колобок, Колобок, сядь ко мне на язычок да пропой в последний разок.
Колобок прыг Лисе на язык, а Лиса его — гам! — и съела.
22.Выразительное исполнение венгерской народной сказки "Два жадных медвежонка" или "Кукушка".
ДВА ЖАДНЫХ МЕДВЕЖОНКА
По ту сторону стеклянных гор, за шелковым - лугом, стоял нехоженый, невиданный густой лес. В нехоженом, невиданном густом лесу, в самой его чащобе, жила старая медведица. У старой медведицы было два сына. Когда медвежата подросли, решили они пойти по белу свету счастья искать.
Поначалу пошли они к матери и, как положено, распрощались с ней. Обняла старая медведица сыновей и наказала им никогда не расставаться друг с другом.
Обещали медвежата исполнить приказ матери и тронулись в путь-дорогу. Сначала пошли они по опушке леса, а оттуда - в поле. Шли они, шли. И день шли, и другой шли. Наконец все припасы у них кончились. А по дороге достать было нечего.
Понурые брели рядышком медвежата.
- Э, братик, до чего же мне есть хочется! - пожаловался младший.
- А мне и того пуще! - сокрушенно покачал головой старший.
Так они все шли да шли, покуда вдруг не набрели на большую круглую головку сыра. Хотели было поделить ее по справедливости, поровну, но не сумели.
Жадность одолела медвежат, каждый боялся, что другому достанется большая половина.
Спорили они, ругались, рычали, как вдруг подошла к ним лиса.
- О чем вы спорите, молодые люди? - спросила плутовка.
Медвежата рассказали о своей беде.
- Какая же это беда? - сказала лисица. - Это не беда! Давайте я вам поделю сыр поровну: мне что младший, что старший - все одно.
- Вот это хорошо! - воскликнули с радостью медвежата. - Дели!
Лисичка взяла сыр и разломила его надвое. Но старая плутовка разломила головку так, чтобы один кусок был больше другого. Медвежата враз закричали:
- Этот больше! Лисица успокоила их:
- Тише, молодые люди! И эта беда - не беда. Малость терпения - сейчас все улажу.
Она откусила добрый кусок от большей половины и проглотила его. Теперь большим стал меньший кусок.
- И так неровно! - забеспокоились медвежата. Лисица посмотрела на них с укоризной.
- Ну, полно, полно! - сказала она. - Я сама знаю свое дело!
И она откусила от большей половины здоровенный кусок. Теперь больший кусок стал меньшим.
- И так неровно! - вскричали медвежата в тревоге.
- Да будет вам! - сказала лиса, с трудом ворочая языком, так как рот ее был набит вкуснейшим сыром. - Еще самая малость - и будет поровну.
34
Так и шла дележка. Медвежата только черными носами водили туда-сюда - от большего к меньшему, от меньшего к большему куску. Покуда лисица не насытилась, она все делила и делила.
К тому времени, как куски сравнялись, медвежатам почти сыра не осталось: две крохотные крошки!
- Ну что ж, - сказала лиса, - хоть и помалу, да зато поровну! Приятного вам аппетита, медвежата! - захихикала и, помахав хвостом, убежала. Так-то вот бывает с теми, кто жадничает.
КУКУШКА
В древние времена, когда на небе было два солнца и на земле всегда день белый сиял, кукушку считали первой певуньей.
Сядет кукушка на ветку, голову гордо вскинет, хвост расправит и поет, на всю тайгу разливается. И птицы, и звери слушают, кукушку хвалят.
Пришла пора всем птицам яички откладывать, птенцов выводить. Птицы заторопились: мох, траву, ветки таскать начали, гнезда новые вить, постель теплую готовить.
Только кукушка еще больше важничает, над птицами смеется, песнями по тайге разливается. Собрались птицы, говорят:
— Как певунья наша жить будет? Как род свой на земле сохранит?
Услыхала кукушка те птичьи речи, пуще смеется:
— Эко, глупые!.. Не думаете ли вы меня заставить гнезда. вить, птенцов высиживать?..
Птицы сказали:
— Худая голова у этой птицы: ума в ней меньше, чем у мухи, — и разлетелись по своим гнездам.
А кукушка по-прежнему смеется, песнями по тайге разливается.
Пришла пора и ей яички откладывать, но гнезда-то у нее нет.
Полетела она к озеру, видит: между кочек, в камышах, утка на яйцах сидит, старается. Кукушка ей говорит:
— Эко, милая, сидишь голодная, слетай покормись, я яички твои охранять стану.
Утка послушалась, полетела. Кукушка одно яичко из утиного гнезда выбросила, свое положила.
Вернулась утка, села на яички. Кукушка улетела, на другой день прилетела она в поле, видит: куропатка в траве на яичках сидит, старается. Кукушка ей говорит:
— Эко, милая, сидишь голодная, слетай покормись, я твои яички охранять стану.
Послушалась куропатка, полетела. Кукушка одно яичко из куропаткиного гнезда выбросила, свое положила. .
Куропатка прилетела, села на яички. Кукушка улетела! На третий день прилетела она к сухой осине, на ней большое гнездо, в нем ворона на яичках сидит, старается. Кукушка говорит:
— Эко, милая, сидишь голодная, слетай покормись, я твои яички охранять стану.
Ворона послушалась, полетела. Кукушка одно яичко из вороньего гнезда выбросила, свое положила.
Ворона прилетела, села на яички. Кукушка улетела.
Вывели все птенцов, птенцы подросли. Каждая птица радуется, своими детьми хвалится.
Утка крякает:
— Кря-кря! Эх вы, мои желтоносые... Идемте к озеру, плавать, нырять будем!
Птенцы за ней бегут, крякают. Пришли к озеру, утка нырнула, поплыла, птенцы нырнули, поплыли. Один птенец на берегу, крылышками хлопает, воды боится.
Утка кричит, сердится:
— Ты чужой!
Плывет утка к берегу, птенца того утопить хочет.
Подлетела кукушка, птенца с собой взяла. Куропатка детей по траве ведет.
— Пи-пи! Эх вы, мои быстроногие... Пойдемте по траве побегаем!
Птенцы за ней бегут. Один птенец сидит, крылышками хлопает, на ветку взлететь хочет. Куропатка кричит, сердится:
— Ты чужой!
Бежит куропатка, чтоб птенца того заклевать. Подлетела кукушка, птенца с собой взяла. Ворона детьми хвалится, каркает:
35
— Кар-кар-кар! Эх вы, мои черненькие... Смотрит, а один птенец пестренький. Ворона кричит, сердится:
— Ты чужой!
Ворона клюв разинула, птенца заклевать хотела.
Прилетела кукушка, птенца с собой взяла.
Собрались кукушкины дети. Кукушка хвалится:
— Эко, мои детки, все вы в меня, красавицу-певунью, родились. Пусть птицы завидуют.
Прилетели птицы пенье кукушкиных детей слушать.
Кукушка своих детей учит:
— Спойте, мои детки, как я пою.
Птенец, которого утка вывела, крылышками захлопал, клюв открыл.
— Кря!.. Кря!..
Птицы засмеялись, кукушка опечалилась. Птенец, которого куропатка вывела, крылышками захлопал, клюв открыл:
— Пиф-пиф-пиф!
Птицы засмеялись, кукушка еще больше опечалилась. Смотрит на последнего своего птенца, на него надеется.
Птенец, которого ворона вывела, крылышками захлопал, открыл клюв:
— Кар! Кар!
Птицы смеются, над кукушкой потешаются, а она от горя плачет, птенцам своим говорит:
— Эко, мои детки, непонятливые. Слушайте, как я весело пою!
А сама плачет, слезы на траву капают.
Смотрит, дети от нее полетели: один к утке, второй к куропатке, третий к вороне. От такого несчастья у кукушки горло перехватило. Взлетела она на куст, клюв открыла, от горя и слез заикается:
— Ку-ку! Ку-ку!
И стала кукушка вечной заикой, печально кукующей.
Это она о детях своих печалится, о них стонет, жалобно кукует.
36
23.Чтение наизусть стихов для детей С.Есенина, А.Блока.
| БЕРЕЗА. Сергей Есенин Белая береза Под моим окном Принакрылась снегом, Точно серебром. На пушистых ветках Снежною каймой Распустились кисти Белой бахромой. И стоит береза В сонной тишине, И горят снежинки В золотом огне. А заря, лениво Обходя кругом, Обсыпает ветки Новым серебром. | ПОЕТ ЗИМА - АУКАЕТ… С. Есенин Поет зима - аукает, Мохнатый лес баюкает Стозвоном сосняка. Кругом с тоской глубокою Плывут в страну далекую Седые облака. А по двору метелица Ковром шелковым стелется, Но больно холодна. Воробышки игривые, Как детки сиротливые, Прижались у окна. Озябли пташки малые Голодные, усталые, И жмутся поплотней. А вьюга с ревом бешеным Стучит по ставням свешенным И злится все сильней. И дремлют пташки нежные Под эти вихри снежные У мерзлого окна. И снится им прекрасная, В улыбках солнца ясная Красавица весна. |
| 37 | |
| ВЕТХАЯ ИЗБУШКА. А. Блок Ветхая избушка Вся в снегу стоит. Бабушка-старушка Из окна глядит. Внукам-шалунишкам По колено снег. Весел ребятишкам Быстрых санок бег… Бегают, смеются, Лепят снежный дом, Звонко раздаются Голоса кругом… В снежном доме будет Резвая игра… Пальчики застудят, - По домам пора! Завтра выпьют чаю, Глянут из окна - Ан уж дом растаял, На дворе - весна! | СНЕГ ДА СНЕГ. Александр Блок Снег да снег. Всю избу занесло. Снег белеет кругом по колено. Так морозно, светло и бело! Только черные, черные стены... И дыханье выходит из губ Застывающим в воздухе паром. Вон дымок выползает из труб; Вот в окошке сидят с самоваром; Старый дедушка сел у стола, Наклонился и дует на блюдце; Вон и бабушка с печки сползла, И кругом ребятишки смеются. Притаились, ребята, глядят, Как играет с котятами кошка... Вдруг ребята пискливых котят Побросали обратно в лукошко... Прочь от дома на снежный простор На салазках они покатили. Оглашается криками двор - Великана из снега слепили! Палку в нос, провертели глаза И надели лохматую шапку. И стоит он, ребячья гроза, - Вот возьмет, вот ухватит в охапку! И хохочут ребята, кричат, Великан у них вышел на славу! А старуха глядит на внучат, Не перечит ребячьему нраву. |
38
24.М.Горький "Воробьишко" (выразительное чтение).
ВОРОБЬИШКО. Горький М. (иллюстрации Чарушина Е. И.)
 У воробьев совсем так же, как у людей: взрослые воробьи и воробьихи -- пичужки скучные и обо всем говорят, как в книжках написано, а молодежь -- живет своим умом.
У воробьев совсем так же, как у людей: взрослые воробьи и воробьихи -- пичужки скучные и обо всем говорят, как в книжках написано, а молодежь -- живет своим умом.
Жил-был желторотый воробей, звали его Пудик, а жил он над окошком бани, за верхним наличником, в теплом гнезде из пакли, моховинок и других мягких материалов. Летать он еще не пробовал, но уже крыльями махал и всё выглядывал из гнезда: хотелось поскорее узнать -- что такое божий мир и годится ли он для него?
- Что, что? -- спрашивала его воробьиха-мама.
Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал:
- Чересчур черна, чересчур!
Прилетал папаша, приносил букашек Пудику и хвастался:
- Чив ли я?
Мама-воробьиха одобряла его:
- Чив, чив!
Иллюстрация Чарушина Е. И.
А Пудик глотал букашек и думал: "Чем чванятся -- червяка с ножками дали -- чудо!" И всё высовывался из гнезда, всё разглядывал.
- Чадо, чадо, -- беспокоилась мать, -- смотри -- чебурахнешься!
- Чем, чем? -- спрашивал Пудик.
- Да не чем, а упадешь на землю, кошка -- чик! и слопает! -- объяснял отец, улетая на охоту.
Так всё и шло, а крылья расти не торопились. Подул однажды ветер Пудик спрашивает:
- Что, что?
- Ветер. Дунет он на тебя -- чирик! и сбросит на землю -- кошке! -- объяснила мать.
Это не понравилось Пудику, он и сказал:
- А зачем деревья качаются? Пусть перестанут, тогда ветра не будет...
Пробовала мать объяснить ему, что это не так, но он не поверил -- он любил объяснять всё по-своему.
Идет мимо бани мужик, машет руками.
- Чисто крылья ему оборвала кошка, -- сказал Пудик, -- одни косточки остались!
- Это человек, они все бескрылые! -- сказала воробьиха.
- Почему?
- У них такой чин, чтобы жить без крыльев, они всегда на ногах прыгают, чу?
- Зачем?
- Будь-ка у них крылья, так они бы и ловили нас, как мы с папой мошек...
- Чушь! -- сказал Пудик. -- Чушь, чепуха! Все должны иметь крылья. Чать, на земле хуже, чем в воздухе!.. Когда я вырасту большой, я сделаю, чтобы все летали.
Пудик не верил маме; он еще не знал, что если маме не верить, это плохо кончится. Он сидел на самом краю гнезда и во всё горло распевал стихи собственного сочинения:
Эх, бескрылый человек,
У тебя две ножки,
Хоть и очень ты велик,
Едят тебя мошки!
А я маленький совсем,
Зато сам мошек ем.
39
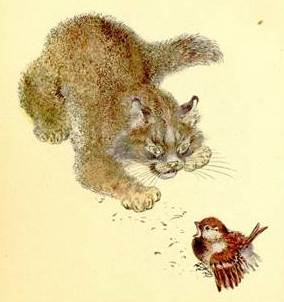 Пел, пел да и вывалился из гнезда, а воробьиха за ним, а кошка - рыжая, зеленые глаза - тут как тут.
Пел, пел да и вывалился из гнезда, а воробьиха за ним, а кошка - рыжая, зеленые глаза - тут как тут.
Испугался Пудик, растопырил крылья, качается на сереньких ногах и чирикает:
- Честь имею, имею честь...
А воробьиха отталкивает его в сторону, перья у нее дыбом встали - страшная, храбрая, клюв раскрыла -- в глаз кошке целит.
- Прочь, прочь! Лети, Пудик, лети на окно, лети...
Страх приподнял с земли воробьишку, он подпрыгнул, замахал крыльями -- раз, раз и -- на окне! Тут и мама подлетела -- без хвоста, но в большой радости, села рядом с ним, клюнула его в затылок и говорит:
- Что, что?
- Ну что ж! -- сказал Пудик. -- Всему сразу не научишься!
Иллюстрация Чарушина Е. И.
А кошка сидит на земле, счищая с лапы воробьихины перья, смотрит на них -- рыжая, зеленые глаза -- и сожалительно мяукает:
- Мяа-аконький такой воробушек, словно мы-ышка... мя-увы...
И всё кончилось благополучно, если забыть о том, что мама осталась без хвоста...
25 .Выразительное чтение героических рассказов для детей. Гайдар "Поход".
ПОХОД. Аркадий Гайдар
Ночью красноармеец принес повестку. А на заре, когда Алька еще спал, отец крепко поцеловал его и ушел на войну — в поход.
Утром Алька рассердился, зачем его не разбудили, и тут же заявил, что и он хочет идти в поход тоже. Он, вероятно бы, закричал, заплакал. Но совсем неожиданно мать ему в поход идти разрешила.
И вот для того, чтобы набрать перед дорогой силы, Алька съел без каприза полную тарелку каши, выпил молока. А потом они с матерью сели готовить походное снаряжение. Мать шила ему штаны, а он, сидя на полу, выстругивал себе из доски саблю. И тут же, за работой, разучивали они походные марши, потому что с такой песней, как «В лесу родилась елочка», никуда далеко не нашагаешь. И мотив не тот, и слова не такие, в общем эта мелодия для боя совсем неподходящая.
Но вот пришло время матери идти дежурить на работу, и дела свои они отложили на завтра.
И так день за днем готовили Альку в далекий путь. Шили штаны, рубахи, знамена, флаги, вязали теплые чулки, варежки. Одних деревянных сабель рядом с ружьем и барабаном висело на стене уже семь штук. А этот запас не беда, ибо в горячем бою у звонкой сабли жизнь еще короче, чем у всадника.
И давно, пожалуй, можно было бы отправляться Альке в поход, но тут наступила лютая зима. А при таком морозе, конечно, недолго схватить и насморк или простуду, и Алька терпеливо ждал теплого солнца. Но вот и вернулось солнце. Почернел талый снег. И только бы, только начать собираться, как загремел звонок. И тяжелыми шагами в комнату вошел вернувшийся из похода отец. Лицо его было темное, обветренное, и губы потрескались, но серые глаза глядели весело.
Он, конечно, обнял мать. И она поздравила его с победой. Он, конечно, крепко поцеловал сына. Потом осмотрел все Алькино походное снаряжение. И, улыбнувшись, приказал сыну: все это оружие и амуницию держать в полном порядке, потому что тяжелых боев и опасных походов будет и впереди на этой земле еще немало.
40
26.С.Михалков 1 стихотворение наизусть (по выбору).
| ПРИВИВКА. Сергей Михалков - На прививку! Первый класс! - Вы слыхали? Это нас!.. - Я прививки не боюсь: Если надо - уколюсь! Ну, подумаешь, укол! Укололи и - пошёл... Это только трус боится На укол идти к врачу. Лично я при виде шприца Улыбаюсь и шучу. Я вхожу один из первых В медицинский кабинет. У меня стальные нервы Или вовсе нервов нет! Если только кто бы знал бы, Что билеты на футбол Я охотно променял бы На добавочный укол!.. - На прививку! Первый класс! - Вы слыхали? Это нас!.. - Почему я встал у стенки? У меня... дрожат коленки... | КОТЯТА (Считалочка) Вы послушайте, ребята, Я хочу вам рассказать: Родились у нас котята - Их по счёту ровно пять. Мы решали, мы гадали: Как же нам котят назвать? Наконец мы их назвали: Раз, Два, Три, Четыре, Пять. Раз - котёнок самый белый, Два - котёнок самый смелый, Три - котёнок самый умный, А Четыре - самый шумный. Пять похож на Три и Два - Те же хвост и голова, То же пятнышко на спинке, Так же спит весь день в корзинке. Хороши у нас котята - Раз, Два, Три, Четыре, Пять! Заходите к нам, ребята, Посмотреть и посчитать! |
41
| А ЧТО У ВАС? 1. Кто на лавочке сидел, Кто на улицу глядел, Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечером, Делать было нечего. Галка села на заборе, Кот забрался на чердак. Тут сказал ребятам Боря Просто так: - А у меня в кармане гвоздь. А у вас? - А у нас сегодня гость. А у вас? - А у нас сегодня кошка Родила вчера котят. Котята выросли немножко, А есть из блюдца не хотят. - А у нас на кухне газ. А у вас? - А у нас водопровод. Вот. - А из нашего окна Площадь Красная видна. А из вашего окошка Только улица немножко. - Мы гуляли по Неглинной, Заходили на бульвар, Нам купили синий-синий, Презелёный красный шар. - А у нас огонь погас - Это раз. Грузовик привёз дрова - Это два. | 2. А в-четвёртых, наша мама Отправляется в полёт, Потому что наша мама Называется пилот. С лесенки ответил Вова: - Мама - лётчик? Что ж такого! Вот у Коли, например, Мама - милиционер. А у Толи и у Веры Обе мамы - инженеры. А у Лёвы мама - повар. Мама - лётчик? Что ж такого! - Всех важней,- сказала Ната,- Мама вагоновожатый, Потому что до Зацепы Водит мама два прицепа. И спросила Нина тихо: - Разве плохо быть портнихой? Кто трусы ребятам шьёт? Ну конечно, не пилот. Лётчик водит самолёты - Это очень хорошо. Повар делает компоты - Это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори, Есть учительница в школе. Мамы разные нужны. Мамы всякие важны. Дело было вечером, Спорить было нечего. |
42
27.Наизусть произведение детского фольклора (5-6 примеров).
| Баю-бай, баю-бай, Ты, собачка, не лай, Белолапа, не скули, Мою Таню не буди. Ой, люли-люлюшеньки, Баиньки-баюшеньки... Сладко спи по ночам, Да расти по часам. Ночь пришла, Темноту привела, Задремал петушок, Запел сверчок. Вышла маменька, Закрыла ставеньку. Засыпай, Баю-бай. (Колыбельные песни) | А баиньки-баиньки, Купим сыну валенки, Наденем на ноженьки, Пустим по дороженьке, Будет наш сынок ходить, Новы валенки носить. Баю-баю, баю-бай, Спи мой ... засыпай, Гуленьки-гуленьки, Сели к ... в люленьку, Стали люленьку качать, Стали ... величать. А качи, мчи, мчи, Прилетели к нам грачи, сели грачи на ворота: Ворота-то скрыл, скрыл! А Колинька спит, спит. (Колыбельные песни) |
| Петушок, петушок, Золотой гребешок, Масляна головушка, Шелкова бородушка, Что ты рано встаешь, Деткам спать не даешь? (пробуждение) Потягунушки, потягунушки! Поперек толстунушки, А в ножки ходунушки, А в ручки хватунушки, А в роток говорок, А в головку разумок. (потягушка) Потягушечки, потянись, Поскорей, скорей проснись. (потягушка) (Пестушки) | Ладушки, ладушки, С мылом моем лапушки. Чистые ладошки, Вот вам хлеб и ложки. (умывание) Наша Катя маленька, На ней шубка аленька, Опушка бобровая, Катя чернобровая. (одевание) Серый еж-ежок Испек пирожок, Лисица-лиса Калачей принесла, Старик кабан Налил меду жбан, Идут Машеньку звать На полянке пировать! (кормление) (Пестушки) |
| 43 | |
| - Ладушки, ладушки! Где были? - У бабушки! - Что ели? - Кашку! - Что пили? - Бражку. Бражка сладенька, Бабушка добренька. Попили, поели, Шу, полетели! На головку сели! Сели, посидели, Прочь улетели! Сорока-ворона Кашу варила, Деток кормила, Этому дала, Этому дала, Этому дала, Этому дала, А этому не дала: "Мал, мал, не хорош! Ты водички не принес. Кыш, пошел!" (Потешки) | Идет коза рогатая, Идет коза бодатая - За малыми ребятами, Ножками топ-топ. Глазками хлоп-хлоп. Кто каши не ест, Кто молока не пьет, Того забодает, Забодает, забодает! (Потешка) |
| И-та-та, и-та-та, Вышла кошка за кота, За кота котовича, За Иван Петровича. Ай, дуду, ай, дуду, Потерял мужик дугу. Потерял мужик дугу За поленницей в углу. Шарил, шарил - не нашел, Так заплакал и ушел. Журавли доску точили, Кулики баню топили. Они парились, С полки сваливались. (прибаутки) | Дон, дон, дон! Загорелся кошкин дом. Бежит курица с ведром - Заливать кошкин дом. Как повадился коток К бабке Марье в погребок Есть сметанку да творог. Как увидели кота Ребятишки из окна, Они хлопнули окном, Побежали за котом. Ухватили кота Поперек живота. - Вот-то, котенька-коток, И сметанка, и творог. (прибаутки) |
| 44 | |
| Ещё где же это видано, Ещё где же это слыхано, Чтобы курочка бычка родила, Поросёночек яичко снёс… Чтоб безрукий клеть обокрал, Голопузому за пазуху наклал, А слепой-то подсматривал, А глухой-то подслушивал, Безъязыкий "караул" закричал, А безногий впогонь побежал. (небылицы – перевертыши – разновидности прибауток) | Ехала деревня Мимо мужика, Вдруг из-под собаки Лают ворота. Я схватил дубинку, Разрубил топор, И по нашей кошке Пробежал забор. Стучит-гремит по улице, Фома едет на курице, Тимошка на кошке По кривой дорожке. (небылицы – перевертыши – разновидности прибауток) |
| Жи-жи-жи- живут в лесу ежи, Жа-жа-жа- я нашел ежа, Жу-жу-жу- молоко даю ежу. На траве – трава, у тропинки – дрова. Петр едет на троллейбусе, а Трофим – на трамвае. Труба трубит, труба поет, Трубач по улице идет. У Петрушки три ватрушки, три ватрушки у Петра. (чистоговорки) | У ежа ежата, у ужа ужата. Шли сорок мышей, несли сорок грошей, две мыши поплоше несли по два гроша. Наш-то белобород вашего-то белоборода перебелобородил, выбелобородил. Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках, санки скок. Сеньку с ног, Саньку в бок, Соньку в лоб. (скороговорки) |
| Ехала машина темным лесом За каким-то интересом, Инте, инте, интерес, Выходи на букву <С>. Вышел месяц из тумана, Вынул ножик из кармана, Буду резать, буду бить, Все равно тебе водить. Катилось яблоко Мимо сада, Мимо сада, Мимо града. Кто поднимет, Тот и выйдет. (считалки) | На золотом крыльце сидели Царь, царевич, король, королевич, Сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Говори поскорей, Не задерживай добрых и честных людей! Раз, два, три, четыре, пять, Надо солнышку вставать. Шесть, семь, восемь, девять, десять, Солнце спит, на небе месяц. Разбегайся кто куда, Завтра новая игра. (считалки) |
| 45 | |
| Мирись, мирись, Больше не дерись. Если будешь драться, Я буду кусаться. А кусаться - ни при чем, Буду драться кирпичом. Не дерись, не дерись, Ну-ка быстро помирись! (приговоры-мирилки) | Кони, кони, кони Сидели на балконе Чай пили, в ложки били По-турецки говорили: "Чиби-чиби-чибичок, Кто слово скажет, Тому щелчок!" Тише, тише, Кот на крыше, А котята еще выше! Кот пошёл за молоком, А котята - кувырком! Кот пришёл без молока, А котята: "Ха-ха-ха!" (молчанки) |
| Солнышко-ведёрышко, Выгляни в окошечко! Солнышко, нарядись! Красное, покажись! Дождик, дождик, пуще - Дам тебе я гущи. Дам тебе ложку, Кушай понемножку. (заклички) | Радуга-дуга, Не давай дождя! Давай солнышка Колоколнышка! (закличка) |
28.Загадки, пословицы и поговорки (русские и зарубежные).
| “Не поклонясь до земли, и грибка не поднимешь”, “Без труда не выловишь и рыбку из пруда”, “Береги нос в большой мороз” “Нет друга - ищи, а нашел - береги”; “Не спеши языком, торопись делом”; “Кончил дело - гуляй смело”; “При солнышке - тепло, при матери - добро” Хлеб – соль кушай, а добрых людей слушай. (Русские народные пословицы) | “Зубасты, а не кусаются” (грабли), “Два брюшка, четыре ушка” (подушка), “Вся мохнатенька, четыре лапки, сама усатенька” (кошка), “Зимой и летом одним цветом” (ель, сосна) Бела как снег, черна как уголь, зелена как лук, вертится как бес и дорога в лес. (сорока) На дворе горой, а в избе - водой. (снег) Над матушкиной избушкой висит хлеба краюшка: собаки лают, достать не могут. (месяц) Красное коромысло над рекой повисло. (радуга) Маленький-удаленький, сквозь землю прошёл, красную шапочку нашёл. (мухомор) (Русские народные загадки) |
| 46 | |
| Без ума голова - ногам пагуба. Бери в работе умом а не горбом. Бог не выдаст - свинья не съест Богаты не будем, а сыты - то будем. Велика Федора, да дура Во всяком мудреце довольно простоты. Волка зубы кормят, лису хвост бережет Всякое дело концом хорошо. Где ум, там и толк. Глаза бояться, а руки делают Глядит в книгу, а видит фигу. Дальше положишь - ближе возьмешь Деньги потерял - ничего не потерял, время потерял - многое потерял, здоровье потерял - все потерял. Держи голову в холоде, живот - в голоде, а ноги - в тепле. Детей наказывай стыдом, а не кнутом. Дитя не плачет - мать не разумеет Добрая слава бежит, а худая - летит. Ему хоть кол на голове теши, а он все свое. Есть терпение - будет и умение Имеем - не храним, потеряем - плачем Какой палец ни укусишь - всей руке больно. Красота до вечера, а доброта навек. Кто посеет ветер, пожнет бурю. Много знать - мало спать. (Русские народные поговорки) | Москва слезам не верит, ей дело подавай. Не мытьем, так катаньем. Не стыдно молчать, когда нечего сказать Ни богу свечка, ни черту кочерга Один палец не кулак Повадки волчьи, а душа заячья Поля словами не засевают. Поменьше говори - больше услышишь. Попытка не пытка, а спрос не беда. Птицы сильны крыльями, а люди дружбой. Ругать жалко, а похвалить не за что. С родной земли - умри, не сходи. Свинья грязь найдет. Семеро не один, в обиду не дадим. Слово - серебро, молчание - золото. Солдат спит - служба идет. Сон лучше всякого лекарства. Спрос не грех, отказ не беда. Сытое брюхо к учению глухо. Счастье лучше богатства. Счет дружбы не портит. Сядем рядком да потолкуем ладком. У правого уши смеются, а у виноватого и язык уныл У хотенья живет и терпенье. Что в лоб, что по лбу. Чует кошка, чье мясо съела. (Русские народные поговорки) |
| 1.Идущий степь пересечет (финская). Дорогу осилит идущий. 2.Нет человека без недостатков (турецкая). Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается. 3.Кто воду носит, тот и кувшин ломает (турецкая). Тот не ошибается, кто ничего не делает. 4.И короли ошибаются (вьетнамская). На всякого мудреца довольно простоты. 5.Везде хлеб с коркой (литовская). Нет розы без шипов. (Иностранные пословицы и поговорки и их русские аналоги) | 6.В новом кувшине вода холодная (персидская). Новая метла чисто метет. 7.Если бы кошке крылья, воробьям бы не жить (лезгинская). Бодливой корове Бог рогов не дает. 8.Спешащий таракан в суп попадет (удмуртская). Поспешишь – людей насмешишь. 9 Нечего ругать кошку, когда сыр съеден (французская). После драки кулаками не машут. 10.Как постелешь, так и поспишь (гагаузская). Как аукнется, так и откликнется. (Иностранные пословицы и поговорки и их русские аналоги) |
| 47 | |
| 11 Рисовал дракона, а получился червяк (вьетнамская). Стрелял в воробья, а попал в журавля. 12 На море много черного, но не все это тюлени (финская). Не все то золото, что блестит. 13.Жена и муж – словно палочки для еды: всегда парой (вьетнамская). Муж и жена – одна сатана. 14.Если у одной плиты хлопочут два повара, обед пригорает (ассирийская). У семи нянек дитя без глазу. 15Разлука – смерть любви (французская). Сглаз - долой – из сердца- вон. (Иностранные пословицы и поговорки и их русские аналоги) | 16.Биться, как рыба на кухонном столе (вьетнамская). Биться, как рыба об лед. 17.Пьян, как лорд (английская). Пьяный в стельку. 18.Когда свиньи полетят (английская). После дождичка в четверг. 19.Во рту козла – трава сладкая (персидская). На вкус и цвет товарища нет. 20.Полученный уксус лучше обещанной халвы (персидская). Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 21. Если бы у моей тетки росла борода, она была бы моим дядей (персидская). Если бы да кабы во рту росли б грибы. (Иностранные пословицы и поговорки и их русские аналоги) |
29.Стихи В.А.Жуковского для детей (по выбору).
| КОТИК И КОЗЛИК В.А.Жуковский Там котик усатый По садику бродит, А козлик рогатый За котиком ходит; И лапочкой котик Помадит свой ротик; А козлик седою Трясет бородою. | ЖАВОРОНОК На солнце темный лес зардел, В долине пар белеет тонкий, И песню раннюю запел В лазури жаворонок звонкий, Он голосисто с вышины Поет, на солнышке сверкая: Весна пришла к нам молодая, Я здесь пою приход весны; Здесь так легко мне, так радушно, Так беспредельно, так воздушно; Весь божий мир здесь вижу я. И славит бога песнь моя! | ПТИЧКА Птичка летает, Птичка играет, Птичка поет; Птичка летала, Птичка играла, Птички уж нет! Где же ты, птичка? Где ты, певичка? В дальнем краю Гнездышко вьешь ты; Там и поешь ты Песню свою. |
48
30.Стихи поэтов-обэриутов (Д.Хармс, А. Веденский, Ю.Владимиров) по выбору.
| О РЫБАКЕ И СУДАКЕ. Александр Введенский По реке плывёт челнок, На корме сидит рыбак, На носу сидит щенок, В речке плавает судак. Речка медленно течёт, С неба солнышко печёт. Дёрнул удочку рыбак, На крючке сидит червяк. Рыбы нету на крючке — Рыба плавает в реке. «То ли, — думает рыбак, — Плох крючок и плох червяк, То ли тот судак — чудак» — Вот что думает рыбак. «А быть может, нет улова Оттого, что шум кругом, Что, мыча, идут коровы За весёлым пастухом, Что прилежно распевает Голосистый петушок, Что визжит и подвывает Глупый маленький щенок. Всем известно Повсеместно, Вам, ему, тебе и мне: Рыба ловится чудесно Только в полной тишине». Вот рыбак сидел, сидел И на удочку глядел, Вот рыбак терпел, терпел Не стерпел и сам запел. По реке плывёт челнок, На корме поёт рыбак, На носу поёт щенок, Песню слушает судак. И завидует он всем: Он, судак, как рыба нем. | СКАЗКА О ЧЕТЫРЁХ КОТЯТАХ И ЧЕТЫРЁХ РЕБЯТАХ. А. Введенский 1 Стояла у речки, под горкой, хатёнка, В ней кошка жила и четыре котёнка. Был первый котёнок совсем ещё крошкой. Кошка его называла Ермошкой. Сёмкою звался котёнок другой, Маленький хвостик держал он дугой. У третьего братца, котёнка Петрушки, Лихо торчали пушистые ушки. Кусался и дрался, как глупый щенок, Фомка – четвёртый кошачий сынок. 2 Однажды сготовила кошка обед: Зажарила восемь куриных котлет, Спекла для ребяток слоёный пирог, Купила им сливочный, сладкий сырок. Чистою скатертью столик накрыла, Взглянула, вздохнула и проговорила: - А может быть, мало будет для деток Сырка, пирога и куриных котлеток? Пойду я на рынок, на рынке достану Для милых котяток густую сметану. Берёт она с полки пузатый горшочек, Кладёт его в плотный плетёный мешочек. В карман опускает большой кошелёк, Но дверь забывает закрыть на замок. 3 Стоит возле речки пустая хатёнка, В леску заигрались четыре котёнка. Вдруг из высоких кустов барбариса Вылезла тихо противная крыса. Воздух понюхав, махнула хвостом И осторожно взглянула на дом. В доме ни скрипа, ни звука, ни вздоха. «Это неплохо!» - решает пройдоха. Свистнула крыса, визгливо-пронзительно – Два раза коротко, три – продолжительно. Даже в лесу, за болотной трясиной, Крысы услышали посвист крысиный. Ожили мигом лесные тропинки, Всюду мелькают крысиные спинки. Листья сухие чуть слышно шуршат, Крысы торопятся, крысы спешат. |
| 49 | |
| 4 Кошка сметану купила и вот Быстро домой по тропинке идёт. К дому приводит лесная дорожка, Что же увидела бедная кошка? Дюжину крыс, бандитов хвостатых, Дюжину крыс и обеда остаток. Подходит к концу воровская пирушка. Крикнула кошка: - На помощь, Петрушка! Сёмка, на помощь! На помощь, Ермошка! Фомка, на помощь! – крикнула кошка. 5 И вдруг из-за леса выходит отряд, Выходит отряд не котят, а ребят. Первый с винтовкой, с танком другой, С длинною шашкой третий герой. Четвёртый горохом стреляет из пушки По крысам, сидящим в кошачьей избушке. В атаку бросается храбрый отряд. Враги отступают, пищат и дрожат. Свистнули крысы визгливо, пронзительно – Три раза коротко, два – продолжительно. И побежала крысиная стая, В поле хвостами следы заметая. Кошка не знает, какую награду Дать за спасенье лихому отряду. Не ожидая кошачьих наград, С гордою песней уходит отряд. | 6 Всласть наигрались в песочке сыночки И прибегают домой из лесочка. Четверо славных весёлых котят Проголодались, обедать хотят. Сделала мама им новый обед: Снова зажарила восемь котлет, Сделала новый слоёный пирог, Сладкий, как сахар, дала им сырок. Плотный, плетёный раскрыла мешочек, Достала с густою сметаной горшочек. 7 Ясные звёзды в небе зажглись, Дети поели и спать улеглись. Где-то в кустах соловьи засвистели, Кошке не спится, лежит на постели. Думает кошка: «Звала я котят, А почему-то явился отряд! Ах, почему, почему, почему? Этого я никогда не пойму!» 8 Мы отгадаем загадку легко, Кошке отгадку шепнём на ушко: Звали, наверное, этих ребят Так же, как ваших пушистых котят: Сёмка и Фомка, Петрушка, Ермошка. Вы недогадливы, милая кошка! |








